Читать онлайн Рассвет языка. Путь от обезьяньей болтовни к человеческому слову. История о том, как мы начали говорить бесплатно
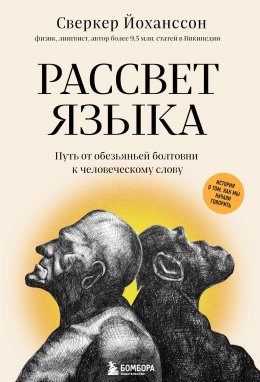
Pa spaning efter sprakets ursprung by Sverker Johansson © Sverker Johansson 2019 First published by Natur & Kultur, Sweden Published by arrangement with Partners in Stories, Sweden and Banke, Goumen & Smirnova Literary Agency, Sweden
© Боченкова О.Б., перевод на русский язык, 2021
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2022
Предисловие
– Папа, папа, почему она висит на хвосте?
– Потому что так удобнее лазить по деревьям и собирать фрукты.
– А зачем ей фрукты?
– Чтобы есть. Она же обезьяна.
– Почему ты называешь ее обезьяной, папа?
– Потому что она обезьяна. Таких животных мы называем обезьянами.
– А почему мы называем их обезьянами?
– Потому что так нас научили, когда мы были маленькие.
– Эй, обезьяна! Привет!
Не получает ответа и снова поворачивается к отцу.
– Папа, папа, почему она мне не отвечает?
– Потому что не понимает, что ты говоришь.
– А почему она не понимает, что я говорю?
– Потому что обезьяны не умеют разговаривать.
– Папа, почему обезьяны не умеют разговаривать?
– Потому что они животные. Животные не умеют разговаривать.
– Но папа, ты же говорил, что люди – это такие животные. Почему тогда люди умеют разговаривать?
И тут папа сдается. Ему потребуется написать целую книгу, чтобы ответить на этот вопрос.
Ту самую книгу, которую сейчас вы держите в руках.
* * *
Большинство детей примерно на четвертом году жизни или около того проходит в своем развитии период бесконечных «почему». Вопросы следуют один за другим и вытекают один из другого, потому что ни один ответ не может удовлетворить «почемучку». Так, постепенно папа устает отвечать, а ребенок спрашивать. Последнее в любом случае происходит, когда начинается школа. Если не раньше.
Я не уставал никогда. Я спрашивал и спрашивал и продолжаю делать это спустя вот уже почти пятьдесят лет. Отчасти это объясняется тем, что мой папа никогда не уставал отвечать. Я и сейчас иногда обращаюсь к нему. Но чаще приходится выкручиваться самому, потому что того, о чем я сейчас спрашиваю, не знает даже папа.
Все чаще мои размышления и вопросы касаются проблемы происхождения вещей и явлений, в конечном счете – становления мира в том виде, каким мы его знаем. Еще пяти-шестилетним мальчиком я открыл для себя литературу о космосе и окаменелостях и до сих пор храню кое-что из того, чем зачитывался в то время. Потом моими главными увлечениями стали эволюция и космология. Думаю, я был самым невыносимым учеником в начальной школе, потому что изматывал учителей своими вопросами. Когда же и мне надоело их спрашивать, я засел за книги.
Так шаг за шагом это привело к непродолжительной карьере в области физики элементарных частиц. Но вскоре после защиты в 1990 году в Швейцарии докторской диссертации об образовании лептонных пар при столкновениях протонов в ускорителе элементарных частиц я открыл для себя нечто еще более захватывающее, чем физика, – язык. До того меня не особенно волновала эта тема, тем не менее я прошел курс общего языкознания на вечернем отделении. Больше ради развлечения, что не помешало мне осознать, насколько увлекательна эта новая для меня область и как много осталось вопросов, на которые до сих пор нет ответов, о том, как работает язык. Прежде всего само его происхождение – тайна, покрытая мраком. Так я постепенно осваивал эту новую для меня колею, что в конечном счете и привело к появлению этой книги.
Сегодня о происхождении языка нам известно намного больше, чем когда-либо. Далеко не все фрагменты пазла встали на место, но общие очертания картины время от времени проступают, и способствовать этому – занятие, достойное внимательного и пытливого исследователя – истинного детектива в сфере науки. В этом, по крайней мере, я надеюсь убедить читателя этой книгой.
Благодарность
Спасибо моему издателю Андерсу Бергману, который взял на себя труд выпустить в свет эту книгу и всячески воодушевлял меня в процессе работы над рукописью.
Спасибо моему папе Ларсу Юхансону, всегда поощрявшему мое научное любопытство.
Моим детям – Даниэлю, Кассандре, Фарамиру и Аине, – вдохновлявшим меня, в том числе и многочисленными анекдотами соответственно их возрасту. Гизелле Хоканссон и Йордану Златневу – преподавателям, пробудившим во мне интерес к языку и его происхождению.
Юхану Шёнсу, Эмилии Перланд и снова Гизелле Хоканссон – за бесценные комментарии и не менее значимое мнение о рукописи.
А также всем моим друзьям и коллегам по изучению эволюции языка и постоянным участникам конференции «Эволенг»[1] – за их вдохновляющие доклады и лекции, публикации, дискуссии и не менее интересные приватные беседы за бокалом вина.
Спасибо Лорелее за поддержку, терпение и понимание.
Введение
Собственно, что делает нас людьми, такими особенными, уникальными, не похожими на других животными? Уже одно слово «животные», употребленное по отношению к людям, оскорбляет многих из нас при всей биологической корректности такого обозначения.
Но мы и на самом деле в высшей степени необычные животные, хотя бы потому, что необыкновенно успешны в плане изменения облика этой планеты. В чем секрет нашей успешности? В чем наша необычность?
Испокон веков естествоиспытатели и философы предлагали длинные списки якобы уникальных характеристик человека, и не только телесных. Само наличие души иногда считается специфически человеческим качеством, если только она действительно есть у человека и отсутствует у других животных – два вопроса, на которые до сих пор у нас нет однозначных ответов. При всех особенностях нашего тела в этом плане мы мало чем отличаемся от других обезьян. Кое-кто из мыслителей прошлого пытался свести проблему к поискам уникальных частей в нашем организме, но ни одна из подобных теорий не выдержала испытания временем.
То, что есть в нас уникального, не телесно.
Нравственность, отвага, интеллект, эмоции, личность, способность к сочувствию, любви или благочестию – вот лишь некоторые из не-телесных качеств, которые рассматривались исследователями как специфически человеческие. Строго говоря, ни один из этих критериев нельзя отнести к научным. Потому что для того, чтобы утверждать, что некое качество является специфически человеческим, мы должны доказать для начала, что оно определенно есть у людей и не менее определенно отсутствует у других животных. Среди исследователей до сих пор нет однозначного согласия даже в отношении такой, казалось бы, очевидной черты, как интеллект. Не говоря о сложностях определения и измерения – а только таким образом и можно что-либо исключить – мужества у синих китов или нравственности у бурозубки обыкновенной.
При этом нам трудно избавиться от ощущения, что то, что отличает нас от других животных, находится в голове, что именно в этой части тела мы оснащены лучше, чем другие. Разумеется, и это всего лишь предубеждение, которому не следует доверять слепо. Слишком глубоко укоренилась в нас склонность противопоставлять себя другим, рассматривать себя в качестве мерила всего и вся, а в тех, кто от нас отличается, видеть прежде всего отклонение от нормы – в невыгодную для них сторону.
Мы смотрим свысока не только на животных. При любом контакте разных групп людей представители каждой замечают прежде всего собственные преимущества. «Мы против других» – этот шаблон застрял в нашем сознании с незапамятных времен. Более двух тысяч лет тому назад римляне считали неполноценными существами германских варваров, которые, в свою очередь, так же смотрели на изнеженных римлян. И началось это, конечно, гораздо раньше. Легко представить себе, как более 100 тысяч лет тому назад неандертальцы были неполноценными варварами в глазах первых представителей вида Homo sapiens и платили им за это той же монетой. И так оно продолжалось вплоть до недавнего времени. Только сегодня большинство из нас, хотя и далеко не все, начинает понимать, что чувство превосходства над другим – не более чем иллюзия, опасное заблуждение, меньше всего способствующее достижению взаимопонимания.
Варваров прозвали варварами римляне, а до того – греки за язык, который звучал не как «настоящий» – греческий или латынь, – а как нечто невнятное: «вар-вар-вар». Именно язык отличал цивилизованных «нас» от неполноценных «их». Греки и римляне смотрели на свой язык как на норму и тех, кто разговаривал не так, называли «варварами». Язык был для них ключом к цивилизованности.
В этом смысле важная роль отводится языку и в Библии. И там он используется для различения «своих» и «чужих». В двенадцатой главе Книги Судей говорится, как правильное произнесение слова «шибболет» становится вопросом жизни и смерти. Уличенного в недопустимом диалектном выговоре казнят.
Есть в Библии история и о том, как языки были созданы, чтобы разделить изначально единое человечество. В главе о Вавилонской башне сказано, что первое время все люди говорили на одном языке и это наделяло их безграничными возможностями[2]. Но это не понравилось Богу, который, чтобы держать людей в повиновении, разделил их, заставив заговорить на разных языках, после чего они перестали понимать друг друга. В самом деле, более эффективного способа посеять раздор не придумать. Таким образом Библия объясняет многообразие языков.
При этом открытым остается вопрос о возникновении языка как такового. Язык существовал в самом начале Мира. «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог» (Иоанн 1: 1). И первое, что поручил Бог Адаму в райских кущах, – дать названия животным (1. Моисей 2: 19), то есть это было лингвистическое задание, предполагающее, что к тому времени Адам уже владел каким-то языком. Если учесть, что на тот момент нашему общему праотцу было несколько дней от роду, логично предположить, что он был создан с готовым языком в голове, в котором отсутствовали только названия животных.
Так или иначе, в Библии язык – первое человеческое качество, которое подчеркивается в Адаме. Человек дает названия животным, не наоборот. И по сей день язык – одна из немногих неоспоримых характеристик, отличающих человека от прочей твари. Именно язык может стать ключом к пониманию сути нашей «человечности».
Но чтобы ответить на вопрос, почему у людей есть язык, одной Библии мало. Прежде чем приступать к проблеме происхождения языка, нам нужно разобраться с самим языком, его природой и структурой, а также с природой человека как биологического вида и его эволюционным развитием. Мы должны понять, что представляет собой мышление и как работает наш мозг. Чтобы ответить на вопрос, каким образом у людей появился язык, нам следует принять во внимание результаты исследований в самых разных областях знания. Не только собственно в лингвистике, но и в эволюционной биологии, палеоантропологии, археологии, приматологии, генетике, анатомии, этологии, нейробиологии, когнитивных исследованиях, психологии, социальной антропологии – и это далеко не полный список.
Все это может затруднить понимание вопроса, не в последнюю очередь для тех, кто является специалистом в какой-либо одной отрасли, а с остальными имеет в лучшем случае шапочное знакомство. Я не обещаю вам глубокого погружения в каждую из перечисленных выше наук, но окунуться в некоторые темы придется. Большего, будучи ограничены рамками этой книги, мы, к сожалению, позволить себе не можем. Из опасения потерять нить рассуждения я упрощал, упуская некоторые несущественные для нас детали. В большинстве случаев я отдаю себе отчет в сложности и неоднозначности затрагиваемых вопросов, но предпочитаю давать лишь общую картину состояния научной проблемы на сегодняшний день, не усложняя ее больше самого необходимого.
* * *
Природа языка оставалась в центре внимания философов с тех самых пор, до которых мы можем проследить историю философии. За триста с лишним лет до начала нашей эры великий древнегреческий мыслитель Аристотель рассматривал язык как разделительную черту между миром человека и животных. А младший коллега Аристотеля Эпикур выдвинул первую из известных теорий происхождения языка. Согласно философу, язык начинался с врожденных реакций людей на различные переживания. Каждое определенное переживание заставляло человека издавать определенный звук, который и становился знаком этого переживания. Такая система врожденных звуков для разных переживаний и послужила основой для возникновения языка. Непонятно только, откуда взялись эти врожденные реакции? Об этом теория Эпикура умалчивает.
Спустя две тысячи лет интерес к проблеме происхождения языка проявили философы Просвещения. Готфрид Вильгельм Лейбниц, более известный своими математическими трудами, опубликовал идеи на этот счет в 1710 году и свел основы первоначального языка к звукоподражению – словам вроде «мяу» или «кукареку», которые, хоть и в небольшом количестве, до сих пор сохраняются в нашем лексиконе.
Француз Этьен Бонно де Кондильяк в опубликованном в 1746 году «Опыте о происхождении человеческих знаний» размышлял о том, что язык мог начинаться с жестов и пантомимы, которые впоследствии трансформировались в систему знаков. Похожие мысли высказал в 1765 году шотландский философ Томас Рид – не то под влиянием Кондильяка, не то независимо от него. Он же рассуждал о связи языка и искусства.
Даже швейцарский политический философ Жан-Жак Руссо, более известный благодаря идее «благородного дикаря»[3], отдал дань этой животрепещущей теме. В полемике с Кондильяком Руссо высказал мысль, что, общаясь между собой, «благородные дикари» использовали как жесты, так и звуки. Жестами они выражали смысл высказывания, а звуками – эмоции. Впоследствии ритуалы и песнопения сыграли ключевую роль в трансформации звуков и жестов в настоящий язык.
Еще один представитель того славного поколения шотландец Джеймс Бернет, лорд Монбоддо, может быть с полным правом назван лингвистом, а не просто философом, размышляющим на досуге на тему языка. Так или иначе, Монбоддо можно причислить к тем, кто заложил основы современной сравнительной и исторической лингвистики. Пытаясь проследить историю разных языков и их родство, Монбоддо не мог обойти стороной вопрос о происхождении языка как такового. Он сделал упор на социальную функцию языка и поставил во главу угла имитацию, то есть умение подражать. Интересно, что на эту и некоторые другие идеи его вдохновили наблюдения за общением орангутанов в неволе. До рождения Дарвина оставалось несколько десятилетий, и было далеко не очевидно, что происхождение языка следует связывать с эволюцией человека как биологического вида и обезьяны имеют к этому самое прямое отношение. Но Монбоддо мыслил в этом направлении, даже если эволюционные идеи и не получили у него должного оформления.
Следующим ученым XVIII века, занимавшимся проблемой происхождения языка, был Иоганн Готфрид Гердер, которого принято называть немецким философом, хотя Германии как таковой в то время не существовало[4] и родной город Гердера Моронг находился в Польше. Будучи дружен с Гёте, Гердер внес свой вклад в укрепление национального самосознания немцев, но в политике был скорее радикалом, чем консерватором, и поддерживал Французскую революцию.
Наиболее заметный след Гердер оставил в литературоведении, однако в 1772 году опубликовал целую книгу о происхождении языка. В ней он рассуждает о так называемом естественном языке – всех тех звуках, которые используют животные и люди для выражения своих чувств: криков боли, желания и так далее.
Но истоки человеческого языка Гердер видит совсем в другом. Не в «естественном языке», а в том, что отличает нас от животных и объясняет, почему у нас есть полноценный язык, а у них – только «естественный». Идеи Гердера на этот счет интересны и имеют параллели в современных теориях эволюции человека.
Всех животных, кроме человека, Гердер считал более или менее специализированными, то есть подверженными специфическим инстинктам, которые рассчитаны на добычу определенной пищи. Именно специфичность в отношении пищи ограничивает животных, но человек в этом отношении универсал. Он не раб инстинктов и способен рассуждать, ориентируясь в новых ситуациях, и находить оригинальные решения. И в этом, согласно Гедеру, ключ к проблеме языка. В нашей потребности коммуницировать за пределами того, что дано в инстинктах.
Благодаря разуму, у нас всегда есть возможность отступить на шаг и хорошенько обдумать ситуацию, вместо того чтобы идти на поводу у инстинктов. Мы можем по-своему оценить то, что видим, и создаем слова для обозначения новых переживаний. При этом Гердер наделил людей по крайней мере одним инстинктом – инстинктом наименования. Врожденным стремлением выразить словами любое впечатление.
Таким образом, философы Просвещения уделили много внимания проблеме языка, при этом их идеи по большей части оставались чистыми спекуляциями, то есть более или менее фантастическими сценариями на тему, как мог возникнуть язык, без ощутимой опоры на знания о том, как язык функционирует, или о происхождении самого человечества. И в этом нет ничего удивительного, ведь в XVIII веке об этом практически ничего не было известно. Поэтому тому, кто решил заняться проблемой происхождения языка, оставалось лишь строить догадки.
Только в XIX веке лингвистика – наука о языке – стала самостоятельной отраслью знания и требования к содержанию научных трудов и обоснованию идей вышли на другой уровень. Досужие фантазии больше не приветствовались. Но происхождение языка в качестве предмета научного исследования успело снискать себе дурную славу. Настолько дурную, что работы на эту тему в 1866 году были запрещены Парижским лингвистическим обществом.
Тема оставалась под запретом добрую сотню лет, в течение которой в этом направлении не было сделано ничего достойного внимания. Зато за этот самый период наши знания о человеке, языке и эволюции существенно пополнились, что создало более прочную платформу для изучения интересующей нас темы. И все-таки прошло еще немало времени, прежде чем проблема происхождения языка была настолько реабилитирована в глазах научного сообщества, что снова обратила на себя внимание исследователей.
Стивен Пинкер, 2011
Отдельные попытки поднять этот вопрос предпринимались с 1960-х годов такими учеными, как Эрик Леннеберг и Дерек Бикертон[5]. Но только в 1990-х работа в этом направлении стала по-настоящему набирать обороты.
В самом начале этого нового этапа обозначились две ключевые фигуры: Стивен Пинкер и Джеймс Херфорд. Их роли были различны. Пинкер – профессор психологии в Гарварде – в 1990 году совместно с Полом Блумом опубликовал статью об эволюции языка, обратившую на себя внимание научного сообщества. А в 1994-м – научно-популярную книгу «Язык как инстинкт», ставшую бестселлером. Эта книга в свое время заставила и меня задуматься над проблемой языка, при том что я далеко не во всем был согласен с Пинкером.
Но Пинкер – универсальный мыслитель, чьи интересы простираются на многие области академической науки. Он автор книг по проблемам наследственности, человеческого мышления и поведения. Нигде не задерживаясь подолгу, Пинкер мог быть вдохновителем, но никак не действующим лидером.
Джим Хёрфорд на конференции «Эволенг», 2014, Вена
Роль лидера досталась Джеймсу Херфорду, профессору лингвистики из Эдинбургского университета. Именно Херфорд взял на себя инициативу организации регулярных научных конференций по проблемам эволюции языка.
Конференции «Эволенг» стали ареной, на которой исследователи всего мира с интересом к проблеме происхождения языка обмениваются идеями и намечают направления и стратегии дальнейшей работы. Эти встречи проводятся раз в два года. Очередная намечается в Торуни (Польша)[6], куда и я намерен отправиться сразу после того, как передам рукопись моей будущей книги в издательство.
Исследовательское движение, инициированное Джеймсом Херфордом и его коллегами в 1990 году, объединило довольно пеструю группу ученых из самых разных областей с общим интересом к проблеме происхождения языка.
Вот уже почти тридцать лет мы обмениваемся идеями и мыслями, ставим совместные эксперименты, сопоставляем результаты наших исследований, делаем компьютерное моделирование – в общем, собираем всевозможную информацию, которая в дальнейшем позволит нам сказать о происхождении языка то, что уже не будет чистой спекуляцией и поэтому не подпадет под запрет 1866 года.
Моя книга основана на результатах этого исследовательского путешествия, и цель, которую я преследую, – дать общую картину того, где мы находимся сегодня, что мы думаем, что знаем и чего не знаем. Полотно, которое нам предстоит соткать, состоит из множества нитей, протянутых из самых разных областей знания. Потребуется время, чтобы понять, какое отношение имеют некоторые из них к лингвистике. Узор на полотне будет проступать постепенно, но под конец все нити до единой займут свое место. Поэтому, если я вдруг заведу разговор об акушерках, роботах, каракатицах или левшах, знайте, что я делаю это не ради развлечения, а потому что каждому из перечисленных персонажей есть что сказать по нашей теме.
Часть первая
О языке
Человеческий язык
Моя младшая дочь Аина сидит у меня на коленях, пока я пишу эти строки. Ей шесть месяцев, она всему рада и всем интересуется, поэтому не так просто убрать ее руки с клавиатуры. Она постоянно издает какие-то звуки: смеется, плачет, практикует горловое пение или что-то лопочет. Вне сомнения, она разговаривает со мной. Аина хочет, чтобы я поднял ее с коврика, на котором она сидит, и для нее не проблема донести до меня эту просьбу. При этом Аина не пользуется речью. Она не говорит. Звуки, которые она издает, нельзя назвать словами. Еще несколько месяцев, и она сможет назвать меня папой, но не сейчас.
Когда мы может утверждать, что ребенок «использует язык»? Все родители знают, как долог путь от первого младенческого лепета до беглого изъяснения осмысленными фразами на родном ребенку языке. Постепенно, стадия за стадией, из бессловесного существа формируется разговорчивый трехлетний малыш. В возрасте Аины дети обычно отрабатывают звуки. Потом – примерно к первому дню рождения – в их потоке начинают мелькать узнаваемые слова, которые ко второму дню рождения складываются в простые фразы. Полноценные, построенные в соответствии с правилами грамматики предложения обычно появляются к третьему году жизни.
Сроки, конечно, могут варьироваться. Но все дети в своем развитии проходят одни и те же стадии и примерно в одном порядке. Разница только в скорости, это я могу утверждать, опираясь на собственный родительский опыт.
Изучает ли ребенок один или несколько языков, не играет существенной роли для процесса в целом, равно как и то, идет ли речь о языке невербальных знаков или разговорном языке. Дети хорошо усваивают языки, вне зависимости от их формы и внешних обстоятельств, до тех пор, пока растут, будучи погруженными в среду языка. И это дается им на удивление легко в сравнении с тем, сколько усилий и осознанных тренировок требует, к примеру, усвоение математики или музыки, которые сами по себе нисколько не сложнее языка.
Тем не менее детям требуется пара лет, чтобы научиться говорить. Можем ли мы уловить в течение этого процесса точку, поворотный момент, когда детский лепет становится языком? Можем ли назвать языком первые издаваемые ребенком звуки? Едва ли. Крик новорожденного не язык в собственном смысле этого слова. Может, первую осмысленную и грамматически правильную фразу? Вряд ли. Обычно ребенок начинает говорить задолго до того, как его речь становится в общем и целом грамматически правильной. Искомая точка располагается где-то между этими событиями, и обозначить ее не так просто. И несколько месяцев спустя я вряд ли смогу записать в ежедневнике: «Сегодня Аина наконец заговорила на своем родном языке». Зато наверняка отмечу день, когда она впервые назвала меня папой. Ведь если мы посчитаем, что первое применение осмысленных слов – это начало использования языка, то нам придется свести язык к чистому словопроизводству, что не совсем верно.
Та же проблема возникает, когда мы говорим о возникновении языка в доисторические времена. Мы происходим от обезьяноподобных предков. Нашей ветви на эволюционном дереве понадобилось развиваться много миллионов лет, прежде чем на земле появился современный человек. И те, кого мы сегодня помещаем у самого основания этой ветви, разговаривали не лучше нынешних шимпанзе или бабуинов. Точка появления языка располагается где-то между нами и ними.
Ноам Хомский (род. 1928) – без преувеличения может быть назван самым авторитетным лингвистом XX века. Его теория генеративной грамматики в 1960-е годы перевернула научные представления о языке. Хомский известен и как сторонник идеи «врожденной грамматики».
В принципе язык вполне мог возникнуть в готовом виде в ходе человеческой эволюции, без постепенного развития и промежуточных форм. У этой идеи «большого языкового взрыва» есть сторонники среди лингвистов, к примеру Ноам Хомский[7]. Но с биологической точки зрения крайне маловероятно, чтобы такое сложное качество, как наша способность к языку, появилось сразу и ниоткуда. Представляется более разумным, что язык развивался поэтапно, как наш мозг или умение создавать орудия труда.
Вполне возможно, что эти этапы походили на те, которые проходят дети, или же это были совсем другие процессы, со своими промежуточными формами. Но какие-то формы должны были быть между бессловесными обезьянами и людьми с полноценным даром речи. Где-то в этом промежутке затерялась стадия первоначального языка, простейшей его формы. Или же праязыка – того, что впервые можно было бы назвать человеческим языком.
Но что же тогда развивалось? Язык, да, но что именно? Ведь язык имеет много аспектов, которые нам необходимо различать в связи с нашей темой. Звуки, распространяющиеся по воздуху, когда мы говорим, – единственная его сторона, которую можно ощущать напрямую, и далеко не самая интересная.
Существует по меньшей мере два более важных аспекта. Первый – языковая способность мозга, обуславливающая наше умение пользоваться языком. Второй – язык как социальная система, благодаря которой достигается согласие между людьми о значении языковых единиц и мы можем понимать друг друга.
Ноам Хомский ставил на первое место языковую способность, которая должна быть объяснена лингвистикой. В этом случае происхождение языка становится чисто биологической проблемой: как должен развиваться наш мозг, чтобы в нем сформировался языковой модуль?
Другие исследователи, в противоположность, Хомскому, считают более интересной именно социальный аспект, и это несколько меняет постановку вопроса. Как должно было развиваться социальное взаимодействие людей, чтобы общепринятая система общения в конце концов эволюционировала в язык?
Люди отличаются от прочих обезьян как биологически, так и социально. Детеныш шимпанзе не обладает биологически обусловленной способностью к языку и никогда не выучит язык, даже если будет жить в человеческой среде. Но и человеческий ребенок, который вырос в лесу, без возможности общаться с людьми также не заговорит.
Важны обе предпосылки: как биологическая, так и социальная. И нам, чтобы понять условия и причины появления человеческого языка, следует уделить внимание как социальному развитию человеческого вида, так и биологическому – индивида.
Наш голос и палитра издаваемых нами звуков – очевидное биологическое приспособление для использования языка в речи. Шимпанзе тоже издает звуки, подчас довольно громкие. Но он не способен так быстро, точно и многообразно их артикулировать, как того требует человеческая речь. Долгое время считалось, что причина тому – разница в строении горла, ротовой полости и расположенных в ней органов, что именно анатомические особенности предоставляют богатые вариативные возможности для воспроизведения звуков. Но это в значительной степени связано с различиями в устройстве мозга и связями между мозгом и органами речи.
Что касается биологически обусловленной «языковой способности», этот вопрос до сих пор вызывает споры среди лингвистов. Существует ли врожденный «языковой инстинкт», и если да, то в чем он заключается? Это центральный вопрос проблемы происхождения языка.
Лингвистические понятия
Чтобы рассуждать о происхождении языка, нам нужны слова, обозначающие то, из чего он состоит. Для этого лингвисты разработали категориальный аппарат, и в этом разделе я хочу разъяснить понятия, которые в дальнейшем будут использоваться в книге. Тот, кто знаком с этой терминологией, может смело переходить к следующему разделу.
Итак, структуру языка мы можем анализировать на разных уровнях. Я предпочитаю начать со слова, поскольку это понятие знакомо всем и в научном обиходе имеет такое же значение, что и в повседневном. Слово можно было бы определить как наименьшую лингвистическую единицу, настолько самодостаточную, что сама по себе она представляет вполне осмысленное высказывание.
Строго говоря, не все так просто. В разных языках под словом понимаются настолько разные явления, что их трудно охватить одним строгим определением. Поэтому удовлетворимся повседневным значением, его нам будет вполне достаточно.
Слова делятся на несколько типов, или классов[8]. Ниже самые важные из них.
Существительные – слова для обозначения вещей, предметов или явлений, как материальных, так и нематериальных. Примеры: слово, книга, язык, человек, вселенная.
Местоимения – это слова (как правило, короткие), которые заменяют существительные в предложении – либо потому, что не совсем ясно, какое существительное должно там стоять (пример: местоимение кое-кто), либо просто ради экономии времени и сил (примеры: местоимения он, она, оно и т. п.)[9].
Глаголы – слова для обозначения действий, явлений, состояний или процессов. Примеры: прыгать, читать, случаться, существовать, исчезать и т. д.
Предлоги служат для связи слов в предложении или словосочетании, указывая на пространственные и другие отношения между предметами. Пример: Лиза поехала в город и купила пирожное для Пеле (предлоги «в», «для»).
Союзы – слова, которые связывают разные части предложения в одно целое. Связь между частями предложения бывает сочинительной и подчинительной. Сочинительные союзы – и, но, или и т. д. – соединяют равноправные части предложения, а подчинительные, согласно названию, присоединяют придаточные, то есть подчиненные, конструкции к главным. Примеры: чтобы, если, поскольку, потому что и т. п.
Прилагательные обозначают признаки вещей, явлений и всего того, что обозначается именами существительными. Примеры: красный, красивый, счастливый, абстрактный.
Наречия тоже обозначают признаки, только не вещей, а действий или других признаков. Это довольно пестрый класс, объединяющий слова, имеющие, на первый взгляд, между собой мало общего. Примеры: быстро, недавно, совершенно, плохо.
Эти классы слов в разных языках не всегда соответствуют друг другу. Но если в каком-то языке нет, к примеру, прилагательных, это не значит, что в нем отсутствуют средства для выражения признаков предметов. Просто это делается как-то иначе, а не при помощи определенного класса слов.
Уровнем ниже располагается еще одна значимая (то есть наделенная собственным значением) языковая единица, меньшая, чем слово, – морфема. Ведь слово тоже состоит из разных частей, из которых, как из кирпичиков, складывается его значение.
Морфема – наименьшая значимая единица. К примеру, слово «язык» состоит из одной морфемы, в отличие от слова «языкознание».
Språk-ut-bild-ning[10]
Ядром слова является корень -bild-, от глагола bilda («образовывать», «формировать»); суффикс – ning указывает, что перед нами существительное, образованное от глагола. Приставка – ut– уточняет, нюансирует значение. Наконец, корень spшråk– («язык») присоединяется, чтобы было понятно, об образовании чего идет речь[11].
Части меньшие, чем морфемы (или же расположенные уровнем ниже), не являются значимыми. Это слоги и звуки. То же касается и языка жестов, где есть значимые и незначимые движения и позы. Но давайте ограничимся звучащим языком.
Итак, слог обязательно имеет в своем составе гласный звук или согласный, близкий к гласному[12]. Вокруг него группируется некоторое количество собственно согласных.
Гласные – это звуки, при произнесении которых воздушная струя свободно проходит через гортань, не встречая препятствий: а, э, о, и, у и т. д. Между тем как согласные образуются именно за счет препятствий, так или иначе стискивающих, ограничивающих, перекрывающих поток воздуха во рту: п, к, т, с, ш и т. д.
Каждый язык использует определенный набор звуков, поэтому звуковой состав у разных языков варьируется. Почти все звуки либо гласные, либо согласные, лишь некоторые языки используют в качестве звуков прищелкивания и тому подобные странности. Иногда смыслоразличающее значение имеет и высота звука, то есть в определенных словах определенные звуки должны произноситься на тон-полтора выше или ниже, в противном случае вы рискуете быть непонятыми.
Количество звуков в разных языках варьируется от двенадцати[13] до сотни и больше. В шведском языке около 35 звуков, в зависимости от диалекта, и это несколько выше среднего. В шведском языке звуки не различаются по высоте (то есть о, произнесенное высоким или низким тоном, воспринимается как один и тот же звук). Зато используется так называемое музыкальное ударение, то есть интонационный рисунок слова имеет смыслообразующее значение. Поэтому слово tomten, будучи произнесено с повышением или понижением интонации, обозначает либо забавного гнома с бородой, либо участок земли.
Звуки языка можно описывать по-разному. С одной стороны, как фонемы, с другой – как собственно звуки, которые на самом деле произносятся.
Фонема – наименьшая звуковая единица, имеющая смыслоразличительное значение, – она устанавливает границу между словами. Ведь в обычной речи мы произносим каждый звук множеством разных способов. И все варианты есть одна и та же фонема, хотя звучат они по-разному. В большинстве диалектов звук ä в словах «läsa» и «lära» произносится по-разному, тем менее это одна и та же фонема, которая обозначается буквой ä[14].
Кроме того, звуки языка можно анализировать акустически (то есть в зависимости от частоты, амплитуды и т. д. звуковой волны) и по тому, какая именно часть речевого аппарата задействована в их произнесении. Думаю, мы с вами обойдемся без этого.
Если же мы поднимемся на уровень выше слов, то перейдем к словосочетаниям, предложениям и высказываниям[15].
Что такое предложение, известно всякому, кто умеет читать и писать. Предложение – это ряд слов, начинающийся с заглавной буквы и заканчивающийся точкой (или другим пунктуационным знаком завершения). Но с точки зрения лингвистики предложение – наименьшая грамматически укомплектованная единица языка. То есть такая, в которой все грамматические нити увязаны между собой и ни один свободный конец не торчит наружу. Высказывание может состоять из нескольких предложений, связанных по смыслу. Тем не менее и в составе высказывания предложение остается грамматически независимым.
Все это подводит нас к тому, что такое грамматика. Грамматика – это система правил, которые определяют, как слова могут объединяться в более крупные единицы, каким образом слово складывается из морфем и как оно меняется (склоняется, спрягается) в зависимости от своего окружения и связей, в которых задействовано.
Иногда грамматику делят на синтаксис и морфологию. Синтаксис описывает, как слова могут быть связаны в предложения, а в морфологии речь идет об устройстве самого слова: его падежных формах, окончаниях и т. п. Это разделение отлично работает для шведского языка, но и для других не лишено смысла.
Высказывание – это грамматическая единица, объединяющая несколько предложений. Каждое предложение в принципе соответствует одному действию и имеет в своем составе глагол, описывающий, что происходит, и одно или несколько существительных, называющих того или то, что действует, или того или то, что так или иначе с этим действием связано.
Лиза ведет машину – предложение, в конце которого может стоять точка. Но мы можем добавить к нему еще одно: Лиза ведет машину, которую купил Пеле.
Это уже высказывание. Второе предложение в его составе – которую купил Пеле – подчинено первому и не может стоять особняком. В принципе количество предложений в составе высказывания не ограничено.
Словосочетания – грамматические единицы, близкие по своей сути к отдельному слову.
Если мы пишем: Лиза ведет зеленую машину с красными пятнами на капоте – то выражение зеленую машину с красными пятнами на капоте – это словосочетание, которое функционирует как существительное, то есть называет предмет. Это именное словосочетание.
В предложении Лиза хотела бы уметь летать словосочетание хотела бы уметь летать грамматически функционирует как глагол. Это глагольное словосочетание.
До сих пор мы анализировали формальные структуры языка, отвлекаясь от их значения, то есть от того, для чего язык существует и используется людьми. Следующий пример «формальной фразы» Ноама Хомского стал настолько знаменит, что удостоился отдельной статьи в «Википедии»:
Colorless green ideas sleep furiously – Бесцветные зеленые идеи яростно спят.
С грамматической точки зрения – безупречный английский и прекрасная иллюстрация идеи Хомского о том, что грамматика совершенно безразлична к значению высказывания[16].
На самом деле это не совсем так. Значение может быть значимым – если мне будет позволен такой каламбур – даже для грамматики. В шведском языке, например, как и в некоторых других, у существительного есть грамматический род. И прилагательное, связанное с этим существительным, будет менять окончание в зависимости от рода. «Молодой секретарь» или «молодая секретарша» – грамматическая форма прилагательного различна в зависимости от того, идет речь о мужчине или о женщине.
Но даже отвлекаясь от подобных грамматических казусов, мы используем грамматику ради того, чтобы наше высказывание имело смысл. То есть формируем некое значимое сообщение, которое наш собеседник должен истолковать.
Раздел лингвистики, который занимается значениями, называется семантикой.
Еще два раздела заслуживают того, чтобы сказать о них пару слов.
Первый – это просодия, которая занимается проблемами произношения, но не отдельных звуков, а на уровне речи в целом. То есть мелодикой языка и тем, как мы используем понижение и повышение голоса, чтобы задействовать другой уровень сообщения, поверх содержащегося в высказывании формального.
Фразу «ты придешь завтра» можно произнести как утверждение, вопрос или просьбу – в зависимости от просодии.
Второй – прагматика, которая исследует, когда, где и что уместно говорить. Как мне приветствовать собеседника по телефону? Должен ли я обращаться одинаково к начальнику и к маме? Все это проблемы прагматики. А также – насколько уместно упоминать то, чем изначально занимался капитан Эфраим Длинныйчулок в новом ремейке мультфильмов про Пеппи[17].
Многообразие языков
На земле огромное количество языков, их тысячи и тысячи.
Вопрос о том, сколько их на самом деле, не имеет однозначного ответа, хотя бы из-за невозможности провести четкую границу между двумя разными языками и диалектами одного и того же языка. Вопрос, что следует считать отдельным языком, скорее политический, чем лингвистический.
С лингвистической точки зрения между диалектами китайского языка разница гораздо больше, чем между скандинавскими, и у лингвистов достаточно оснований рассматривать некоторые китайские диалекты как отдельные языки.
Даже в пределах Швеции провести языковые границы не так-то просто. Совсем не очевидно, что эльвдальский[18] – диалект шведского, а не особый язык. Я, к примеру, понимаю его с бо́льшим трудом, чем датский, хотя и живу в Даларне. А то, на чем говорят в Торнедалене, рассматривается как отдельный язык – меянкиели – на западном берегу реки Торне и как диалект финского – на восточном.
При этом не все языковые вариации обусловлены географически. Там, где я вырос, мне не составляло труда различать речь людей из разных социальных групп, а также горожан и сельских жителей.
Языковая дистанция между Лидингё и Ринкебю огромна, между тем как из одного района в другой можно доехать на метро за несколько минут[19].
Иногда лучшим ответом на вопрос о разнице между отдельными языками и разными диалектами одного и того же языка является старая лингвистическая поговорка: «Язык – это диалект, имеющий свою армию».
Эта шутка перестала быть смешной, с тех пор как дело приняло по-настоящему кровавый оборот, потому что кое-кто стал понимать ее слишком буквально.
Я имею в виду Югославию, в 1990-е годы расколовшуюся на множество государств.
До того все югославы говорили на разных диалектах сербохорватского, но потом эти диалекты, один за другим, стали обзаводиться своими армиями и развязали кровопролитную гражданскую войну. В итоге единый сербохорватский язык раскололся по меньшей мере на четыре самостоятельных языка. Люди от этого иначе говорить не стали, так что процесс образования языков – чисто политический.
Но если кто-то все-таки попытается понять, чем диалект отличается от отдельного языка, ему следует обратить внимание на проблему взаимопонимания. Пока два человека понимают друг друга, они общаются на одном языке. Когда нет – уже на разных.
Разумеется, это определение нельзя назвать точным, тем более исчерпывающим, потому что далеко не все официально признанные языки ему соответствуют. Нередко бывает, что зона того или иного диалекта перекрывает государственную границу и люди понимают друг друга, хотя и официально говорят на разных языках. Цепь таких «диалектов» можно протянуть от Португалии через Испанию и Каталонию, к Франции и Италии. И в этом случае португальский, испанский, каталанский, французский и итальянский будут рассматриваться как один язык. Даже если итальянцы и португальцы больше не понимают друг друга, этого еще нельзя сказать о жителях Аости и Шамони[20], но уже можно о сицилийцах и парижанах. Как же в таком случае провести границу между этими языками?
Как ни считай, языков на планете множество. Лингвист, склонный объединять диалекты, насчитает их порядка 4000. С противоположной склонностью – вдвое больше.
В известном каталоге «Этнология»[21] языков около 7000, и этот показатель ничем не хуже других. Все эти языки существенно различаются как по грамматике, так и по словарному составу.
Прежде всего, грамматический строй языков может различаться более радикально, чем кажется. Европейские языки, которым обычно учат в наших школах, – английский, немецкий, французский и так далее – имеют схожие базовые структуры, единый грамматический «стиль мышления», так сказать, несмотря на существенные различия в деталях.
Во всех этих языках есть существительные и глаголы, которые функционируют примерно так же, как и в шведском. При этом глаголы меняют окончания в зависимости от времени, а существительные – в зависимости от числа. Порядок слов (иногда падеж) указывает, кто над кем и при помощи чего совершает действие. Все это выглядит естественным для того, кто знаком только с европейскими языками, но языки других языковых семейств могут быть построены совершенно по иным принципам. В некоторых из них нет понятия окончания, времени глагола или числа имени существительного, но есть другие инструменты для того, что у нас принято выражать при помощи окончаний или грамматического времени.
В других языках все содержание высказывания – не только время действия, но и субъект и объект действия – выражается при помощи различных форм глагола. В результате получается одно очень длинное слово, которому в шведском языке соответствует целое предложение.
В некоторых языках есть слова, состоящие из одних согласных, а роль окончаний выполняют гласные, которые вставляются между согласными в разных местах и тем самым меняют форму слова. Вариантов для нескольких тысяч языков бесчисленное множество.
Но почему их так много? Языковая способность человеческого мозга рассчитана на то, чтобы он мог управляться с разными языками. Но каким образом это многообразие связано с проблемой происхождения языка? Развитие языка должно было естественным образом породить гибкую и многостороннюю способность человека изучать язык, что, не менее естественно, привело к языковому многообразию.
Свойства языка
Среди лингвистов активно обсуждается вопрос, какие общие черты есть у всех 7000 человеческих языков и каковы границы языкового своеобразия. Может ли язык представлять собой что ему вздумается или же существуют некие базовые правила, которых он должен придерживаться?
Лингвист Чарльз Хоккет в 1960 году опубликовал список свойств, которые считал характерными для всех человеческих языков и которые, таким образом, могли бы быть положены в основу определения языка как такового.
Список Хоккета в разных вариантах насчитывает до 16 пунктов и в свое время имел серьезный вес в науке. Ниже предлагается самая распространенная версия из 13 пунктов (в моей формулировке).
1. Коммуникация посредством слуха и голоса.
2. Ненаправленная трансляция (может слышать любой, кто находится поблизости), но направленный прием (слушатель всегда может идентифицировать говорящего).
3. Неустойчивость сообщения – звук исчезает сразу, в отличие, например, от запаха.
4. Вы можете сказать все, что слышите от других, сами. (Самка павлина, к примеру, не может повторить сообщение, которое посылает ей самец, раскрывая хвост.)
5. Вы можете сами воспринимать отправляемые вами сигналы. (В отличие от некоторых оленей, предупреждающих сородичей об опасности с помощью демонстрации белых пятен на задней части тела[22]. Видеть свой зад олени не могут.)
6. Коммуникация осознанна и намеренна. В отличие от смеха, слез или тех же упомянутых выше оленьих пятен.
7. Коммуникация семантична, то есть конкретный сигнал напрямую связан с каким-либо значением.
8. Коммуникация произвольна. Не существует определенной закономерности, которая привязывала бы сигнал к его значению. Связь сигналов с их значениями условна.
9. Сигнал составной и включает в себя нескольких компонентов, которые четко распознаются. В языке два уровня компонентов. Первый – организация звуков в слова. Второй – слов в высказывания.
10. Сообщение может быть о том, чего нет в настоящий момент здесь и сейчас.
11. Язык можно выучить, и он передается от поколения к поколению внутри человеческих сообществ, то есть является своего рода традицией. Дети могут научиться языку у взрослых. В свою очередь, взрослые могут научиться новым языкам.
12. Ненадежность. На языке можно солгать.
13. Рефлексивность. Язык можно использовать для сообщений о языке.
Хоккет утверждал, что, хотя отдельные характеристики из списка можно обнаружить и в коммуникации животных, только человеческий язык удовлетворяет всем пунктам. При этом у списка есть слабые места. Уже первый его пункт неверный. Язык жестов – человеческий язык, который не использует ни слух, ни голос. И далеко не любое сообщение неустойчиво: высеченное на камне слово сохраняется тысячелетия. Судя по первым пяти пунктам списка, его автор воспринимает только звучащий язык и игнорирует другие языковые формы. Следовательно, предложенные характеристики нельзя рассматривать как общие для всех языков. Существуют языки, нарушающие все пять первых пунктов.
Как правило, Хокетта критиковали за внимание исключительно к внешней стороне языка и игнорирование более глубинных качеств его содержания и структуры, не говоря о том, как работают языковые модули в нашей голове.
При этом многие пункты списка Хокетта поясняют внешние последствия более глубоких и общих характеристик. Практически безграничные возможности языка в плане выражения, способность передавать бесконечное множество смыслов, – один из этих фундаментальных аспектов.
Язык способен принимать в себя новые слова и составлять из слов высказывания, не будучи ограниченным ничем, кроме чисто прагматических соображений его пользователей. И некоторые из подмеченных Хоккетом черт являются всего лишь естественными следствиями этой неисчерпаемости.
Несемантический язык (пункт 7), то есть без конкретной привязки знаков к их означаемым, в принципе не способен выразить такое количество смыслов. То же касается и произвольности (пункт 8). Язык, состоящий из знаков, прямо имитирующих то, что они означают, существенно ограничен в своих возможностях. Прежде всего, потому что способен передать лишь очень ограниченное число смыслов. Таков, к примеру, язык дорожных знаков, в котором изображение лося предупреждает о возможной встрече с лосем, стрелка вправо указывает на правый поворот и так далее. Но и этот язык не смог обойтись без знаков, связь которых с обозначаемым конвенциональна, то есть условна.
Так, треугольник обозначает опасность, а круг предупреждает, что в этом месте делать можно, а чего нельзя. То есть в этих случаях связь между формой дорожного знака и его значением совершенно произвольна.
В нашем обычном языке есть слова, которые являются иконическими знаками, то есть имитируют то, что обозначают. Но их очень немного. Прежде всего, это междометия, подражающие разным звукам: «мяу», «бумс» и тому подобные. Язык жестов в этом плане богаче, потому что взмахом руки можно сымитировать гораздо больше понятий, чем словом. Но и язык жестов по большей части состоит из конвенциональных, то есть произвольных, знаков.
Если бы знаки нашего языка не были составными (пункт 9), это также сильно ограничило бы его выразительные возможности. В этом случае каждое слово представляло бы собой отдельный звук, а не комбинацию звуков. Но человеческое горло неспособно породить такое количество звуков – много десятков тысяч, – сколько слов в нашем языке.
А если бы каждое высказывание не представляло собой составную конструкцию и количество высказываний было бы равным количеству слов? В этом случае нам понадобилось бы запоминать миллионы слов, на что, конечно, не хватило бы ни времени, ни ресурсов человеческой памяти.
Язык, который нельзя было бы выучить (пункт 10), должен был бы передаваться из поколения в поколение каким-то другим способом. У животных обычное дело, когда довольно сложные поведенческие комплексы являются врожденными, то есть передаются не путем обучения, а генетически. Но есть предел сложности системы, которая может отложиться в генах вследствие эволюции, и человеческий язык со всеми его словами и множеством грамматических ухищрений намного превышает этот предел.
То же мы наблюдаем у птиц. Способность издавать незамысловатые звуки, как правило, врожденная, но певчие птицы обучают птенцов своему умению. Вместо врожденного щебета у соловья развита врожденная способность (и потребность) учить свое потомство выводить сложные трели.
И, разумеется, человеческий язык с его практически неисчерпаемыми возможностями выражения может использоваться для обсуждения проблем языка. То есть пункт 13 является таким же естественным следствием того же основополагающего качества, что и остальные.
* * *
Два бонобо – карликовых шимпанзе – занимаются сексом в кустах на южном берегу реки Конго. Это самец и самка, что далеко не так очевидно, как может показаться, потому что бисексуальность у бонобо распространена не меньше, чем у людей.
Судя по громкому звуку, который издает самка, ей нравится, что делает альфа-самец. Другие бонобо в стае оборачиваются, реагируя на крик, и это то, на что рассчитывала самка. Очевидно, она хотела донести до всех, с кем она занимается сексом. При этом стая не замечает альфа-самку, развлекающуюся с другой молодой самкой в других кустах. Потому что альфа-самка молчит – секс с партнером низкого статуса не афишируется[23].
* * *
Эти вопли мало чем напоминают язык. Скорее звуки, которые издают люди в аналогичных ситуациях. При этом они соответствуют пункту 12 в списке Хокетта, так как сами по себе являются тактическим приемом. Бонобо могут «лгать» при помощи своих воплей или молчания, лишь немногие животные способны на это. Точнее, только очень немногие животные демонстрируют признаки намеренной лжи, то есть могут выбирать между ложью и правдой.
С другой стороны, обман в форме ложного сигнала не такая уж редкость в животном мире. Оса не лжет, сигнализируя об опасности своим полосатым тельцем, но лжет цветочная муха, имеющая точно такую же окраску и при этом совершенно безобидная. При этом она не выбирает, лгать или нет, и пребывает, можно сказать, в счастливом неведении, плавая под чужим флагом.
Тема лжи для нас особенно важна. Возможность лгать – действительно очень интересное качество языка, которое должно быть рассмотрено в связи с эволюцией языковых способностей человека.
Редьярд Киплинг был прав, когда писал в 1928 году: «Следует помнить, что он <человек> был вне конкуренции по части любого камуфляжа, на которые были способны в то время животные… Другими словами, мог лгать всеми доступными тогда средствами. Именно поэтому я утверждаю, что первое использование вновь приобретенной возможности выражаться было ложью, холодной и расчетливой ложью» (Киплинг, 1928 «Книга слов: отрывки из выступлений 1906–1929»).
Животные могут коммуницировать множеством разных способов, но по большей части их общение честно. И не потому, что они более честны, чем люди. Просто отправляемые ими сигналы совершенствовались в ходе эволюции в том направлении, в котором невозможно солгать.
Лось сообщает своими раскидистыми рогами: «Смотри, какой я большой и сильный. Не каждый может носить такую корону. Если ты самка, я буду лучшим отцом твоим детям. Если самец – тебе нет смысла тягаться со мной, потому что ты все равно проиграешь».
Лоси не могут лгать своими рогами, потому что не мощному зверю и в самом деле не под силу достаточно раскидистая «корона». То же касается токования тетерева или трелей соловья. Тяжело заливаться часами напролет, и самец должен быть в отличной форме, чтобы выдержать это испытание.
«Да, но зачем такие затратные сигналы? – спросите вы. – Разве не разумней было бы заявить о себе как-нибудь проще, сэкономив при этом массу энергии?» Все так, но штука в том, что менее энергозатратные сигналы никто не воспринимает всерьез.
Давайте представим себе, что в ходе эволюции у лосей сформировался менее энергозатратный признак, который подтверждает их силу. Не тяжелые рога, а, скажем, пятна на груди, количество которых соответствует числу ответвлений у рогов.
Пятна ничего не весят. Конечно, этот вариант куда практичнее. И они не хуже рогов удостоверяли бы силу, пока… однажды эволюция не сжалилась бы над слабым и больным зверем, снабдив его таким количеством пятен, которого он не заслуживал.
И тогда великаны расступились бы перед карликом, и самки ринулись бы к нему со всех сторон… за фальшивыми пятнами, которые быстро распространились бы по популяции. Спустя всего несколько поколений все самцы украсились бы множеством пятен, которые тут же утратили бы всякий смысл. На пятна перестали бы обращать внимание, и самцам пришлось бы пробовать другие способы состязаться в силе. Поэтому испытание эволюцией выдержал самый энергозатратный сигнал, тот, который не может солгать.
С языком же все иначе. Говорить ничего не стоит, и мы лжем как дышим, но человеческую коммуникацию это не разрушает, как в случае с пятнистыми лосями.
Мы слушаем и доверяем друг другу, хотя солгать так легко. И в этом смысле человеческий язык – эволюционный парадокс, требующий какого-то другого объяснения. Как бы он ни развивался, это происходило как-то иначе, нежели с рогами лосей, птичьим пением и прочими способами животной коммуникации.
То есть двенадцатым пунктом в списке Хокетт поставил и в самом деле очень важное свойство языка. Оно тесно связано с тем, что язык нам ничего не стоит. Человеческий язык со всем его звуковым потенциалом не мог развиться раньше, чем мы стали доверять друг другу.
Пункт 6 – осознанное использование языка, и пункт 10 – язык способен сообщать о вещах, которых нет здесь и сейчас, – еще два важных свойства, которые стоит прокомментировать. При этом по шестому пункту особенно глубоких пояснений не требуется, поскольку большинство других обезьян также общаются вполне сознательно. Скорее, представляет сложность вопрос о сущности самого сознания, но это тема отдельной книги.
А вот то, что язык способен сообщать о том, чего нет здесь и сейчас, безусловно, важное наблюдение. Его можно обобщить, сведя человеческий язык к так называемому триадному (трехстороннему) общению. Коммуникация в мире животных, как правило, двухсторонняя (диадная). Она предполагает говорящего и слушающего и редко затрагивает третью сторону, помимо этих двух.
Человеческая коммуникация, напротив, почти всегда выходит за рамки круга непосредственных участников. По крайней мере каждая вторая наша реплика обращена к третьей стороне – кому-то или чему-то не вовлеченному непосредственно в общение.
Нам так нравится судачить друг у друга за спиной, чем животные занимаются крайне редко. В их среде примеры триадной коммуникации единичны. Самый распространенный, наверное, – крик, предупреждающий сородича об опасности, которая и есть третья сторона триады. Но это скорее исключение. Ведь полная свобода выбора намерения – свобода воли – не свойственна животным, кроме человека.
Говорящий и слушающий всегда здесь и сейчас, поэтому диадная коммуникация ограничена рамками настоящего момента. Таким образом, триадная коммуникация является предпосылкой способности говорить о том, чего нет здесь и сейчас.
Универсалии
Все предложенные Хокеттом характеристики слишком общи и абстрактны. Существуют ли какие-нибудь более специфические качества, свойственные всем языкам, – вот вопрос, который до сих пор волнует лингвистов. Множество ученых предлагали свои пункты и списки, и для всех рано или поздно находились исключения. Вот несколько примеров.
Считалось, что во всех языках есть гласные и согласные.
Исключение: язык жестов. Возможно, это справедливо для всех языков, существующих в звуковой форме. Хотя, в некоторых берберийских языках в Северной Африке гласные почти отсутствуют.
Считалось, что во всех существующих языках слоги могут начинаться с согласных.
Исключения: кроме языка жестов, австралийский язык аранта, где слоги никогда не начинаются с согласных.
Считалось, что во всех языках допустимы структуры с главными предложениями, к которым присоединяются придаточные и при-придаточные и так далее до бесконечного числа уровней.
Пример: «Эта книга написана автором, который живет в Фалуне, который находится в Даларне, которая часть Швеции, которая государство в Европе, которая…»
Исключение: возможно, бразильский язык пирахан, в котором, если верить исследователю Дэниелу Эверетту, отсутствуют придаточные предложения и аналогичные структуры.
При этом отмечались закономерности, которые как будто имеют больше оснований претендовать на универсальность. Ниже некоторые из них.
Во всех языках слова могут употребляться в разных формах, при этом формы могут сильно варьироваться, так что бывает трудно провести границу между формой слова и новым словом.
Во всех языках различаются существительные и глаголы.
Это утверждение не бесспорно, здесь многое зависит от того, как различать существительные и глаголы. При этом в каждом языке, так или иначе, существуют слова для обозначения предметов и действий.
Во всех языках есть междометия – Ой! Фу! Бумс! – выходящие за рамки системы грамматики.
Все языки иерархичны. Простейшие компоненты – звуки или движения, положение кисти руки в языке жестов – объединяются в слова, слова в словосочетания, а те, в свою очередь, в предложения. Структура большинства языков многоуровневая, но по крайней мере три уровня есть у всех. Собственно, эту универсалию отметил еще Хоккет и вывел ее под номером 9 своего списка.
Во всех языках есть правила, по которым строительные кирпичики каждого уровня складываются в блоки. То есть язык – не просто совокупность звуков и слов, а структура.
Язык – открытая система. Поэтому любой, кто им пользуется, может придумывать новые слова и не только слова. (Не факт, правда, что нововведения приживутся.)
Любой язык – гибкая система, поэтому у каждого говорящего есть выбор, как именно облечь свою мысль в слова.
Девушка ведет машину
За рулем сидит девушка
Машина управляется девушкой и т. д.
Все эти варианты в принципе описывают одно и то же событие и примерно одним и теми же словами, акцентируя внимание на разных аспектах и выражая точку зрения с разной перспективы. В разных языках гибкость достигается различными средствами, но, так или иначе, она должна быть.
Синтаксис оперирует не отдельными словами, а комплексами слов.
К примеру, в предложении Девочка придет завтра вечером логическое ударение падает на фразу завтра вечером, тем самым это предложение отвечает на вопрос Когда придет девочка?
Чтобы изменить логическое ударение, нам нужно переставить слова.
Завтра придет девочка.
Теперь речь в предложении идет не о том, когда придет девочка, а о том, кто придет завтра.
Допустим, что в предложении говорится не просто о девочке, а о маленькой кареглазой девочке.
Маленькая кареглазая девочка придет завтра.
Логическое ударение падает на «завтра».
Но чтобы перенести его на «девочку», нам надо переставить не одно слово, а целый блок слов, относящихся к «девочке»:
Завтра придет маленькая кареглазая девочка.
Вариант Маленькая кареглазая придет завтра девочка – в этом варианте сильно нарушен порядок слов, который мешает восприятию.
Но даже если строгих универсалий не так много, их нужно объяснить, и это не в последнюю очередь важно для того, кто хочет разобраться с происхождением языка.
Кроме универсалий, работающих во всех без исключения языках, существуют закономерности, справедливые для большинства языков, в том числе множество грамматических шаблонов и устойчивых связей между грамматическими правилами.
К примеру, прилагательное обычно сочетается с существительным («красный дом»), предлог также обычно относится к существительному (к дому), а при глаголе нередко стоит слово, обозначающее объект действия. В предложении Женщина ведет автомобиль слово «автомобиль» обозначает объект действия, выраженного глаголом «ведет».
В разных языках эти пары слов организуются по-разному. В шведском принято говорить Женщина ведет автомобиль, но примерно в половине всех языков нашей планеты в паре объект-глагол соблюдается другой порядок: Женщина машину ведет[24].
Примерно так же обстоят дела с парами существительное + прилагательное и предлог + существительное. Интересно, что наблюдается связь между тем, какой порядок слов принят в языке в каждом из этих сочетаний. Так, порядок глагол + объект действия часто сочетается с вариантами предлог + существительное и существительное + прилагательное. А вариант объект действия + глагол – с комбинациями существительное + предлог и прилагательное + существительное. Шведский, как мы видим, – исключение из этого правила. Но большинство языков следуют либо первому, либо второму варианту. И это явление также нуждается в объяснении. Оно слишком часто повторяется, чтобы быть случайностью.
Пазлы, письмо и звучащая речь
Центральный вопрос, касающийся природы языка, состоит в том, как функционирует языковая коммуникация. Мнения ученых на этот счет расходятся по двум основным линиям. Одни полагают, что язык – это код. Другие – визуально-выводная коммуникация.
Если язык – код, языковое высказывание несет всю передаваемую при общении информацию. Говорящий преобразует свое сообщение в лингвистический код, слушающий декодирует сказанное и таким образом воспринимает сообщение.
Визульно-выводимая коммуникация работает совершенно иначе, нежели код. Большая часть фактического сообщения передается не языковым высказыванием, а всей совокупностью внешних обстоятельств коммуникации, и слушателю в этом случае приходится складывать пазл, чтобы понять говорящего.
Все, что «визуально», имеет отношение к говорящему. Уже тот факт, что он говорит, сам по себе свидетельствует о намерении общаться. И все, что бы ни делал говорящий в процессе общения, так или иначе способствует тому, чтобы раскрыть то, что он хочет сказать, – помимо содержания собственно языкового сообщения. Кроме того, любое общение происходит в контексте неких внешних обстоятельств, и говорящий использует контекст ситуации, чтобы дополнить сообщение.
«Выводная» сторона, напротив, целиком и полностью в компетенции слушающего, который не просто пассивно декодирует языковое сообщение говорящего, но принимает во внимание и поведение собеседника, и контекст ситуации общения в целом. Слушатель делает выводы (умозаключения) из всей полученной им информации, а не только содержащейся непосредственно в сообщении – о намерениях говорящего относительно того, что должно быть передано.
Говорящий, в свою очередь, может использовать это и выстроить сообщение так, чтобы слушающий сделал из всего правильные выводы.
На практике это часто используется для упрощения коммуникации, когда говорящий пропускает те части сообщения, которые слушающий предположительно может восстановить сам.
Это можно сравнить с двумя способами передачи изображения. В случае кода говорящий просто пересылает слушающему готовую картинку – в том виде, какая она есть. В случае визуально-выводной коммуникации пересылается пазл, причем не весь, а такое количество фрагментов, которое потребуется слушающему, чтобы восстановить картину целиком, но не более того.
И слушающий собирает картину по кусочкам, при этом подсказками ему служат не только переданные фрагменты, но и все остальное, что делает говорящий, включая сам выбор фрагментов.
Поэтому визуально-выводная коммуникация может быть названа пазл-коммуникацией или общением-головоломкой. Именно так я и намерен называть ее впредь. У нас еще будет множество поводов вернуться в мир головоломок.
Рассуждая о языке в целом и о грамматике в частности, важно помнить о разнице между звучащим и письменным языком. Звучащий язык, в особенности тот, который мы используем в повседневном общении, существенно отличается от формализованного письменного варианта. Сказанное (в том числе и на языке жестов) слово обычно обращено непосредственно к слушающему, при этом говорящий и слушающий общаются в некой обстановке, создающей контекст разговора. Это идеальные условия для пазл-коммуникации. Слушающему есть из чего складывать пазл, помимо самих слов, и говорящий хорошо понимает, какие части общей картины уже есть в распоряжении слушающего. Поэтому в разговоре можно опускать большие фрагменты сообщения, не сомневаясь, что слушающему удастся восполнить недостающее. Неудивительно, что в звучащей речи всегда так много того, что в грамматике называется неполным, или эллиптическим, предложением. В устной речи эти фрагменты работают идеально, поскольку все остальные необходимые слушающему детали картины у него уже есть. И это происходит в соответствии с правилами грамматики.
