Читать онлайн Земляничный вор бесплатно
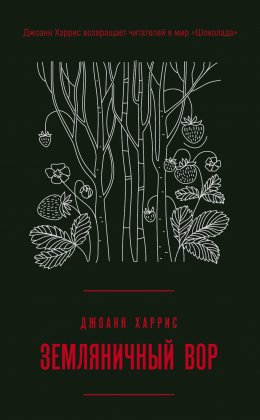
Joanne Harris
THE STRAWBERRY THIEF
Copyright © Frogspawn Ltd. 2019
© Тогоева И., перевод на русский язык, 2020
© Издание на русском языке, оформление
* * *
Посвящается тебе.
Да, тебе.
Ты же знаешь, кто ты.
Ветер
Глава первая
Пятница, 10 марта
Перед бурей всегда наступает короткий период затишья, когда ветер, словно передумав нападать, начинает изображать любовь к семейной жизни и уюту. Он то флиртует с цветущими деревьями, то шаловливо брызжет дождем из скучных серых туч. Но именно в такие мгновения напускной игривости ветер наиболее жесток и опасен. Не позже, когда он ломает деревья, а оборванные им листья и лепестки цветов, превратившиеся в жалкие комки, похожие на размокшую бумагу, забивают водосточные трубы и водосливы; когда под его напором дома складываются, как карточные домики, а стены их, казавшиеся такими прочными и надежными, рвутся в клочья, точно газетные листы.
Нет, самый страшный момент всегда тот, когда тебе начинает казаться, что опасность, возможно, уже миновала, и ветер, возможно, переменился, и ты, возможно, еще раз попытаешься построить нечто такое, что ветру просто не под силу унести прочь. Вот тут-то ветер и проявляет свое истинное коварство. Вот тут-то и приходит беда. В тот самый миг, когда ты уже предвкушаешь счастье. Демон на-дежды тоже спрятан в шкатулке Пандоры, и он вырывается наружу, когда раздробленные какао-бобы начинают испускать свой дивный аромат, который смешивается с запахами горящего огня, специй, соли, крови, ванили и душевной боли.
Я привыкла считать его совсем простым, это искусство готовить шоколад. Чем-то вроде безвредных индульгенций. Но в итоге все же поняла: ни одна индульгенция не бывает безвредной. Франсис Рейно, пожалуй, мог бы мной гордиться. Сорок лет я была ведьмой и теперь наконец-то превратилась в пуританку.
Зози де л’Альба[1] – вот кто меня бы понял. Да, Зози, коллекционировавшая души и сердца. Ее лицо я до сих пор иногда вижу во сне. Иногда в звуках ветра мне слышатся ее голос и стук каблучков по булыжной мостовой. Порой мне хочется узнать, где она сейчас, вспоминает ли обо мне. Зози знала, что ни одна индульгенция не бывает безвредной. И в итоге лишь власть имеет значение.
Но ветру нет до этого дела. Ветер никого не судит. Ветер просто возьмет, что сможет – что ему требуется, – и сделает это совершенно инстинктивно. Знаете, я ведь и сама когда-то была такой. Чем-то вроде семян одуванчика, разносимых ветром, моментально пускающих корни и успевающих даже отцвести и вновь дать семена, прежде чем опять сорваться с места и полететь дальше. Семена никогда не остаются рядом с родительским растением. Они летят туда, куда дует ветер.
Вот и моя Анук, ей сейчас двадцать один, ушла от меня, как в известной сказке ушли из города дети, последовавшие за Крысоловом с его дудкой. А ведь мы с ней всегда были так близки. Всегда были неразлучны. И все же я понимаю: своего ребенка ты как бы берешь взаймы и однажды непременно должна будешь вернуть его миру, где он будет расти, учиться, влюбляться. А ведь когда-то я верила, что Анук сможет остаться здесь, в Ланскне-су-Танн; что Жанно Дру сумеет удержать ее здесь; и не только Жанно, но и, разумеется, наша chocolaterie, обещавшая надежность и безопасность. Однако ее судьбу решил Жан-Лу Рембо, оставшийся в Париже. Тот самый Жан-Лу, болезненный мальчик с дыркой в сердце. Неужели Анук сумела залечить эту дыру, заполнить ее собой? Не знаю. Я знаю одно: после ее отъезда в моем сердце осталась такая дырища, которую не заполнить всем шоколадом Мексики; и дыра эта имеет форму маленькой девочки с темными, как океан, глазами.
А теперь уже и моя шестнадцатилетняя Розетт слышит голос этого ветра, и я знаю, какой голод испытывает ее душа, дикая, своенравная, изменчивая. Одного порыва этого ветра хватило бы, чтобы ее унести, если бы я не приняла соответствующие меры предосторожности и не привязала ее так же крепко, как привязывают паруса. Но ветер продолжает тревожить наши души, продолжает теребить веревки, которыми мы сами себя связали безопасности ради. Мы по-прежнему слышим его голос, подобный зову сирены. И в нем по-прежнему чувствуются запахи иных мест, иных стран. Он рассказывает нам, какие опасности там таятся, как ярко светит там солнце, какие увлекательные приключения ждут нас и какое счастье. Ветер танцует, и вместе с ним танцуют на грядках солнечные зайчики и резные тени от листьев перца чили. Он пробирается в горло и застревает там, точно неожиданный приступ смеха. А под конец он забирает все; все, ради чего ты трудилась в поте лица; все, что ты надеялась взять с собой, убеждая себя, что это неким образом возможно. И поднимается ветер всегда в такой момент, когда вокруг царят веселье, волшебство, радость… даже счастье. Когда сквозь тучи вдруг пробьется неожиданно яркое солнце. Когда ты почувствуешь вкус нежности, услышишь ликующий звон колоколов.
Иногда даже во время снегопада.
Снег
Глава первая
Суббота, 11 марта
Сегодня пошел снег. Прошла всего неделя с начала Великого поста – рановато для чуда. И я сперва решила, что это просто лепестки с цветущих деревьев сыплются, покрывая тротуары. Но оказалось, что на фоне ясного голубого неба в прозрачном воздухе порхают снежинки и на подоконнике уже лежит небольшой слой снега. Возможно, конечно, это просто Случайность. А вдруг что-то еще?
Ведь в этих краях снега практически не бывает. Тут и холодов-то настоящих не бывает, даже в разгар зимы. Не то что в Париже. Там на замерзшей Сене тонкий черный лед порой даже лопаться начинает с треском, и приходится напяливать зимнее пальто, а потом носить его с Хеллоуина чуть ли не до Пасхи. Здесь, в Ланскне-су-Танн, холода длятся в лучшем случае месяц. В декабре, правда, случаются заморозки. И тогда поля покрывает легкий белый иней. И дует ветер. Холодный северный ветер, от которого всегда слезятся глаза. Но вот почему сегодня-то снег пошел? Это наверняка некий знак. И к рассвету кто-то непременно умрет.
Я знаю одну историю – о девочке, которую мать из снега вылепила. На солнце ей совсем нельзя было появляться, но однажды летним днем она все-таки нарушила запрет и выбежала на улицу, чтобы поиграть с другими детьми. А мать потом долго ее повсюду искала. Но нашла только ее одежду, валявшуюся на земле – БАМ! – в лужице воды.
Мне эту историю Нарсис рассказал, хозяин цветочного магазина. Нарсис стал теперь совсем старым, так что по будням у него в магазине другой человек торгует, но по воскресеньям он по-прежнему сам туда приходит, садится у двери и следит за тем, что происходит на улице, но никогда ни с кем не разговаривает. Разве что иной раз со мной.
– Мы с тобой оба молчуны, верно, Розетт? – говорит он мне. – Не любим болтать как сороки.
Это правда. Например, когда мама готовит кому-то шоколад или беседует с покупателями, я предпочитаю сидеть, затаившись, у себя в комнате и тихонько играть с пуговицами, которые храню в коробке, или беру альбом и начинаю что-нибудь рисовать. Когда я была маленькой, я вообще не разговаривала. Только пела или кричала – БАМ! – а еще умела издавать всякие звериные и птичьи кличи и кое-что на пальцах показывать. Птиц и животных многие любят. А меня никто особенно не любил, так что с людьми я старалась вообще не разговаривать; даже своим теневым голосом почти никогда не пользовалась – когда я этим голосом пользуюсь, я сразу становлюсь кем-то другим. Я этого не люблю и предпочитаю чувствовать себя птицей, летающей высоко-высоко, выше облаков. Или обезьяной, качающейся на ветке, или иногда собакой, лающей на ветер. Но даже когда я представляю себя птицей или собакой, людям это не очень-то нравится; я нравлюсь только маме, Анук, Ру и моему лучшему другу Жану-Филиппу Бонне. Но мама теперь все время работает, Анук уехала в Париж с Жаном-Лу, Ру то приходит, то уходит, но никогда не остается надолго, а Жан-Филипп (вообще-то все зовут его Пилу) каждый день уезжает в Ажен, он там учится в школе, а со мной совсем больше играть не хочет.
Мама говорит, чтобы я не расстраивалась, что Пилу на самом деле не так уж сильно переменился. Но я-то вижу. Ему уже шестнадцать, и другие мальчишки будут над ним смеяться и дразнить его, если он станет играть с какой-то девчонкой.
По-моему, это несправедливо. И совсем я не какая-то девчонка. Иногда я такой же мальчишка, как Пилу. А иногда я обезьянка. Или собака. Или еще кто-нибудь. Но другие люди все воспринимают по-своему. Другим людям важно, кто с кем играет и кто кем представляется. И в школу я поэтому, разумеется, ходить не могу. В ту школу, что в Ажене, меня принять не захотели. Они сказали маме, что я не впишусь в коллектив или не смогу говорить как полагается. И потом, ведь есть еще Бам, который уж точно не стал бы вести себя как полагается; мне и так все время приходится его одергивать и кричать – БАМ! К тому же со мной иногда происходят всякие Случайности.
Вот поэтому я теперь учусь в основном по книгам и кое-что стараюсь узнать от птиц и животных, а иногда даже и от людей. Такие люди, как Нарсис или Ру, никогда не будут ко мне приставать, если мне не захочется разговаривать, и не испугаются, когда мой голос вдруг станет совсем не похож на голос девочки и в нем послышится что-то дикое и опасное.
Мама часто рассказывала мне историю о девочке, голос которой был украден ведьмой. Ведьма была очень умная и коварная и пользовалась нежным голоском девочки, чтобы обманывать людей и заставлять их поступать так, как было нужно ей самой. Говорить была способна только девочкина тень, но приятного в этом было мало. Во-первых, голос тени звучал пугающе, а во-вторых, тень всегда говорила только правду, порой довольно безжалостную. Ты прямо как та девочка, говорила мама. Слишком умна, чтобы тебя всякие дураки понять могли.
Ну, не знаю уж, насколько я умна, но голос у моей тени действительно есть. Хоть я и не слишком часто им пользуюсь. Люди не любят, когда им говорят правду. Даже мама предпочитает не слышать кое-что из того, что говорит моя тень. А потому я предпочитаю по большей части объясняться с помощью жестов или просто помалкивать. А если чувствую, что мой теневой голос так и рвется на свободу, то громко кричу – БАМ! – и смеюсь, и пою, и топаю ногой; в общем, примерно так мы иногда раньше делали, когда хотели прогнать прочь какой-нибудь зловредный ветер.
Когда пошел снег, мама возилась в магазине, готовила к Пасхе разные сладости. Шоколадных кроликов и цыплят, корзинки с шоколадными яйцами. Mendiants[2], пралине, «соски Венеры», абрикосовые сердечки, кисленькие апельсиновые дольки. Все это она заворачивала в целлофан и перевязывала разноцветными ленточками или раскладывала по коробкам, мешочкам, пакетикам. Все это раскупят перед Пасхой в качестве подарков. Шоколад я не очень люблю, а вот горячий шоколад мне нравится. И еще шоколадные круассаны. Только работать в шоколадной лавке я не хочу. Мама говорит, что у каждого свое умение. Она, например, умеет приготовить из шоколада все что угодно, а еще знает, кому что больше всего нравится. Ру умеет подражать любой птице, а еще он может все на свете починить или построить. А я умею рисовать разных животных. У каждого есть свое животное, как бы тень его истинного «я». Вот у меня обезьянка Бам. У мамы дикая кошка. У Ру лисица с пушистым хвостом. У Анук кролик Пантуфль. У Пилу енот. А у Нарсиса старый черный медведь с шаркающей походкой, длинной мордой и маленькими глазками, в которых светится много разных знаний и тайн. Некоторые люди считают Бама ненастоящим. Даже мама называет его «воображаемый дружок Розетт», особенно если разговаривает с такими людьми, как мадам Дру, которая даже цвета ауры видеть не способна. Но мама так говорит, потому что Бам и впрямь иногда бывает несносным. Мне все время приходится за ним следить. А иной раз приходится даже прикрикнуть – БАМ! – иначе он быстренько устроит какую-нибудь очередную Случайность.
Но мама только притворяется, будто не видит Бама. Просто в данный момент она его видеть не хочет. Она вообще считает, что нам бы легче жилось, будь мы такими, как все. Но я точно знаю, что Бама она по-прежнему видит прекрасно. И точно так же прекрасно видит, какое лакомство у любого из ее покупателей самое любимое. И какие у кого цвета ауры, тоже сразу видит и распознает по ним, что в данный момент у того или иного человека на душе. Вот только в последнее время она как-то особенно старается эти свои умения скрыть, чтобы казаться такой же, как все другие матери. Может, ей кажется, что если она будет так делать, то и я стану такой же, как другие дети?
Мама даже не заметила, что снег пошел, так была занята с двумя дамами, выбиравшими шоколадных зверюшек. Дамы были в весенних платьях, в туфлях на высоких каблуках и в светлых, пастельных оттенков пальто. Одну из них зовут мадам Монтур. Она не из нашего городка, но я не раз ее здесь видела. Она по воскресеньям в нашу церковь ходит. А вторая – мадам Дру. К нам она не за шоколадом заходит – его она никогда не покупает, – а просто узнать, что в Ланскне творится. Сегодня дамы обсуждали с мамой какого-то мальчика, который, по их мнению, был чересчур толстым и непослушным, то есть не желал делать то, что ему говорили старшие. Не знаю уж, что это за мальчик, но сразу представила двух попугаих или двух наседок в розовых перьях, которые все кудахчут, все суетятся и страшно довольны собой. А еще сразу было видно, что мадам Монтур очень интересует, почему это я не в школе.
Это уже никого больше в Ланскне не интересует. Как никого не удивляет, что я порой лаю, или кричу, или пою: Бам-Бам-Бам, Бам, бадда-БАМ! Но сейчас я заметила, что и мама на меня как-то настороженно посматривает. Я знаю, она за меня очень тревожится. В раннем детстве со мной вечно происходили разные Случайности. Это такие вещи, которые не должны бы происходить, а все-таки происходят. Из-за таких вещей мы и кажемся не такими, как все. А один раз – я тогда еще совсем младенцем была – меня пытались отнять у мамы и унести прочь. А когда мы жили в Париже, и Анук тоже кто-то пытался из дома увести. Вот мама и тревожится. Только зря. Я ведь теперь стала такой осторожной.
Я нарисовала мадам Монтур в виде светло-розового попугая, а мадам Дру – в виде курицы-несушки. Всего несколько штрихов – и на бумаге возникает маленькая розовая головка с приоткрытым от удивления клювом. Рисунки я специально оставила на стойке, чтобы мама сразу их обнаружила, а сама вышла на улицу. Ветер дул с севера, и казалось, что вся земля усыпана лепестками цветов, но, хорошенько присмотревшись, я поняла, что это не лепестки, а крупные снежные хлопья, и они, вращаясь, как кружочки конфетти, сыплются прямо из голубого весеннего неба.
У входа в церковь стоял наш священник и тоже с удивлением смотрел на падающий снег. Священника зовут Франсис Рейно. Сперва, когда мы еще только сюда приехали, он мне очень не нравился, но теперь я его, пожалуй, почти полюбила. Вот только фамилия Reynaud, что значит «лисица», ему совсем не подходит; просто глупо, как это люди не понимают, что на самом деле он самая настоящая ворона – весь в черном и со своей вечно печальной, чуть кривоватой улыбкой. И в церкви у него мне очень нравится. Там так приятно пахнет полированным деревом и благовониями; и там красивый цветной витраж и статуя святого Франциска. Рейно рассказывал мне, что святой Франциск – покровитель животных, а потому оставил жизнь среди людей и поселился в лесу. Я бы, например, тоже с удовольствием в лесу поселилась. Построила бы себе домик на дереве, а питалась бы орехами и земляникой. Но к мессе мы с мамой никогда не ходим. Раньше это запросто могло послужить причиной всяких неприятностей. Но теперь сам Рейно сказал, что нам вовсе не обязательно туда ходить, потому что Бог нас и так видит и станет о нас заботиться, где бы мы ни были.
В общем, сейчас из ясного голубого неба вовсю валит снег, и это точно означает нечто важное. Может, даже какая-нибудь Случайность произойдет. Я распахнула полы пальто, помахала ими, как крыльями, и крикнула – БАМ! – чтобы Рейно уж точно понял: моей вины в этом внезапном снегопаде нет никакой. Он улыбнулся и помахал мне рукой. И я догадалась, что он, конечно же, не замечает этих разноцветных вспышек над площадью, не слышит песни ветра, не чувствует запаха гари. А ведь все это знаки. Я это отчетливо чувствую. Вот только Рейно, совершенно точно, ничего этого не понимает. И не знает, что снег среди ясного неба означает: на заре кто-то непременно умрет.
Глава вторая
Суббота, 11 марта
Вот она идет. Какая она все-таки необыкновенная, моя зимняя девочка, мой маленький подменыш. Вольная, как стайка диких птиц. Летит, куда хочет; миг – и ее уже нет. Невозможно удержать ее дома, невозможно заставить сидеть спокойно. Розетт никогда не была такой, как другие дети; и на других девочек никогда не была похожа. Она похожа на некую силу природы, или на тех галок, что устроились на колокольне и смеются, или на этот неестественный снегопад, или на цветы, которые ветер срывает с ветвей деревьев…
Таким женщинам – таким мамочкам! – как Жолин Дру или Каро Клермон, этого не понять. Они просто представить не могут большего ужаса, чем особенный ребенок в семье. Еще бы: Розетт уже почти шестнадцать, а она все еще не умеет «нормально разговаривать»! Для них одного этого достаточно, чтобы моя дочь казалась им невыносимо тяжкой ношей, жалким, неполноценным существом. Для них она всегда бедняжка Розетт, а я – бедняжка Вианн; но об этом они, разумеется, говорят исключительно у меня за спиной; они уверены, что муж меня практически бросил и мне приходится в одиночку растить несчастную девочку, отец которой самым возмутительным образом вечно отсутствует.
Но ни Каро, ни Жолин понятия не имеют, как Розетт смотрит на меня, когда я вечером перед сном ее целую; как она напевает, лежа в постели, и сама себя убаюкивает; с какой легкостью она может нарисовать любое животное, любую птицу, любое живое существо. Для них она всего лишь маленькая девочка, которая так никогда и не вырастет, не станет взрослой, и это, по их мнению, печальнее всего. Ведь если она никогда не станет взрослой девушкой, то никогда и не влюбится, не выйдет замуж, не получит работу, не переедет в большой город. А раз она никогда не сможет стать взрослой, то так и останется вечным бременем для матери, которая тоже никогда не сможет, например, поехать в кругосветное путешествие, о котором давно мечтала, или выбрать себе какое-нибудь увлекательное хобби, или успешно «социализироваться», став участницей местного женского клуба. Все это будет для нее недоступным, и она останется навечно прикованной к сонному Ланскне-су-Танн, где вряд ли кому-то хотелось бы провести всю свою жизнь.
Однако я не Каро Клермон, и не Жолин Дру, и не Мишель Монтур. А мечту о том, чтобы где-то пустить корни и более не опасаться, что меня опять унесет ветер, я лелеяла всю жизнь. У меня всегда были такие вот маленькие мечты, только на их осуществление я сейчас и надеюсь. Мне всегда хотелось обрести на земле такое место, где посеянные мной семена смогут взойти и вырасти в нечто знакомое и близкое. Дом с висящей в гардеробе одеждой. Стол в знакомых щербинках и порезах, оставленных предыдущими поколениями моей семьи. Старое кресло, хранящее форму моего тела. Может, даже кошка на крылечке.
Видите, я вовсе не требовательна. И мечты эти, безусловно, вполне достижимы. Но стоит мне хотя бы подумать, что на этот раз я, пожалуй, заставила замолчать этот проклятый ветер с его непрерывными требованиями, как он начинает дуть с новой силой. И погода тут же меняется. Умирают друзья. Вырастают и уезжают прочь дети. Уехала даже Анук, мое летнее дитя, и теперь шлет мне коротенькие эсэмэс и звонит по воскресеньям – если, конечно, не забудет позвонить, – а глаза ее радостно вспыхивают при одной лишь мысли о новых местах, новых приключениях. Как странно. Ведь именно Анук всегда больше всех хотела где-нибудь по-настоящему поселиться и прожить там долго-долго. Как же сильно теперь изменилась ее орбита! Теперь она следует за его звездой. Это было неизбежно, я понимаю, но порой во мне все же вспыхивает некое темное желание…
А вот с Розетт все будет иначе. Розетт моя. Особенный ребенок, как выражается Каро Клермон и произносит это с невероятно жалостливым выражением лица, абсолютно противоречащим тому неподдельному отвращению, которое она к Розетт испытывает. Какое это, должно быть, тяжкое бремя для матери, думает Каролин. Дочь, которая никогда не станет взрослой, никогда не сможет стать хотя бы нормальной. Ей невдомек, что именно по этой причине Розетт так дорога мне.
Кошка пересекла твою тропинку в снегу и замяукала. Дул Хуракан[3].
Нет. Не желаю я это вспоминать! Не желаю вспоминать ту зиму, и ту кошку в снегу, и ту золоченую клетку, и круг из песка. Я сделала именно то, что сделать было необходимо, мама. Я поступила так, как поступают все матери. И никаких сожалений не испытываю. Мое дитя в безопасности. И это единственное, что имеет значение.
Я проверяю, нет ли на мобильнике сообщений. Я привыкла всегда носить его с собой после того, как Анук снова перебралась в Париж. Иногда она присылает мне какую-нибудь фотографию – крошечное окошечко в ее теперешнюю жизнь – и несколько сопроводительных слов. Например: Обворожительный голубоглазый пес хаски у входа в метро! Или: Новое кафе-мороженое на Ке-дез-Орфевр! Это помогает мне не забывать о том, что я в любое время могу с ней поговорить, в любое время могу услышать ее голос, но я стараюсь не быть излишне требовательной, стараюсь не показывать, как сильно тревожусь о ней, с каким нетерпением жду ее звонков. Наши телефонные разговоры всегда очень легкие и веселые: я рассказываю ей о своих покупателях, а она мне – о том, что интересного повидала. Жан-Лу учится в Сорбонне; Анук тоже могла бы учиться, но вместо этого работает в кинотеатре-мультиплексе. Они живут вместе в съемной однокомнатной квартирке в 10-м arrondissement[4]. Я прекрасно представляю подобное жилье: старое здание с отсыревшими стенами и тараканами в туалете, очень похожее на те дешевые гостиницы, в которых мы останавливались, когда Анук была маленькая. Она могла бы остаться здесь и работать со мной в нашей chocolaterie. Но она предпочла Париж – это Анук-то, которой всегда хотелось жить именно в таком месте, как Ланскне!
Я возвращаюсь на кухню. На листе бумаги для выпечки остывают mendiants, маленькие шоколадные диски, украшенные кусочками засахаренных фруктов, мелко порубленным миндалем, фисташками, сухими розовыми лепестками и кусочками золоченой фольги. Mendiants всегда были моим любимым лакомством, и готовить их настолько просто, что справится даже ребенок: Анук в пять лет делала это совершенно самостоятельно. Маринованная вишенка – вот и нос, ломтик лимона – вот и смеющийся рот. У Анук даже mendiants всегда улыбались.
Вот у Розетт они получаются куда более сложными, какими-то почти византийскими: маленькие кусочки цукатов она выкладывает прихотливыми спиралями. Примерно так же она играет со своими пуговицами, то выстраивает их в ряд вдоль плинтуса, то создает на полу прихотливый орнамент из петель, напоминающий следы зверя. Это лишь часть того, каким видится ей этот мир, как она пытается изобразить его невероятную сложность. Каро может, конечно, сколько угодно толковать с умным видом о неких нарушениях «обсессивно-компульсивного характера», свойственных детям, которых она так любит называть особенными, но никаких нарушений психики у Розетт нет. И эти рисунки – как и вообще всякие знаки – очень для нее важны.
Интересно, куда это она сегодня прямо с утра направилась, такая тихая, целеустремленная? На улице все еще очень холодно; голубое небо выглядит абсолютно твердым; кажется, что оно буквально звенит от морозного ветра, дующего из русских степей. Розетт любит играть на берегу Танн или в соседних с Маро[5] полях, но больше всего ей нравится лес, что тянется вдоль фермерских угодий Нарсиса; в этот лес доступ имеет только она одна, не рискуя навлечь на себя гнев владельца.
Нарсис – хозяин того цветочного магазина, что напротив нашей chocolaterie, и один из главных поставщиков свежих овощей и фруктов на рынки и в магазины деревень, раскиданных по берегам Танн. Розетт он просто обожает, но проявляет свою любовь несколько ворчливо, даже свирепо. Уже лет тридцать, как Нарсис овдовел, и к Розетт относится как к своей приемной внучке. Хотя с другими он обычно весьма суров, а то и груб. Но с Розетт он невероятно снисходителен: любит рассказывать ей всякие истории, учит разным песням – и она с энтузиазмом ему подпевает, хотя и без слов.
«Мой земляничный воришка» – так он ее называет. «Моя маленькая птичка с тайным голосом».
Что ж, сегодня эта «маленькая птичка» куда-то упорхнула, привлеченная неожиданно выпавшим снегом. Этот снег, конечно, скоро растает, но пока что поля покрыты белым покрывалом, а ведь персиковые деревья уже в цвету. Интересно, думаю я, что скажет Нарсис, ведь такой поздний снегопад – просто проклятие для фруктовых деревьев и зазеленевших злаков. Наверное, из-за снега он и магазин свой до сих пор не открыл, хотя суббота – лучший день для торговли цветами. Уже половина двенадцатого, и даже те прихожане, что слегка задержались в церкви после мессы, спешат домой, к семье; их «воскресные» куртки, пальто, береты и шляпы щедро усыпаны белыми пушистыми хлопьями. Даже Рейно, наверное, уже собрался вернуться в свой маленький домик на улице Вольных Горожан, да и булочная Пуату на нашей площади вот-вот закроется на обед. Небо сегодня какое-то странное – голубое, безоблачное и твердое, как камень. Однако снег все идет и идет, и пушистые снежинки летят по ветру, как пух чертополоха. Моя мать наверняка сказала бы, что это некий знак.
А по-моему, нечто иное.
Глава третья
Среда, 15 марта
Это случилось накануне вечером, отец мой. А утром его нашли. Он не пришел, чтобы открыть свой магазин – по воскресеньям он всегда сам его открывает, – и его помощница, та девушка, что в будни там всем заправляет, встревожилась и решила сходить к нему домой. Там она его и обнаружила – он сидел в кресле на крыльце, глаза открыты, а сам холодный, как могила. Ему, конечно, было уже под восемьдесят, но столь неожиданная смерть всегда воспринимается как гром небесный даже теми, для кого не должна бы стать ни потрясением, ни поводом для скорби.
Пожалуй, самому-то Нарсису все равно, стану я о нем горевать или нет. Он никогда прилежным прихожанином не был и никогда не скрывал, что с презрением относится и ко мне, и ко всему тому, за что я стою. А вот его дочь Мишель Монтур – прихожанка весьма прилежная и каждое воскресенье посещает мою церковь вместе с мужем, его тоже зовут Мишель, хотя живут они далеко, на той стороне Ажена. Со мной они всегда разговаривают очень вежливо и уважительно, но не могу сказать, что эти люди мне так уж приятны. Она из тех женщин, которых Арманда Вуазен называла «библейскими потаскушками»: в церкви сплошные улыбки и любезности, но с теми, кого считает ниже себя, холодна и сурова.
Мишель Монтур – девелопер, он занимается земельной собственностью и ездит на внедорожнике, которому, похоже, вне дороги и ездить-то никогда не доводилось. Оба супруга очень любят деньги; подозреваю, что именно по этой причине два года назад они вдруг возникли в жизни Нарсиса и стали к нему как-то цепко внимательны. А до этого Нарсис, по-моему, с ними вообще не виделся; он и не упоминал ни разу, что у него дочь есть. И хотя в течение последних двух лет Мишель каждое воскресенье после мессы его навещала, преувеличенно беспокоилась о его здоровье и покупала ему шоколад, я все же сомневаюсь, что Нарсис поверил этой, столь внезапно пробудившейся, дочерней привязанности. Меня он, может, и недолюбливал, но в целом о людях судил весьма здраво. Он вообще был человеком довольно суровым и строгим, но обладал каким-то удивительным чувством юмора, чуть суховатым, пожалуй. Особенно часто это проявлялось, когда он имел дело с речным народом или с обитателями Маро – то есть с иммигрантами или бродягами, которым он, кстати, всегда позволял бесплатно селиться на принадлежащей ему земле да еще и работой обеспечивал. А его отношения с дочерью и зятем были суховато-сердечными, не более. И никаких иллюзий на их счет он никогда не питал. Было ясно, что эту женщину интересуют исключительно отцовские деньги.
Я подозреваю, что как только эти «Мишель-и-Мишель» унаследуют деньги и земли Нарсиса, их интерес к Ланскне сразу же и угаснет. Ведь даже те «друзья», которых они здесь завели, являются для них всего лишь полезными знакомыми. А их религиозное рвение и попытки стать самыми активными моими прихожанами – как и визиты Мишель в шоколадную лавку – это всего лишь способ создать себе в Ланскне соответствующую репутацию. Ведь Нарсис ясно дал понять: он хотел бы, чтобы о его ферме и впредь заботились, а его цветочный магазин по-прежнему был неотъемлемой частью нашего маленького сообщества. Но теперь, когда Нарсиса больше нет, отпала и необходимость притворяться. Значит, его землю распродадут по кускам, цветочный магазин сдадут в аренду, а ферму уничтожат. Да, конечно, так и будет. Труды всей его жизни пойдут прахом, причем так быстро, что и один урожай созреть не успеет.
Так, во всяком случае, мне казалось раньше. Но знаешь, отец мой, Нарсис меня удивил. Из всех тех, кого он мог бы попросить стать его душеприказчиками – из всех своих друзей, соседей и родственников, – он почему-то выбрал на эту роль меня, что вызвало нескрываемое раздражение у Мишель и Мишеля Монтур, которые наверняка считали, что наследство уже практически у них в кармане. Однако деталей завещания не знал даже я, душеприказчик Нарсиса; оно было зачитано лишь сегодня в Ажене сразу после похорон. Это были очень простые и тихие похороны; собственно, все произошло в крематории при соблюдении того минимума церковных обрядов, какой позволяла столь краткая заупокойная служба. Так хотел сам старик, о чем с неодобрением сообщила всем Мишель Монтур. Она-то, конечно, предпочла бы более соответствующие ее «статусу» пышные продолжительные похороны, когда есть возможность и новую шляпку продемонстрировать, и глаза платочком промокнуть. Так что ее «друзья» – Клермоны, Дру – столь светской церемонией пренебрегли, и почтить память усопшего пришли только друзья Нарсиса, речные люди и обитатели Маро.
Этих людей я у себя в церкви даже по воскресеньям никогда не вижу; речные мужчины заплетают волосы в косы, а тела их сплошь покрыты татуировками. Многие мужчины из Маро по-прежнему носят длинные восточные рубахи, которые называются «курта», а женщины – хиджабы. Разумеется, были там и Вианн с Розетт, обе в чем-то светлом, ярком, словно демонстрируя презрение самой смерти.
А вот Ру не пришел. Он избегает появляться в городке, предпочитая Маро. Он и судно свое пришвартовал возле старых дубилен; это место всегда служило местом сбора речных людей; там, на берегу Танн, они жгут костры и готовят себе еду в чугунных котелках. Одно время я страшно противился появлению у нас этих вечных бродяг. Теперь же я со стыдом вспоминаю того человека, каким был тогда. А Ру этого до сих пор не забыл и старается держаться от меня подальше. Если бы не Вианн и Розетт, он бы, по-моему, давно уже покинул эти места. У него никогда не было настоящего дома, и ни в одном из мест он надолго не оставался. Хотя Нарсиса он, безусловно, любил. Да и Нарсис очень хорошо к нему относился, дал ему и работу, и кров, когда больше никто в Ланскне этого делать не пожелал, а потому меня очень удивило, когда Ру на похоронах Нарсиса даже не появился.
Не присутствовал он и на оглашении завещания. Ру – он такой. Он читает только те письма – обычные или электронные, – какие захочет прочесть, а это означает, что практически любой конверт с государственной печатью почти наверняка будет сразу отправлен им в помойный бак на берегу Танн. В офис солиситора в Ажене вместе со мной явились только Мишель Монтур и ее муж Мишель; они вели себя вполне благопристойно, хоть и ожидали, что покойный приготовил им некий «сюрприз», и это вызывало у них сильнейшее внутреннее возмущение. Когда завещание было оглашено, то сперва воцарилась оторопелая тишина, но затем голоса законных наследников стали постепенно набирать силу; посыпался град исполненных недоверия вопросов – в первую очередь, разумеется, ко мне; супруги Монтур требовали, чтобы я объяснил, каким образом мне удалось обмануть «бедного папочку» и заставить его передать столь ценное имущество человеку, у которого нет ни счета в банке, ни собственного жилища…
Имя нашего солиситора – Йин-Ли Мак, это элегантная молодая китаянка, чей безупречный французский и иностранное имя с самого начала вызвали у обоих Мишелей глубочайшую неприязнь, и они все обменивались выразительными взглядами. А после оглашения и вовсе ощетинились, с трудом сдерживая бешеную злобу и переводя гневный взор со священника на солиситора и обратно.
– Строго говоря, эта земля завещана отнюдь не месье Ру, – тихо и спокойно объяснила мадам Мак. – Месье Ру является всего лишь официальным опекуном мадемуазель Розетт Роше, которой, собственно, этот участок вашим отцом и завещан, однако она еще не достигла совершеннолетия…
– Это преступный сговор! – прервала ее Мишель Монтур. – Здесь явно чувствуется чье-то подлое влияние.
Я не выдержал и сообщил, что в последние пять лет Ру с Нарсисом практически не виделись, разве что здоровались, когда Ру изредка появлялся в Ланскне.
– И потом, – продолжил я, – ваш отец ведь не исключил вас из завещания. Напротив, он и вам немало оставил – свой дом и ферму, все свои сбережения, большую часть возделанных полей…
– Эти поля ничего не стоят без прилегающих к ним лесов! – вмешался Мишель Монтур. – Между прочим, там шестнадцать гектаров дубового леса! И участок вполне пригоден под застройку. Я уж не говорю, что и зрелая древесина тоже имеет немалую коммерческую ценность. С какой стати мой тесть оставил все это человеку, с которым едва знаком? Что за история за всем этим таится? И как быстро условия завещания могут быть пересмотрены?
Я спокойно объяснил, что, будучи душеприказчиком Нарсиса, не имею права что-либо изменять в его завещании.
– Но это же несправедливо! – воскликнула Мишель, и в ее благопристойном фасаде начали появляться трещины. Она всегда старается подражать северянам с их более протяжным выговором, но сейчас, пребывая в крайнем возбуждении, она вернулась к естественной манере речи, страдающей легкой гнусавостью, глотанием гласных и резкими скачками интонаций. – Совершенно несправедливо! Мы его семья! Мы специально сюда приехали, чтобы за ним ухаживать! Господи, мы даже в его церковь ходить стали… – Она внезапно умолкла и с подозрением уставилась на меня. – И вы, отец мой, еще хотите убедить меня, что впервые все это слышите? Что он никогда своего завещания с вами даже не обсуждал?
Я заверил ее, что Нарсис никогда и ничего со мной не обсуждал, и мне уже не в первый раз показалось, что самому Нарсису очень понравилась бы эта сцена все возрастающего разгула анархии. И то, что меня все это страшно смущает, ему бы тоже понравилось, а ярость, в которую после оглашения завещания пришли его родственники, его бы просто в восторг привела; его также позабавила бы исключительная вежливость мадам Мак, которая и предположить не могла, что произойдет нечто подобное.
– Он наверняка оставил еще какие-то документы, свидетельства, – заявила Мишель, – или хотя бы письмо для нас.
– Ваш отец действительно оставил некий документ, – согласилась мадам Мак, – но он предназначен исключительно отцу Рейно, так что его вниманию я этот документ сейчас и предложу. В сопроводительном письме месье Нарсис ясно указал: передать лично отцу Рейно, и никому другому.
– Нет, это совершенно бессмысленно! – взвыла Мишель. – С какой стати папа стал бы так с нами поступать? С родными людьми?
– Мне очень жаль, – попыталась успокоить ее мадам Мак, – но, боюсь, я попросту не имею права обсуждать с вами детали завещания вашего отца. И потом, он оставил очень четкие и ясные указания. Вы получаете ферму, за исключением дубового леса, и цветочный магазин в деревне. А шестнадцать гектаров леса вместе со всем содержимым завещаны мадемуазель Роше и будут находиться в доверительной собственности у месье Ру, являющегося официальным опекуном упомянутой мадемуазель, пока ей не исполнится двадцать один год.
– Что значит «вместе со всем содержимым»? – нервно спросила Мишель Монтур. – Вы хотите сказать, что там есть что-то еще? Некие строения? Какие же?
Но мадам Мак лишь головой покачала и передала мне толстую зеленую папку, перетянутую канцелярской розовой тесемкой. На папке была наклейка с моим именем, написанным чернилами, и факсимиле Нарсиса, явно сделанным еще в прошлом веке.
– Это мой клиент оставил специально для вас, – сказала она, – и весьма настойчиво требовал, чтобы вы непременно прочли все до конца.
Однако Мишель не собиралась покидать поле боя.
– Отец никогда бы так не поступил! На него определенно кто-то самым неподобающим образом оказал давление. Я требую, чтобы мне позволили ознакомиться с содержимым папки! В этом вы не можете мне отказать!
Но мадам Мак снова покачала головой и твердо заявила:
– Извините, мадам, но ваш отец ясно дал понять: этого не прочтет никто, кроме месье кюре…
– Мне все равно! – выкрикнула Мишель. – Мой отец был уже очень стар. Он практически выжил из ума. И он не имел никакого права так поступать с нами, ближайшими родственниками, которые его любили. – В поисках поддержки она повернулась ко мне: – Отец мой, мы люди небогатые. Нам пришлось немало потрудиться, чтобы достигнуть нынешнего положения. Мы посещаем церковь. Платим налоги. У нас есть сын, которому требуется особый уход, и на это у нас уходит каждый заработанный грош. И вот теперь, когда наш бедный мальчик уже смог бы вскоре вступить в права наследования… Вы же должны понимать: мы ведь не для себя стараемся, нас заботит исключительно судьба нашего сына…
– У вас есть сын? – удивился я.
Вот это новость! За те два года, что они посещали мою церковь, я ни разу не слышал, чтобы кто-то из них хоть раз упомянул о сыне. Мне захотелось расспросить их, выяснить, сколько же лет мальчику, что в первую очередь ему необходимо и почему мать даже по имени его ни разу не назвала. Но Мишель так разошлась, что теперь было бы нелегко заставить ее умолкнуть.
– И кто такой этот Ру? – вопрошала она. – Чего он хочет? И почему его здесь нет? И что все-таки имел в виду мой отец под столь странным выражением «лес вместе со всем содержимым»? Объясните, с какой стати такому человеку, как мой отец, вообще оставлять шестнадцать гектаров земли какой-то девчонке? – Она судорожно вздохнула, переводя дыхание, и тут же продолжила: – И пусть, черт возьми, кто-нибудь скажет мне наконец, кто она такая, эта Розетт Роше?!
Глава четвертая
Среда, 15 марта
Нам сообщил об этом Рейно. Сказал, что Нарсис умер. Только я уже знала. Кому-то захотелось сделать недоброе дело. Кто-то вызвал эту Случайность. А теперь оказалось, что свой земляничный лес Нарсис оставил мне, и все в Ланскне только обо мне и говорят.
Они думают, я не понимаю. А я все понимаю. Это действительно мой лес. Мой собственный. И никто его не продаст, не срубит, не попытается помешать мне туда ходить. Я там построю себе дом среди кустов и папоротников и буду питаться лесными орехами, щавелем и земляникой. И никто меня там не потревожит, никто не станет смеяться надо всем тем, что я делаю, потому что теперь этот лес принадлежит мне, а больше туда никто не придет. Разве что Пилу, да и то по особым случаям. Ну и, может, еще Анук, если домой приедет…
По Анук я скучаю. Не так сильно, как мама, конечно, но без Анук все как-то не так. Нас ведь всегда было трое, и втроем мы могли всему миру противостоять. Сперва Анук осталась в Париже, чтобы школу окончить, только с тех пор уже больше двух лет прошло. Ей бы давно уже следовало домой вернуться. Но Жан-Лу живет в Париже, а с ним Анук расставаться не хочет. И мама теперь стала какая-то чуточку другая: и говорит слишком громко, и смеется слишком много, и страшно беспокоится, если я куда-то одна ухожу, и по ночам иногда втихомолку плачет. Плачет она совершенно беззвучно, но я все равно всегда знаю, если она плачет. Я даже запах ее слез могу почувствовать и, уж конечно, сразу замечаю, с какой силой ветер начинает в ставни колотиться.
БАМ! Ох уж этот ветер! Вечно он дует. И пахнет дымом и специями. А прилетает он как бы сразу отовсюду: с жаркого юга, с манящего востока, с мрачного запада, с туманного севера. Он играет палой листвой и дергает меня за пряди рыжих волос. А иногда ветер превращается в обезьянку. Или некую даму в леденцовых туфельках. Но он всегда где-то поблизости, а теперь старается и еще ближе подобраться. Если бы я его позвала, он бы принес Анук обратно в Ланскне. Вот позвала бы, и Анук была бы дома, и мама снова стала бы счастливой…
- V’là l’bon vent, v’là l’joli vent,
- V’là l’bon vent, ma mie m’appelle[6]…
Но иногда бывают всякие Случайности, потому-то я этот ветер и не зову. По крайней мере, ничего ему не говорю своим теневым голосом, тем, что способен говорить только правду. И мама не знает, как мне нравится слушать этот ветер. И не слышит, как он напевает мне ласковым летним голосом. Мама понятия не имеет, до чего мне иногда хочется призвать этот ветер своим теневым голосом, и не замечает, что порой мне его даже бранить приходится – БАМ! – чтобы снова заставить меня слушаться.
Мадам Клермон считает, что у меня какой-то там синдром Туретта[7]. Я слышала, как она это маме говорила, особенно когда у меня бывали «шумные» дни. А Нарсис всегда возражал ей: «Нечего на ребенка ярлыки вешать. Она вам не посылка». И мадам Клермон сердито на него смотрела, а лицо у нее становилось такое, словно она целый лимон съела. Но Нарсис, подмигнув мне, говорил с улыбкой своим негромким хрипловатым голосом так, что только я одна и могла расслышать: «Не обращай внимания. У нее самой «синдром хлопотуна» в тяжелой форме, вечно в чужие дела свой нос сует. И когда-нибудь точно доиграется».
Он, конечно, шутил. Сейчас-то я это понимаю. Никакого «синдрома хлопотуна» не существует. И от того, что ты сплетница, умереть невозможно. Нарсис вообще такие шутки любил. И далеко не всегда можно было сразу догадаться, шутка это или нет. Но он был моим другом – он стал им с того дня, когда поймал меня в своем лесу, где я воровала его землянику. А до этого я с ним толком и знакома не была. Думала, это просто ворчливый старикашка, который изредка в нашу шоколадную лавку заглядывает. Много он никогда у нас не покупал – ну там, абрикосовое сердечко или кусок пирога. Но маме он нравился. И Ру тоже. И надо мной он никогда не смеялся, и никогда не разговаривал со мной так, словно я глухая, и никогда не обсуждал меня с другими, как это вечно делает мадам Клермон, уверенная, что я ничего не понимаю.
Я много раз пыталась ей объяснить, что мне просто нравится говорить с помощью жестов. И вовсе не потому, что я глухая – БАМ! – и не потому, что нормально говорить не умею, а просто потому, что жесты совершенно безопасны и с их помощью тоже можно все высказать очень даже легко и просто, и никаких Случайностей язык жестов не вызывает. Но мадам Клермон мои объяснения были совершенно неинтересны. Она вообще похожа на маленькую кудрявую собачонку – только и делает, что тявкает и суетится. Глядя на нее, мне иной раз тоже залаять хочется. С мамой она разговаривает исключительно голосом умирающей. Ну, как там сегодня наша бедная маленькая Розетт? Ах, Вианн (тяжкий вздох), я просто не представляю, как вы справляетесь! На что мама всегда отвечает: «Я справляюсь только благодаря Розетт, Каролина».
А с Нарсисом мы подружились шесть лет назад, мне тогда девять было. Однажды, когда Пилу был в школе, я играла с Бамом на берегу реки, и мне захотелось немного разведать местность. Пройдя через поля, я вышла на маленькую тропинку, ведущую в лес, окруженный изгородью из проволочной сетки; на воротах висел большой замок – чтобы люди сразу поняли: держитесь, мол, отсюда подальше. Я всегда очень не любила всякие запоры. Если что-то было заперто, мне непременно хотелось туда заглянуть и узнать, что же там внутри. Ну, и на этот раз я, конечно, стала искать проход и вскоре обнаружила, что в одном месте проволочная сетка немного отстала от крепежного столба. Взрослому человеку в такую щель было, конечно, не пролезть, но я с легкостью в нее проскользнула. А Бам и вовсе всегда пройдет, куда хочет. Как и тот ветер. И за изгородью оказалось столько интересного! Столько разных отличных мест! Настоящие колючие заросли. Упавшие деревья. Разные папоротники. И фиалки, и утесник, и тропинки словно выстланы мягким зеленым мхом. А посередине леса, в самом его сердце, оказалась поляна; и в самом центре этой поляны был круг из камней, внутри которого старый колодец. И рядом еще огромный старый мертвый дуб, с которого уже много засохших веток на землю нападало. Все это – и сухие ветки, и стоячие камни, и даже колодец с ржавым насосом – было покрыто плотным ковром из земляники; пучки ее торчали отовсюду, фестонами и оборками свешивались с каждого бугорка, а в некоторых местах земляничные кустики были мне по колено. Ягод там была уйма, и черные дрозды без зазрения совести клевали спелую землянику, и запах от нее исходил совершенно летний.
Но этот земляничник был совсем не похож на остальные угодья Нарсиса. У него на ферме всегда полный порядок, все на своем месте. Одно маленькое поле отведено под подсолнухи, второе – под капусту, третье – под кабачки и тыкву, четвертое – под иерусалимские артишоки. Направо яблони, налево персики и сливы. В легких поли-этиленовых парниках весной цветут нарциссы, тюльпаны и фрезии, а летом зреют салат-латук, томаты и фасоль. И все грядки такие аккуратные, цветы и овощи высажены рядками, а фруктовые деревья накрыты сеткой от птичьих набегов.
Но здесь, на лесной поляне, не было ни сетки, ни поли-этиленовой теплицы, ни вертушек-трещоток, чтобы отпугивать птиц. Только разросшаяся земляника и старый колодец в центре круга из стоячих камней. Ведра в колодце не было. Лишь сломанный насос и старая решетка, закрывавшая сам колодец, который оказался очень глубоким, с какими-то странными, не совсем отвесными стенами; вокруг там все заросло папоротниками, и сильно пахло болотом. А если прижаться лицом к решетке, прищурить один глаз, а вторым заглянуть вглубь, то там, внизу, можно было разглядеть маленький кружок неба, отраженный в далекой воде, и маленькие розовые цветочки, выглядывавшие из трещин в старых каменных стенах колодца. А еще там чувствовалось что-то вроде сквозняка, словно глубоко под землей была приоткрыта некая дверь, и за ней пряталось что-то большое и тихо-тихо дышало.
После того первого раза мы с Бамом часто туда ходили и до отвала лакомились земляникой, сидя у заброшенного колодца, а иногда играли там, бегали, пели, гонялись друг за другом, как белки. Иногда я воображала, будто круг камней вокруг колодца волшебный, а сам колодец не простой, а колодец желаний, который может любые мечты осуществить, и бросала сквозь ржавую решетку монетку, камешек или желудь, ожидая, когда где-то глубоко-глубоко в темноте раздастся всплеск и можно будет загадать желание. Я загадывала вот что: иметь друга, с которым можно играть, большой альбом для рисования и такую коробку с цветными карандашами, чтоб там было цветов сто, а еще – чтобы Анук поскорее вернулась домой и мы снова стали бы семьей.
Но однажды меня там застали врасплох. Правда, я всего лишь собирала землянику. Вся физиономия у меня была перепачкана земляничным соком, а на шее висело ожерелье из земляничных листьев. Я прихватила из дома большую стеклянную банку и хотела набрать в нее земляники и сварить джем; я и песенку такую специальную, джемовую, напевала: Джем-Бам-Бам, Бам, бадда-джем…
Вдруг с тропы донеслось что-то вроде сердитого собачьего ворчания, и на ней показался Нарсис в пижаме под старым коричневым плащом и в сапогах. Он гневно смотрел на меня из-под нависших бровей и в эту минуту еще больше, чем всегда, походил на медведя.
– Какого черта ты тут делаешь?! Это частная собственность!
До этого я ни разу не слышала, чтобы Нарсис кричал. И решила, что он, наверное, рассердился из-за того, что я собираю его землянику. В общем, я бросила банку и со всех ног помчалась прочь. Я слышала, конечно, как он что-то кричит мне вслед, и звучало это так, словно он одновременно и сердится, и извиняется, и печалится, но не остановилась, а опрометью бросилась бежать к заветной щели в изгороди, проскользнула в нее и устремилась к реке.
После этого я в лес больше не ходила. Очень Нарсиса боялась. Мне даже показалось, что его внезапное появление на земляничной поляне – это тоже некая Случайность. Так что теперь я старалась играть поближе к Маро, на своем берегу, но за фермой Нарсиса наблюдать продолжала, хотя только издали, прячась за зеленой изгородью. И часто видела Нарсиса с его трактором.
А дня через три он сам к нам в лавку зашел. Я, притаившись, сидела под столом и играла со своими пуговицами – их у меня целая коробка. Когда у дверей звякнул колокольчик, я осторожно выглянула из-под нашей красно-белой скатерти и сразу увидела знакомые сапоги. Нарсис в них всегда ступал очень тяжело и медленно, как медведь. Мне оставалось только надеяться, что он пришел всего лишь за шоколадом, а не для того, чтобы пожаловаться маме, что я влезла в его лес и нарушила границы частной собственности. От страха я превратилась в маленькую мышку и совсем затихла. А сапоги между тем остановились совсем рядом с моим убежищем. Я даже их запах чувствовала – от них пахло кожей и теплой летней землей. И вдруг Нарсис наклонился, приподнял скатерть, и я увидела, что в руках у него корзинка.
Полная корзинка земляники.
На всякий случай я пискнула – точно загнанная в угол крыса.
А он улыбнулся, поставил корзинку на пол, и я почувствовала чудесный аромат ягод.
– Это я моему земляничному воришке принес. Ешь сколько хочешь.
И мне на мгновение показалось, что если я закрою глаза, то и он меня увидеть не сможет. Но стоило мне их снова открыть, и передо мной оказался все тот же Нарсис, и он по-прежнему заглядывал ко мне под скатерть, а его огромная борода была похожа на кудрявое облако.
– Я должен перед тобой извиниться, – сказал он серьезно и почти нежно. – Я ведь совсем не хотел тебя пугать и уж тем более заставлять бегством спасаться. Надеюсь, мы с тобой вполне могли бы и друзьями стать, ты да я.
Я пронзительно крикнула, подражая черному дрозду, и показала Нарсису язык.
– Твоя мать говорит, ты рисовать любишь. Так я тебе кое-что принес. – И он вручил мне неслыханный подарок: новенький альбом для рисования и набор цветных карандашей – целых сто штук!
Я издала негромкий восторженный вопль, и все чашки на столе тут же пустились в пляс. «Осторожней, Розетт!» – тут же сказала мама, но я пришла в такое восхищение, что просто не могла удержаться. Значит, те волшебные стоячие камни и мой колодец желаний все-таки прислали мне именно то, о чем я просила! Я заставила Бама исполнить победоносный танец, а потом на самой первой странице нового альбома быстро изобразила обезьянку, обнимавшую большого бурого медведя, и написала: Спасибо, это просто замечательно!
Нарсис рассмеялся:
– Пожалуйста. И лесом моим тоже можешь пользоваться сколько хочешь. Это особое место – туда я только особых людей допускаю. Ешь землянику. Лазай по деревьям. Только от старого колодца держись подальше. Не хочу я, чтобы ты туда свалилась.
В знак согласия я закивала ему из-под скатерти, а он еще раз попросил:
– Пожалуйста, Розетт, обещай мне, что будешь осторожна. Я хочу быть уверен, что ты меня поняла.
– Обещаю, – сказала я своим теневым голосом, чтобы он уж точно понял: я говорю серьезно.
Он протянул мне руку:
– Ну, значит, договорились.
Конечно, ни в какой колодец я бы не свалилась. Я никогда на решетку не налегаю. Но держаться подальше от старого колодца было выше моих сил. И потом, я собиралась непременно бросать туда монетки до тех пор, пока Анук к нам не вернется.
После этого земляничный лес стал самым моим излюбленным местом. Я бегала среди могучих дубов, летом собирала ягоды, а осенью – желуди или просто ложилась на спину и смотрела в небо сквозь оголившиеся ветви. Весной я рвала на берегу реки фиалки и дикий чеснок. Зимой строила тоннели под кустами, превратившимися в снеговые холмы, и весь год внимательно следила за колодцем, слушала, как он дышит, а иногда бросала в воду монетку или камешек и шепотом произносила во тьму свое желание.
Поэтому я не слишком-то и удивилась, когда мама сказала, что Нарсис оставил мне в наследство и земляничный лес, и круг волшебных камней, и колодец желаний. Он, должно быть, с самого начала так решил. Потому что этот лес хранит некую историю, и Нарсис хотел, чтобы я ту историю узнала. Мама всегда говорит: истории – это то, что поддерживает в нас жизнь; а те истории, которые рассказывают нам люди, ветер потом разносит по всему свету, точно пушок чертополоха; и когда нас не будет, от нас останутся только истории. Так мама всегда говорит мне, когда холодный северный ветер затягивает свою похоронную песню, перекрывая звуки весенней капели и тающих снегов.
Я знаю одну историю о птичке, которая, летая из страны мертвых в страну живых и обратно, носит послания мертвых тем, кого они любили при жизни. Например, какой-нибудь человек оплакивает умершую жену, и эта птичка-посланница каждый день прилетает, садится к нему на подоконник и поет песню любви и надежды. И эта песня, присланная из-за могильного порога, говорит ему, что жена по-прежнему его любит и ждет. Но человек, охваченный горем, не понимает песни птички. Сейчас он понимает только одно: свою тяжкую утрату. И он стреляет в пернатую посланницу, чтобы она умолкла навсегда. Но ее чудесную песенку уже успели подхватить и выучить другие птицы, и теперь она звучит по всему миру, перелетая из леса в лес, из поля в поле, пересекая моря и океаны. И вот это послание неумирающей любви уже поют все птицы в поднебесье.
Сегодня в магазине Нарсиса нет покупателей, витрина закрыта газетами. Мама говорит, так делают, чтобы призраки, отразившись в стекле, не попали в ловушку собственного отражения. Наверное, это правда. Ведь когда кто-то умирает, зеркала тоже закрывают покрывалами. А иногда и часы останавливают, чтобы покойный успел попасть в Рай до того, как дьявол узнает, который час. Но Рейно говорит, что все это суеверия, а сам он ни в духов, ни в призраков не верит. Я спросила у него с помощью жестов: А как насчет Святого Духа? Но он, по-моему, меня не понял. А вот Нарсис не верил ни в Бога, ни в черта, ни в духов с привидениями. Неужели нужно непременно верить в духов, чтобы стать одним из них? Неужели Нарсиса теперь нигде нет? А что, если он угодил в ловушку, отразившись в витрине своего цветочного магазина?
Мне кажется, духи и привидения – это просто люди с незаконченными жизненными историями, которые им непременно нужно рассказать всему миру. Возможно, для этого они и пытаются вернуться обратно. Может, и я еще смогу сказать Нарсису, что все в порядке, что за нашим земляничным лесом я присматриваю, что непременно сумею закончить его историю? Вот о чем я думала сегодня, когда играла в земляничном лесу, а потом возвращалась по берегу Танн. И когда заглянула в колодец желаний. И когда бросила туда монетку, назвав его имя…
Только никаких следов Нарсиса я нигде так и не обнаружила. Он, должно быть, все-таки попал в эту стеклянную ловушку, подумала я. И пока мама запирала наш магазин, прошла через площадь и попыталась хоть что-нибудь увидеть в щель между газетными листами, которыми была завешена витрина. Но магазин был пуст. И там было почти темно из-за завешенных окон. Куда-то исчезли даже скамьи, на которых всегда стояли ведра с цветами. Видны были только пыльные голые доски пола и больше ничего. На полу валялось несколько оторванных цветочных головок. Даже старый календарь, где указывалось, когда и что нужно сеять, исчез со стены, и на выцветшей штукатурке остался лишь его призрак.
Я немного отступила от витрины, надеясь разглядеть в узком просвете между газетными листами чье-нибудь отражение. Я думала, что, может, на меня оттуда, из тени, посмотрят глаза Нарсиса. Но там ничего не было. Я увидела лишь собственное лицо – точнее, собственный призрак, глядевший прямо на меня.
– Нарсис? – сказала я своим теневым голосом.
И увидела за стеклом Бама, строившего мне противные рожи.
Я не стала его останавливать. Мне нужно было понять. И я чуть громче позвала:
– Нарсис?
И почувствовала слабое дуновение ветерка. Совсем легкого, играющего. Пахнувшего весной, талым снегом, первоцветами и обещаниями. Ветерок дунул мне в ухо, точно разыгравшийся ребенок, и что-то прошептал – такой же шепот доносится порой из колодца желаний.
Я снова сказала:
– Нарсис?
Ветерок стал теребить мне волосы – такое ощущение, будто туда забрались чьи-то шаловливые пальцы, – и Бам за стеклом снова принялся корчить рожи и смеяться. Я понимала: надо его остановить, пока он чего-нибудь не натворил, но тот ветерок уже успел проникнуть мне в голову, и от этого голова у меня кружилась, мне хотелось танцевать…
И тут вдруг словно что-то сдвинулось. И я кого-то там увидела. Но не Нарсиса, а кого-то другого – какую-то женщину, стоявшую спиной ко мне и отражавшуюся в стекле витрины. То ли женщину, то ли птицу – а может, она была отчасти и тем и другим. Она была в каком-то черно-белом одеянии, напоминавшем, пожалуй, сорочье оперение…
Я видела ее всего несколько мгновений, пока не отшатнулась от витрины, но и этого мне хватило, чтобы понять: а ведь я ее, пожалуй, уже где-то видела раньше…
Я отошла от витрины еще на несколько шагов. «БАМ!» И снова туда посмотрела. Но та женщина уже исчезла. Может, это был некий дух? Дух человека с незаконченной жизненной историей? Однако теперь там, за стеклом, я сумела разглядеть нечто такое, чего там наверняка не было раньше. На пыльном полу среди оторванных цветочных головок лежало одно-единственное черное перо.
Глава пятая
Четверг, 16 марта
Нынешнее утро было ясным, солнечным. Мама готовила к Пасхе из разных сортов шоколада всевозможные лакомства – пасхальные яйца, несушек, кроликов, уток. Все фигурки, большие и маленькие, она украшала золотой фольгой и всякой всячиной вроде сахарных розочек и цукатов. Потом каждую фигурку заворачивала в целлофан, точно букетик цветов, перевязывала яркой ленточкой с длинными завитыми концами и убирала в холодную кладовую. В общем, все как всегда в преддверии Пасхи.
Сегодня мама прямо-таки светилась от счастья – Анук написала, что приедет к нам на Пасху, причем одна, а Жан-Лу останется в Париже. Я уж не стала маме рассказывать, что каждый день бросала монетки в колодец желаний. Не хотелось портить ей настроение, она ведь наверняка встревожилась бы, опасаясь, что я запросто и сама могу в старый колодец свалиться. Как это здорово, что Анук приезжает! Мы ей, конечно, самые ее любимые блюда приготовим. И я покажу ей мой лес и мой колодец желаний. И, может, ей все это так понравится, что она возьмет да и останется, и тогда мы снова будем все вместе.
Однако я так ничего и не узнала о той истории Нарсиса и о том, почему он оставил свой земляничный лес именно мне. Хотя сегодня в Ланскне только об этом и говорят, все друг друга спрашивают, почему это он решил так поступить. Многие заходят к нам якобы за шоколадом, а на самом деле начинают всякие вопросы задавать. Почему Нарсис оставил свою землю Розетт? Что она собирается с ней делать? Как дорого, по-вашему, она стоит? И, похоже, никто не понимает, что для него это место было особенным.
Я весь день помогала маме в магазине. В основном потому, что сама хотела послушать, почему всех так интересует вопрос о моем лесе, а еще я надеялась увидеть, не выйдет ли кто из цветочного магазина Нарсиса. Покупателей сегодня в chocolaterie была уйма. Первым, конечно, заглянул Гийом – он каждый день приходит, чтобы выпить горячего шоколада. Затем пошли по очереди мадам Клермон, месье Пуату (это наш булочник), мадам Маджуби из Маро, мадам Монтур, мадам Дру…
Мадам Монтур, правда, никаких вопросов не задавала. И про лес ничего не стала спрашивать. Но все время следила за мной, присев за столик у двери и улыбаясь одним ртом, но не глазами, пока довольно долго беседовала с мамой о выпавшем снеге. Шоколад свой она, между прочим, так и не допила. Мадам Монтур у нас и раньше бывала – иногда заходила вместе с мадам Клермон по воскресеньям после церкви. Но в будний день она явилась впервые. И впервые на меня посмотрела. По-моему, ей немного не по себе становится, когда она на меня смотрит.
Но потом я и думать забыла о мадам Монтур, потому что в дверях возник Пилу. Вот это действительно было сюрпризом, потому что Пилу мы в нашем магазине давным-давно не видели.
– Пилу! – Я настолько обрадовалась, что даже заговорила вслух своим теневым голосом, а Бам принялся кувыркаться, как сумасшедший. Только Пилу Бама больше не видит. Зато мама моментально это представление заметила и бросила на меня предостерегающий взгляд, а колокольчики на занавеске у входа в кухню вздрогнули и зазвенели, как льдинки.
Пилу приветливо мне кивнул. На нем были красный джемпер и джинсы, в руках – школьный рюкзак. Я знаю, что по четвергам он немного раньше из школы возвращается. Я иногда вижу, как он из автобуса выпрыгивает. Иногда он даже находит время, чтобы немного со мной поиграть, но в последние месяцы говорит, что ему слишком много задают на дом. Вместе с Пилу пришла и его мать – ее зовут Жозефина, она хозяйка кафе «Маро», – а я вдруг заметила, что Пилу стал красным, как наши шелковые саше, которые мама над дверью повесила.
Жозефина, смешно отдуваясь, села на высокий табурет у стойки и заявила:
– Господи, ну и денек! Ты не представляешь, сколько у меня сегодня хлопот. – И она, ткнув пальцем в горшок с горячим шоколадом, стоявший рядом, спросила: – Там еще что-нибудь осталось?
Мама улыбнулась.
– Конечно! Можешь также попробовать мои свежие churros[8] с черносмородиновой или шоколадной подливкой, а заодно выложить мне все сплетни.
– Ну, насчет сплетен наверняка ты-то куда лучше осведомлена, – сказала Жозефина, добавляя в чашку с шоколадом взбитые сливки и алтей. – Насколько я слышала, Нарсис свою ферму Розетт оставил.
– Не всю, – спокойно возразила мама, посыпая коричным сахаром свеженькие churros. – Только тот небольшой дубовый лесок, что тянется вдоль границ его владений.
Жозефина удивленно округлила глаза.
– Просто невероятно! Ты знала? Но с чего бы это он вздумал его Розетт оставлять?
Мама пожала плечами.
– Он любил Розетт.
– И что ты собираешься с этим лесом делать? Продать?
Мама покачала головой:
– Как же я могу его продать? Он ведь Розетт принадлежит.
Между тем мадам Монтур по-прежнему сидела за столиком у двери и украдкой за мной наблюдала, прикрываясь чашкой с остывшим шоколадом. А Пилу так и торчал в дверях, весь красный от смущения и нетерпения. Я заметила, что у него новая стрижка – одна из самых модных.
Попробуй churros, – сказала я ему на языке жестов. – Они очень вкусные.
Но Пилу только головой покачал и сказал матери:
– Мам, нам пора идти. Я опаздываю.
– Погоди минутку, – отмахнулась Жозефина. – Поболтай пока с Розетт. – И вполголоса пояснила маме: – К нему сегодня друзья прийти собираются. Будут день рождения его девушки праздновать. – Она снова повернулась к сыну: – Сядь, Пилу. Времени у нас полно. Перестань нервничать, ради бога. Расслабься. Съешь churro.
Пилу сел, но и не подумал расслабиться и churro есть не стал. Такое ощущение, подумала я, будто он из-за чего-то сердится. Его аура пылала, как костер. И что, интересно, имела в виду Жозефина, когда сказала, что он с друзьями собирается праздновать день рождения своей девушки? Ведь у Пилу никакой девушки нет.
Я слегка пискнула по-птичьи, и Бам так тряхнул кухонный занавес, что все бусины и колокольчики загремели и зазвенели. Но Пилу не засмеялся и даже не улыбнулся. На самом деле у него был такой вид, словно ему страшно не хочется тут торчать, и от этого мне стало совсем грустно. Мы ведь с ним так дружили, пока он в этот свой лицей не поступил! Я взяла и быстренько его нарисовала: сердитый маленький енот сидит перед тортом, испеченным ко дню рождения, и дуется.
Я показала Пилу рисунок, и он даже начал улыбаться, но потом словно передумал, и на лице у него вновь отразилось нетерпение.
– Ну, идем же, мам! Мы же не успеем!
Жозефина вздохнула:
– Извини, Вианн. Я лучше в другой день зайду.
Она поспешно встала, даже шоколад свой не допила, и Пилу, бросив мне: «Ладно, Розетт, еще увидимся», – опрометью понесся через площадь, закинув за спину рюкзак. В какой-то момент мне захотелось сделать так, чтобы он поскользнулся на булыжнике и ударился побольнее, но я только сказала: «БАМ!» – и сразу же отвернулась. И только теперь заметила, что мадам Монтур тоже ушла.
– Господи, как же глупо мальчишки иной раз себя ведут! – вздохнула мама и налила мне чашку горячего шоколада.
Я только головой покачала. На душе у меня все еще было гадко. И никакого шоколада не хотелось. Хотелось оказаться в полном одиночестве – например, в моем лесу, где никто не может меня ни увидеть, ни услышать. Я понимала, что мама пыталась мне помочь, но от этого понимания стало только хуже. Иногда мама меня просто удивляет: неужели она до сих пор уверена, что все на свете можно исправить с помощью шоколада?
Глава шестая
Четверг, 16 марта
Все это выглядит как грубая шутка. И по отношению к Ру, и по отношению к Мишель Монтур. Но более всего – по отношению ко мне. Ах, отец мой, я прекрасно знаю, что не следует плохо говорить о мертвых, но Нарсис всегда был человеком очень непростым: сухим, как горсть осенних листьев. Да и церковь он никогда не любил, зато очень любил ставить меня в неловкое положение.
И я пошел искать Ру, надеясь застать его на судне и объяснить ситуацию. Свое судно он поставил на дальнем конце Маро, возле старых дубилен. Этот некогда самый заброшенный район Ланскне теперь превратился в настоящий арабский квартал, почти вся тамошняя община состоит из иммигрантов: магрибцев, сирийцев, североафриканцев и арабов. На бульваре Маро полно всяких лавок с названиями вроде Epicerie Bismillah и Supermarche Bencharki[9] и очень много открытых прилавков, где, точно на Востоке, можно купить, например, ломоть арбуза, или кокосовое молоко, или коробочку с самосами[10] домашнего приготовления, и каждая коробочка прикрыта шелковым платком, чей цвет указывает на его хозяйку.
Мне известно, что эти платки – своеобразный код, по которому можно опознать изготовителя. У Фатимы аль-Джерба платок красного цвета; а у ее дочери Ясмины – желтого. Дочка Ясмины, Майя, тоже выставила на продажу свою коробку с самосами – ее платок белого цвета, а самосы пухлые и довольно бесформенные. Но ведь Майе всего десять лет, ей простительно.
Ру ловил рыбу в Танн, когда я заявился к нему со своими новостями. Рыжие волосы он стянул на затылке в пучок, и у любого другого мужчины подобная прическа могла бы показаться излишне женственной, а Ру, наоборот, стал похож на древнего викинга, готовящегося разграбить очередной монастырь. Он еще и бороду отрастил; она у него немного светлее рыжей шевелюры, и с ней он выглядит каким-то настороженным и опасным.
Молча выслушав все, что я имел честь ему изложить, он ни разу на меня не посмотрел и ни разу не оторвал взгляда от поплавка, покачивавшегося на воде. Лишь когда я умолк, он повернулся ко мне и заявил:
– Мне эта земля не нужна. Отдайте ее.
– Но я не могу ее отдать! Ведь это вы, Ру, теперь являетесь ее владельцем, поскольку вы – официальный опекун Розетт. Такова была воля Нарсиса, а я всего лишь выразитель его воли.
– Тогда пусть это сделает Вианн.
Я вздохнул.
– Ру, в завещании стоит ваше имя. Нарсис хотел поручить это именно вам.
– Почему?
– Откуда мне знать почему? – удивился я. – А почему он именно меня назначил своим душеприказчиком? Почему он именно Розетт эту землю оставил? Ваши предположения на сей счет ничуть не лучше моих. Нарсис поступил так, как хотел, – вот и все, что мне известно.
Ру судорожно сглотнул и прохрипел:
– Вот идиот! И о чем он только думал?
Я никак не мог понять, почему он во что бы то ни стало хочет избежать статуса землевладельца? Неужели из гордости? Или из-за политических убеждений? Или ему просто противно иметь дело с чиновниками, тащиться в Ажен, ставить подпись под какими-то официальными документами…
Мне он, конечно же, ничего не скажет. А вот Вианн, возможно, признается. Я вдруг подумал: а она-то его настоящее имя знает? Ей-то не безразлично, какую жизнь он вел раньше? У него ведь нет ни паспорта, ни счета в банке; он даже в выборах не участвует. Да и сама его фамилия – это, разумеется, просто кличка, прозвище, связанное с цветом волос[11]. У него, похоже, нет ни родителей, ни еще каких-либо родственников – во всяком случае, он о них никогда не упоминал. Мне представляется, что он всю жизнь старался оставаться наблюдателем, просто прохожим, который перебирается из одного города в другой, как только ему начинает казаться, что здесь все уже чересчур ему приелось. Знакомое ощущение, хотя мне и в голову никогда не придет сказать об этом Ру. Но я хорошо знаю, каково это – быть аутсайдером; чувствовать, как при твоем приближении смолкают все разговоры; ощущать себя абсолютно одиноким, когда стоишь на темной улице и заглядываешь в чужие освещенные окна…
Конечно, быть священником – это привилегия, требующая, впрочем, и определенных жертв. Священник не имеет права уподобляться своим прихожанам. Ему нельзя влюбляться, нельзя иметь детей, расслабляться, нельзя быть таким, как другие мужчины. Он никогда не должен забывать, кто он такой. Всегда должен помнить, что является слугой Господа. А вот чего не в состоянии забыть Ру? Что в этой жизни позволяет ему все же держаться на плаву?
– А знаете, Нарсис – это ведь не прозвище[12], – сказал я, нарушая затянувшееся молчание. – Именно такое имя он, по-моему, получил при крещении – хотя, насколько я знаю, ни одного из святых или апостолов с именем Нарсис не имеется. – Я-то всегда считал, что это имя – просто шутка: вроде как назвать мясника Jean Bon[13]. Но, как оказалось, его настоящее имя было именно таково: Нарсис Дартижан из Монкрабо, что на Гаронне. – Забавно, какие вещи порой узнаешь лишь после смерти человека. Надо же, Нарсис! Ну кому из родителей может прийти в голову назвать своего сына «нарциссом»?
Ру молча глянул на меня. Не сомневаюсь: с его точки зрения, я оказался не в меру болтлив. И все же, немного помолчав, я продолжил:
– Мне всегда было интересно, Ру, а каково ваше настоящее имя?
– Можете продолжать этим интересоваться, – пожал он плечами.
Что ж, настаивать не имело смысла. Но мне все же казалось, что в итоге Ру сделает все необходимое – но только когда этого захочется ему. Ничего, я дам ему возможность привыкнуть к хорошим новостям. Потому что, на мой взгляд, это действительно хорошие новости. Ведь Розетт все-таки его дочь. И он, конечно же, должен быть доволен, что на ее имя будет записан этот кусок земли. Тем более что Розетт, скорее всего, никогда не стать такой же, как другие девушки, и обрести такие возможности, какие есть или будут у Анук. Нет, он, разумеется, должен радоваться тому, что у его дочери будет то, чего никогда не было у самого. Собственный кусок земли. Место, ставшее для нее по-настоящему родным.
Обратно я возвращался через Маро и, проходя мимо прилавков, где продают самосы, решил купить один пирожок у маленькой Майи. Деньги я положил на тарелку, стоявшую рядом с большой коробкой, накрытой платком. Выбрав пухлый треугольный пирожок, похожий на разбухший кошелек, с начинкой из бараньего фарша, щедро сдобренного специями, я сунул его в бумажный пакетик и решил, что этого мне будет вполне достаточно на обед, особенно если сделать салат из помидоров и, возможно, запить все это стаканчиком вина. Я давно уже отвык тщательно поститься, и даже Великий пост соблюдаю неаккуратно.
Майя, разумеется, тут же выглянула из дома, желая узнать, кто это купил ее самосу, и, увидев меня, радостно закричала:
– Месье Рейно, это же я пекла! Вы один из моих пирожков купили, месье Рейно!
– Правда? – Я старательно изобразил удивление. – А я решил, что это Оми – такие эти самосы были аппетитные.
Майя засмеялась. Самосы, приготовленные Оми Аль-Джерба, давно стали легендой, потому что Оми – ей теперь уже перевалило за девяносто – много лет вообще ничего не готовила.
– Вы же знали! – с упреком сказала Майя.
– Ну, конечно, знал. И специально проделал такой далекий путь, чтобы купить твой пирожок.
Майя снова засмеялась. Глаза у нее ореховые, почти зеленые, а кожа чудесного, теплого, светло-коричневого оттенка. А ведь в один прекрасный день – и очень скоро! – она станет настоящей красавицей, подумал я.
– Скажи-ка, Майя, что бы ты сделала, если бы кто-то – один твой друг, например, – подарил тебе шестнадцать гектаров леса?
От удивления глаза Майи стали совсем круглыми:
– И это был бы мой собственный лес?
Я кивнул.
Майя немного подумала:
– Наверное, я бы просто иногда там сидела и наблюдала за зверями и птицами. Сидела бы тихонько и думала, слушая, как ветер в ветвях шелестит. А иногда я приводила бы туда своих друзей, и мы бы там играли, лазили по деревьям или, может, домик на дереве построили. Но самое главное – я бы просто знала, что этот лес мой, и этого было бы достаточно. А что?
– А то, что Нарсис оставил шестнадцать гектаров леса Розетт, а не своим родственникам.
– Так они же сразу все деревья срубили бы! – воскликнула Майя. – Он же знал, что Розетт никогда такого не сделает.
– Ты так думаешь?
– Конечно.
Возможно, Майя в чем-то права, размышлял я по дороге домой. Ведь Нарсис порой действительно бывал сентиментален. Наверное, ему просто хотелось защитить свой лес. Или, может, в последний раз насолить Мишель и Мишелю, которым пришлось в ожидании наследства целых два года терпеть его дурное настроение, эксцентричные выходки, улыбаться его шуткам, добродушно над ним подшучивать, приносить маленькие подарочки – торт, пирожок, бутылку любимого вина, – спрашивать, хорошо ли он себя чувствует, и сокрушенно качать головой, когда он жаловался на постоянную ломоту в костях или иные недуги, а самим подсчитывать в уме стоимость дома, фермерских угодий, магазина и сорока гектаров земли.
По-моему, за все это вряд ли можно было выручить так уж много. Даже вместе с лесом. Дом и хозяйственные постройки на ферме были старые и нуждались в ремонте. Вот если бы эта ферма была на берегу моря или хотя бы поблизости от большого города, Ажена или Нерака, она еще могла бы привлечь внимание какого-нибудь местного девелопера. А здесь, в Ланскне-су-Танн, эта ферма, по сути дела, просто еще один, пусть и довольно большой, кусок земли, а уж земли-то в наших краях и без того в избытке. Пожалуй, Монтуры были правы, заявив, что зрелая дубовая древесина – это самая ценная часть оставленного Нарсисом наследства. Без леса его ферма становилась самой заурядной; она была вполне пригодна, конечно, для выращивания цветов и фруктов, но «золотой жилой» уж точно никогда бы не стала. Ну и, конечно, цветочный магазин на площади вполне можно сдать в аренду.
Да и сколько-нибудь значительной суммы денег у Нарсиса не оказалось. Это тоже стало для его родственников неприятным сюрпризом. Не было ни доли в каком-либо предприятии, ни накопительного счета, ни денег на депозите. На текущем счету у Нарсиса имелось всего пятьсот или шестьсот евро. И хотя местные жители не сомневались, что он давным-давно свои денежки попросту припрятал, в доме так ничего и не было обнаружено, хотя поиски велись активно. Не нашлось ни «плохо прибитых» досок пола, ни носков, набитых купюрами и спрятанных под кроватью. Мишели Монтур, должно быть, просто в бешенство пришли, осознав, сколь малый доход принесла им эта двухгодичная инвестиция сил и средств.
Я уже подходил к площади. Солнце было почти в зените и, хотя на дворе стоял всего лишь март, грело так, что лучи его казались обжигающими. Цветочный магазин Нарсиса был, разумеется, закрыт, а витрина завешена газетами. На двери виднелась табличка: «СДАЕТСЯ ВНАЕМ». Видно, «Мишель и Мишель» времени даром не теряли. Пустой магазин стоит денег. Интересно, подумал я, что здесь теперь будет? Возможно, какой-нибудь магазинчик при мастерской, где будут изготавливать всякие безделушки. А может, это помещение займет другой флорист? На нашей площади всегда были магазины – булочная Пуату, chocolaterie Вианн, магазин похоронных принадлежностей, овощная лавка. Я, во всяком случае, очень надеюсь, что и этот магазин скоро откроется, чем бы там ни торговали; все-таки пустая витрина портит вид всей площади, а кроме того, возникает риск нападения местных вандалов.
А до тех пор в Ланскне наверняка продолжат судачить насчет возможной судьбы опустевшего магазина. Я помню те дни, когда в нашем городе впервые появилась Вианн Роше – сколько же лет назад это было! – и витрина заброшенной булочной, закрытая золотой и оранжевой бумагой, вдруг стала светиться, как китайский фонарик, а из самого помещения потянуло запахом невиданных специй и благовоний, словно прибывших к нам из сказок «Тысячи и одной ночи». С тех пор столь многое переменилось: мы с Вианн стали почти друзьями. Но как же ненавидел я сперва эту chocolaterie с ее яркими маркизами и плывущими из окон ароматами ванили, гвоздики и резковатым запахом сырых какао-бобов! Как страстно хотелось мне войти туда и попробовать все, что стояло в витрине или просто на стойке под стеклянными колпаками! Теперь-то, по-моему, я с легкостью мог бы это сделать. Однако, хоть я толком и не соблюдаю Великий пост, шоколад – это, пожалуй, уж слишком большая слабость, я просто не могу ее себе позволить. Наверное, мне лучше зайти к Вианн завтра. Или сегодня, но попозже. Может, она сообщит мне что-нибудь насчет судьбы цветочного магазина Нарсиса или сумеет хоть как-то объяснить, почему он оставил этот дубовый лес именно Розетт.
Но, прежде чем разговаривать с Вианн Роше, я должен сделать еще одно дело. Исполнить свой последний долг. Лишь тогда я смогу почувствовать себя полностью свободным. Я быстро пересек площадь и направился к своему дому, держа в руках бумажный пакет с самосой Майи. Самосу я съел с салатом, но вина пить не стал, решив отложить удовольствие на вечер. Затем я приготовил себе чашку чая и уселся в любимое кресло, намереваясь побыстрее прочесть то, что оставил мне Нарсис.
Глава седьмая
Дорогой Рейно!
Такова уж ирония судьбы – но со своей последней исповедью я обращаюсь именно к Вам. Хотя Вы никогда мне не нравились. И наверняка это знали. Однако же Вы единственный, кому я смог бы довериться. И если Вы уже читаете это – значит, я умер. Как странно писать такие слова. В отличие от Вас я считаю, что смерть – это конец. Никаких ангелов, никаких труб, никакого высшего суда. Просто тьма. И это хорошо. Было бы сущим кошмаром, если б оказалось, что там, за занавесом, меня ждут все мои друзья и родные.
Полагаю, Вы будете недоумевать, по какой причине я оставил именно такое завещание. А уж моя дочь Мишель просто на стенку от злости полезет. Ее я, кстати, тоже никогда не любил. На самом деле хватило бы пальцев одной руки, чтобы пересчитать тех, кто был мне действительно приятен. Это, во-первых, Ру. Во-вторых, Вианн Роше. Но по-настоящему найти путь к моему сердцу сумела только Розетт, мой земляничный воришка. А почему – узнаете, если у Вас хватит терпения дочитать мое повествование до конца. Впрочем, у Вас-то терпения хватит, уверен, и Вы непременно все прочтете. Ведь от меня только эти слова и остались.
Но начать мне придется с куда более давних времен. Истина похожа на луковицу: несколько слоев нужно содрать, пока не обнажится ее плоть и не заставит тебя плакать. Так однажды сказал мне отец. Мой отец, этот убийца.
Я прочел совсем немного, но у меня уже успела разболеться голова, настолько почерк был неразборчивый. И я, отец мой, поймал себя на том, что, как ленивый школьник, пытаюсь побыстрее просмотреть написанное в поисках неких интересных подробностей. Кого же убил его отец? Мне казалось, что я очень быстро это выясню, и я был даже несколько раздосадован тем, что Нарсис и не по-думал сразу выкладывать столь важную информацию. Еще сильней раздосадовало меня то, что придется, видно, так или иначе дочитать эту исповедь до конца – несмотря на чудовищный, вызывающий мигрень почерк Нарсиса и слегка завуалированные оскорбления в адрес святой церкви, рассыпанные, похоже, по всему тексту. Жаль, что нельзя было просто отложить сей манускрипт в сторону или сразу спалить его непрочитанным в камине. Но последнюю исповедь человека я выслушать обязан – даже такого человека, как покойный Нарсис. Я принял две таблетки аспирина и снова принялся за чтение.
Но едва я успел открыть папку, как до меня донесся рев грузовика, свернувшего на нашу улочку. Пришлось встать и подойти к окну. Улица у нас узкая, и вдоль нее посажены липы, так что грузовик – это, собственно, был фургон для перевозки мебели – задевал ветви деревьев своим высоким верхом. За рулем сидел Мишель Монтур в рабочем комбинезоне и бейсбольной кепке. Он кивнул мне, проезжая мимо, и я догадался, что направляется он на ферму Нарсиса, расположенную у подножия холма.
Неужели Монтуры решили совсем туда переселиться? Похоже, что так. Тем более Мишель Монтур имеет прямое отношение к торговле участками земли и домами. Конечно же, рассуждал я про себя, разумно сперва обновить ферму, а уж потом пытаться ее продать. Наверное, чтобы сэкономить время и деньги, они решили временно туда перебраться. Однако, судя по внушительным размерам фургона, переезжают они всем семейством и со всем скарбом – может даже, и сына своего взяли; о том, что у них есть сын, я только недавно узнал, ибо его существование они почему-то держали в тайне.
Наверное, мне следовало бы сходить к ним. Честно признаюсь, отец мой: мне даже захотелось туда сходить, лишь бы хоть на несколько часов отложить чтение исповеди Нарсиса. Но если они действительно затеяли переезд, то визитеры им совершенно ни к чему. Уместней, наверное, будет зайти на следующей неделе, когда они немного устроятся. И все же мне не дает покоя мысль, что я, здешний священник, не знаю толком, что здесь сейчас происходит! А ведь священнику полагается хорошо знать свою паству. Подобный просчет может привести к полному провалу. Надо было мне все-таки расспросить Вианн Роше, когда была такая возможность. А теперь, упрекал я себя, если я к ней со своими вопросами заявлюсь, она сразу догадается, что я этот мебельный фургон видел.
Хотя ведь и Жозефина Бонне, хозяйка кафе «Маро», находящегося чуть дальше по улице, тоже, наверное, смогла бы кое-что мне объяснить. И никто ничего такого не подумает, если я к ней в кафе загляну. У Жозефины бывает весь Ланскне. С ней местные жители беседуют почти столь же охотно, как и с Вианн Роше. Они с Вианн еще и подруги, разумеется. Им обеим люди порой такое рассказывают, чего никогда и на исповеди не расскажут. Когда-то меня бы страшно обозлило такое положение вещей. Но теперь я и сам порой испытываю желание ей исповедаться. Жозефине.
Mea culpa[14]. Мне действительно хотелось туда пойти. И фургон для перевозки мебели – всего лишь извинительный предлог. К тому же голова моя прямо-таки раскалывалась от боли, я устал и проголодался. Ну, хорошо, сказал я себе: один стаканчик вина и, возможно, кусок того круглого пирога, который Жозефина прячет под барной стойкой. Один-единственный кусочек, не больше – в конце концов, особого греха в этом нет, хотя и не стоило бы в Великий-то пост, – а отказаться было бы невежливо. В общем, при мыслях о Жозефине я сразу слабею, отец мой. Признаюсь: в последние годы мной что-то слишком часто овладевает подобная слабость, но я этим обстоятельством почти никогда не пользуюсь. Мне, впрочем, понятно, что это отнюдь не свидетельство силы воли, а скорее проявление трусости. Так что Господа мне провести вряд ли удастся.
Глава восьмая
Четверг, 16 марта
В кафе «Маро» оказалось куда более многолюдно, чем я ожидал. У стойки бара, естественно, торчали завсегдатаи – Жозеф Фукасс, Луи Пуаро и наш старый доктор Симон Кюсонне, но я обратил внимание на то, что остальные посетители совсем молодые и почти все мне не знакомы. Лишь одного парнишку я знал хорошо – сына Жозефины, Жана-Филиппа. И только тут до меня дошло, что здесь какая-то молодежная вечеринка.
Ну, конечно! Праздновали чей-то день рождения. На барной стойке уже возвышался торт и кувшины с ледяным пуншем и лимонадом. Это был почти детский праздник – с музыкой, тортом и танцами, да и собрались здесь почти одни подростки, а я в такой компании всегда чувствую себя не в своей тарелке. Я уже повернулся, чтобы уйти, но Жозефина успела меня заметить.
– Куда вы, Франсис? Неужели уже уходите?
Мне показалось, что выглядит она довольно усталой; прядки каштановых волос выбились из шиньона, прикрепленного низко на затылке. Зато оделась она в ярко-красное платье – я его никогда на ней раньше не видел – и губы накрасила такой же яркой помадой, и я догадался, что она изо всех сил старается не испортить праздник.
– Я вижу, вы сейчас очень заняты, – поспешил сказать я, – так что я, пожалуй, пойду. Похоже, у вас тут чей-то день рождения празднуют.
– Ну да, празднуют. Но бар-то открыт. Пойдемте туда. И съешьте, пожалуйста, кусочек моего торта.
Праздновать я никогда толком не умел и сейчас с куда большим удовольствием пошел бы домой, но Жозефина меня не пустила. Она принесла вина и кусок праздничного торта на цветастой тарелке, так что пришлось сидеть и смотреть, как она обслуживает юных гостей сына. Пожалуй, она слишком возле него суетилась, и выражение лица у мальчика было одновременно и смущенным, и терпеливым. Жан-Филипп стал совсем большим и превратился в красивого светловолосого юношу с такими же, как у матери, глазами. Ростом он уже был выше Жозефины и такой же обаятельный, каким когда-то был его отец, Поль-Мари Мюска, пока алкоголизм и ненависть не превратили его в настоящее чудовище. Я помню, что ребенком Жан-Филипп часто играл с Розетт Роше, но теперь, разумеется, ему интересней с учениками лицея, где он учится. Почти все они родом из Ажена, но некоторые, как и Пилу, приезжают в лицей из соседних городов и деревень, разбросанных по берегам Танн.
Сейчас внимание Пилу было практически полностью поглощено хорошенькой русоволосой девушкой в джинсах и переливающемся топике. Праздничный торт они ели с одной тарелки и, как я заметил, держались под столом за руки.
– Это Изабель, подружка Пилу, – пояснила Жозефина, заметив, что я украдкой за ними наблюдаю. – Ей сегодня шестнадцать исполнилось. Она наполовину американка, но во Францию приехала, когда ей всего три года было.
Мне показалось, что голос Жозефины звучит без особого воодушевления. Оно и понятно: Жозефина с сыном всегда были очень близки, к тому же, кроме него, у нее никого нет. Правда, отец Пилу умер всего несколько лет назад, но они с Жозефиной давно стали чужими друг для друга; в общем, и Жозефина, и тем более юный Жан-Филипп Бонне горевали по нему не особенно долго.
– Хорошенькая девочка, – сказал я. – Это у них серьезно?
– Ее родители даже пригласили Пилу вместе с ними на все лето в Америку поехать, – с грустью призналась Жозефина.
В Америку! Да Жозефина его и в Ажен-то с трудом отпустила. И все же она должна его отпустить – она и сама не хуже меня это понимает, – если хочет, чтобы ее мальчик стал настоящим мужчиной. Одни родители с легкостью отпускают детей из родного гнезда. А другим это кажется чем-то невообразимым. Мне вовсе не нужно быть священником, не нужно выслушивать исповеди Жозефины Бонне, чтобы понять: переход сына от детства к взрослой жизни она воспримет тяжелее, чем большинство людей.
– Я иногда завидую Вианн, – вздохнула она, присаживаясь рядом со мной за столик.
– Правда? – Я был озадачен. – Но почему?
Я знаю, как они с Вианн были близки когда-то – хотя теперь Жозефина уже не так часто забегает к Вианн в chocolaterie. Мне кажется, это связано с тем, что их дети уже не дружат так, как прежде. А может, просто сама Жозефина стала более независимой.
Она с какой-то тоскливой улыбкой посмотрела на меня и сказала:
– Розетт всегда будет в ней нуждаться. Анук может и вовсе переехать куда-то, став взрослой, а Розетт никогда взрослой не станет и навсегда останется малышкой, которая так любила играть с Владом на берегу реки.
Влад – это собака Пилу. Когда-то эта троица была неразлучной. Но теперь Пилу целый день в школе, а пес стал старым и ленивым. Целыми днями спит возле барной стойки. Но стоило Жозефине произнести его имя, и Влад тут же приподнял одно ухо, словно отвечая на полузабытый призыв.
– Ваш сын тоже всегда будет в вас нуждаться, – неловко попытался я утешить ее. – Ведь вы его мать. – Впрочем, что я-то об этом знаю? Моя мать всегда была слишком занята собственными делами, чтобы думать о том, нуждаюсь ли я в ней. А своих детей у меня нет. И никогда не будет. В присутствии детей я почти всегда испытываю небольшой дискомфорт – исключение составляют лишь Розетт Роше и Майя Маджуби. Я был почти готов услышать от Жозефины, что лучше бы я занимался своими делами, а в чужие нос не совал, но она вдруг с надеждой на меня посмотрела и спросила:
– Вы так думаете? Нет, я, конечно, не собираюсь мешать его общению с другими ребятами, но мысль о том, как быстро он становится взрослым… – Она не договорила. Потом, понизив голос и не сводя глаз с сына, который, смеясь, болтал с друзьями и ничего не замечал, прибавила: – Я всегда считала себя не такой, как все; мне казалось, что и мой мальчик никогда не станет таким, как все прочие мальчишки. Это чистый эгоизм, я понимаю. Да и Вианн давным-давно объяснила мне, что наши дети нам не принадлежат, а потому нельзя вечно держать их при себе, рано или поздно их придется отдать. И все-таки я ей завидую. Ведь Розетт всегда при ней останется.
Праздничный торт оказался лимонно-ванильным, что меня, надо сказать, удивило. Обычно для таких случаев жители Ланскне предпочитают покупать торты в chocolaterie. И я что-то в этом роде сказал – просто чтобы сменить тему и хоть немного развеять охватившую Жозефину грусть, – но Жозефина вдруг как-то странно съежилась, затаилась, и я почувствовал, что со своим замечанием попал впросак.
– Пилу не хочет туда ходить! – с отчаянием пояснила она. – Я тут как-то забежала к Вианн – буквально на минутку! – так он просто места себе не находил, метался, как кошка на раскаленной плите. По-моему, он чувствует себя виноватым. Перед Розетт.
Я пожал плечами.
– Мальчики порой бывают очень неуклюжи. Я, например, как раз таким был.
Она улыбнулась мне уже почти по-настоящему.
– Почему-то никак не могу представить вас мальчиком.
Да, отец мой, и я не могу. Слишком уж мое детство пропахло дымом. Жан-Филипп Бонне был на противоположном конце зала, и я некоторое время смотрел на него, мечтая, чтобы и моя вина была столь же безобидной, как у него, попросту переросшего свои отношения с подругой детства.
– Ничего, и у Розетт новые друзья появятся, – сказал я, желая подбодрить Жозефину.
– Ох, Франсис, я очень на это надеюсь, – вздохнула она.
– И у вас тоже. – Я заторопился и несколько не к месту прибавил: – Вы же такая привлекательная женщина. А вашей преданностью сыну я просто восхищаюсь. Но если бы вы вдруг захотели вновь замуж выйти… то есть это было бы совершенно естественно!
Она бросила на меня какой-то странный, полный упрека взгляд, и я вспомнил, какой она была в те давние времена, когда ветер впервые занес в наш городок Вианн Роше. Тогдашняя Жозефина меня ненавидела – отчасти из-за того, что я не сумел обуздать ее мужа-насильника, а отчасти, наверное, потому, что я во многих отношениях просто был достоин ненависти. И какую же нежданную радость доставила мне внезапно возникшая между нами дружба, которая в последние годы как-то особенно окрепла. Хотя порой мне все-таки кажется, что это всего лишь иллюзия, что если бы Жозефина знала, кто я такой на самом деле, она бы тут же с отвращением от меня отвернулась.
– Ну, это вряд ли, – тут же возразила она. – Мне и одного брака хватило с избытком. Поль давным-давно излечил меня от всяких мыслей о повторном замужестве. – Она сказала это без горечи, но с какой-то тихой убежденностью.
– А все-таки этот праздничный торт у вас на славу получился. Невероятно вкусно! – снова похвалил ее я, и она тут же встрепенулась:
– Давайте я вам еще кусочек принесу!
Прости меня, отец мой. Но Жозефине удивительно легко удается заставить меня позабыть о долге священника. Есть у нее такой опасный талант, и мне к этому следовало бы относиться с осторожностью. Честно признаюсь: я и о Монтурах напрочь забыл. Она такая теплая, гостеприимная. От нее в доме светло и уютно, как от огня, горящего в камине. И что, в конце концов, плохого, если я немного посижу у этого огонька, чувствуя исходящее от Жозефины тепло и черпая в ее словах утешение?
Глава девятая
Четверг, 16 марта
Бедная Розетт! Представляю, каково ей сейчас. Мне тоже много раз доводилось переживать нечто подобное. Потерю друга трудней всего перенести, именно поэтому сама я всегда старалась держаться в сторонке, не влезать слишком глубоко в жизненные проблемы тех, кто рядом со мной, хотя мне далеко не всегда это удавалось. Слишком многих друзей я уже потеряла. И Розетт ждет то же самое, если она по-прежнему будет слишком многого ждать от дружбы.
Так хотелось бы найти мудрые слова, способные ее утешить! Вряд ли было бы достаточно сказать: «Мальчишки – такие дураки!» И моего шоколада тоже недостаточно, хотя шоколад – это единственное волшебство, каким я владею. Вот я принесла ей полную чашку, а она только посмотрела на нее, а пить не стала. Посидела немножко, а потом вдруг встала и молча вышла из дома с мрачным лицом, темным, как шоколад.
Я только и успела крикнуть ей вслед: «Розетт! Не уходи далеко!»
Она не ответила. Шла, не оборачиваясь, через площадь, и полы ее красной куртки хлопали на ветру. Куда же она направилась, моя зимняя девочка, такая молчаливая, такая сдержанная? Подозреваю, что в свой лес. Ее лес. Как странно это звучит. У меня-то никогда никакой собственности не имелось – ни земли, ни дома, ни хотя бы ножниц. Даже мое профессиональное оборудование взято на время; я арендую его в одной марсельской фирме, той самой, что мне и сырые какао-бобы поставляет. А эти деревянные ложки принадлежали Арманде, как и плоский медный тазик для варки варенья. Это старые, даже немного щербатые вещи, в них чувствуется почтенный возраст. Это руки Арманды придали им особую форму, отполировали ручки кастрюль и сковородок, которыми теперь пользуюсь я; почти все предметы у нее на кухне были изготовлены вручную неведомым, наверняка давно умершим мастером, почти все они покрыты многочисленными отметинами времени.
На мне тоже много таких шрамов-отметин. И эта мысль неожиданно принесла мне облегчение. Я ведь и впрямь похожа на старую деревянную ложку, или на старую разделочную доску, или на покрытый зарубками стол. Жизнь взяла да и сделала из меня нечто совсем отличное от того, чем я была прежде. Но что сумела изменить в себе я сама? Что мне удалось изменить в тех, кто рядом со мной?
В последние годы я все чаще и чаще об этом думаю. В молодости я довольно долго верила, что с легкостью сумею все поменять. Что смогу изменить жизнь человека всего лишь с помощью доброты, поддержки и шоколада. Теперь во мне уже нет прежней уверенности. Теперь, когда я смотрю на близких людей, меня терзают сомнения: а что, если я принесла им больше вреда, чем добра, но помочь так и не сумела? Вот Жозефина окончательно освободилась от мужа, но, несмотря на все ее грандиозные планы, так никуда из Ланскне и не уехала. И Гийом оплакивает очередную утрату, ибо тот пес, что сменил его старого друга Чарли, тоже умер. А семейства Маджуби и Беншарки[15] по-прежнему живут как бы в тени преступления. Арманда уже более шестнадцати лет в могиле, а я по-прежнему болезненно остро чувствую эту утрату – мне словно руку или ногу отрубили. Это ведь благодаря ей я так переменилась. А что сделала для нее я? Разве что ее смерть ускорила…
В молодости я была уверена, что смогу запросто прожить жизнь легко, как ветер пролетает над травой – едва касаясь ее верхушек и никому не позволяя к себе прикоснуться, – и буду разбрасывать свои семена где-то в поднебесье. В молодости. Но я и теперь еще не старая. А вот моя мать в моем нынешнем возрасте уже несла в себе семена рака, который ее и убил. Она не знала ни Анук, ни Розетт. Умерла, когда ей и пятидесяти не исполнилось.
Пятьдесят – это всегда звучало для меня как глубокая старость. Пятьдесят, полстолетия. А сейчас эти пятьдесят так пугающе близки. Ставни на утренней стороне моего дома уже закрыты, и я открыла те, что на стороне заката, чтобы следить, как становятся длиннее вечерние тени. Они пока еще невелики, но уже заметно, что растут они очень быстро, точно одуванчики весной. И остановить их рост невозможно; уже к обеду семена будут повсюду. Моя мать говорила: «Ты никогда не сможешь умереть, пока есть тот, кому ты нужна». Если бы это было так, то, пока у меня есть Розетт, я смогу жить вечно.
Интересно, на что похож ее лес? Я там никогда не бывала – это выглядело бы как вторжение. Но я рада, что у нее есть этот лес, хотя вся ситуация и вызывает у меня беспокойство. Не знаю, что Розетт будет делать с каким-то лесом?
Вчера вечером я впервые за много месяцев снова вытащила материны карты Таро. Каждая мне настолько знакома, что и смотреть на нее не нужно. Смерть. Шут. Башня. Перемена. Они опять не сказали мне ничего нового; все это мне давно известно. И о Розетт они ничего не сказали.
Может, Нарсис оставил ей лес, чтобы мы уж наверняка никуда из Ланскне не уехали? Нарсис всегда любил Ру, и Ру всегда оставался здесь, с нами, вопреки собственным склонностям. Но к Ланскне Ру доверия не испытывает. И даже теперь предпочитает жить в своем плавучем доме, подальше от здешнего общества. Иногда, правда, он остается ночевать в chocolaterie, но почти всегда уходит очень рано, до того как проснется Розетт; он любит спать в одиночестве под открытым небом, смотреть на звезды и слушать звуки реки.
Да и я, честно говоря, предпочитаю, пожалуй, чтобы Ру ночевал не в доме, где он чувствует себя неуютно, становится таким же беспокойным, как Розетт. Вообще, если бы у нас не было Розетт, он, по-моему, давно бы уже уплыл куда-нибудь вниз по течению, и река унесла бы его, как уносит куски плавника, во множестве появляющиеся на поверхности во время паводка. Если бы у нас не было Розетт, то и я, возможно, отправилась бы вместе с Ру и рекой туда, где всегда дует ветер и ничто не застревает на одном месте надолго.
Цветочный магазин на площади, похоже, кто-то уже снял. Исчезло объявление «СДАЕТСЯ ВНАЕМ», даже дверь со вчерашнего дня перекрасить успели. Раньше дверь магазина была спокойного зеленого цвета, а теперь стала ярко-пурпурной – Анук этот оттенок обожает, хотя в Ланскне такая дверь выглядит неуместно: чересчур вызывающе и абсолютно непрактично.
Кто же все это сделал? Странно, как это я ничего не заметила. Не видела даже, чтобы кто-то в бывший магазин входил или выходил оттуда. Пока совершенно неясно, кто же его новый хозяин. Магазин, конечно, совсем не обязательно будет цветочным: возможно, пурпурная дверь как раз об этом и свидетельствует; появится там, например, магазин подарков, где будут торговать всякой всячиной и сувенирами для туристов. Появление нового магазина в таком городке, как наш Ланскне, – это всегда событие. И всегда привлекает внимание любопытствующих – вот и сейчас люди тщетно пытаются хоть что-то разглядеть в щели между газетами, которыми завешена витрина. Но там пока и разглядывать-то нечего: никаких товаров на грузовике туда не привозили, и по-прежнему нет ни малейших признаков присутствия людей. А ведь там вполне может оказаться кто-то вроде меня – той Вианн, какой я была семнадцать лет назад, которая вместе с маленькой Анук, трубившей в игрушечную трубу, храбро распугивала призраков. Та Вианн уж точно не стала бы медлить, она сразу поздоровалась бы с новичком, кем бы он ни оказался, и пригласила к себе на чашку горячего шоколада. Но теперь я стала куда осторожней. И кое-чему научилась. Я теперь вообще совсем другой человек.
Но мне почему-то всегда не по себе, стоит лишь вспомнить ту, другую Вианн. Интересно, узнала бы она себя во мне теперешней? И как скрыть ту дыру, что образовалась у меня в сердце? Дыру в форме Анук? Дыру, сквозь которую тот ветер все более настойчиво проникает мне в душу?
Анук обещала приехать на Пасху. Сегодня утром от нее пришло эсэмэс:
Думаю, мы сумеем приехать на Пасху. Может, даже на несколько дней останемся. ОК? Не знаю, правда, когда точно сумею сорваться с работы. Напишу, как только буду знать. Люблю, А. ххх
Ну, конечно, ОК! Неужели нужно спрашивать? И все же что-то меня тревожит. Это «мы» – она, разумеется, имеет в виду себя и Жана-Лу – всегда делает ее визиты более официальными; лучше бы она, как всегда раньше, обрушивалась как снег на голову. И потом, она пишет «сумеем приехать», забывая слово «домой». Всего одно слово – и такая большая разница. А «несколько дней» – это сколько? Что она имеет в виду? Один уик-энд? Или целую неделю? Вряд ли больше. Анук теперь всегда приезжает очень ненадолго. Из-за работы. Из-за Жана-Лу. Я понимаю: в Париже ей хорошо, этот город прямо-таки создан для нее; и потом, перед ней еще целый неизведанный мир, ей еще только предстоит открыть его для себя. Но ведь мы с ней всегда были так близки! Мне никогда и в голову не приходило, что она может захотеть открывать какие-то новые места без меня.
Той, другой Вианн смешной показалась бы даже мысль о том, что Анук может захотеть уехать из Ланскне. Но та Вианн была наивна: ни время, ни жизненные перипетии еще не оставили на ней своих отметин. Она позволяла себе верить, что все всегда может оставаться по-прежнему, что перемен можно избежать. Теперь я даже начинаю сомневаться, а действительно ли та, другая Вианн была мною? Может, у меня всегда было больше родства с тем моим темным отражением, с которым я познакомилась в Париже? Ведь Зози де л’Альба, пожирательница чужих жизней, по-прежнему жива в моей памяти. Где она сейчас? Кто она сейчас? И почему даже по прошествии стольких лет у меня ощущение, словно она притаилась у меня внутри?
Зеркала
Глава первая
Пятница, 17 марта
Мой отец был человеком молчаливым; настолько молчаливым, что мы иной раз забывали, что он вообще тут, что он умеет разговаривать. Он часто повторял: его брат, мол, использовал все слова, какие им обоим достались, потому что, когда их при рождении разделили, один получил голос, а второй – сердце.
Он был одним из братьев-близнецов. Однако рождение двойняшек оказалось не по силам их матери, у нее и так уже было четверо детей, а потому одного из мальчиков отправили на север, в Нант, к какому-то родственнику, а моего отца взяла к себе и вырастила тетушка Анна. Она действительно приходилась ему теткой и овдовела, когда ее муж – первый муж – погиб во время Первой мировой войны; потом она снова вышла замуж, за своего деверя, но тот вскоре умер от инфлюэнцы, а детей они завести не успели.
Это была худая, какая-то колючая женщина, вся в черном, и на шее у самого горла носила серебристо-черный крестик на шнурке. А седые волосы она зачесывала назад так туго, что даже кожа на лбу натягивалась. Да уж, этот ее крестик я помню отлично! Его черная часть была из гагата и служила напоминанием об усопших. А серебряная по цвету очень подходила к ее волосам, ведь она, несмотря ни на что, была страшно тщеславна, и ей очень нравился тот образ, в котором она представала перед другими – ее, наверное, устраивала и определенная элегантность этого образа, и этакая приятная его строгость. Но в любом случае она была ревностной католичкой, причем по убеждению, как, впрочем, и многие другие. Да в те неспокойные времена не так-то просто было бы позволить себе быть кем-то еще.
Ни мне, ни моей сестре никогда и в голову не приходило, что мы можем оказаться евреями. Но, по всей видимости, как раз евреями-то мы и были – во всяком случае, по матери: ее имя было Наоми, а девичья фамилия – Зволасковски; в ее честь и мою сестру назвали Наоми, хотя мы обычно звали ее Мими – уж больно ее настоящее имя было громоздким для такой козявки. Как это ни грустно, но тетку я помню гораздо лучше, чем мать. Впрочем, мне ведь было всего четыре года, когда моя мать умерла, рожая Мими, и тетушка – когда-то имя ее было Ханна, но, как я уже говорил, времена были тревожные, и она стала писать свое имя так, как его обычно произносили во Франции: Анна, – приняла на себя заботы о девочке, проявляя ту же холодность и ловкость в обращении с детьми, что и при воспитании моего отца. Меня ведь в честь отца Нарсисом назвали, и в детстве это имя вечно служило причиной моего отчаяния, хотя постепенно я как-то с ним сжился; кроме того, отец пугал меня тем, что меня вполне могли назвать и Модестом – в честь его брата-близнеца.
Господи, неужели там все в таком роде? Ощущение, словно старик сознательно решил меня помучить. На многих страницах подробнейшим образом описано, как семья переезжала с места на место, как братья потеряли след друг друга, как второй из близнецов, Модест, женился, но вскоре был убит бошами. Связав меня обязательством, Нарсис обрел в моем лице пленника, вынужденного выслушивать его исповедь. Возможно, так он хотел расплатиться за все те бессмысленные проповеди, которые ему приходилось слушать в детстве. Видимо, эта его двоюродная бабка и впрямь была ревностной католичкой и строго следила за детьми, заставляя их каждое воскресенье посещать церковь, а всеми делами на ферме, ранее принадлежавшей мужу тетушки Анны, заправлял их отец. Прости, отец мой, но на сегодня хватит с меня чтения этой бесконечной исповеди. Схожу лучше к Вианн Роше, как еще вчера собирался: может, с ней будет легче договориться насчет полученного Розетт наследства, чем с Ру.
В chocolaterie никого не оказалось, кроме Розетт, занятой рисованием. Рисовать она любит, устроившись прямо на полу, и, когда в магазине много народу, надо быть очень осторожным, чтобы не наступить на ее цветные карандаши, мелки и пастель. Розетт сейчас почти шестнадцать, но на свой возраст она не выглядит и кажется совсем ребенком. У нее маленькое детское личико, прячущееся в пышном облаке вьющихся светло-рыжих волос. Когда я вошел, Розетт вскинула на меня глаза, не выпуская из рук черный карандаш, и внезапный порыв ледяного ветра, залетевшего в дверь следом за мной, несколько непристойно задрал подол моей сутаны и плотно облепил ею колени. Розетт засмеялась, прищелкнула языком и воскликнула:
– БАМ!
Вианн тут же высунула голову из кухни.
– Франсис! Как я рада вас видеть! Да еще во время Великого поста! – Она ласково улыбнулась, как бы давая понять, что и не собирается меня поддразнивать. – Позвольте угостить вас чашечкой горячего шоколада.
И я принял у нее из рук фарфоровую чашечку, содержимое которой было столь же темным и сладким, как грех. Сделав первый символический глоток, я спросил:
– Насколько я понимаю, Мишель Монтур решил самостоятельно заняться фермой Нарсиса и обновить ее?
Вианн кивнула:
– Да, они туда переезжают вместе с сыном, Янником. Они и дом свой уже на продажу выставили.
Откуда она все это знает, отец мой? Как ей удается узнавать такое, о чем до меня даже слухов не долетает? Правда, Монтуры никогда по-настоящему к моей пастве не принадлежали. Они приезжали сюда только из-за Нарсиса; впрочем, я, наверное, слишком строг и не имею права судить их. А если они и впрямь решили здесь остаться, то я, должно быть, и вовсе ошибался в отношении того, что, собственно, заставило их сюда приехать.
– И каков же их сын? Вы о нем что-нибудь знаете?
Она покачала головой:
– Не очень много. Ему пятнадцать. Он учился в какой-то школе-интернате, но, по словам Мишель, этот опыт оказался неудачным. И теперь она намерена учить его дома. Спрашивала у меня, как с домашним обучением у Розетт.
Услышав свое имя, Розетт подняла голову и одарила меня великолепной улыбкой.
– А как у Розетт с домашним обучением?
Вианн улыбнулась:
– Она счастлива.
Если бы все было так просто, подумал я. Хотя, может, для Розетт это действительно хорошо. Только мы оба, Вианн и я, отлично понимаем: девочка не получила того образования, какое ей следовало бы получить. Она, конечно, умеет читать и писать, и считать она тоже умеет, и у нее самый настоящий талант к рисованию. Но нам обоим ясно, что для шестнадцатилетнего человека подобных знаний маловато. Впрочем, в данном вопросе Вианн непреклонна: она больше не желает рисковать, посылая Розетт в школу. В прошлый раз, по ее словам, из этого «ужас что вышло». И второй подобной попытки она попросту не допустит.
– Она скучает по Нарсису, – сказала Вианн. – У нее ведь так мало друзей – особенно теперь, когда Анук уехала в Париж, а у Пилу снова начались занятия в школе. Нарсис всегда так много с ней возился, какие-то истории ей рассказывал, смешил ее.
Я посмотрел на Розетт.
– А она понимает? Я имею в виду – насчет завещания Нарсиса? – Что-то не похоже, чтобы она это понимала, по-думал я; однако, услышав мой вопрос, Розетт чуть наклонила голову вперед и издала какое-то негромкое стрекотанье, как белка или сорока.
– Нарсис оставил тебе изрядный кусок земли, – сказал я ей, медленно и старательно выговаривая каждое слово. – Весь тот лес, что тянется вдоль полей подсолнечника.
Розетт опять что-то прострекотала. На этот раз в точности как сорока.
– По-моему, она просто этого не понимает, – сказал я, снова поворачиваясь к Вианн. – Хотя лес, пожалуй, можно было бы продать в ее же интересах и использовать полученную сумму, дабы в будущем полностью девочку обеспечить. Как вам кажется?
– Мне кажется, что в намерения Нарсиса это не входило.
– А кто знает, что входило в его намерения? – Возможно, я сказал это более резко, чем собирался. – Он всегда был человеком непростым. Может, на самом деле он всего лишь хотел досадить дочери и зятю, вызвать конфликт и заставить меня участвовать во всевозможных неприятных разбирательствах? Кстати, не могли бы вы поговорить с Ру? Он, видимо, уверен, что может неким образом отказаться исполнить свой долг опекуна и взять на себя ответственность за…
Я не договорил, заметив, что Вианн улыбнулась, и понял, что говорю слишком громко и запальчиво.
– Что-то вид у вас усталый, – сказала она. – Вот, попробуйте-ка мои mendiants. Темный шоколад, маринованные вишни и щепотка острого черного перца. Это новинка. Мне интересно, понравится ли вам.
Я покачал головой:
– Спасибо, но мне пора идти. Обязанности приходского священника, знаете ли…
Глава вторая
Пятница, 17 марта
И вот он уже уходит, сухо кивнув на прощание, – мне эта его манера раньше казалась на редкость неприятной. Но теперь-то я его лучше знаю и понимаю, что он просто не доверяет теплому отношению, пугается любого проявления дружелюбия. Быть Франсисом Рейно – значит постоянно испытывать конфликт между естественными инстинктами и самодисциплиной, постоянно сопротивляться собственным безудержным страстям. Когда-то – Анук в те времена была еще совсем малышкой – я очень сильно его боялась и ненавидела. Теперь же я ему, пожалуй, скорее сочувствую. В Рейно таится некая тьма, но человек он в целом неплохой. Будь он плохим, Розетт сразу бы это почувствовала. Розетт вообще видит куда дальше и глубже, чем я.
Я заметила, что после смерти Нарсиса Розетт стала еще более замкнутой. Обычно она любит мне помогать, но в последние дни ведет себя отчужденно, и понять, что у нее на уме, не могу даже я. Не выдержав, я попыталась прочесть ее мысли, но это ни к чему не привело; попыталась найти в цветах ее ауры хоть какой-нибудь новый оттенок, хоть какой-нибудь ключ к пониманию того, что у нее на душе, но это так и осталось тайной, головоломкой, которую мне не решить.
Сегодня днем, пока у нас был Рейно, она все время что-то рисовала в альбоме. Она его повсюду с собой таскает. Этот альбом в твердой обложке ей подарила Анук, и обложка у него того самого яркого цвета, который Анук так любит. Не могу не восхищаться тем, как моя дочь создает на бумаге все эти образы – всего несколько уверенных, экономных штрихов карандашом или пером, так что поначалу кажется, будто все это случайные линии, но затем оказывается, что каждая из них значима. Должно быть, Розетт унаследовала свой талант от Ру, он ведь тоже хорошо рисует и любую вещь смастерить может. Я всегда считала, что дочерям передастся мое отношение к шоколаду, однако никакого особого интереса к нему ни у Анук, ни у Розетт так и не возникло. Розетт определенно увлекается рисованием, а вот чем увлекается Анук – это мне со временем становится все менее понятно. И виной тому отчасти Жан-Лу Рембо, молодой человек со своими амбициями и мечтами, а также с серьезным пороком сердца; этот недуг у него с детства, ему часто приходится ложиться в больницу, так что мне порой становится страшно за мою маленькую Анук, которая так решительно вложила свое сердечко в его хрупкие пальцы.
У меня никогда не было таких отношений с мужчиной – я всегда слишком боялась их утратить. Даже Ру – а он для меня гораздо больше, чем просто друг, – так и не стал моим полноценным партнером. Между нами как бы существует некая договоренность, которая устраивает нас обоих, а если у меня порой и возникает чувство одиночества и некоторой его отчужденности, я тут же начинаю убеждать себя, что так лучше. Что я могу полностью сосредоточиться на Розетт.
– Что ты рисуешь?
Розетт не ответила. Продолжала рисовать, почти уткнувшись носом в бумагу. Она изобразила сценку, куда более сложную, чем те, которые она обычно предпочитает; в основном она работала простым карандашом, но некоторые детали выполнила в цвете. Маленькая девочка бежит по заросшей лесной тропинке. Она очень похожа на Розетт – какой она себя обычно изображает, – но ей всего лет семь или восемь, у нее завивающиеся в спиральки пышные волосы цвета манго, на плечах красный плащ с капюшоном, как у Красной Шапочки, а в руках корзинка земляники. Девочка не видит, что за ней по тропе крадется волк: нос уткнул в землю, глаза хищно сверкают. У волка гибкое тело, темная шерсть, и во всем его облике чувствуется затаенная угроза. Глаза у него чуть прищурены и кажутся обманчиво сонными. И вот что интересно: его тень Розетт нарисовала почему-то ярко-красным карандашом – тень просто гигантская, в половину альбомного листа.
Было в этой картине нечто такое, отчего мне стало не по себе. В ней словно заключалось некое тайное послание. Многие картины Розетт обладают подобным свойством, но эта почему-то напомнила мне некоторые из тех снов, что бывали у меня, когда мы жили в Париже. И вообще во всем рисунке чувствовались определенные отличия от привычной манеры Розетт. А у меня любая перемена всегда вызывает тревогу; перемена означает, что тот ветер снова поднялся и вскоре прилетит. А ведь мы так давно отказались слушать его призывы. И уже много лет никак на них не реагируем. Но голос его я слышу по-прежнему; этот голос зовет меня, но больше уже не пытается ни льстить, ни обманывать, а открыто угрожает. И звучит весьма мрачно. Думала, что сумеешь от меня спрятаться, Вианн Роше? Думала, что в своем маленьком домике ты в безопасности? А ведь я запросто могу все это взять и унести. И Анук. И Розетт. И твой домик. Дуну – и его как не бывало.
Я снова глянула на картину Розетт. Меня преследовала мысль, что это, возможно, некое послание, предназначенное для меня, предупреждение – может быть, об испытываемом ею страхе, который она способна выразить только с помощью карандаша и бумаги. Чем-то ее рисунок напоминает изображения на рубашке карт Таро, которые достались мне от матери: карандашная графика, исполненная глубокого смысла и тайной угрозы.
Дул Хуракан.
Нет. Мое дитя в безопасности. Она не услышит призывов этого ветра!
– Что это, Розетт? – снова спросила я.
И на мгновение мне показалось, что она, возможно, сейчас мне все расскажет. Оторвавшись от рисунка, она подняла на меня глаза, и наши взгляды встретились, однако она тут же отвела взгляд и уставилась на пурпурную дверь нового магазина, который раньше был цветочным, а теперь может стать каким угодно…
– Розетт?
Я тоже посмотрела в ту сторону: свежевыкрашенная дверь, витрина закрыта газетами. Ничего особенного. Ничто не дает оснований предполагать, что там затевается нечто необыкновенное. За исключением, пожалуй, тончайшей полоски света, просачивавшегося из-под двери, и какого-то странного мазка в воздухе, который вполне мог оказаться и чьей-то тенью, и чьим-то отражением…
Я знаю, Розетт любопытна. Как и я. Знаю, что ей кажется, будто нам следовало бы первыми пойти туда и принести новому хозяину магазина что-нибудь в подарок. Но в Ланскне все так сильно переменилось с тех пор, как меня впервые занесло сюда порывистым ветром. На собственном опыте я убедилась, что порой лучше проявить осторожность. Но Розетт редко бывает осторожна. И мне вдруг пришло в голову, что она, возможно, уже успела что-то такое заметить там, внутри, за закрытой витриной. А может, уже и познакомилась с этим неуловимым арендатором.
– Ты туда ходила? – спросила я. – Заходила в магазин Нарсиса?
На мои вопросы Розетт отвечает далеко не всегда. Но сейчас мне показалось намеренным и это нежелание отвечать, и полное отсутствие какой бы то ни было реакции на мои слова. Взяв темно-синий карандаш, она принялась изображать на своей картине тени, более всего похожие на извивающиеся и переплетенные друг с другом побеги плюща, изгибы которых повторялись с какой-то неестественной регулярностью.
– И какой же там будет магазин? Розетт, ты его нового хозяина видела?
Розетт никогда не лжет. Но ее молчание зачастую куда красноречивее слов. Я уверена: она явно что-то видела. И это «что-то» сильно ее встревожило. И потом, эти странные образы на ее картине: волк с огромной красной тенью, сплетение теней, похожих на побеги плюща, – все это свидетельства того, что Розетт пытается осмыслить и выразить в рисунке нечто чересчур сложное, такое, что обычными средствами не выразишь. Все ясно: я пользуюсь шоколадом, а она – своим искусством. То и другое – просто различные формы ворожбы.
– Послушай, Розетт. Я хочу попросить тебя пока держаться подальше от нового магазина. Хотя бы одна туда не ходи. И не пытайся заглянуть внутрь. Подожди. Когда я буду готова, мы с тобой вместе туда сходим и, возможно, преподнесем его владельцу в подарок какое-нибудь лакомство.
Она лишь мрачновато на меня глянула, и я поспешно продолжила:
– Я тебя понимаю. Но и ты должна понять: ни к чему мешать людям, когда они еще только начинают устраиваться на новом месте. Обещай, что подождешь немного. Хорошо, Розетт? И не ходи в этот магазин одна.
Прямо она, разумеется, ничего мне не ответила, но все же издала негромкий сорочий клич, а потом резко захлопнула альбом, вышла из дома и пошла куда-то по улице – как та ее девочка по лесной тропе.
Глава третья
Пятница, 17 марта
Я ничего не сказала маме о той женщине, которую увидела за стеклом витрины. Думаю, так будет лучше. Она бы только зря беспокоиться стала; и потом, нет никаких причин считать Случайностью то, что я там увидела. Случайности – вещи довольно шумные. В Париже, когда я была маленькой, Случайности происходили довольно часто, особенно если меня что-то огорчало. У нас просто вещи по воздуху летали, а зачастую и разбивались, если я была в расстроенных чувствах. Но это все в прошлом. Теперь я знаю, что делать в случае чего. В общем, я отложила законченный рисунок в сторону и поспешила выскользнуть из дома через приоткрытую дверь.
Из-за визита Рейно мне снова захотелось пойти проверить, как там мой лес. Мне приятно произносить эти слова. Мой лес. Моя земляничная поляна. Моя тропинка. Мои деревья. Моя ограда. Мой колодец желаний. Ведь Рейно сказал, что все это теперь мое. И принадлежит не Ру, не маме, а мне. И я могу делать там что захочу. Хотя единственное, чего мне иногда хочется, это остаться в одиночестве – петь, кричать, бегать сломя голову, разговаривать с самой собой своим теневым голосом. Там я теперь могу заниматься чем угодно. Лес, поляна, старый колодец – все это мое, и я могу там играть сколько захочу. И больше никто уже не скажет, что я нарушаю границы чужих владений. Я сама теперь хранительница священного места.
Вот какие мысли бродили у меня в голове, пока я шла через поля к ферме Нарсиса и моему лесу, огороженному проволочной сеткой. Хотя день клонился к вечеру, солнце все еще приятно пригревало, и повсюду пели птицы. Мне больше ни от кого не нужно было прятаться, не нужно было пользоваться той заветной щелью в ограде, но в лес я все-таки проникла именно через эту щель – во-первых, по привычке, а во-вторых, потому, что ключа от ворот у меня по-прежнему не было; и потом, мне нравится, когда никто не знает, где я. А когда я в лесу, я могу делать все, что захочу, и ничуть не беспокоиться насчет всяких Случайностей.
Бам убежал вперед. Он всегда так делает, смеется, перелетает с дерева на дерево. И о нем мне здесь тоже не нужно беспокоиться. Здесь он волен вести себя как ему нравится. Стая черных дроздов вылетела из гущи ветвей с таким треском, словно в зале рассыпались аплодисменты. Я призвала их к порядку на дроздином языке и бегом бросилась на земляничную поляну.
Для ягод было еще слишком рано. Зато всю поляну покрывал ковер из земляничных листьев, и среди них светились мелкие беленькие цветочки, точно упавшие звездочки. Колодец желаний, закрытый решеткой, тоже весь зарос земляникой, и только тот, кто знает, что он там есть, сумел бы его заметить. Можно подумать, под этой густой зеленью спрятана просто какая-нибудь тачка или тележка и где-то тут поблизости живут эльфы или гоблины. И, кстати, возле колодца уже кто-то сидел спиной ко мне.
Сперва я, конечно, решила, что это кто-то из волшебных существ – фея, эльф или, может, тролль. Но оказалось, что ничего волшебного в нем нет, и ничего особенного, как, например, в Баме тоже. Теперь я уже разглядела, что это обыкновенный мальчишка, причем довольно толстый, так что майка на нем натянута, как на барабане, и у него растрепанные каштановые волосы. Мальчишка сидел на траве, уставившись куда-то в гущу спутанных зеленых листьев и стеблей, и даже спина его выглядела совершенно несчастной. Увидев его, я чуть было не бросилась бежать, но потом вспомнила, что это мой лес, а если кому-то и следует оттуда убраться, так это ему, этому незнакомому мальчишке, который больше всего похож на медведя, сидящего посреди земляничной поляны.
Говорить мне ничего не хотелось, и я просто крикнула, как рассерженная галка: «КРРАУ!»
Но мальчишка не обернулся. Он даже не пошевелился. Пришлось снова издать галочий клич и заставить танцевать листья на дубах. Я еще и сама не была уверена, то ли я сержусь, что он сюда забрался, то ли мне просто любопытно. А может, все вместе. Вообще-то, конечно, хотелось узнать, что он тут делает. Может, он путешественник? Может, ему просто переночевать в моем лесу захотелось? Ну что ж, тогда я, возможно, ему это позволю, решила я. А еще он мог бы стать моей тайной.
– Рук, – сказала я, сменив тон на более дружелюбный.
Но он опять ничего не ответил. И я подошла чуть ближе: может, он глухой? Или просто притворяется? Сев неподалеку на траву, я хорошенько его разглядела и поняла, что он примерно мой ровесник, но, конечно, куда крупнее меня; лицо у него было круглое и очень бледное, а глазки маленькие и злые.
– Иди отсюда! – сердито сказал он.
Я снова крикнула по-галочьи, но на этот раз куда более настойчиво. Галки всегда камнем падают сверху на тех, кто осмелился слишком близко подобраться к их гнезду. А этот мальчишка, между прочим, в мои законные владения проник! Уж если кто и должен уйти, так точно не я!
– И перестань вопить, – потребовал он. – Я очень чувствительный. Мама говорит, что меня нельзя расстраивать.
Я рассмеялась. Просто не смогла удержаться. Он был такой смешной и такой ужасно сердитый. Сидит на моей поляне и указывает, что мне делать, а чего не делать! Если б у меня были с собой карандаши и альбом, я бы непременно его нарисовала в виде бурого медведя, толстого и ворчливого. А пока я ограничилась тем, что, изо всех сил надув щеки, заставила танцевать все листья и ветви на деревьях. Но не сердито, а весело и смешно, даже игриво чуть-чуть. А потом я спела свою песенку: Бам-бам-бам, Бам-бадда-БАМ! – и засмеялась, такое у него стало выражение лица.
А он внимательно посмотрел на меня и сказал:
– Ты – Розетт Роше. – Теперь голос его звучал совсем иначе – без злобы и с любопытством. Все равно он – медведь, подумала я, правда, совсем не свирепый. Может, он просто ищет, чего бы ему поесть? Ягоды, мед, желуди? А он прибавил: – Я о тебе уже слышал.
Я только плечами пожала. Обо мне все тут слышали.
– Меня Янник зовут.
В ответ я снова заставила листья танцевать. Мне хотелось этим сказать: это мое место, я могу здесь делать все, что захочу; могу, например, заставить тебя немедленно отсюда убраться. Впрочем, скорее всего, я бы этого не сделала. Уж больно он казался печальным. Печальный медведь, у которого нет меда.
– Может, все-таки что-нибудь скажешь? – поинтересовался Янник.
Я снова пожала плечами. Не люблю разговаривать. Предпочитаю объясняться с помощью жестов, или петь, или болтать, как обезьянка, или лаять, как собака. Собаки людям нравятся. А я – не очень. Теперь я это хорошо понимаю. А раньше не понимала. Мне казалось, что если бы я была собакой, то понравилась бы другим детям. Однако этого не произошло: они продолжали считать меня дурочкой, говорить, что я не в себе – видимо, хуже этого для них ничего и быть не может. Впрочем, даже Пилу считает меня немного дурочкой – по крайней мере, когда он в компании своих новых друзей. А у меня, в общем, и друзей-то никаких нет. У меня есть только Ру, Анук, мама и Пилу – ну и Бам, конечно.
Иногда в разговоре с другими мама называет Бама «моим невидимым дружком». Только это неправда. Она-то его видеть может. И Анук. Да и некоторые другие люди тоже. Но мама говорит, что ей проще сказать так, чем объяснять людям, что такое Бам на самом деле; и потом, говорит она, разве это имеет какое-то значение? Ведь все люди разные. И некоторые просто более разные, чем другие.
Янник опять очень внимательно на меня посмотрел, и я увидела, что глаза у него вовсе не злые, как мне сперва показалось; просто они меньше, чем у большинства людей. А потом он улыбнулся – и у него получилась такая широкая большая улыбка, что я даже рассмеялась, – и сказал:
– Знаешь, а ты очень забавная.
Я знаю, сказала я с помощью жестов.
– Ты что, глухая? Или немая? Или то и другое?
Я засмеялась и покачала головой, а потом снова заставила листья танцевать и смеяться со мною вместе. И Янник тоже улыбнулся. Он становится очень симпатичным, когда улыбается.
– Ну ладно, – сказал он, – но, по-моему, нам пора бы немного перекусить. Я просто умираю от голода.
Хорошо. Где?
– Идем со мной. Я тебе покажу одно хорошее местечко.
И я последовала за ним.
Глава четвертая
Пятница, 17 марта
Душа у отца была нежная, а тетушки Анны он боялся не меньше, чем я. Молчаливый – и от природы, и по собственному выбору, – он совсем недолго учился в школе и успел получить лишь зачатки знаний, читать да писать научился, а потом его из школы забрали: нужно было помогать на ферме. Тетушка Анна сохранила все его школьные аттестаты – по одному за каждую четверть, – написанные старомодным красивым почерком.
«Нарсис – спокойный, воспитанный мальчик, однако особых способностей не проявил».
«Нарсис – мальчик спокойный, на уроках внимателен, но часто делает ошибки, путая буквы алфавита. Прилежные занятия чтением и дополнительная практика в письме могли бы существенно исправить имеющиеся у него недостатки».
«Нарсис – ученик внимательный, однако страдает заиканием, что мешает ему принимать участие в школьных спектаклях и выступать с чтением стихов. К тому же он по-прежнему часто путает буквы алфавита, а потому снова оказался в числе отстающих».
Впрочем, я долгое время понятия не имел ни об отцовской дислексии (это слово я впервые услышал лишь через несколько десятилетий после его смерти), ни о его заикании. Мне и в голову не приходило, что отец предпочитает помалкивать не потому, что сам так захотел, а потому, что просто боится говорить.
За столом он никогда не произносил ни слова, разве что благодарил тетушку Анну за обед или завтрак, что делал с таким смирением, какое обычно приберегают исключительно для Бога. Большую часть времени он проводил в саду или на ферме, а тетушка Анна вела дом, готовила еду и воспитывала детей – наилучшим, по ее представлениям, образом, хотя этот метод воспитания был, пожалуй, несколько более жестким, чем предпочел бы наш отец. Но ферма принадлежала тетушке Анне, так что важно было только ее мнение. И, согласно этому мнению, дети должны были хорошо себя вести, быть послушными, непременно посещать церковь и молиться, а также с должным почтением относиться к старшим.
Тетушка Анна замечала все: капельку засохшей грязи на школьном комбинезоне, отсутствующую пуговицу на рубашке. Исполненная сознания долга, она, увы, была начисто лишена душевного тепла: о нас она заботилась исключительно ради спасения наших душ, а не ради того, чтобы поселить в наших детских сердцах добро. Особое беспокойство доставляла ей моя сестренка Мими. Девочка так и осталась какой-то слишком маленькой и с рождения была подвержена припадкам и судорогам; все считали, что такой младенец долго не проживет. Однако Мими выжила, и тетушка Анна восприняла это скорее как проклятие, чем как милость.
В семье это был еще один лишний рот, а еды хватало далеко не всегда. Да и вообще девчонка была совершенно бесполезной – в те времена домашний скот ценился куда выше. И в довершение всего рождение Мими послужило причиной смерти нашей матери – в общем, все это вместе никак не давало оснований радоваться тому, что девочка выжила. Мало того, Мими не просто выжила, хотя тетушка Анна была с самого начала уверена, что девочка приговорена, но и продолжала жить – несмотря на смехотворный рост и вес, несмотря на отказ брать грудь, несмотря на постоянные судорожные припадки и необъяснимые приступы смеха. Маленькая Мими цеплялась за жизнь и росла, как упрямый одуванчик, который ухитряется пустить корни и расцвести даже в самом негостеприимном месте. Мими, эта упрямая крошка, жила и росла, стараясь во что бы то ни стало дотянуться до света.
Можно, наверное, подумать, что уход за такой беспомощной младшей сестренкой должен был стать для меня невыносимым бременем? Ведь мне, в конце концов, было всего четыре года, когда Мими, точно нежеланный подарок, «свалилась» на нашу семью, заняв место моей матери. За одно это мне, наверное, следовало бы возненавидеть это жалкое существо. Однако ненависти во мне почему-то не возникло, а вот любви и внимания мне отчаянно не хватало. И я научился любить свою сестренку. Сначала это была любовь-сострадание, которую может испытывать ребенок, скажем, к сломанной игрушке или бродячей собаке, а потом это переросло в яростное стремление ото всех ее защищать. И дело было вовсе не в том, что отец к нам особой любви не испытывал, как раз наоборот, он очень нас любил, однако показывать нам свою любовь так и не научился. Ну, а тетушке Анне, по-моему, вообще подобные чувства не были свойственны; она терпеть не могла хоть в чем-то проявлять слабость. Отца моего она поднимала одна – к этому времени она уже успела похоронить обоих мужей, – и если когда-то она и была способна проявить хоть какую-то мягкость характера, то теперь характер ее уже полностью обызвестковался, и она стала похожа на тот крест, который постоянно носила: твердая, с острыми краями и абсолютно безжалостная. Нет, в глубине души она, пожалуй, не была ни особенно злой, ни особенно жестокой, но доброты в ней все же не было ни капли; в ней жило лишь чувство долга, которое она ошибочно принимала за преданность Богу, однако оно, это чувство, было, по-моему, вызвано скорее ее потребностью гордиться собой, а также опасениями на тот счет, что о ней могут сказать соседи.
Она воспитывала меня, не испытывая ко мне ни капли нежности, но с твердым намерением сделать из меня когда-нибудь настоящего мужчину и достойного гражданина. А у Мими даже и подобного потенциала не оказалось. Ведь она была девочкой, а значит, бесполезным бременем для семьи. Такую, как Мими, никто и никогда даже замуж не взял бы и при наличии достойного приданого. Тетушка была уверена, что Мими никогда не научится ни говорить, ни понимать самые простые указания и вечно будет страдать загадочными судорожными припадками. И хотя Мими была, казалось, вполне довольна своей судьбой – а иногда выглядела даже совершенно счастливой, – тетушка Анна продолжала воспринимать ее как наказание Божие за некий неизвестный грех, и сердце ее все больше ожесточалось.
Я все это рассказываю, чтобы вы, Рейно, поняли: в моей неприязни к церкви нет ничего личного. Это всего лишь воздействие тетушки Анны, ВЕРА которой была холодна, как камень, и суха, как пыль; а Бог так ни разу и не ответил ни на одну из тех бесчисленных молитв, которые я ему возносил.
Какая чушь! Неужели он и впрямь думал, что Бог реально отвечает на чьи-то там молитвы? Да у Него попросту нет времени, чтобы выслушивать всякие мелкие жалобы. Неужели Нарсису казалось, что Бог все бросит и заинтересуется его жалкой, крошечной судьбой? Неужели он действительно надеялся на божественное вмешательство, когда в их странной семье творилась обыкновенная бытовая жестокость? Видимо, отец мой, проблема именно в этом. Люди вообще склонны все воспринимать буквально. Им кажется, что мир начнет вертеться в другую сторону из-за их личных маленьких проблем и забот. Они совершенно не имеют представления ни о глобальности некоторых явлений, ни о собственной незначительности. Господь не внял вашим мольбам? Не думайте, что вы один такой. Бога не заботит ни ваше одиночество, ни ваши страдания. Если Бог создает звезды, то с какой стати Ему беспокоиться о том, соблюдаете ли вы хотя бы Великий пост, злоупотребляете ли вином, умерли вы или еще живы…
Да простит меня Господь, но я никогда не умел проявлять должное терпение по отношению к своей пастве. Мои подопечные, похоже, считают, что Бог просто обязан уделять им внимание. А если Он им внимания не уделяет, то это должен делать я. О, мои агнцы – животные весьма ограниченные! Вечно блеют на разные голоса, разбредаются кто куда, а потому деятельность моя далека от пасторальной; мне приходится строго следить за моим стадом и по возможности контролировать его действия. Не то чтобы я мог представить себя на каком-то ином поприще, однако на этой стезе мне, безусловно, пришлось пойти на определенные жертвы. Так что Нарсис не единственный из взывавших к Богу, но ответа от Него так и не получивших.
Поскольку иной отдушины у меня не было, средоточием моей любви стала Мими. Эта странная малышка, так и не научившаяся произносить толком и десяти слов, зато отлично умевшая в любой момент улыбнуться или засмеяться, стала мне ближе всех на свете. Потому-то, наверное, и Розетт Роше теперь так много для меня значит. Она чем-то очень похожа на Мими – во всяком случае, такой Мими могла бы стать, если бы ее в семь лет не настигла смерть, жестокая и бессмысленная, а внимание Бога в этот миг не было бы обращено на что-то другое…
Вот оно, отец мой! Ну и хватит на сегодня. Каждое слово – словно атака на меня, на церковь, на Бога; больше, пожалуй, мне, священнику, не вынести. Исповедь Нарсиса – если это действительно исповедь – требует времени, и он прекрасно знал, что я, каковы бы ни были мои недостатки, буду стоек и непременно дочитаю все до конца. Но пока с меня довольно. Я, пожалуй, прогуляюсь сейчас до фермы и побеседую с Мишель Монтур. Может, и этого неуловимого Янника там застану. В любом случае хоть немного отвлекусь.
Так убеждал я себя, направляясь к ферме. Но голос Нарсиса продолжал звучать у меня в ушах; этот голос преследовал меня все время, пока я шел по улице Маро, потом через поля и вдоль опушки леса, и звучал он на редкость настойчиво, хотя этому человеку при жизни и сказать-то мне было практически нечего. Но я, отец мой, всегда слышал голоса мертвых лучше, чем голоса живых, – возможно, из-за того, что я священник, а может, из-за того, что я тогда совершил. Голоса мертвых всегда звучат очень громко, они шумно требуют общения.
Никогда не считал себя добрым. Возможно, я был добродетельным, но не добрым. Теперь я это понимаю; но, конечно, слишком поздно уже пытаться исправить кое-какие свои деяния. Так что мне остается только продолжать жить и стараться быть лучше, чем был когда-то. Мой отец, этот убийца. С какой легкостью Нарсис это пишет. Кого же все-таки его отец убил? Хотя я совсем не уверен, что так уж хочу это знать. Разве его покойный отец не заслуживает покоя? Что хорошего будет, если снова вытащить на яркий свет все прошлые грехи? Может, прошлое лучше оставить в темноте?
Признался ли он в совершенном преступлении, отец мой? Получил ли отпущение грехов, как когда-то давно я получил его от тебя? Ведь тот мой грех был, по сути дела, мальчишеской выходкой, несчастным случаем; и потом, ты же сам называл речных крыс паразитами, отбросами общества, сорняками в саду Господнем. Ты убедил меня, что в совершенном деянии участвовали лишь мои руки. И этими руками осуществлялась воля Господа.
Лишь много лет спустя до меня дошло: никакого отношения к случившемуся Бог не имел. И ты не имел никакого права прощать мне мою вину, а потому я порой все еще чувствую ее неизбывную тяжесть. Именно порой. Потому что, честно говоря, бывают такие дни, когда я почти совсем не вспоминаю об этом, а если и вспоминаю, то случившееся кажется мне чем-то невероятно далеким, совершенным не мной, а совсем другим человеком, которым когда-то был я. Говорят, человеческое тело обновляется каждые семь лет. И все клетки в нем – клетки крови, кожи, костного мозга, костей – становятся другими. Значит, я успел много раз полностью сменить обличье с тех пор, как на Танн сгорел тот плавучий дом. И должен был бы теперь стать совершенно новым человеком. Но в такие дни, как этот, когда поля высвечены утренним солнцем, но воздух все еще по-весеннему прохладен, а из-под зеленой изгороди выглядывают первоцветы, тот мальчик, каким я был когда-то, кажется мне настолько близким, что я почти могу до него дотронуться…
Я был настолько погружен во все эти мысли, отец мой, что чуть не вскрикнул, когда внезапно увидел перед собой того самого мальчика. У меня, правда, все же вырвался некий сдавленный возглас, и мальчик испуганно ойкнул, а из кустов тут же вынырнула Розетт, которая, видимо, чуть-чуть от него отстала. Она издала один из своих птичьих кличей, и я удивленно воскликнул:
– Розетт!
Мальчик осторожно на меня глянул. Нет, он был абсолютно не похож на меня тогдашнего – темноволосый, круглолицый и, пожалуй, излишне полный, – но выражение лица у него было знакомое: чрезвычайно виноватое. Только тут я заметил у него в руках двухлитровую банку с чем-то очень похожим на земляничное варенье. Банка была открыта явно недавно, однако в ней осталась едва ли половина прежнего содержимого, а все стенки с внешней стороны были покрыты липкими отпечатками пальцев, перепачканных вареньем.
– Это с фермы Нарсиса? – спросил я. Никаких других ферм поблизости не было.
Мальчик кивнул; вид у него был по-прежнему виноватый.
– В таком случае ты, должно быть, Янник Монтур?
Мальчик снова кивнул. Он был не очень-то похож на своих родителей – они оба отличались довольно хрупким сложением, – а тонкая верхняя губа и узкие глазки придавали его лицу какое-то раздраженно-обидчивое выражение. Я улыбнулся, протянул ему руку и сказал:
– Я – Франсис Рейно, священник из Ланскне. Я о тебе много слышал.
Мальчик удивленно посмотрел на меня:
– Правда?
– Ну, если честно, не совсем. – И я снова улыбнулся. – Вообще-то ты человек весьма таинственный. Но, насколько я понимаю, вы теперь собираетесь здесь остаться и как раз переезжаете?
Он только кивнул и промолчал.
– Что ж, добро пожаловать в Ланскне-су-Танн. – Я пожал ему руку, которая оказалась ужасно липкой, и Розетт опять издала ликующий птичий клич. А я вдруг подумал, что если б я слопал сразу литр с лишним земляничного варенья – даже и с помощью кого-то из приятелей, – у меня бы точно возникли серьезные проблемы. Впрочем, в пятнадцать лет позволительно столь многое из того, что в пятьдесят пять становится совершенно недопустимым. Например, поедание варенья прямо из банки и в неимоверных количествах.
– Я вижу, с Розетт ты уже знаком, – сказал я. – Кстати, ее мать – хозяйка шоколадной лавки.
На лице у Янника отразились явные сомнения.
– Мне не разрешают есть шоколад, – сказал он, и я тут же вспомнил еще одного мальчика, которому тоже не разрешали есть шоколад. Теперь Люк Клермон вырос и стал красивым молодым человеком, а от заикания, так мучившего его в детстве, не осталось и следа; мать он навещает раз в год, а сам живет с молодой женой в Париже. Если бы Каро тогда разрешала сыну есть шоколад, все в их жизни, возможно, сложилось бы иначе. Кто знает? Порой подобные вещи имеют для мальчиков немалое значение.
– Иногда, – сказал я, – если нам говорят, чтобы мы чего-то не делали, это лишь заставляет нас еще больше желать запретного. А потому порой лучше получить немножко того, чего тебе так хочется, чем стараться соблюдать полное воздержание.
Мои слова Янника явно удивили – как удивили бы и меня тогдашнего.
– Да, наверное, вы правы, – сказал он. – А что такое воздержание?
– Нечто такое, о чем священники, боюсь, упоминают даже слишком часто, – ответил я. – Особенно во время Великого поста.
Он с подозрением на меня глянул и, поняв, что я над ним не подшучиваю, улыбнулся. Когда он улыбается, все его лицо словно вспыхивает, и в нем сразу появляется что-то от Нарсиса – не то чтобы старый Нарсис когда-либо так уж мне улыбался, но сходство все же было явным. Странное такое сходство, должно быть, фамильное.
Мой отец, этот убийца. Почему эти слова не выходят у меня из головы? Может, это связано с Янником, который кажется мне несколько странным, пожалуй, даже заторможенным? Неужели родители из-за этого держат его дома? Если это действительно так, может, даже хорошо, что он подружился с Розетт? Хотя Розетт уж точно заторможенной не назовешь. Впрочем, она, безусловно, не такая, как все; особенный ребенок, как любит говорить Каро Клермон. Возможно, если у нее появится дружок-ровесник, это поможет ей нормально развиваться. Я уже собрался спросить у Розетт, как она относится к появлению у нее земельной собственности, но тут на дальнем конце дороги показалась Мишель Монтур. Увидев нас, она крикнула громко и раздраженно:
– Янник! Чем ты там занимаешься?
Мальчик резко повернулся и, сунув мне в руки банку с вареньем, прошептал:
– Пожалуйста! Только маме ничего не говорите! Пожалуйста! – И с этими словами он нырнул в те же кусты, из которых только что появился; Розетт мгновенно последовала за ним, и вскоре оттуда вновь послышался знакомый галочий клич – дети явно удалялись в глубь леса.
А через минуту меня настигла Мишель Монтур. Туфли на высоком каблуке, брючки, явно сшитые на заказ, безупречно чистая белая шелковая блузка – по-моему, не слишком подходящий для переезда наряд. Она не смогла скрыть гримасу раздражения, увидев у меня в руках банку с вареньем.
– Это мой сын стащил? – спросила она напрямик.
Ах, отец мой, в стратегическом плане маленькая ложь, по-моему, предпочтительней необходимости подставить чью-то душу под удар греховного гнева. И потом, Янник смотрел на меня с таким отчаянием…
– Ах, это? – Я слегка приподнял банку. – Нет-нет, это… э-э-э… один из прихожан мне в подарок принес.
– В подарок? – с изумлением переспросила Мишель Монтур.
– Ну, с его стороны это, честно говоря, была скорее жертва. Видите ли, во время Великого поста некоторые с трудом способны противостоять соблазнам. Вот он, мой прихожанин, и решил, что лучше ему совсем… э-э-э… избавиться от…
Мишель Монтур насмешливо фыркнула. Потом довольно резко заметила:
– Мой сын страдает чрезмерным аппетитом и склонен к перееданию. Это медицинский диагноз, между прочим. За этим приходится строго следить. А если не следить, то Янник так и будет непрерывно есть, что очень вредно, ибо наносит ущерб не только внешнему виду, но и здоровью. Тут непременно нужна строгость.
– Ясно. Вам, должно быть, непросто это дается.
– Ах, отец мой, вы просто не можете себе представить!
– Так вы поэтому его из школы забрали?
Она поджала губы и сухо ответила:
– У сына есть и другие… проблемы. Поведенческого и социального характера. Мы с мужем решили, что лучше перевести его на домашнее обучение.
– Ясно, – кивнул я.
Да, мне все было ясно. Мишель Монтур невероятно тщеславна. То, что у нее такой «неудовлетворительный» сын, должно быть, сильно ее раздражает. Именно поэтому она и не рассказывает о нем своим друзьям; поэтому и я лишь сегодня впервые за два года его увидел. Чувствовалось, что Мишель ужасно хочется хвастаться достижениями сына, его успехами в учебе и спорте, его должным вниманием к матери. А вместо этого она вынуждена постоянно жертвовать собой во имя материнства – учить сына дома, бороться с его болезненными склонностями, терпеть и страдать. Это ее озлобило, однако мне она рассказывала об этом с привычным видом кроткой жертвенности. Мне эта маска хорошо знакома, я не раз видел ее, например, на лице Каролины Клермон, в голосе которой звучали те же нотки: Отец мой, я стараюсь не жаловаться. Материнство – мой крест, мне его и нести; но никто не знает, отец мой, – только не подумайте, что я жалуюсь, – как я страдала все эти годы, сколько я вынесла! Никто, кроме вас. Просто не знаю, что бы я делала без вашей помощи и поддержки, отец мой. На самом деле никакой особой помощи и поддержки я ей не оказывал, но приходилось прикусить язык и слушать. Для Каролины Клермон исповедь – это скорее способ выставить напоказ свои горести и переживания, а не получить отпущение грехов. У Мишель Монтур примерно тот же пассивно-агрессивный стиль поведения, только у Каро Клермон это проявляется в тусклом, постепенно слабеющем голосе, что практически полностью истощает запас моего терпения, тогда как у мадам Монтур голос звучит громко, и в нем явственно слышны воинственные нотки.
Метнув крайне неодобрительный взгляд на полупустую банку с вареньем, она заявила:
– Некоторые легковерные люди, отец мой, просто не желают верить, что мой сын Янник страдает врожденным недугом. И позволяют ему клянчить у них еду. А некоторые даже сладостями угощают. И становятся соучастниками тех преступлений, которые он совершает против себя самого. Надеюсь, отец мой, если вы станете свидетелем чего-либо подобного, то сумеете это пресечь?
– Ну, разумеется! – Я чувствовал, как пылают мои щеки. – Я, безусловно, сразу это пресеку, мадам Монтур! – И я, высоко подняв голову и по-прежнему держа в руках дурацкую банку, поспешил покинуть поле боя, сопровождаемый насмешливым стрекотанием сороки. Эти птичьи кличи преследовали меня все время, пока я шел вдоль зеленой изгороди из боярышника; а еще я постоянно слышал чьи-то шаги – одни совсем легкие, а вторые очень тяжелые, – но делал вид, что ничего не слышу. Банку с вареньем я оставил на стене в начале улицы Вольных Горожан и даже оборачиваться не стал, чтобы посмотреть, кто это там шуршал за зеленой изгородью. Я обернулся, лишь подойдя к своему дому, но двухлитровая банка с вареньем уже исчезла.
Глава пятая
Пятница, 17 марта
Ну вот, оказалось, что там был Янник. И теперь он мой друг. Он такой смешной и очень любит поесть, а иногда он бывает чем-то страшно расстроен, а когда с ним разговариваешь, на тебя даже не смотрит. Странно только, что у него оказались такие родители. Ведь мадам Монтур меня совсем не любит. Она даже имя мое потрудилась запомнить лишь после того, как о завещании Нарсиса узнала. А вот Янник мне нравится. Он очень милый, и надо мной никогда не смеется, и никаких других друзей у него нет.
Это я точно знаю. Завести друзей вообще довольно трудно, особенно если ты не такой, как все. Но я вовсе не собираюсь демонстрировать Пилу свою ревность, когда он со своими приятелями из школьного автобуса высаживается. А мне даже не помашет никогда. Хотя мог бы и помахать. Когда мы с ним вдвоем остаемся, то все по-прежнему хорошо, но стоит появиться его друзьям, и сразу – БАМ! – возникает ощущение, будто он меня в упор не видит.
Я рассказала об этом Яннику, и он меня сразу понял.
– У меня тоже раньше был друг, – сказал он. – Его звали Абайоми. Мы вместе в начальной школе учились, и с нами обоими никто не водился. А потом мы поступили в collège в Марселе, и оказалось, что там много таких, как Абайоми, но ни одного такого, как я.
Я сказала ему на языке жестов: Я понимаю. Это мучительно.
– Слушай, а почему ты не говоришь как обычно? Ты что, в аварию попала?
Я покачала головой: А зачем напрягаться? И так хорошо.
Янник пожал плечами.
– В общем, справедливо. Раз тебе и так хорошо, то и ладно.
Я улыбнулась. Видите? Он все понимает. И не считает, что я какая-то не такая.
Когда Янник ушел, было уже довольно поздно, через всю площадь протянулись темные тени. Я вошла в нашу chocolaterie и сразу поняла, что мама все еще возится с пасхальными корзинками в задней комнате. Было слышно, как она тихонько напевает себе под нос ту песенку, которую иногда пела мне, когда я была совсем маленькой.
- V’là l’bon vent, v’là l’joli vent,
- V’là l’bon vent, ma mie m’appelle…
Я снова выглянула на улицу. Тот магазин, что раньше принадлежал Нарсису – в нем только что вся витрина была газетами завешена, – успел обзавестись новой вывеской. Она висела над дверью, и на ней было написано: Les Illuminés[16]. Только тут я заметила, что и с витрины все газеты исчезли.
Дверь в магазин была открыта.
Глава шестая
Пятница, 17 марта
Внутрь я заходить не собиралась. Понимала, что этого делать не следует. Я, правда, и тогда не собиралась в щелку между газетами заглядывать, пытаясь рассмотреть, что там, за витриной, в пустом магазине. Но меня прямо-таки тянуло к этой открытой двери, и мне ужасно хотелось войти внутрь. Может, это цвет двери так на меня действовал? Она была того пурпурного цвета, какими бывают спелые сливы. Это самый любимый цвет Анук. А может, все дело в той даме, которую я тогда мельком увидела за стеклом? В то самое утро, когда так неожиданно выпал снег? Возможно, впрочем, что все это мне просто приснилось. Мне часто сны снятся. Мама говорит, что сны – это признак грядущей перемены ветра. Может, и так. Может, на этот раз ветер принесет то, что сделает маму счастливой?
Приоткрытая дверь была похожа на прищуренный глаз. Я рывком распахнула ее и разом осмотрела помещение. Когда здесь был цветочный магазин, повсюду стояли корзины и горшки с цветами – и на полу, и на скамьях, – на длинной стойке лежали листы целлофана, разноцветные ленты и поздравительные открытки, а на стенах висели полочки с такими керамическими сосудами, какие только на похоронах и увидишь. Теперь все было иначе. При Нарсисе здесь было столько цветов! В огромных, перепачканных землей корзинах размещались розы, крупные кудрявые хризантемы, подсолнухи цвета львиной гривы и маленькие вычурные фрезии. При Нарсисе здесь всегда пахло листьями, землей, зеленью и цветами. А на полу всегда валялись обрезки стеблей, листья, лепестки, комки сухой земли, отвалившиеся от садовых сапог Нарсиса.
Но теперь здесь цветами точно торговать не будут. Теперь здесь стало чисто, как в больнице. Деревянный пол был натерт до блеска и застлан большим пурпурным ковром. И на нем стояли кресла, тоже пурпурные. А еще там была сверкающая кофейная машина. Дверной проем, ведущий в заднюю часть помещения, где раньше располагался офис Нарсиса, был закрыт занавеской из бус. А в центре передней части возвышалось огромное кожаное кресло, и вокруг было много ярких огней и зеркал. И в одном из зеркал я увидела ее – она сидела в пурпурном кресле, и на ней были остроносые сапожки на высоких каблуках. Сапожки тоже были цвета засахаренных вишен…
Та самая дама, которую я тогда мельком видела в витрине. Длинные волосы, темная одежда, кисти рук скрываются в плотных черных кружевах, а юбка вроде бы из перьев. Я оглянулась, но в комнате по-прежнему никого не было. Эта дама была только в зеркале. Я снова осмотрела все помещение, но нигде ее не нашла.
Я негромко крикнула по-галочьи. В этом зеркальном зале человеческие слова казались мне неуместными. Дама в зеркале улыбнулась, а бусины на занавеске задрожали, заплясали…
И я спросила на языке жестов: Кто здесь?
Она снова улыбнулась.
Вы кто? Что вам нужно?
Занавеска из бус затряслась – казалось, она смеется. И я отчетливо расслышала голос того ветра; он теперь звучал совсем рядом, шепчущий, вкрадчивый:
Что мне нужно? А что нам нужно всегда? Чего такие, как мы, всегда страстно желаем? Мне нужна ТЫ, малышка Розетт. Больше всего мне нужна именно ты.
Я смотрела на занавеску из бус, и каждый шарик на ней трясся и плясал. А в зеркале по-прежнему улыбалась та дама. И в комнате по-прежнему никого не было. А потом зеркальная дама сказала мне на языке жестов: По-настоящему вопрос стоит так, малышка Розетт: что нужно тебе?
Я повернулась и убежала.
Глава седьмая
Пятница, 17 марта
Розетт вернулась, когда пробило пять, но на кухню даже не заглянула, а сразу поднялась наверх, и вскоре я услышала, что она вытащила свою коробку с пуговицами и принялась играть – это у нее некий ритуал, который, видимо, ассоциируется с порядком, уютом и приносит облегчение.
Значит, она была чем-то расстроена. Я такие вещи всегда сразу чувствую; сама-то она, может, почти ничего и не скажет, а вот дом сразу отражает ее эмоции. Краем глаза я заметила на лестнице фигурку Бама – ускользающий отблеск в полутьме.
– Шоколад будешь пить? – Часа в четыре Розетт обычно выпивает чашку горячего шоколада с круассаном или просто с кусочком хлеба. Но сегодня она мне даже не ответила. В кухне было хорошо слышно, как она кругами перемещает пуговицы по деревянному полу. Что бы ее ни расстроило, она явно не хочет, чтобы я это заметила. Я изо всех сил старалась сдерживаться и не волноваться, понимая, что слишком много тревожусь – из-за Розетт, из-за Анук. Когда же у меня это началось? Я ведь всегда была бесстрашной. Когда же я перестала быть такой?
Воздух снаружи был совершенно неподвижен. Тот апрельский снег уже растаял. В вышине голубую скорлупу небес пересекал след от пролетевшего самолета. А на крыше церкви сидели вороны, силуэты которых четко вырисовывались на фоне меркнущих небес; вороны то сидели на коньке кровли, безмолвные и неподвижные, то слетали вниз и с важным видом расхаживали по булыжной мостовой. Мне вдруг страшно захотелось узнать, чем прямо сейчас занята Анук. Может, они с Жаном-Лу прогуливаются по набережной Сены? Или она решила пройтись по магазинам? Или смотрит телевизор? А может, она сейчас на работе? Счастлива ли она? Я в очередной раз проверила мобильник. Ее вчерашнее эсэмэс я еще не стерла.
Думаю, мы сумеем приехать на Пасху. Может, даже на несколько дней останемся. ОК? Не знаю, правда, когда точно сумею сорваться с работы. Напишу, как только буду знать. Люблю, А. ххх
Пожалуй, мне следовало бы больше радоваться приезду Анук, но что-то в ее интонациях вызывало у меня беспокойство. Может, дело в слишком обыденном тоне? И одновременно каком-то неясном? Трудно сказать. И точной даты она так и не назвала, хотя прекрасно знает: мне нужно время, чтобы все подготовить. Проветрить комнату, пригласить ее друзей, приготовить любимые детские лакомства. Может, так она пытается еще на что-то мне намекнуть? Может, она вообще не приедет?
Голубизна небес померкла, потемнела, из голубой, как скорлупка птичьего яичка, стала фиолетовой. Наверху Розетт по-прежнему играла с пуговицами. Если бы я сейчас поднялась в ее спальню, то наверняка увидела бы, что пуговицы выложены на полу в виде сложного орнамента, подобраны по цвету и размеру и занимают всю территорию до занавесок и плинтусов. Розетт тонко воспринимает цвет – она и к другим вещам тоже очень чувствительна. Хотелось бы мне знать, чем это она была так расстроена, но спрашивать напрямую нельзя, и я такой ошибки не совершу. Она сама мне расскажет, когда – и если – захочет.
Пора закрывать chocolaterie – сегодня больше покупателей не будет. Запирая двери, я обратила внимание, что новый магазин на той стороне площади уже открыт; из стеклянной витрины на темную булыжную мостовую широкой полосой падал свет. А над витриной сияла розовая неоновая вывеска: Les Illuminés.
Les Illuminés. Такое название подошло бы стильному магазину осветительных приборов. Если это действительно так, то цены там наверняка будут высокие, и вряд ли подобный магазин продержится здесь достаточно долго. Ланскне – городок небогатый, а те, кто может позволить себе модные штучки подороже, предпочтут съездить за ними в Ажен или даже в Марсель или Тулузу. Наверное, новый хозяин магазина – знакомый Монтуров, поэтому они так быстро его и сдали. Несколько мгновений я раздумывала, не сходить ли мне туда, не заглянуть ли внутрь, но тем временем неоновая вывеска успела погаснуть, а в дверном проеме появилась женская фигура – ее силуэт четко вырисовывался на фоне освещенного помещения, и она вдруг показалась мне смутно знакомой. Но на таком расстоянии хорошо ее рассмотреть было невозможно. А затем свет погас, и до меня донесся грохот опускаемых жалюзи, закрывающих витрину.
Такой знакомый звук. И ситуация такая знакомая. И совершенно непонятно, что вызвало у меня эту странную тревогу и неприятное ощущение, будто кто-то следит за мной, чуть раздвинув планки жалюзи. Было и еще кое-что – я едва успела заметить это в сгущающихся сумерках: промельк некой ауры у входной двери, легкий, как шепот, аромат благовоний и почти неощутимый запах дыма и иных мест.
Найди меня. Почувствуй меня. Повернись ко мне лицом.
Это что же, некий вызов? Похоже, что так. Или, может, приглашение? От неоновой вывески в воздухе осталось нечто вроде следа – этакое неясное расплывчатое пятно вроде разноцветных пятен бензина и машинного масла, что остаются на камнях мостовой после апрельского дождя. И это потянуло за собой еще одно воспоминание: стук каблучков алых туфелек по парижской мостовой…
