Читать онлайн Дары данайцев бесплатно
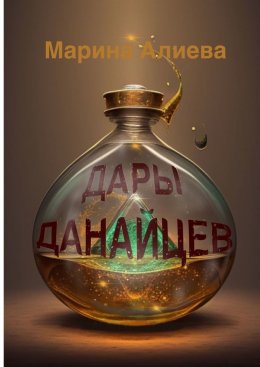
Иллюстратор Марина Владимировна Алиева
© Марина Владимировна Алиева, 2023
© Марина Владимировна Алиева, иллюстрации, 2023
ISBN 978-5-4474-0706-3
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Скажите, вам везло когда-нибудь?
Или нет, не так! Спрошу по-другому: вам везло когда-нибудь так часто, чтобы в череде всех этих везений удалось постичь суть, природу не единого вашего везения, а всего явления в целом? Я имею в виду – осознавали ли вы, что эта короткая вспышка радости не что иное, как противоположность тому самому темному периоду ночи, что, по поверью, предшествует рассвету? И что за яркой вспышкой последует неизбежное её угасание, а затем, возможно, и кромешный мрак?
Нет, вряд ли кто-то задумывается об этом в счастливые минуты. Всегда хочется верить, что дальше будет только лучше и лучше. Это в горе человек охотно хватается за спасительный круг надежды. Да и то, не во всяком. В самой страшной беде о надежде никто не думает, кажется, что жизни дальше вообще быть не может. Но стоит хоть немного выкарабкаться, подлечиться временем, и вот уже путь открыт! Идти по нему легко – этот путь, чем дальше, тем светлее. Но идти в противоположную сторону…. Ох, как же тяжело удаляться от света! При этом вечно оглядываешься, не желаешь понимать, что вернуться здесь можно только по кругу, через мрак. И ходить тебе так всю жизнь – искупая мрак светом, а за свет, расплачиваясь мраком, пока не растворишься либо в одном, либо в другом. А смысл этого хождения, боюсь, только в том, чтобы понять – одного без другого не бывает, и принимать это надо, как неизбежную закономерность.
Немного истории
Моя взрослая жизнь начала складываться во мраке. Рассвет детства, беспечный дошкольный полдень, сумерки начальных классов, и мрак.
Сначала умер от сердечного приступа отец. Он был не так уж и молод – я ребёнок поздний – но все равно, шестьдесят не восемьдесят, мог бы ещё жить и жить. Мама его смерть пережила очень тяжело. А если говорить честно, не пережила она её совсем. Те восемь месяцев, что прошли после похорон отца, жизнью назвать было невозможно. Незадолго до своей кончины она, словно извиняясь передо мной, без конца повторяла: «Только не горюй обо мне, сынок, самое главное – не горюй. Я дала тебе жизнь, дала ту любовь и заботу, которые необходимы маленькому человечку, но дальше от меня проку все равно бы не было. Болезнь и скорбь совершенно меня сломали. Есть дядя,… он позаботится о тебе. И, поверь, так будет даже лучше».
И хотя всем своим взрослеющим существом я противился этим её словам, все же, что греха таить, дядя действительно позаботился обо мне лучше, чем смог бы кто-нибудь другой.
По дороге с кладбища, беспрестанно сморкаясь и утирая глаза, он ободряюще похлопывал меня по плечу и говорил: «Ничего, ничего, мальчик, твоя мама сейчас там, где скорби нет. Ей хорошо и покойно. Думай об этом, так легче…». Я послушно думал, но легче не делалось. Жизнь изменилась слишком внезапно, в одночасье, и даже мысли о том, что мама больше не мучается, перестала страдать, не могли вернуть прежнего облика ни знакомым улицам, ни домам, ни прохожим. Моё детство болезненно закончилось, но взрослым стать ещё только предстояло.
Впрочем, с дядей мы жили очень дружно. Он забрал тринадцатилетнего подростка, всю жизнь прожившего в маленьком провинциальном городке, в большой город, в свою холостяцкую квартиру, и я не помню случая, чтобы хоть единожды почувствовал там себя ненужной помехой.
Звали дядю Василием Львовичем. А меня – Александром и, представьте себе, Сергеевичем. И такое совпадение имен приводило дядю в полный восторг. Он часто повторял, что я должен стать вторым Пушкиным, имея в виду, видимо, мои неуклюжие поэтические опыты в детском саду и в начальной школе. Но в отличие от Пушкинского Василия Львовича, мой дядя совсем не походил на легкомысленного светского льва. Скорее, наоборот, он был затворником, помешанным на своей коллекции.
Из-за этой-то коллекции все и произошло. И можно было бы прямо сейчас начать рассказывать эту странную и во многом жутковатую историю. Но я не могу обойти молчанием, ни дядину личность, ни того, как он стал собирателем, ни тех первых шагов, сделав которые, я сам дошел сюда, в свой сегодняшний день, где уже снова виден мрак и тупик во мраке…
У Василия Львовича было много умных книг. Я читал все подряд и, невзирая на юный возраст, а, может быть, именно благодаря ему, запоминал не столько сюжеты, (в иных книгах они были совсем простенькие), а всякие изречения, которые поражали меня своей ясностью и четкостью. Так у Анатоля Франса я вычитал, что «Случай – это псевдоним Бога, когда он не хочет подписываться собственным именем». Если верить этому, то выходило, что Василия Львовича всю жизнь опекал именно Бог, подобно тому, как в позапрошлые века именитые вельможи опекали своих бастардов.
Совершенно случайно юному Васе, жившему тогда в том же самом провинциальном городке, где впоследствии родился и я, попалась на глаза статья об отделении художественных промыслов при Абрамцевском училище. И он вдруг страстно возжелал туда поступить. Родители не слишком удивились, так как мальчик постоянно что-то лепил, вырезал, выжигал, причем очень кропотливо, доводя до конца каждую начатую работу. Пугало только то, что он будет делать, когда это училище закончит? Старые школьные учителя, воспитанные на идеалах и энтузиазме комсомола-коммунизма, не считали все эти «вольные» профессии пригодными для нормальной жизни – только для хобби. Но Васенька проявил твердость и после восьми классов общеобразовательной школы уехал поступать в Абрамцево.
Там, на первом году обучения, опять же совершенно случайно, он познакомился с одним предприимчивым третьекурсником, который предложил на каникулах, вместо отдыха у мамы – папы, отправиться в экспедицию на поиски старинных икон.
Тут надо заметить, что религия в училище занимала почти всех. Неподалеку была духовная семинария, которая располагалась в старинном здании, построенном в незапамятные времена. Сохранилось здание великолепно, и воспитанники «художки» частенько ходили под его стены на пленер. Кто знает, что так уж воздействовало на них – то ли сам воздух вокруг семинарии был каким-то особенным, намоленным. То ли величие столетий, осевшее на патриархальных стенах, заставляло зашоренную советско-союзную молодежь смотреть на вещи куда шире, чем предписывали партия и правительство. Но на занятиях по истории искусств очень многие из учащихся жадно вслушивались в идейно кастрированные пересказы библейских сюжетов, а затем, явно не удовлетворенные, отыскивали и тайком почитывали Библию.
Многие передавали друг другу под строжайшим секретом плохо пропечатанные копии Булгаковского «Мастера и Маргариты». Самиздатовские тексты давались на ночь, а то и просто на время какого-нибудь помпезного, нудного комсомольского собрания. Читалось все это, конечно, «по диагонали», и не всегда удавалось разобрать вышедшие из-под пятой или шестой копирки слова. Но общее впечатление тайны, мистики, чертовщины и чего-то совершенно кошмарного, что выкатывалось на первых же страницах вместе с отрезанной головой Берлиоза, оседало в сознании страстным желанием разобраться, понять, и как-то по особенному беспокоило.
Но были и такие, кто, подобно юному Васе, вдохнул возле древних стен живой воздух Времени и отравился им до конца своих дней. Василий Львович и в экспедицию со своим новым приятелем решил отправиться не столько ради икон, и уж конечно не столько ради опасной выгоды, которую могла принести их перепродажа в Москве, сколько ради желания найти что-то старинное, дышащее прикосновениями давно умерших людей. Взять в свои руки и ощутить, как бьется в этом старинном многолетняя память.
Первое же захолустье, в которое они попали, счастливо избежало оккупации во время войны, но новых веяний, увы, избежать не смогло, и взорам охотников за древностями предстал развитой колхоз, рвущийся в передовики.
Разочарованный Василий Львович поинтересовался у спутника, что можно найти в таком месте, и тот, хитро улыбаясь, ответил, что сейчас в таких местах только и искать. «Сам посуди, в двух километрах отсюда была когда-то усадьба князей Трубецких, а при ней церковь и богатая. Князья не скупились – вероятно, было что отмаливать. А мужик, он и в Африке мужик, до барского добра всегда был охоч. Ясное дело, что во время революции все там активно разграбили и по домам растащили. Особенно иконы. Революции революциями, а в Бога-то верили, и лики его непременно прикарманили, хоть и завещал он: не укради! А теперь здесь новые веяния, видишь, сколько молодых понаехало. Сейчас, брат, модно быть Шуриком. Вот эти-то Шурики-идеалисты начнут избавляться от старых икон, как от религиозного пережитка, с тем же рвением, с которым они избавляются от крыс и мышей. А тут и мы…. Так что, засучивай рукава и пошли шарить по сусекам».
Но шарить оказалось не так-то просто. В одних домах им или гордо отвечали, что от всего старья давно уже избавились, в других гнали прочь, провожая подозрительным взглядом. И только ближе к окраине, где возле старой темной хибары светился белой древесиной свежий сруб нового дома, деловитый хозяин, пожав плечами, сказал, что в сарае полно старого хлама на выброс, и, если им интересно, то он может показать.
Василий Львович позже рассказывал мне, что, стоя перед дверью того сарая, уже ощущал слабый призыв из прошлого и какое-то необъяснимое волнение. А потом, перешагнув через порог, среди подгнивших мешков, досок, разломанных лопат, грабель, дырявых хомутов и цепей непонятного назначения, сразу рассмотрел невысокие напольные часы. Они устало, словно больной на последнем издыхании, привалились к обшарпанной стене сарая, с покорностью обратив бледное лицо-циферблат куда-то вверх, где сквозь доски покатой крыши пробивалось солнце.
Даже не будучи ещё большим специалистом, Василий Львович сразу понял, что часы эти не из тех, которые потоком гонят по конвейеру равнодушные руки рабочих. Вещь была штучная, редкая, явно сделанная хорошим мастером и с очень большой любовью, о чем говорила тщательная отделка каждой детали. И пока приятель, точно гончая по следу, пробирался к лавке в дальнем углу, где усмотрел валяющиеся на деревянном сундуке закопченные доски с серебристыми ликами, Василий Львович, волнуясь, спросил у хозяина, можно ли вытащить часы на свет, чтобы рассмотреть их получше.
«Старье, рухлядь, уже лет сто не ходят, – махнул рукой хозяин, делая вид, будто не замечает чрезмерной дядиной заинтересованности. – Но, коли интересно, так чего ж не показать».
Он отодвинул доски, отбросил в сторону обломки лопат и безжалостно поволок часы к выходу. Внутри у них что-то звякнуло, застонало и грохнуло. Это медный маятник, похожий на остановившееся сердце, испуганно дернулся за мутным стеклом и ударился о стенку деревянного короба.
«Вот, – сказал хозяин, выставляя часы во дворе, – за тридцатку отдам, а нет, так и сожгу к чертовой матери».
У Василия Львовича сжалось сердце. Тридцатка! Таких денег не было! Точнее, они были, но, отдав их, он оставался ни с чем. Приятель обещал, что все отдадут за бесценок, а то и даром, и ещё благодарить станут, но тридцать рублей…
Часы смотрели на дядю, как голодная побитая собака смотрит на прохожего, мимоходом её приласкавшего, и он, ощупав в кармане всю свою наличность, жалобно спросил:
– А за двадцать?
– Что за двадцать? – раздался за спиной голос приятеля.
Он тоже выбрался из сарая, отряхивая от пыли и паутины несколько совершенно черных икон, и сокрушенно помотал головой.
– Не, отец, ерунда это все какая-то.
Потом отложил доски на скамью и уставился на часы.
– Вот это за двадцать? – спросил после минутного презрительного осмотра и, повернувшись к дяде, повертел пальцем у виска. – Ты что, дурик? За это двадцатку? Да я бы и за пятерку не взял. Дерево гнилое, червь поточил, циферблат облупился, стрелки одной не хватает…
И, обращаясь к хозяину, авторитетно заявил:
– Нет, отец, купить у тебя нечего. Жаль, зря проездили. Иконки те я бы ещё взял, ради досок, за трёшку, но ты вон какие цены ломишь.
Хозяин, смекнувший, что перегнул палку и может остаться вообще без барышей, добродушно раскинул руки.
– О, хо-хо, иконки за трёшку! Да я б тебе их и так отдал, но, коль уж сам цену обозначил, то и бери за неё, я лишнего не спрошу.
Приятель Василия Львовича рассмеялся и погрозил пальцем.
– Ох, и хитер ты, дядя. Подловил-то меня как, а! Но я ведь сказал, что «может быть» взял бы за трёшку, а могу и не брать, верно?
Хозяин подбавил добродушия и даже приобнял Василия Львовича и его приятеля.
– Да берите, чего уж там! Доски хорошие, старинные… Большое дело – трёшка. И часы, уж так и быть, отдам по дешёвке, а? Рубликов за пять, меньше уж никак нельзя – вещь-то фамильная, старинная.
Приятель Василия Львовича долгим задумчивым взглядом посмотрел на хозяина, потом, словно нехотя, вернулся к доскам, брошенным на скамью возле сарая, и стал ещё раз их пересматривать. Вид у него при этом был очень сомневающийся.
– Ну, хочешь, бери все за трёшку, – великодушно уступил хозяин. – И две беленьких сверху.
Приятель Василия Львовича скосил глаза на часы, выдержал долгую томительную паузу, а потом обреченно вздохнул.
– Ладно, дядя, уговорил. Заберем мы твою рухлядь, да и то, из одного уважения. У кого другого бы нипочем не взял.
– А тут и брать больше не у кого, – обрадовался хозяин. – Старухи, какие ещё живы, с иконками своими нипочем не расстанутся. Уж больно они на молодежь злые. «Иваны, говорят, родства не помнящие. Все пожгли, что после покойных дедов осталось. Накликают Антихриста, потом спохватятся, да уж поздно будет». Это я, вишь, недавно переехал, дом вот новый ставлю взамен материнского, царствие ей небесное. Через годок приехали б, так и этого сарая поди не нашли бы уж.
Желая помочь, он небрежно схватил иконы, с громким стуком утрамбовал их в стопку. И Василий Львович заметил, как напряглось и закаменело лицо его приятеля.
– Слышь, отец, – сказал тот, доставая деньги, – доски эти я сам уложу, а ты бы пока поискал чем часы к машине подвязать. А мы с Васьком как раз за беленькими и сгоняем. Магазин-то, в какой стороне?
Хозяин показал направление, заверил, что к их возвращению всё подготовит, и приятель потащил встревоженного Василия Львовича за ворота.
– А вдруг он что-нибудь в часах сломает? – спрашивал не верящий в своё счастье Василий Львович, оглядываясь и пытаясь разобрать сквозь густую вишневую листву, что делает хозяин.
– Хуже, чем есть, они все равно не станут, – огрызнулся приятель. – Из-за тебя целую трёшку просадили там, где все могли даром получить! Ведь учил же тебя, дурня, никогда не показывай, что нашел что-то ценное! Вон, иконы – это же клад, сокровище, пятнадцатый век, не меньше! Да такие любой музей с руками оторвет, не говоря уж о частниках, но я разве трясся от радости, разве прыгал перед хозяином с выпученными глазами…. А, кстати, чего ты в часы эти так вцепился? Всего-то прошлый век. Их восстанавливать – себе дороже, да и не продашь потом, мода не та…
– Понравились, – буркнул Василий Львович и отвернулся.
У него и в мыслях не было продавать свою находку. Приятель мог сколько угодно рассуждать о выгоде, для дяди это был пустой звук. В грязном сарае он нашел само Время, и чувствовал всей своей юной душой, что непростая эта находка ещё укажет его жизни новое русло.
Поэтому, когда спустя сутки, приятель съехал на трассе в «карман» и, развернув карту, спросил: «куда дальше?», дядя сказал, что дальше не поедет. Приятель удивился, однако уговаривать не стал. Только пожал плечами, любезно довез до ближайшей автобусной станции и покатил дальше на облезлой трофейной машинке, слезно выпрошенной у кого-то напрокат.
Я потому так подробно описал этот эпизод, что именно с него, с той случайной находки и начался новый этап дядиной жизни.
Дома, отмыв и отчистив с циферблата и короба всё, что было можно, он понял – для дальнейшего восстановления требуются специальные знания. И ради этого Василий Львович попросил о переводе на отделение реставраторов, где с головой ушел в процесс обучения.
Сам я не силен в искусстве реставрации, и даже годы, прожитые бок о бок с дядей, не расширили мои познания в специфике этого сложного и увлекательного ремесла. Но те первые часы, которые «живы» до сих пор, выглядят так, словно пару сотен лет назад какой-то далекий предок купил их у мастера, поставил в дядиной квартире, и они так с тех пор тут и стоят, ничего не зная о деревенских сараях и губительном отношении к себе. Василий Львович, правда, не раз сетовал, что многое сделал не слишком ловко, но больше к часам не притрагивался. То ли берег память о своей юности, затаившуюся в паутине трещин по неумело составленному лаку, то ли понимал, что кое-какие следы пережитого идут этим часам больше, нежели искусственная новизна.
Училище Василий Львович закончил с красным дипломом и уехал по распределению в город N, где стал реставратором при местном музее изобразительных искусств. Многие советовали ему продолжить образование в институте, но дядя считал, что нет лучшего учителя, чем практика, поэтому выискивал, где только мог рецепты старинных лаков, клеев, красок, создавал на их основе какие-то свои, совершенно особенные, и очень скоро убедился в правоте собственных убеждений, став, по мнению многих, совершенным виртуозом в реставраторском деле. Тогда-то и начала создаваться его коллекция старинных предметов обихода и мебели, которая, к слову сказать, росла очень быстро. На дворе стояли шестидесятые – блаженное время для собирателей антиквариата. Новые модные веяния наложили печать мещанства на массивные резные буфеты, невесомые горки и ажурные полочки. Городская свалка превратилась в остров сокровищ, где запросто можно было отыскать неземной красоты абажуры, медные лампы на цепях, бронзовые канделябры и даже стеклярусные сумочки. Бесценные бюро и кабинеты так и продавались – за бесценок. И единственное, что огорчало Василия Львовича, так это маленькая площадь его квартиры, неспособная вместить все, от чего восторженно замирало сердце.
Конечно, найденное, собранное и принесенное в дом, пребывало в ужасном состоянии. Но Василий Львович легких путей не искал. В маленьком музее, где он работал, особой загруженности не было. То, что висело и хранилось в запаснике, нужды в реставрации давно не испытывало, а новых поступлений кот наплакал. Поэтому все свои пыл, азарт и уважение к временам минувшим дядя проявлял дома. Чем сложнее казалась задача, тем больший интерес она вызывала, и тем азартней дядя брался за её решение. Каждый вечер его кухонный стол превращался в настоящую мастерскую, или, точнее, в хирургический кабинет, где он, подобно доктору Айболиту, «лечил» все, что попадало в руки. Один раз даже взялся за иголку с ниткой, чтобы починить гобелен восемнадцатого века, который принес ему его друг – Соломон Ильич Довгер…
Да, Довгер…. Надо бы о нем…. Но не сейчас! Нет, нет, я не хочу пока притрагиваться к этой гнусной истории! Не теперь. Чуть позже, когда я вспомню всё самое хорошее, самое значимое…. Без этих воспоминаний то, что я пишу сейчас, снова превратится в подобие тех пошлых повестей, которые я сочиняю…, точнее, сочинял не так давно.
Ах, да, совсем забыл представиться! Я – писатель, автор целой серии романов о бесстрашном собирателе старинного оружия Николае Лекомцеве – этаком гибриде из Джеймса Бонда и Ниро Вульфа. Многие считали меня удачливым, успешным и даже популярным, но это ложь! Слово «писатель» хоть и происходит от глагола «писать», тем не менее, не каждый, кто умеет из слов составить предложение, а из предложений – сносно читаемый абзац, имеет право таковым называться. Поэтому, выскажусь осторожнее: я мог бы стать писателем. И это «мог бы» подарил мне именно дядя. Его дом и его коллекция.
Да, многие говорили, что все это слишком похоже на музей, намекая на то, что в подобной квартире неудобно жить. Может, и так. Может, и музей. Но музей музею рознь, и наш был особенный!
Здесь можно было сидеть на всех стульях, открывать все шкафы и брать из них книги или посуду. Можно было устроиться за бюро красного дерева и писать на листке бумаги настоящим гусиным пером, обмакивая его в чернильницу в виде виноградной лозы. Можно было зажечь все свечи в канделябрах, и в их гуляющем свете рассматривать дивной красоты фарфоровую фигурку девушки в шляпке с ленточками и в платье, поверх оборок которого вились тончайшие фарфоровые кружева…
Дядя мне все сразу позволил. Но, может быть, из-за того, что он так доверял, или из-за потрясения, вызванного всем этим великолепием, я долго вел себя скованно, на всё спрашивая разрешения.
«Перестань спрашивать, – убеждал меня Василий Львович, – все эти вещи стоят тут для того, чтобы ими пользовались. Они тем и живы! Не будешь пользоваться – вещи умрут…». Но я не понимал. Никак не мог взять в толк, как может быть живым, пусть даже очень и очень красивый шкаф? Такое только в сказках Андерсена бывает, и там это вполне уместно, но, чтобы вот так, в реальности, совсем рядом…. Нет, это не укладывалось в голове!
Однако, понимание пришло внезапно, очень скоро, и совершенно естественно вплелось в мою жизнь.
Помню, как однажды, мучимый бессонницей, безжалостно вызывающей образы родителей, стоило только закрыть глаза, я достал с полки какую-то книгу и перебрался в старинное кресло поближе к лампе. Рука легла на деревянный подлокотник, и удивительное тепло мгновенно побежало по ней, растекаясь внутри всего тела. Сама собой появилась мысль о том, что, возможно, когда-то в этом кресле сиживала дама в кринолине, (или, как там назывались эти широченные юбки?), и, обмахиваясь веером, жаловалась кому-нибудь на мигрень или бессонницу, как у меня. А может быть, в него небрежно плюхался какой-нибудь гусар в синем ментике с серебряным шитьем? Я видел таких в кино и на картинках, но никогда не задумывался, что все они не персонажи костюмных сказок, а были когда-то настоящие, живые, такие же, как и мы, живущие теперь.
Это чувствование ожившей, (если можно так по-идиотски выразиться), жизни оказалось настолько сильным, что я невольно стал озираться вокруг, тут и там, вспышками, замечая то мужскую фигуру в солидном сюртуке, то женскую, с осиной талией и длинным шлейфом на юбке. Зеркальные вставки на дверцах шкафа, в обрамлении золоченых завитков, вдруг запестрели туманными лицами – строгими, веселыми, юными, постарше и совсем старыми. Будто какой-то кинопроектор из прошлого вздумал прокрутить на большой скорости всю вековую жизнь этого шкафа…
На мгновение стало даже страшно. Резко вскочив с кресла, я нырнул под одеяло и, не то чтобы дрожал там от ужаса, но и высунуться опасался. Припоминал все известные детские страшилки, да так и заснул. А утром долго гадал, не приснилась ли мне вся эта чертовщина. Даже у дяди спросил – может, в его квартире привидения завелись? Но он ласково погладил меня по голове, заглянул в глаза и ответил, что это во мне всего лишь память проснулась. Не та, единоличная, которую все знают, а иная, общечеловеческая, которую, как Бога, можно принять только душой.
«Идем, я покажу тебе того, кто и во мне пробудил когда-то эту память», – сказал он тогда. И повел меня к большому письменному столу возле окна. «Вот, Сашенька, познакомься – Стол Писателя. Я реставрировал его для одной пожилой дамы, которая хотела сделать сюрприз своему мужу. Времени было не так уж и много, поэтому работать приходилось и по ночам. Стол находился в ужасном состоянии, почти мертвый, но оставалось в нем нечто…. Не знаю даже, как это выразить словами…. Короче, я чувствовал, что могу его спасти и обязательно должен это сделать. И тогда, в одну из ночей, эта самая общечеловеческая память накрыла меня с головой. Кто знает, из каких глубин она вырывается. Может, это сам стол, почуяв ласковые руки, возвращающие его к жизни, поспешил вздохнуть. И все пережитое им, мистическим облаком окутало комнату, вовлекая и меня в туманный мир жизни, идущей, возможно, где-то рядом с нами. Не знаю…. Но никогда прежде не чувствовал я так остро и осязаемо свою связь с ушедшими поколениями, эти крепкие родовые корни, тянущиеся куда-то в глубь Времени и Истории. Я будто породнился через этот стол со всеми теми, кто, в своё время, любовно стирал с него пыль, разглаживал и чистил сукно, что-то писал, строил планы.… Это просто подарок Судьбы, что дама та согласилась продать мне его после смерти мужа, так что в разлуке мы провели чуть больше года. Но даже за такой короткий срок я почувствовал, как обогатился новыми впечатлениями мой стол, и как обогатилась его, (а, стало быть, и моя), память…. Ты понимаешь, о чем я говорю?».
Не стану лукавить – в тот миг я мало что понял. Но дядины слова не показались и полным бредом. Что-то в них зацепило за душу, и, дав себе слово непременно все осмыслить и понять, я вслух спросил:
– А почему «Стол Писателя»?
– Да потому что он столько знает, что, владей я словом, сел бы за него и такие бы романы писал! – ответил дядя, взъерошивая себе волосы и мечтательно закатывая глаза.
Идея писать романы понравилась мне сразу. Великолепный способ оживить не только свои ночные видения, но и образы родителей, грустно и бесцельно витающие вокруг меня с длинными шлейфами тоски за спиной. При этом дядина оговорка: «владей я словом…», нисколько не смущала. Разве могут подобные осторожные сомнения придти в тринадцатилетнюю голову? Ничуть не бывало! Я же не собираюсь писать правдивые истории об их действительной, не слишком интересной жизни. Не-е-ет, я сочиню новые истории, перемешаю их с вымыслами из зеркального шкафа, и дам своим родителям возможность стать такими, какими я всегда и хотел их видеть – счастливыми, здоровыми, молодыми и бесшабашно веселыми!
Василий Львович ссужал меня деньгами на личные расходы. Немного, но на новую тетрадь – толстую, в коричневом переплете, из которого торчали кончики нитей, – и на новую ручку вполне хватило. Я нарочно купил все новое – уж если начинать какую-то особенную жизнь, то не со старыми же атрибутами, в самом деле. И рассказывать о своем новом увлечении никому не собирался. Даже дяде. Почему-то мне казалось, что стоит хоть кому-то рассказать, и ничего не получится, уйдет некая тайна, похожая на яркий сон, который невозможно пересказать, не разрушив при этом его очарование и значимость. Поэтому тайком, используя каждый удобный момент, я принялся за свою первую книжку.
Тут надо сказать, что удобных моментов на неделе было не так уж и много. В рабочие дни – школа и уроки, (родители успели мне внушить, что, прежде всего, нужно делать обязательные дела, а потом уж приятные), а в выходные дядя непременно куда-нибудь меня водил. Он опасался, что, пережив недетское горе, я замкнусь в себе от недостатка внимания, поэтому, в ущерб собственных пристрастий, целиком посвящал мне один выходной, стараясь подарить как можно больше положительных эмоций и впечатлений. Но перед воскресеньем была суббота, и я, начав писать книгу, благословлял этот день, как единственный, дающий возможность творить.
В субботу Василий Львович играл в бридж.
Эта нерушимая традиция существовала давно, едва ли не с первого года жизни дяди в N, и была лишь единожды на грани нарушения, когда компанию покинул один из игроков. Кажется, он куда-то уехал, и, по несчастному стечению обстоятельств, именно в это время я и стал жить у дяди. Однако, перерыв в игре продлился недолго. Вскоре в дом пришел новый человек. И этот приход я хорошо запомнил по той настороженности, с которой его приняли, и по той радости, которую все выказали, когда стало ясно, что новый член команды весьма сведущ в тонкостях игры. Этим новым человеком и был Соломон Ильич Довгер.
Он очень напоминал Синюю Бороду. И цветом выбритого подбородка, и горящими черными глазами. Именно так я и представлял матерого убийцу несчастных жен. Но во всем остальном Соломон Ильич оказался очень милым человеком.
Дело в том, что компания игроков состояла из людей увлеченных коллекционированием. Паневин Алексей Николаевич, служащий какой-то конторы, собирал старинные открытки и даггеротипы с видами русских городов, а так же знаки и памятные медали с их гербами и символами. Причем дядя упоминал о каких-то совершенно бесценных экземплярах, которыми Алексей Николаевич страшно гордится, и бережет их, как зеницу ока. Другой собиратель – Гольданцев Олег Александрович – был помешан на старинных книгах, причем, преимущественно, по медицине. Он был врачом. Талантливым, по убеждению Василия Львовича, но, как все талантливые люди, так и не смог пробиться в этой жизни, страдая от собственного ума. Его оригинальные теории слишком далеко расходились с общепризнанными научными постулатами, поэтому Олег Александрович прозябал в районной поликлинике и слыл в медицинских кругах чудаковатым изгоем. Именно он привел в компанию Соломона Ильича, который, хоть и не был сам коллекционером, тем не менее, имел весьма обширные связи в их среде и огромное количество знакомых, готовых эту среду подпитывать. К примеру, дяде он организовал несколько крупных заказов на реставрацию старинной мебели. И, помимо удовольствия, которое Василий Львович испытал и от самой работы, и от её нужности, мы получили финансовую возможность съездить в Ленинград и провести там целых десять дней, не отказывая себе ни в чем.
До сих пор помню, с каким трепетом дядя ввел меня в зал Леонардо да Винчи и, дождавшись, когда перед «Мадонной Литта» никого не будет, подтолкнул меня к картине со словами: «Забудь про все репродукции, про то, что это хрестоматийный Леонардо. Смотри на неё так, словно ты в мастерской художника, с которым только что познакомился». И, вы знаете, был момент, когда, глядя в лицо этой юной матери, я вдруг ощутил невыразимое волнение, как будто кисть только что, на моих глазах, последний раз коснулась голубых одежд, и я увидел нечто новое, совершенное, гениальное…
Да, Довгер для всех тогда явился почти спасителем. Поддержал разваливающуюся традицию, значительно расширил горизонты возможностей компании, совсем уж было в себе замкнувшейся, и мне, косвенным образом, подарил почти целый день, когда я мог беспрепятственно заниматься своим творчеством.
Хорошо помню, как, сидя на диване, в неестественной, вывернутой позе, я торопливо писал, примостив тетрадку на подлокотник. На коленях раскрытая книга, на тот случай, если кто-то задумает войти. Тогда бы я ловко сбросил тетрадь и ручку в пространство между подлокотником и шкафом, а сам сделал бы вид, что читаю. Пару раз так и приходилось делать, поэтому именно на диване, именно согнувшись, как не подобает, я продирался сквозь дебри собственного сюжета.
Мне безумно нравилось это делать, и чем дальше, тем больше. Вскоре, даже когда заветную тетрадку достать было нельзя, я все равно продолжал сочинять. Ползая с пылесосом между резных ножек антикварной мебели, или ковыряя вилкой немудреный ужин, приготовленный дядей, прикидывал, каким путем выбираться героям из сложной ситуации, в которую я их загнал, или продумывал маршрут, которым они пойдут дальше, к вожделенному финалу.
Этот процесс захватывал! Будоражило все – и оживающие образы, и лихие повороты сюжета, заплетающегося тем туже, чем дольше я писал. И, самое главное, таинственность, которая обволакивала всю мою писательскую деятельность.
Потому, однажды вечером, я едва не подавился пельменем, когда дядя, как ни в чем не бывало, спросил: «Ну, и когда же можно будет прочесть то, что ты пишешь?». От неожиданности не нашел ничего лучше, как, набычившись, уставиться в тарелку и обиженно спросить: «Откуда ты узнал?». И тут Василий Львович захохотал, да так, что, кажется, даже чайник на плите подпрыгнул.
– Милый ты мой, у тебя же через все лицо идет во-от такая здоровенная сияющая надпись: «я что-то сочиняю»! Не веришь? Посмотри в зеркало.
Машинально я обернулся к коридорному трюмо, в котором прекрасно отражался со своего места на кухне, а дядя засмеялся снова. Потом он встал, разлил чай по чашкам и, пододвинув одну мне, сказал серьезно и ласково:
– Сашенька, почему ты думаешь, что от моего любящего взора укроется хоть что-то, связанное с тобой? Я же все замечаю. Когда тебя мучила бессонница, я тоже не спал, только делал вид, что сплю, потому что не знал, чем тут поможешь. Жалеть? Нельзя. Жалость унижает, делает слабым, из неё потом не выберешься, так и будешь уповать, что пожалеют. А я хочу, чтобы ты вырос сильным. Писать книги прекрасное занятие. Тут стыдиться нечего. Особенно, если получается. А у тебя, как я вижу, получается – вон, как глаза горят. Что ты пишешь? Стихи?
– Нет, прозу.
– Прозу? Чудно! Это ещё и лучше. Пушкин, кстати, тоже прозу писал, и замечательно писал! Ты только не прячься больше, ладно. Не хочешь пока показывать – не надо. Я без разрешения заглядывать не стану. Даже, если хочешь, машинку тебе печатную достану. Только, пожалуйста, глаза по темным углам больше не порть и не горбись, а то позвоночник испортишь.
С минуту я сидел по-прежнему набычившись. А потом вдруг какая-то волна смахнула меня с табурета. Влетев в комнату, я выхватил из-под подушек дивана, на котором писал, свою тетрадку и помчался обратно на кухню. Там сунул тетрадь дяде в руку, всхлипнул и бросился ему на шею.
– Сашенька, милый, ну что ты, перестань, – растерянно приговаривал дядя, похлопывая меня по спине. – С чего вдруг так-то…
Но по его дрожащему голосу я знал, он прекрасно понимает, с чего. Понимает даже больше того, что я сам сумел бы объяснить, потому что вряд ли в своем том юном возрасте мог осознать, какой сложный узел распутывается для Василия Львовича этим моим увлечением.
В тот же вечер он добросовестно перечитал все, что было мною уже написано. Пока не закончил, спать не ложился. Потом снял очки, прошел в мою комнату, прекрасно понимая, что я тоже ещё не сплю, сел в кресло и удивленно поднял брови.
– А знаешь, Сашок, очень и очень неплохо. Видимо любовь к чтению даром не проходит. Я, конечно, не специалист, но я читатель, то есть тот, для кого книги и пишутся. И, как читатель, вполне авторитетно могу сказать – ты пишешь хорошо. Даже замечаний никаких делать не стану. Заканчивай, как есть, а потом…. В общем, я знаю, кому мы это покажем.
Он встал, но на пороге обернулся.
– Кстати, машинку все же придется достать. Почерк у тебя – ну просто кошмар!
Я засмеялся, а Василий Львович поспешил закрыть за собой дверь. Ничуть не сомневаюсь, что, оставшись один, он вытер с глаз слезы. Во-первых, потому, что мне больше не грозило вырасти угрюмым и замкнутым, а во-вторых – в его доме так весело я смеялся впервые.
Обещание свое Василий Львович выполнил. Очень скоро старинное бюро восемнадцатого века украсилось хромированным чудом по имени «Олимпия». На этом мастодонте я перепечатал уже написанное и благополучно «доскакал» до конца книги.
Дядя в процесс не вмешивался. Только перечитывал то, что я ему давал, кивал головой и говорил: «Пиши дальше». Он не позволил себе исправить ни одной запятой, которые я ставил, где надо и где не надо. А когда книга была закончена, Василий Львович собрал все листки в папку, завязал её и куда-то унес.
Подозреваю, что без связей Довгера и тогда не обошлось. То, что редактор городского детского журнала, прочитав моё творение, попросил написать для рубрики «Новые имена» какой-нибудь рассказ, запросто могло оказаться следствием приятельских отношений между ним и Соломоном Ильичем. Но, как бы там ни было, а я чувствовал себя совершенно счастливым, и все каникулы провел, стуча по клавишам «Олимпии», как какой-то маньяк. В результате появился не один рассказ, а целых три, и теперь мы уже вместе с дядей отправились в редакцию.
Там все прочли, похвалили, отобрали рассказ, посвященный моему дедушке, и уже в октябрьском номере напечатали. Василий Львович был вне себя от гордости. Расплакался, закрывая журнал, со словами: «Жаль Верочка не видит», а потом надолго ушел на кухню.
Я слегка прославился в школе, где стал непременным автором всех передовиц общешкольных стенгазет, участником литературных конкурсов и круглым отличником по сочинениям. Затем увидел свет ещё один мой рассказ. Потом повесть, в которую превратился сильно сокращенный и ставший от этого только лучше, мой первый роман. За этой повестью – повесть другая, и пошло-поехало!
В институт, естественно, поступил без проблем.
Журналистика становилась чрезвычайно модной. В стране назревали интересные события, и я стремился быть в самой их гуще. Писал острые статьи, одну из которых нагло отослал в столичное издательство и её там напечатали! Затем, моя, довольно дерзкая пьеса, (впрочем, в молодости все дерзко), попала в журнал «Театр», и за всей этой круговертью, как-то так само собой сложилось, что жизнь Василия Львовича, вместе с ним и его делами, скромно отошла на второй план.
Я не заметил того, что молчаливая субботняя игра в бридж вдруг стала по говорливости напоминать революционные сходки. Не обратил внимания на ряды пробирок и колб, неумело спрятанные в кухонном шкафу, и на то, что Олег Александрович Гольданцев стал приходить к дяде каждый день. Он появлялся под вечер, кивал мне, задавал обязательные вопросы о здоровье, без особого интереса спрашивал про литературные успехи, а потом закрывался с дядей на кухне, где они часами делали что-то таинственное. В промежутках между стуканьем «Олимпии», обдумывая очередное предложение, я слышал, как позвякивают те самые колбы, чувствовал запах чего-то горелого и был абсолютно уверен, что дядя с Гольданцевым выдумывают состав очередного лака или клея. Вопросов никаких не задавал. Только один раз, когда Василий Львович, в страшном возбуждении, влетел ко мне в комнату и потребовал срочно какую-нибудь ручку или карандаш, я, дождавшись ухода Гольданцева, спросил, чем же они все-таки занимаются. Но дядя тогда лишь таинственно улыбнулся, мечтательно закатил глаза и процитировал:
– Есть многое на свете, друг Гораций…
Потом потряс головой, словно сгоняя прилипшую к лицу улыбку.
– Не время ещё, Сашок. Вот закончим, и ты такое узнаешь, о чем не можешь сейчас даже предположить.
Что ж, не время, так не время. Я охотно предоставил дяде заниматься своими делами, лишь бы ничто не мешало мне с головой погрузиться в свои. Заскакивал домой на минуту что-нибудь куснуть или отхлебнуть. Потом снова уносился, чтобы глубокой ночью приползти, плюхнуться на диван, поспать часа четыре и снова уноситься прочь. А дядя бледной, почти незримой тенью, отпечатывался где-то на задворках сознания – милый, заботливый, любимый, но такой медленный и устаревший в этой летящей весенним потоком жизни.
Так не заметил я и появления испуганной и разочарованной настороженности, которая появилась у дяди и сильно постаревшего Олега Александровича, с которым мы иногда стакивались в дверях. Не слишком задумывался над тем, почему вдруг, с какого-то времени, Гольданцев ходить перестал, зато зачастил давно не появлявшийся Паневин. Потом перестал ходить и он, но мало ли какие причуды возникают у коллекционеров – все они немного не от мира сего. И только однажды Василию Львовичу удалось слегка притормозить меня на полном скаку сообщением о том, что доктор Гольданцев умер.
Легкий укол совести вернул меня в пору моей самой глухой ночи, подсказывая, что надо бы посидеть с дядей, не оставлять его одного в эти печальные минуты. Я же видел, что эта смерть для него настоящий удар. Но дядя, словно услыхав мои мысли, отрицательно замотал головой.
– Иди, иди, чего ты встал? Я это просто так.., к сведению…. Что уж теперь…. Все там будем. А для него так, может, и лучше. Иные тайны, как роковые блудницы – манят, манят, завлекают, и ты уже ничем другим жить не можешь…. Но познавать их нельзя. Опасно. Можно дурную болезнь заработать. Прежде сам в себе разберись – надо, не надо, а потом…. Э-эх, задним-то умом хорошо рассуждать…
Все это дядя бормотал, удаляясь на кухню, и, словно бы, не для меня. Поэтому, потоптавшись немного, я виновато выскользнул за дверь, где уже дожидалась целая компания.
А потом была стажировка в городе Б, в редакции местной газеты. И распределение туда же, по их настоятельному, и моему страстному желанию. Уж больно коллектив оказался хорош.
Дяде я обещал писать и звонить, как можно чаще, но обещания своего, конечно же, не исполнил. Куда там! Жизнь крутилась и мельтешила, словно зеркальный шар на дискотеке, как блестящий шейкер в руках опытного бармена по имени Молодость. И сбивался в этом шейкере сложнейший коктейль из статей, набросков для романа, любовных записочек, беготни за новостями, кутежей, флирта, участия в благотворительных мероприятиях, пьяных философских споров и дурацких поступков, вроде традиционного прыганья с моста.
Но иногда я все-таки «трезвел». Чувствуя себя последним подонком, безбожно и хмуро матерясь, тащился на переговорный пункт и звонил в N.
Дядя всегда очень радовался. На вопросы о здоровье отвечал: «отлично, отлично», на мои извинения говорил: «ничего, ничего». А потом, отслушав на все свои пространные расспросы «нормально» и «все в порядке», грустно прощался.
Я понимал, конечно, что от таких бесед Василию Львовичу становилось только более одиноко. Но, что ещё скажешь по телефону? «Вот приеду в отпуск, – утешал я, то ли себя, то ли его, – встретимся, поговорим…».
Но встретиться не пришлось, хотя в отпуск я уехал раньше, чем предполагал.
Дядя внезапно умер.
Это случилось так неожиданно, так страшно, что шейкер, сбивающий мою жизнь, разом остановился. А в оседающей мути, как в тумане, растворились, и бешенный переезд на попутках, и похороны, и поминки, и…. Все! Тусклым облаком из пролитых и непролитых слез над головой повисло одиночество.
Какие-то люди-тени ходили вокруг, шептали: «коллекция, квартира»… Кто-то мелкий, кривоногий вынырнул из дурмана, схватил меня за руки и зачем-то стал трясти ими. При этом он все время пригибался к моему лицу, обдавал противным запахом изо рта, что-то страстно говорил, но что, я так и не понял. Помню только – «продать в музей». Это он повторял особенно часто. Но, что продать? Зачем?
Дядя!!! Кто эти люди?! Что все они тут делают?!!! И почему никто не уткнется в мое плечо и не зарыдает? И где то плечо, на котором могу порыдать я?! Нет, никого нет! Только шкаф с зеркалами на дверцах. Тогда пусть скорей все уйдут прочь, и наступит темнота! Я знаю, самым четким ликом в том Зазеркалье будет твой лик, дядя. И мы, наконец, сядем, поговорим, скажем друг другу слова, которые клубились вокруг нас все последние годы, но так и не обрели звучания…
Кто-то опять лезет!
Уйди! Сгинь! К че-о-о-рту всех вас!!!
Кажется, я тогда потерял сознание. «Скорая» увезла полубезумное тело в больницу, где его вернули к жизни и разуму успокоительными. Для верности подержали ещё пару дней и выпустили.
Оказалось, свою квартиру Василий Львович давно выкупил у государства и завещал мне, вместе со всей коллекцией. Адвокат, сообщивший это, оставил на мраморном антикварном столике кучу каких-то бумаг и ушел, оглядываясь на меня с подозрением. Видимо, сомневался во вменяемости клиента даже после больницы.
Дурак!
Он, видно, думал, что такое наследство способно загладить любое горе. И кто-нибудь другой, на моем месте, не стоял бы истуканом, тупо глядя под ноги, а скорбно и величаво проводил бы его до двери, расшаркиваясь за приятную новость. Может те, у кого совесть чиста, так и поступают. Но я, услышав грохот закрывшейся двери, как безумный, набросился на оставленные бумаги, ища в них одну-единственную – хоть какое-то письмо от дяди, которое он обязательно должен был оставить. Мне необходимы были его последние слова, как индульгенция забывчивости и безразличию последних лет, которые теперь жгли моё сердце стыдом! Поэтому, отбрасывая в сторону выправленные по всей форме акты, которые делали меня владельцем немалого, наверное, состояния, я готов был взвыть от отчаяния, потому что никакого письма от Василия Львовича среди них не было!
Но поздно вечером, когда сломленный и жалкий я выполз на балкон покурить, светлый дух дяди все же явил свою милость.
На другом балконе, отделенном от нашего всего лишь кухонным окном, стояла соседка – бывшая певица, а теперь пенсионерка Эльвира Борисовна. Она тоже курила – свою неизменную «Беломорину» – и обернулась на мои шаги.
– Сашенька! – охнула Эльвира Борисовна, роняя папиросу, – вы уже дома! Господи, как хорошо! Все так нелепо, так глупо получилось…. А у меня ведь письмо для вас. Базиль оставил незадолго до смерти. Как знал…. Впрочем, мне почему-то кажется, что он знал… Ужасно это все, правда? Смерть, одиночество… Я к вам сейчас зайду, хорошо? Вы мне откройте, пожалуйста.
Путаясь в ногах, я бросился к входной двери.
Эльвира Борисовна просочилась в неё с большим пухлым конвертом в руках и, передавая его мне, сказала.
– Знаете, Василий Львович был очень странный в последнее время. Он ничем не болел, но чувствовалась в нем…. Даже не знаю, усталость какая-то, что ли? Я пыталась к нему заходить, думала, Базиль просто скучает. Даже звонить вам собиралась…. А потом он пришел с этим конвертом. И, знаете, мне тогда показалось, что он чего-то страшно боится. Естественно, первым делом, подумала про коллекцию, потому что сейчас столько всяких жуликов развелось. Но, когда я спросила, не угрожают ли ему какие-нибудь бандиты, Базиль рассмеялся…. Очень, знаете ли, невесело рассмеялся, и сказал, что лучше бы это были бандиты. А потом положил конверт на стол и попросил обязательно передать вам после его смерти. Ох, и рассердилась же я тогда! «Вот уж не думала, – говорю, – что услышу такое от тебя – человека разумного! Как дворовая старуха, ей Богу! Ну, куда тебе умирать? Вот, погоди, приедет Сашенька, может даже жену с собой привезет…. Если так скучаешь, попроси – вдруг ему сюда удастся перевестись. Внуки пойдут, взбодришься…». Но он странно так посмотрел и говорит: «Я не доживу». И сказал так тихо, так уверенно, словно жить ему дальше просто нельзя. А через пару дней иду я по подъезду и вижу – дверь в вашу квартиру приоткрыта. Захожу, а Вася сидит в кресле перед окном и смотрит на небо совершенно безучастно. Говорю ему: «Что ж ты дверь не закрываешь?», а он в ответ даже не моргнул. Ну, я естественно испугалась, «скорую» вызвала. Они приехали, померили давление, пульс, ничего не нашли и уехали. Сказали, что с таким давлением можно в космос запускать, а то, что сидит и ни на что не реагирует, так может у него горе какое…. Вот так-то. А потом, вот…. Умер наш Васенька…
Эльвира Борисовна тоненько взвыла, уткнулась носом в старую вязаную шаль и, отмахнувшись от моего «дать вам воды», побрела к себе. А я, хоть и держал в руках вожделенное письмо, остался стоять в недоумении.
Выходит, дядя знал, что скоро умрет? Погрузился в апатию и стал ко всему безучастным? Впрочем, в апатию он мог погрузиться именно оттого, что знал о скорой смерти. Но от чего?! Почему не вызвал меня, чтобы проститься хотя бы?!
Я ничего не понимал. Все так не похоже на Василия Львовича… Может, все объяснения в письме?
Из торопливо разорванного конверта выпала школьная тетрадка и целая стопка листков. Их я сразу отложил в сторону, так как узнал виденные много раз схемы тайных ящичков и описания особо ценных вещёй с историческими справками о них. В тетрадке же вообще было что-то непонятное – то ли математические формулы, то ли записи каких-то составов. Но между последними страницами лежали два сложенных листка, и я жадно схватил их, разобрав на первом: «Милый Сашенька…».
«Нет слов, чтобы выразить, как я благодарен Судьбе за то, что был в моей жизни. И, хотя счастье это далось слишком дорогой ценой, все же оно было. Счастье видеть, как ты взрослеешь, мужаешь, становишься на ноги…. Нет, не на ноги – на крыло! Ты выбрал удел Творца, а, значит, не жалкое ползанье по жизни, но бурный, стремительный полет. Я горжусь тобой, и лишь одно гложет тоской мою душу – то, что не увижу тебя во всем блеске состоявшегося писателя и Человека. Я скоро умру. Олег Гольданцев прошел этот путь раньше меня, но там, где можно свернуть, стоит запрещающий знак. Жаль, что не могу всего тебе разъяснить, но, может, так и лучше. Помнишь, что я говорил про тайну-блудницу? Так что, послушай доброго совета – не пытайся во всем этом разобраться, не стоит оно того. А самое главное, запомни! Если когда-нибудь к тебе придет сын Олега Гольданцева – Коля, или кто-то другой, кто станет рекомендоваться, опираясь на эту фамилию, гони такого визитера к черту, не соблазняясь никакими сверхъестественными тайнами, которые они посулят! Ничего этого нет, все обман! Есть только ад. Кошмарный ад, в который они тебя утащат…».
Часть первая
Глава первая. Страх
В день своего тридцатипятилетия я стоял в ванной перед зеркалом, покрытым благородными трещинками, и, яростно чертыхаясь, смывал кровь с неосторожно порезанной щеки.
– Перестань бриться этим антиквариатом, – не раз укоряла меня Екатерина. – Процветающий писатель, неужели ты не можешь купить себе нормальный станок?
– Нет, не могу! – огрызался я, будучи не в силах изгнать из памяти свой детский восторг при виде Василия Львовича, подносящего к щеке это сверкающее чудо, похожее на меленькую саблю. – Мужчина должен бриться опасной бритвой. Понимаешь? О-пас-ной! А не этим вашим бабским станком для ног.
Екатерина вздыхала и безнадежно махала рукой, а я продолжал скоблить щеки антиквариатом.
Но в сегодняшнем порезе бритва виновата не была. Издерганный человек, не спавший толком три ночи кряду, порежется даже алюминиевой ложкой! Поэтому я чертыхался и отборным матом поливал себя, Екатерину и сопляка корреспондента из журнала «Мой дом».
«Тридцать лет – ума нет», – выдал я сам себе напоследок и, закрутив кран, пошел за пластырем.
За десять лет в дядиной квартире мало что изменилось. Пожалуй, только окна, (я поставил стеклопакет), да, вместо тусклого пейзажика над столом Василия Львовича, теперь красуется его портрет, прекрасно переснятый со старой фотокарточки одним моим приятелем.
Хотя, нет, забыл! Вот ещё и новая дверь, стилизованная под старину, которая ведет в квартиру Эльвиры Борисовны. Точнее, в ту квартиру, которую она когда-то занимала.
Три года назад «бывшая певица, а ныне пенсионерка», как она сама себя всегда рекомендует, вдруг решила сняться с насиженного места и ехать на постоянное жительство в Петербург, к давней своей подруге.
– Вы с ума сошли! – воскликнул я, когда она пришла сообщить мне эту новость. – Да разве можно совмещать ваше здоровье и Питерскую сырость?! Этот город вас убьет, а я буду чувствовать себя виноватым за то, что не удержал.
– Сашенька, Сашенька, – качала в ответ головой Эльвира Борисовна, – Питер никого убить не может. Столько красоты, столько таланта намешалось. Даже революции этот аристократизм не выкорчевали. А пока жив там хоть один блокадник, жива и доброта. Я по ним соскучилась, и по подруге, и по доброте. Мне будет очень хорошо, поверьте.
– Здесь-то чем плохо?!
– А здесь как-то тревожно стало жить.
– Эх, Эльвира Борисовна, – вздыхал я, – до чего же вы наивный человек. Вот и видно, что сериалы не смотрите. Хотите, программку покажу – там по всем каналам, в самое удобное для пенсионеров время, «Бандитский Петербург», «Бандитский Петербург», «Бандитский Петербург»…
Соседка нахмурилась, сердито посмотрела на меня и, порывшись в растянутом кармане своей кофты, вызывающе достала папиросу. Я снова вздохнул. Этим жестом пожилая дама давала понять, что уговаривать её не ехать в Питер так же бесполезно, как отучать курить «Беломор», (чем я, кстати, несколько лет безуспешно занимался). «Ахматова его всю жизнь курила, и хуже от этого не стала», – был неизменный аргумент, которым все убеждения решительно обрывались.
– Я к вам, Сашенька, собственно не за тем пришла, чтобы вы меня запугивали, а с предложением купить мою квартиру, – заявила Эльвира Борисовна, широким жестом гася спичку, от которой прикуривала. – И вам хорошо, вдруг все-таки надумаете жениться на своей Екатерине, и мне приятно – не чужие люди поселятся. Как вам такое предложение, а?
Предложение было заманчивое и, к слову говоря, в то время, вполне осуществимое. У меня, как раз, один за другим, вышли три романа. Поэтому, не ломаясь даже для приличия, я ответил согласием, тем более, что куплю-продажу Эльвира Борисовна обещала максимально облегчить и ускорить через сына какой-то своей знакомой, который служил чиновником в нужной конторе.
Сын знакомой действительно здорово помог. И, хотя все прошло не так быстро и гладко, как мы хотели, (пришлось все же побегать по разным инстанциям), тем не менее, удалось избежать многих нудных очередей за какими-то бесполезными справками, и вот уже больше года я являюсь владельцем значительно увеличившейся квартиры.
Правда, почти такой же долгий срок, увязаю теперь в ремонте. Денег от продажи последнего романа хватило только на дверной проем и одну комнату. А дальше тишина. Екатерина, оживившаяся было при мысли, что я «вью гнездо» для будущей семьи, снова сникла. Но, что я мог поделать? Издатель торопил с новой книгой, и я бы, наверное, уже закончил её, кабы не дурацкий эпизод с журналом «Мой дом».
Ох, тщеславие, тщеславие – воистину, это любимый порок дьявола.
С появлением больших денег у некоторых слоев населения, снова проснулся интерес к антиквариату. И журнал, идя в ногу со временем, решил сделать серию статей о коллекционерах, живших когда-то в N. Об этих грандиозных планах я узнал от Екатерины, которая была знакома с редакторшей, и, подозреваю, что именно с её дружеской подачи в журнале приняли решение одну из статей в очередном выпуске посвятить моему дяде.
Со мной созвонились, прислали корреспондента – сопливого щенка Алешу, и фотографа. Эти двое целый день ходили по квартире, все снимали, записывали и восторгались: «Ах, Лувр!», «Ах, Эрмитаж, Оружейная палата!». А я, раздуваясь от гордости, вышагивал следом, давая показания, какой эпохе и даже, каким людям принадлежали в прошлом вещи из дядиной сокровищницы – благо он мне, дурню, оставил подробнейший каталог.
А потом журнал вышел, и в нем, почти три разворота заняла статья о Василии Львовиче и его коллекции. Говоря о дяде, корреспондент Алеша, (будь он трижды неладен!), на эпитеты не скупился. То и дело мелькало: «крупнейший», «виднейший» и, «несправедливо забытый при жизни». А я получился этаким умненьким всезнайкой и тоже в обрамлении прилагательных, типа: «Наш знаменитый, наш талантливый земляк». Фотографии, как назло, были великолепными! На них знакомые с детства вещи смотрелись куда как значительней. И я, переворачивая страницы, по-барски одобрительно кивал головой, приговаривая: «прекрасно, прекрасно…».
Конечно же, не удержался от соблазна показать журнал всем друзьям и знакомым. Многие его уже видели, а те, кто не видел, хоть и бывали у меня дома неоднократно, все равно листали с интересом и тоже признали, что на фотографиях интерьер квартиры выглядит намного солидней. Статью хвалили, меня поздравляли, хлопали по плечу и обещали подарить коробку с музейными тапочками.
Все было прекрасно до тех пор, пока журнал не оказался в руках у моего издателя.
– М-да, брат, – сочувственно проговорил он, поглаживая глянцевую обложку, – боюсь теперь мы нового романа не дождемся.
– Это почему ещё? – удивился я.
– А когда тебе его заканчивать? Ты теперь решетки на окна будешь ставить, сигнализацию по всем углам проводить и сидеть у двери вместо сторожевой собаки, потому что ворье сейчас ушлое, и им обычная собака не помеха.
– Вы шутите, надеюсь? – высокомерно спросил я, выкладывая перед ним распечатку новых глав.
– Как знать, – издатель покосился на жидковатую стопку. – Но эти издания, (он потряс журналом), настоящий путеводитель для воров. Причем, я не карманников и прочих домушников имею в виду. Коллекционеры ныне не чета твоему дяде, в средствах не слишком стесняются. Наймут профессионалов – и… крышка! Хорошо, если просто квартиру обнесут, а ведь могут и… ку-ку…
Издатель сделал выразительный жест – большим пальцем по горлу – а потом все же рассмеялся, давая понять, что шутит.
Но мне уже было не до шуток!
Идя домой, я последними словами клял себя – зачем согласился на эту публикацию – потом Екатерину, и, наконец, корреспондента Алешу, додумавшегося написать: «К сожалению, невозможно в одной статье дать представление обо всех уникальных экспонатах, собранных и отреставрированных Василием Львовичем Калашниковым. По известным причинам мы не публикуем наиболее ценное…». По известным причинам! Господи! Да, как же я раньше-то на это внимания не обратил! Идиот, Алеша, дал прямую наводку – дескать, видите вы на фотографиях только цветочки, а там ещё такие ягодки скрыты, что ого-го!… Ох, дурак! Ну и дурак! Да и редакторша тоже хороша! Вот сейчас приду, позвоню ей и поинтересуюсь, сама-то она понимает, какие призывы печатает?
Дома я, почти рыча от бешенства, первым делом осмотрел замки, не ковырялся ли кто? А затем прямиком направился в квартиру Эльвиры Борисовны. (Странное дело, сознание упорно отказывалось воспринимать её, как собственность, хотя большую часть времени я теперь проводил там).
В отремонтированной комнате сосредоточилось все то, что не вписывалось в интерьер дядиной коллекции – компьютерный стол, со всем, чему на нем полагалось быть, машинка для капуччино, радиотелефон, огромный, наворочанный пылесос, не влезающий ни в одну кладовку и телевизор с огромным плоским экраном. Из антикварной обстановки сюда затесался только изогнувшийся ужом комод карельской березы, которому пришлось уступить свое место новой двери. На комоде теснились, заслоняя друг друга, старинные рамочки с фотографиями. Дедушка, бабушка – молодые и такие, какими я их запомнил, мама, отец, элегантно закинувший ногу на ногу; дядя – один и со мной; все мы вместе, Екатерина…. Её фотографию я сердито переставил на компьютерный стол и включил телевизор. «Надо бы поработать», – шепнул внутренний голос, но это было, скорее, «для прессы», потому что работать в таком состоянии невозможно. Настроение испорчено, сознание отравлено.
«Спокойно!», – приказал я сам себе и, порывшись в бумагах, выудил телефонный справочник. Где-то был записан телефон одного знакомого, который хвастал какой-то совершенно немыслимой охранной системой. Я для того и номер записал, чтобы при случае навести справки. Интересно, почему же не навел? Впрочем, тогда ещё жила по соседству Эльвира Борисовна, которая на каждый шорох в подъезде выглядывала в глазок, и была уже установлена гигантская металлическая дверь с несусветно сложным немецким замком, который казался надежней всего на свете…
– Аллё! – крикнул я в трубку, когда гудки на другом конце провода прекратились, и мне ответил женский голос. – Могу я услышать Игоря?
– Игорь уехал в командировку за границу. На пять лет.
– А вы, простите, кто? Его жена?
– Нет, жена с ним. А я сестра. Живу здесь, пока они не вернутся.
– Ах, так…. Ну, простите, до свидания.
Я постучал трубкой по подбородку. Выходит, не такая уж и надежная система охраны, раз Игорь сестру поселил для верности. Черт! У кого же ещё можно узнать про эти проклятые сигнализации? Юрка Семенов связался с милицией, поставил квартиру под охрану и теперь каждый раз отзванивается, когда приходит домой. Мне такое противопоказано. Я забываю все на свете и, рано или поздно, стану похож на Толстовского пастушка. И, когда придут настоящие волки, в милиции решат, что этот придурочный писатель опять забыл отзвониться и махнут на все рукой…. Хотя, наверное, не махнут. И даже, может быть, приедут. Но, раз есть сомнения, значит, останутся и страхи. А мне необходимо избавиться именно от них.
Завести собаку? Но ведь её сначала нужно вырастить, воспитать, да не самому, а с опытным инструктором. Ходить гулять ни свет, ни заря, не забывать про корм…. Господи, да я себя, иной раз, забываю накормить, не то, что собаку! А если она ещё и грызть все начнет? Значит, это тоже не выход.
Нанять охранника? Мне это не по карману. А даже если и было бы по карману, то достаточно вспомнить, что на всякие деньги есть деньги ещё большие. И, когда мою квартиру обчистят, охранник, подлечив на лице и теле бутафорские синяки, поедет, с легкой душой, отдыхать на какой-нибудь экзотический курорт…
Вдруг фамилия, прозвучавшая в телевизоре, привлекла моё внимание. Паневин? Алексей Николаевич? Неужели тот самый собиратель открыток, который играл с дядей в бридж по субботам? Что это там говорят? «Ограблена вдова коллекционера». Вот как. Выходит, он умер уже…. А это сама вдова…. Что это с ней? Почему в больнице?
Я сделал звук погромче.
«… Уже в больнице, придя в себя, Елена Георгиевна сообщила, что грабители искали коллекцию городских гербов, которую собрал её муж. Некоторые гербы из этой коллекции выполнены в виде памятных медалей из драгоценных металлов и камней. По оценкам специалистов, стоимость похищенного составляет…».
Пульт выпал у меня из рук.
– Это знак! – застонал я, хватаясь за голову.
Не может быть, чтобы по простому совпадению, именно сейчас, именно когда я сижу и боюсь ограбления, мне показывают кражу в доме дядиного бывшего приятеля. И, как нагло-то все проделано! Пришли и просто спросили: где? А потом по голове – ба-бах! Хорошо хоть не убили, но шок, больница, унижение…
Я вскочил и забегал по комнате.
Как все это пошло! Может, все-таки, пойти в милицию? А-а, черт! Достаточно посмотреть наши сериалы, чтобы понять, что это дохлый номер. Вот, когда обворуют, тогда они, может быть, и зачешутся. Но я-то к тому времени запросто могу лежать с проломленным черепом!
Проклятье!
От телефонного звонка внутри все упало, точно оборванные жалюзи.
– Сашка, ты где?!
Голос у Екатерины обиженный и негодующий.
– Все уже давно собрались, ждем только тебя! Лешка рвет и мечет…
Вот дьявол!
Я хлопнул себя по лбу. Совсем забыл из-за этих переживаний! Леха Сомов – старый приятель ещё со школы – отмечает сегодня свой день рождения! У нас с ним разница в один день, и раньше мы всегда объединялись для празднований. Но, с тех пор, как Лешка женился, пришлось, как он высокопарно выражался, «разломить хлеб дружбы надвое»…
– Я не приду.
– Почему?
– Работаю.
Екатерина замолчала. «Обиделась, наверное», – мстительно подумал я, но тут трубка загудела Лехиным басом.
– Мерзавец, а мерзавец, тебя сколько можно ждать?
Я тяжело вздохнул и сменил сухой тон на задушевный.
– Леха, брат, я тебя от всей души поздравляю…
– Да мне плевать! Корм стынет, пойло греется, народ ропщет. Старик, мне все труднее и труднее контролировать ситуацию!
– Это потому, что пойло, судя по всему, греется уже в твоем желудке, и давно, – буркнул я.
– А имею право – я именинник.
Леха засопел и сбавил тон.
– Нет, ну ты что, правда, не придешь?
Я вздохнул ещё тяжелее.
– Нет, Леха, не приду.
– А если я тебе этого никогда не прощу?
– Ты так гнусно не поступишь. Ты – друг, а друзья должны прощать и понимать. Я только что примчал от издателя. Тоже, кстати, грозится «не простить». И дома кое-какие проблемы нарисовались…. Короче, Леха, я, правда, от всей души…. Подарок за мной, но… увы…
– И-ех-х-х! – досадливо проскрипел Лешка и отбился.
«К черту все!» – подумал я. Выключил телефон, упал в кресло и запустил компьютер.
Екатерина ласково и печально смотрела на меня из рамки.
– Сама виновата, – сказал я ей и застучал по клавишам.
До поздней ночи велась борьба между мной и книгой. Победила книга. Она никак не хотела писаться. Диалоги получались тяжеловесными, очередная сцена грозила стать затяжной и нудной, а все в целом катастрофически разваливалось.
Наконец, я сдался.
За окном стемнело. По телевизору урчал какой-то слезоточивый фильм, и лифт в подъезде стал хлопать дверью значительно реже.
Пора принимать душ и – спать.
Но, когда я выходил из ванной, те самые первые дядины часы бархатным боем сообщили, что наступила полночь. И мистический ужас снова пополз по всему телу, начинаясь где-то в копчике и стремительно взбираясь вверх, к мозгу.
Время нечисти. Время страха!
За окном, как-то крадучись, проехала машина. Почему она так поздно? Остановилась. Дверь воровато хлопнула…
Я осторожно выглянул и увидел на лавочке, в тускло освещённом дворе, две сумрачные фигуры. А что если они ждут, когда в моих окнах погаснет свет? А потом прокрадутся сюда, вскроют дверь…. Хотя, нет, немецкий замок им не вскрыть. К тому же, я поставил на предохранитель…. Или не поставил?
Пришлось идти, проверять.
Все было в порядке, вот только вид металлической двери вызвал в памяти воспоминание о рабочих, эту дверь устанавливавших. Один из них, на вопрос, насколько дверь надежна, весьма авторитетно заявил, что вскрыть можно любую, было бы время, опыт, да инструмент подходящий…
О-о-о!!!
Я, матерясь, запер вторую дверь. Этак до паранойи дойти недолго!
Решительно вернулся к окну и выглянул, не таясь. Фигуры по-прежнему сидели на скамейке, только теперь они страстно обнимались. «Ну вот, пожалуйста, паранойя в чистом виде! Все, хватит на сегодня страхов! Немного почитаю и спать!».
Раздеваться я, правда, не стал. И свет в бывшей дядиной комнате не погасил. Пусть думают, что пишу. Да и постель стелить не стану – под пледом, на диване, тоже неплохо. Ничего, одну ночку «побомжую», а утром, глядишь, от ночных испугов и следа не останется.
Но до утра было ещё далеко, а страхи, стоило мне погрузиться в дремотную тишину, мгновенно материализовались в виде неясных, подозрительных шорохов из коридора. Я ворочался, скрипел зубами, старательно закрывал глаза, пытаясь удержать сбегающий сон. Но через минуту снова распахивал их, потому что казалось, что в замочной скважине кто-то тихо ковыряется.
В конце концов, сон окончательно сбежал, махнув на меня рукой, и ничего другого не осталось, кроме как лежать, смотреть на знакомые с детства завитки шкафа и предаваться невеселым размышлениям.
В зеркалах под этими завитками уже давно не отражались никакие образы. Может, перебравшись в мои ранние рассказы, они так и остались жить в тех сборниках, в которых их напечатали. А может, теперь, когда я пишу совсем другие книги, они просто затаились, понимая свою ненужность.
«Сашенька, милый, кому сейчас нужны мумии из прошлого? – восклицал издатель, возвращая мне очередную повесть. – У вас же прекрасный язык и стиль. Пишите то, что станут покупать. Я читал ваши статьи в газете – это прекрасно! Чечня, боевые действия, яркие образы…. Это сейчас очень модно, и вам это хорошо удается. Не тратьте время на пустые забавы, напишите что-нибудь героическое, наше…».
Да, Чечня это наше.
После дядиной смерти мне пришлось снова вернуться в N и устроиться в местную газету. Спасибо школьным и студенческим публикациям – взяли без вопросов. А тут война в Чечне. Я сам напросился туда корреспондентом, требуя направить меня только на передовую.
Ясное дело, на мои требования ответили категорическим отказом, и первое время пришлось отираться в каком-то связистском штабе, за несколько километров от Грозного.
Навалился совсем другой мир – страшный, безумный, на первый взгляд, совершенный своей особенной упорядоченностью, но, в то же время, чудовищно бестолковый. Именно благодаря этой бестолковости, мне удалось перебраться поближе к центру военных действий. И началось приобщение.
Сначала, к героическому. Когда, очутившись среди своих, почти что, сверстников, я вдруг почувствовал себя безмозглым щенком в стае матерых волков. Особый язык, особые жесты, образ жизни, ценности и совершенно особенный страх. Он был не тем страхом, который заставляет бежать, сломя голову, подальше от опасности. Этим мальчикам бежать было некуда. Но именно природа этого особенного страха отмежевала меня от них, заставив задуматься о вещах совсем не героических. Что принуждало вчерашних школьников перебарывать свое естество и идти умирать в войне, здравого смысла в которой практически не было? Что они защищали? Родину? Близких? Но такая ли уж страшная беда грозила и родине, и близким от маленькой республики, решившей проявить своеволие? Все страшное вылезло потом, когда война уже была развязана…
В газетах, которые получал отдел по воспитательной работе, я без конца читал статьи, написанные общими фразами, но густо усеянные эпитетами, вроде «героические действия», «интернациональный долг», «бессмертный подвиг». Подробно расписывались зверства местных боевиков, причем, этих самых боевиков тут же, как плевела от зерен, отделяли от «простых» чеченцев. Что подразумевалось под словом «простые», я никогда не понимал, ни в школе, слушая, как учитель истории отделяет «простой» народ от дворян, ни потом, в годы пресловутой перестройки, когда «простых» рабочих опрашивали о способах переустройства России. Но здесь, в Чечне, читая газеты, я начал понимать другое. Все разглагольствования о героизме и бессмертном подвиге служили фиговым листочком и прикрывали вполне конкретные призывы – убивай, подавляй и снова убивай! Ты крутой, ты в касте, ты – не как другие – тебе оказали честь, послав на войну! И тем мальчикам, которых я сначала принял за матерых волков, и в которых потом рассмотрел самый естественный страх перед смертью, было легче думать, что они продолжатели дела отцов, защищавших Родину в годы второй мировой, чем размышлять о том чудовищном, что уже начало ломать их жизни. Ведь возвращаться им придется в мир, который после всего этого, покажется чужим, равнодушным, совсем не нуждающимся в их подвиге.
Я хорошо помню тот мой первый страшный день.
Шел дождь, и убитые лежали на земле, прямо в лужах. Вокруг бегали, ходили, отдавали какие-то приказания, а я стоял и тупо, без слез, смотрел. Может, конечно, слезы и были, но за дождем я их не чувствовал. Просто смотрел и смотрел на безжизненные холмики тел.
Было дико.
Господи, я же столько раз об этом читал, но чтобы так страшно…. Ещё вчера, вот только вчера, они пили какую-то дрянь из кружек, матерились, толкались локтями и ржали наш пошлостями, как дикари. А теперь лежат в лужах, и им все равно.
Те, кто выжил, сидели поодаль. Они не курили нервно, не сплевывали сквозь зубы, утирая скупые мужские слезы, не бились в истерике. Просто сидели…. Не вместе…. Каждый, как изумленный странник, выброшенный на незнакомый берег и ушедший глубоко в себя. И тогда я понял, что, все-таки, они – каста. Каста людей, которые ещё вчера были единым, живым организмом, связанным невидимыми нервами. А теперь в этом организме зияют дыры, вырванные по-живому. И нужно время, чтобы кровоточащие обрывки зажили, протянулись сквозь эти дыры и срослись снова. Но срастутся ли они там, где умение убивать и выживать не так уж и нужно; где их нынешний, покалеченный, выведенный болтунами-политиками живой организм должен будет сам собой развалиться. И где на каждый кровоточащий разрыв будет солью сыпаться обычная мирная жизнь?
Мне стало горько.
Из Чечни возвращался в подавленном состоянии. Со мной вместе ездил Вовка Плескарев – щуплый и плешивый карьерист, который всю командировку проторчал при штабе связистов от ФАПСИ, считая, что их лучше охраняют. В самолете он радостно потирал мелкие бабские ручки – «Санек, я материальчик насобирал – пальчики оближешь!». А я смотрел на него и думал, что, если напишу о своем, то мне эти самые пальчики попросту оборвут. Потому что правда не нужна никому. Потому что все мы живем по законам того же самого страха, который не гонит дальше от опасности, а чтобы было не так страшно, заставляет надевать розовые очки. Сквозь эту «защиту», как в зеркале тролля из «Снежной королевы», безобразное кажется прекрасным, а истина кривляется и корчит рожи. И всем делается очень удобно читать и разглагольствовать о героизме и подвиге, потому что в этом одна только гордость и никакого унижения.
Но мне-то, что было делать?!
С потерей иллюзий, становилось совершенно невозможно восхвалять действительно героическое. За истинный подвиг было обидно – этот бы духовный потенциал, да на мирную жизнь, глядишь, она бы стала и лучше и чище. Но совсем горько делалось за другие подвиги, те, что были обусловлены нерадивостью командиров, самодурством какого-нибудь упертого «чина», неразберихой, или халатностью.
Господи, думал я, да на кой черт матери рыжеватенького парня, которого прозвали Вологдой за то, что, отправляя письма, он всегда напевал: «Где же моя ненаглядная, где?…», знать, что её сын «пал смертью героя»?! Уж лучше бы он тихо и незаметно, но жил. К тому же, о каком героизме может идти речь, если хмельной офицер перед перегоном попросту забыл одеть положенный по уставу бронежилет. Опомнился только в БТРе и снял его с Вологды – «вдруг командование какое…». А когда напали, в неразберихе обстрела как-то забыл об этом обстоятельстве, крича на Вологду и подгоняя его пистолетом к смертоносному люку. Убитому рыженькому мальчику теперь наплевать, что офицеру объявили взыскание. Кто знает, может быть, вырвавшись из пробитой груди, душа Вологды облегченно вздохнула, что покидает этот сумасшедший, несправедливый мир…
Напиши я о таком, вот бы вой поднялся! «Клевета! Поклеп! Ты не гражданин! Тебя послали писать правду, а ты увидел только худшее, и из единичного вывел целую систему!». Нет уж, будь добр, засунь свою облезлую голову в песок и яви всем задницу, на которой перья краше. И никого не взволнует, что из этой задницы может вылезти только дерьмо…
Вернувшись домой, я сразу побежал к знакомой врачихе, оттащил ей пакет с щедрым подношением, взял больничный аж на неделю, и все семь дней терзал «Олимпию», печатая, как сумасшедший. Было ясно, что в редакции с меня сразу начнут требовать статью или серию очерков, но писать их не хотелось. По крайней мере, вот так, сразу. Важно было излить на бумаге ещё живое, свежее ВПЕЧАТЛЕНИЕ. Поэтому я писал, писал и писал все без разбора, без «художественного оформления» в связные абзацы. Хотелось передать двойственность ощущений так, чтобы не обидеть, не принизить памяти павших и силу духа выживших. Но, в то же время, не возносить на заоблачный постамент то, чему в нормальной человеческой жизни вообще не должно быть места.
В конце концов, из хаоса семидневных размышлений родилась и статья, и серия очерков, которые можно было предъявить в редакции. В них фиговый листочек патриотизма получился достаточно прозрачным, и нестандартные публикации вызвали немало толков. Пришлось даже ходить объяснять свою гражданскую позицию на «самый верх». Но журналистика учит многому. На тоскливое замечание управленца по печати о том, что «раньше он бы меня за такое посадил», я успешно отболтался, перевернув собственные мысли с ног на голову, отчего они стали более «понятны и приемлемы». Был милостиво отпущен и даже стяжал славу в определенных прогрессивных кругах. Тогда-то мой издатель и посоветовал писать «про наше».
А тут ещё и Лешка Сомов – друг закадычный – забежал как-то «на огонек», и, пока я возился на кухне, нагло сунул нос в мои Чеченские наброски. «Старик! – орал он потом, роняя изо рта куски непрожеванной колбасы, – Это же класс! Твои статьи, по сравнению с этим, просто какой-то советский партийный доклад! Ты гад, если не напишешь книгу! Все эти „Слепые“, „Косые“, не знаю там, „Сопливые“, – одна туфта! Базарной мафии и в жизни завались. А вот чтобы герой – человек из тех, что ещё не сбились в собачью стаю. С умом, с душой, со свежим взглядом – этого, брат, не хватает. По этому давно уже душа скучает. А у тебя такой материал! Пиши!».
И я вдруг загорелся.
О Чечне писать не хотел. На то были две причины. Во-первых, только ленивый тогда к этой теме не приложился, а во-вторых, существовала опасность «увязнуть» в своих размышлениях и далеко уйти от идеи.
А идея родилась сразу.
Мой герой – собиратель старинного оружия – в поисках сабли генерала Муравьева, едет на Кавказ, где, роясь в событиях дней прошедших, вдруг совершенно по-новому начинает видеть события дня сегодняшнего. При этом, главной задачей было избежать нравоучительных параллелей и однозначных выводов. Книга не должна была задавать вопросы и отвечать на них. Просто толчок к размышлению – какими мы становимся, и такие ли мы на самом деле?
Героя я сначала хотел назвать в честь дяди, но потом передумал. Василий Львович оружие не любил и никогда его не собирал. Он считал, что человечество много потеряло, растрачивая свои мозги на его совершенствование. Но меня старинные клинки всегда завораживали. Ружья – не так, а вот мечи, сабли, шпаги приводили в какой-то священный трепет своими изяществом и отточенной красотой…. Поэтому герой стал зваться Николаем Лекомцевым, который, как и я, писал книги на исторические сюжеты. Волею судеб, он оказывался втянутым в военные действия, где его романтическая душа познавала все – и медные трубы бессмысленного подвига, и озлобленность, и превращение в матерого зверя, когда накопленная жестокость достигает такого уровня, за которым Личность пожирается…. Но Человек все же возобладал. Мучительно и болезненно, он пробился сквозь все наносное, израненный сомнениями, но обновленный. И опорой в этом возрождении стал для него тот роман о генерале Муравьеве, который он не переставал сочинять даже тогда, когда все это казалось ненужным и бессмысленным. Он словно чувствовал, что спасется только если не выпустит из мыслей образы других людей. Которые жили, когда понятия о чести и долге были не просто понятиями, а нормой жизни, привитой воспитанием всего того поколения; когда духовными наставниками были воистину великие, а благородство духа ещё не смешивали с наивностью.
Я был счастлив, пока писал все это. Слегка, конечно, побаивался, что меня сочтут идеалистом, но жесткость стиля, и самое главное, глубокая собственная прочувствованность всех духовных блужданий Николая Лекомцева, не оставили в книге ничего такого, к чему можно было бы прицепиться и сказать: «Э-э, батенька, вы о чем-то не том мечтаете. Не жилец ваш герой в нашем времени».
– Знаете, Александр, очень неплохо, – сказал издатель, когда я, пытаясь скрыть волнение, пришел к нему за приговором своей книге. – Это ход с романом в романе, хоть и не нов, но у вас очень уместен. Ожесточаясь, ваш герой пытается ожесточить и своих персонажей, но не может. Хорошо прочитывается обратный процесс – персонажи сами воздействуют на своего создателя, возвращая ему человеческое достоинство. Это звучит. И стиль неплох, хотя, местами, очень уж жестко. Зато дает пищу для размышлений…. В общем, думаю, это пойдет…
Книга разошлась быстро. Даже была переиздана и привлекла внимание солидных столичных издательств. А потом…. Потом от меня потребовали продолжения темы.
– Видишь, это продается! – стучал по обложке издатель. – Ты не должен почивать на лаврах. Распахивай пашню, пока с неё клюют! Пусть твой Лекомцев поищет что-нибудь ещё. Тема войны исчерпана, но в жизни много острых моментов. Поройся в своих исторических рассказах, что там с чем современным можно увязать, и – вперед! Я жду тебя с новым романом…
Даже не знаю, почему тогда я на все это повелся? Может, действительно возомнил, что могу воздействовать на духовное развитие читателей? Или обрадовался возможности вернуться к любимому копанию в истории? Но, скорей всего, произошло самое банальное – успех вскружил голову. И, вместо того, чтобы собраться с мыслями и восстановить выпотрошенную душу для нового романа – совсем другого, но такого же прочувствованного, как первый, где нет ни одной случайной, не обдуманной десятки раз мысли – я сел писать приключенческий сериал. Писал очень быстро, (коньюктура задержек не терпит), не замечая, как, от тома к тому, пустеют мои книги…
Черт! Что там такое?!
Внезапно, на площадке хлопнула дверца лифта!
Время – половина второго ночи.
Я слетел с дивана и, в несколько прыжков, подскочил к двери.
Никого. Хотя, лифт остановился на моем этаже, я это прекрасно слышал.
Глазок давал достаточно широкий обзор, но «мертвые зоны» были. И именно у самой двери, по краям.
Извиваясь и так, и этак, я пытался увидеть хотя бы плечо, или бок того, кто мог затаиться. Но никого не было. В таком случае, интересно, куда мог деться тот, кто приехал?
Пробежала подъездная кошка, заставив меня вздрогнуть. Кто-то её спугнул! Бежала она снизу… Может, лифт, все же, остановился там? В квартире подо мной живет семья…. Их дочь уже достаточно повзрослела, чтобы иметь кавалера. Что если, они там сейчас целуются вовсю, а я тут стою, как дурак, с босыми ногами, по которым нещадно дует, и боюсь лишний раз вздохнуть, чтобы не пропустить ни малейшего шороха!
Я нарочито громко чертыхнулся и пошел обратно.
Только ближе к утру, когда по всему подъезду захлопали двери квартир, и лифт неустанно грохотал то в одну сторону, то в другую, развозя уезжающих на работу соседей, сон милостиво вернулся ко мне, выключив действительность, как переработавшую лампу.
Я проспал до самого обеда. Проснулся и удивился, что никто до сих пор не позвонил. Потом вспомнил про отключенный телефон, порадовался этому обстоятельству – по крайней мере, никто не мешал – умылся и позвонил Екатерине, чтобы узнать, не искал ли меня кто-либо.
Оказалось, никто не искал, и она, кстати, тоже. Но заявлено это было таким тоном, по которому я сразу догадался, что Екатерина звонила за утро миллион раз и теперь дуется за то, что я был в отключке. Спросила, не без ехидства, как работалось, но, видимо, что-то в моем тоне её разжалобило, потому что, после короткой паузы, явно борясь с желанием подуться ещё, Екатерина все же спросила, не зайти ли ей вечером, и не купить ли что-нибудь на ужин?
– Конечно, приходи! – завопил я, радуясь, что не придется коротать в одиночестве ещё одну ночь. – Даже еду можешь не тащить – найдем что-нибудь в запасах ко дню рождения.
Екатерину такая страстность приятно удивила – уже давно я не радовался сообщениям о её приходе так, как в первые дни знакомства. Велела ждать её часам к семи. Однако, уже в шесть, искренне огорченная, перезвонила, чтобы отменить визит. Редактор журнала «Светская тусовка», в котором Екатерина с некоторого времени вынуждена была работать, отправил её освещать какое-то сборище в ночном клубе.
– Ты что, раньше об этом не знала? – обиделся я
– Не знала! Ещё вчера говорили, что обещанный попсовый звездун из Москвы к нам не приедет. А сегодня после обеда позвонили и осчастливили – приедет, и даже с приватным концертом. Но вечером желает непременно оттянуться с местными фанатами.
– А разве перед концертом спать не полагается? – зло спросил я.
– За них фонограмма спит, – вздохнула Екатерина. – Думаешь, мне очень хочется туда идти? Я весь сценарий наизусть знаю…
– Так возьми, по-быстрому, интервью и смывайся.
– Не могу. Бумбокс велел обязательно дождаться, когда этот звездун напьется до поросячьего визга, и сделать, как он выразился, «папарационные снимки». Он мне за них золотые горы обещал. Этот звездун петь не умеет, но зато скандалит талантливо…
Я сердито молчал. Бумбокс редактор суровый. Сказал, значит, надо делать. А Екатерина всегда была добросовестной, даже в том, к чему душа не лежала.
– Саш, ну что ты молчишь? – взмолилась она. – Скажи что-нибудь.
– Что тут скажешь? Тусуйся, – буркнул я и бросил трубку.
Моего раздраженного состояния испугалась даже книга. Глава, которая целый день капризничала и упрямилась, вдруг сложилась, заговорила коротко и ясно, и Николай Лекомцев смог, наконец, достойно и логично выпутаться из одной ситуации и создать предпосылки для другой.
Я так разошелся, что отстучал даже главу с историческим отступлением, благо необходимый материал был заготовлен уже давно. Но дальше этого дело не пошло. Книга снова заупрямилась, считая, видимо, что достаточно меня побаловала.
Повозившись ещё немного, я кое-как затащил своего героя в начало следующей главы, а потом, махнув на все рукой, сдался. Шел первый час следующего дня. Спать не хотелось. Пощелкал пультом и очень удивился, обнаружив на одном из каналов совершенно детский фильм. Потом посмотрел что-то, якобы эротическое, где, далеко не юная пара, ласкала друг друга с тем же пылом, с каким наемные рабочие отделывают чужую квартиру. Пришлось на все это плюнуть и идти в ванную.
Воды не было.
Часы пробили два.
Вспомнилось, вдруг, что уже наступил мой день рождения. И почему-то стало ужасно тоскливо. Гостей сегодня не намечалось. Друзей я давно предупредил, что не в финансовом состоянии закатывать банкеты, как большие, так и маленькие, хотя и прикупил, на всякий случай, кое-какую снедь. Но право поздравить самого себя уже имею. Поэтому пошел на кухню, достал заготовленную бутылку водки и напился. Пошловато, конечно, зато вчерашние страхи перестали мучить…
Заснул я около пяти, а уже в девять мой издатель сорвал меня с дивана звонком с поздравлениями и расспросами о книге.
Так что, нет ничего удивительного в том, что свое тридцатипятилетие я встретил заклеивая лицо, которое порезал дядиной антикварной бритвой и собственной похмельной, непроспавшейся рукой.
Вот в этот-то момент в дверь и позвонили. Причем, так уверенно и настырно, что я, то ли по старой привычке, когда ничего не боялся, то ли убежденный, что пришла Екатерина, распахнул её, даже не спрашивая, кто там и что хочет.
На пороге стоял совершенно незнакомый мужчина со странным блеском в глазах, в нелепой, несвежей одежде, и застенчиво улыбался.
– Здравствуйте…. Простите, вы Александр Сергеевич Широков?
– Да.
– Тогда, ещё раз, здравствуйте. А я – Николай Гольданцев.
Глава вторая. Гольданцев
– Кто, кто? – переспросил я, хотя прекрасно расслышал и сразу понял, кто именно ко мне пришел.
– Гольданцев. Николай, – повторил мужчина. – Ваш дядя и мой отец – Олег Александрович – были когда-то очень дружны.
– Ах, да…
Я потер лоб рукой, соображая, что же теперь делать?
В предсмертном дядином письме ясно было сказано – гнать в шею. Но, как, скажите на милость, прогнать человека, который, хоть и выглядит не совсем приятно, все же кажется вполне безобидным и ничего плохого пока не сделал?
– Вы по какому-то делу? – промямлил я, чтобы заполнить неудобную паузу.
– Да! – с жаром воскликнул Гольданцев. – И, поверьте, Александр Сергеевич, это дело заинтересует вас чрезвычайно!
– М-да?..
Я недоверчиво усмехнулся, все ещё надеясь, что удастся как-нибудь выполнить дядину волю. Но тут нежданный гость выложил свой главный козырь.
– Слышали, что случилось с Паневиной? Вам ведь тоже нужно обезопасить свою квартиру? А я знаю способ, надежней которого нет ничего на свете.
И, видимо для того, чтобы пресечь мои возможные отнекивания, выставил перед собой, как щит, пресловутый номер журнала «Мой дом».
Поколебавшись ещё мгновение, я отступил.
– Проходите.
Мужчина юрко перемахнул через порог и сам запер за собой дверь.
В комнатах он со знанием дела осмотрелся, прищелкнул языком.
– У вас здесь красиво!
Причем, прозвучало это так, словно он, лишний раз, желал напомнить, что мне есть о чем волноваться.
Я собрал с кресла раскиданные на нем вещи и предложил Гольданцеву сесть. Однако, сам садиться не стал – тоже давал понять, что на глупости тратить время не намерен, как не намерен затягивать беседу вообще. Однако Гольданцев мой маневр проигнорировал. Молча и неторопливо вытащил из кармана потрепанное портмоне, выложил его на стол, а затем, удовлетворенно откинувшись в кресле, почти приказал:
– Возьмите.
Я удивленно поднял брови.
– Не понял.
– Возьмите портмоне. И, если вам это удастся, я немедленно поднимусь и уйду.
Пожав плечами, я подошел к столу, протянул руку и… Моя ладонь легла на столешницу рядом с портмоне, даже не коснувшись его.
– Попробуйте ещё раз!
Гольданцев подался вперед, и блеск в его глазах сделался совершенно безумным.
Озадаченный, я поднял руку, сосредоточился и… Ладонь снова оказалась лежащей на столешнице.
– Ещё! – почти взвизгнул Гольданцев.
Меня покоробила такая экзальтация, но интерес уже появился. Решив изменить тактику, я провел рукой по столешнице, намереваясь захватить портмоне. Но каким-то непостижимым образом рука изменила траекторию движения, а пальцы сами собой сжались в кулак и благополучно миновали проклятую вещицу. При этом, сам я не чувствовал ровным счетом ничего. Все происходило абсолютно естественно, как если бы я хотел поступить именно так, и никак иначе.
– Это что, гипноз какой-то?
Гольданцев озадаченно посмотрел на меня.
– А правда.., как-то не подумал. Давайте-ка, для чистоты эксперимента, я отойду к окну и отвернусь. А вы попробуйте взять портмоне ещё раз.
Он одним скользким движением очутился у окна, стал ко мне спиной и даже прикрылся ладонями, как шорами.
Портмоне лежало на столе, но взять его я все равно не смог. Даже с пятой попытки, когда решил помочь себе другой рукой. Вещь явно была чем-то защищена. И ради такой защиты я готов был слушать этого Гольданцева, что бы он ни начал говорить. Слова из дядиного письма на короткое мгновение предостерегающе вспыхнули в памяти, но было уже поздно.
– Возвращайтесь, – сказал я обреченно. – И объясните, наконец, что все это значит.
– Сейчас объясню.
Гольданцев возвратился в кресло, сгреб со стола портмоне и сунул его обратно в карман.
– Все очень просто, – начал, было, он, но вдруг замолчал и коротко засмеялся. – Удачное вышло начало, да? Совсем, как Воланд. Помните, так он начал свой рассказ про Понтия Пилата. И это очень знаменательно Я ведь тоже хочу увести вас в далекие дебри Римской истории. Только не к Пилату, а к императору Марку Аврелию. Это имя что-нибудь говорит?
Я пожал плечами. Конечно, имя Марка Аврелия совсем незнакомым не было, но, спроси меня сейчас Гольданцев, в каком веке он жил, и чем особенным прославился, я бы, пожалуй, не ответил. Однако неучем выглядеть не хотелось, поэтому я напустил на себя многозначительный вид и важно ответил:
– Кое-что говорит, но я не понимаю, какое отношение…
– Сейчас, сейчас, – перебил Гольданцев. – Вы не слишком удивляйтесь такому моему вступлению. В наши дни каждый подросток, изучивший досконально устройство компьютера, или любого другого сложного инструмента, уже считает себя умнее и цивилизованнее любого древнего грека, египтянина или римлянина. Я уж не говорю об ацтеках и майя. Но похвастать доскональным знанием того, как устроен в полном объеме сам человек, сейчас, боюсь, не может никто. Повторяю, именно в полном объеме. Об этом ведает лишь та высшая сила, которая человека создала. А, древние, были к истокам создания гораздо ближе, чем мы, следовательно, знали то, о чем нам уже никогда не узнать, потому что безалаберны и не в том направлении развиваемся. О-о! Я уверен, древние цивилизации знали ответы на все таинственные загадки сегодняшнего дня! И истоки моего фокуса с портмоне тоже лежат в далеких временах. Именно в тех, когда правил Марк Аврелий!
Почему-то принято думать, что, кроме войн с варварами, гонений на христиан и гладиаторских боев, ничего примечательного тогда больше не было. Расхожее мнение обывателя – ах, как все ужасно – сторонников Иисуса Христа отдают на пожрание диким зверям, ставят вдоль дорог распятия и копья, с насаженными на них головами варваров, и гладиаторы кромсают друг друга на потеху ленивых патрициев… Между прочим, вот вам и ещё одно заблуждение: считается, что несчастных гладиаторов содержали в ужасных условиях, как рабов. Но ведь хороший гладиатор стоил баснословно дорого. А победитель – ещё дороже, потому что, своими победами, прославлял имя владельца. Такого гладиатора император мог даже отпустить на свободу, заплатив, разумеется, его хозяину огромный выкуп. Кто же станет заведомо губить целое состояние? Нет, их опекали, берегли и заботливо лечили после ранений… Вам имя Гален знакомо?
– Нет. Кроме Спартака…
– Я так и думал! Но Гален не был гладиатором. Он был врач. Леонардо да Винчи от медицины! Многое для своей практики он почерпнул из опыта более древних народов, но многое открыл и сам, именно тогда, когда лечил гладиаторов. Это был величайший гений всех времен и народов, высокомерно и несправедливо забытый нашим напыщенным веком. А зря. Все почему-то помнят Гиппократа за его оригинальное учение о четырех стихиях организма, но, во-первых, учение это не является открытием одного лишь Гиппократа, а во-вторых, Гален во многом превзошел его, и как практик, и как теоретик.
Конечно, были и у него заблуждения – у кого их нет. Но одно ошибочное мнение о том, что центром кровообращения является печень, не может перевесить всего остального. В постижении нематериальных сил, присущих человеку, ему нет равных! Гален вывел теорию Души человеческой. И, может быть в награду за кропотливость и благородную честность, Творец позволил ему продвинуться ещё дальше!
Вы только, пожалуйста, не перебивайте меня и наберитесь терпения выслушать все, что я имею сказать. Поверьте, учение Галена имеет самое прямое отношение к нашей встрече. Не зная его, вы не сможете оценить всей мощи того, что я вам предлагаю, и всей надежности защиты, которую получит ваша квартира, если вы, конечно, решитесь эту защиту принять.
– Да я, в общем-то, и не перебиваю.., не собирался.., – забормотал я, чувствуя некоторую тревогу в душе от этих последних слов.
– И правильно! Это только для красного словца говорят, будто познание увеличивает скорбь. Как будто глупцы не скорбят! Будь так, не стоило бы учиться вообще. Нет, знания вредны лишь тогда, когда их бездумно накапливают, и от познания отличаются тем, что остаются без выводов. Умеющему делать выводы из познанного скорбеть не о чем. А вам даже выводы делать не придется – я все принес на блюдечке, в готовом виде.
Итак, вернемся к Галену.
Свое учение о Душе и теле он начал, опираясь на опыт древних греков. Те тоже делали попытки разобраться, из чего же все это состоит. И, кстати, вывели интересные теории. Например, о «гомоймерах» – невидимых частицах, упоминания о которых можно найти, в основном, у атомистов, таких, как Эмпидокл и Анаксагор. Между прочим, именно у атомиста Анаксимандра уже встречаются определения четырех основных стихий – земле, воде, огне и воздухе, которые правят миром. И из вражды или любви «гомоймеров» этих четырех стихий получаются различные организмы.
Затем, у Гиппократа, в его знаменитой работе «О природе человека» мы находим упоминания о четырех главнейших жидкостях тела – кровь, слизь и желчь, желтая и черная., качества которых он сопоставляет с качествами четырех стихий, то есть, с теплом, влагой, холодом и сухостью.
И, наконец, Гален. Под видом комментирования книги Гиппократа, он излагает собственную теорию о четырех соках тела и уравнивает их с известными типами темпераментом. Так, кровь – это сангвиник, слизь – флегматик, черная желчь – меланхолик, и желтая – холерик. И зависит тот или иной темперамент именно от преобладания в организме того «сока», которому он соответствует!
Между прочим, не могу не упомянуть, что в четырнадцатом веке Арнольд из Виллановы написал, на основе этой работы Галена, бесподобный стихотворный труд – «Салернский кодекс здоровья», где дал очень точные медицинские и психологические характеристики всем этим темпераментам. Жаль, что я не помню ничего наизусть – там есть великолепные образные сравнения! Впрочем, это довольно известный документ. При желании, вы всегда сможете его найти…
Ну, а теперь главное! То, что, почему-то считают ещё одним заблуждением Галена.
Мировая пневма!
Вы о таком, конечно же, не слышали, да?
– Не слышал, – вяло ответил я, чувствуя, что вот-вот засну.
– Естественно! – усмехнулся Гольданцев. – Кому нужно учение о духе, гуляющем по телу! Наука ведь бросила нам, как кость, уступку, что, дескать, да, Душа есть. У каждого, вроде бы, своя, но, где находится – неизвестно, откуда берется – непонятно, есть – и черт с ней! А Гален твердо знал, что организм, вдыхая пневму, (которая и есть сама Жизнь), пропускает её, как сквозь фильтры, через все основные «соки», через органы, включающие в себя качества четырех стихий, и получается Душа Человеческая, не больше и не меньше! А уж, какая она будет, напрямую зависит от доминирующей стихии, и от преобладания того или иного «сока»!
Тут недавно, в одной передаче, как сенсацию, преподнесли новость об открытии у нас в носу пазухи, которая выделяет и улавливает тончайшие флюиды, (или, по-гречески, «гомоймеры»), благодаря которым мы начинаем вдруг испытывать к незнакомому человеку, или симпатию, или антипатию. Да и сами внушаем разным людям разное к себе отношение. Ха! Хороша сенсация! Да Гален об этих носовых «гомоймерах» давно знал! И не просто знал, но умел ВЫДЕЛЯТЬ! А? Каково?! Вас это впечатляет?
– Вообще-то не очень, – признался я, все более отчаиваясь услышать разгадку фокуса с портмоне.
– Вот как, – Гольданцев презрительно сощурился. – А если я вам скажу, что Гален, живший во втором веке нашей эры, делал трепанацию черепа и снимал катаракту с глаза, это вас впечатлит?
– Ну, это.., это, пожалуй, да…
– Ага! Значит, то, что древнеримский врач делал сложные операции, (известные ещё, кстати, и майя, и ацтекам), вас впечатляет. А то, что он выделял из организма секреты, о которых современная наука до сих пор не имеет представления – это нет!
– Я не специалист.
– Но на трепанацию черепа вы – не специалист – все же отреагировали, – обиделся Гольданцев. – А все потому, что мы, почему-то, страшно боимся высунуть нос за шоры, которые навесила на нас традиционная наука. Мой отец всю жизнь от этого страдал, и не раз говорил, что мы сами себя боимся, за что и растеряли то, что имели! А вот Гален никого не боялся. Он искал! И потому находил! И щедро делился с человечеством своими находками. Четыреста трактатов! Вы только представьте себе. И это при том, что он ещё и практиковал! До нас, к сожалению, дошло только сто пятьдесят, но даже их содержание бесценно. А то, что не дошло? У меня сердце останавливается при мысли о том, что мы потеряли…
– Послушайте, – не выдержал я, – все это, конечно, очень интересно и поучительно. И я, кстати, терпеливо слушаю уже целый час. Но хотелось бы все же узнать, с чем конкретно вы пришли. Я человек занятой. У меня в работе новая книга. Издатель торопит… Нельзя ли немного сократить вашу лекцию и поговорить более предметно?
Гольданцев посмотрел на меня почти с ненавистью.
– Более предметно? – процедил он, сквозь зубы. – Жаль. Я надеялся найти в вас союзника, но… Ладно, как хотите. Расскажу вам простенькую историю из недавнего прошлого.
Чуть более двадцати лет назад три коллекционера собрались поиграть в бридж и ждали четвертого – не коллекционера, но сочувствующего. Этот четвертый вскоре пришел и выложил на стол старинную книгу Венсану де Бове «Зеркало природы». У одного из игроков, а именно, у моего отца – Олега Александровича Гольданцева – глаза полезли на лоб при виде такой редкости. Издание было прижизненным, а де Бове жил в тринадцатом веке!
Но чудеса на этом не кончились.
Сочувствующий, не кто иной, как Довгер Соломон Ильич, раскрыл перед обалдевшими коллекционерами титульный лист, на котором красовался экслибрис Франсуа Фернеля, а потом ещё и достал, заверенный экспертами, акт о том, что и пометки на полях книги сделаны рукой этого французского ученого, (кстати, большого поклонника Галена).
Но и это ещё не все!
Взяв перочинный нож, Довгер безжалостно поддел слишком толстую обложку книги, она распалась на две части, и стало ясно, что бесценная древность была, по совместительству, ещё и ларцом. А в нем находились.., угадайте, что? Пергаментные листки, исписанные латынью!
Я не удержался и фыркнул.
– Не иначе, рукописи самого Галена.
– А вы не верите? – ничуть не смутился Гольданцев. – И правильно. В такое трудно поверить. Я бы тоже посмеялся, если б не знал много больше, чем вы. Но я знаю, а потому не смеюсь.
– Естественно…
Я даже не пытался скрыть усмешку в голосе, начиная понимать, что вижу перед собой полубезумного шарлатана.
– Я потратил половину своего утра, слушая о том, чего не знаю, но в чем вы чрезвычайно сведущи…
Было ужасно обидно, и за бездарно начавшийся день рождения, и за потраченное попусту время, и за рухнувшую надежду на какую-то волшебную защиту. Я решительно встал, намереваясь выставить посетителя за дверь. Однако Гольданцев смотрел на меня с таким бешенством, что сразу предложить ему убраться, у меня духу не хватило. Кто знает, как с этими безумцами надо обращаться? Может, ласково пообещать встретиться в другой раз?
– Вы типичный представитель человечества, – процедил сквозь зубы Гольданцев. – Готовы затянуть троянского коня в свое сознание, не заглядывая ему внутрь. И, ради Бога, не стану мешать…
Он осмотрелся вокруг, ища что-то глазами.
– Дайте мне вещь, которую не жалко… Вот, хоть эту газету…
Не дожидаясь разрешения, Гольданцев схватил со стола программку на неделю, вынул из нагрудного кармана маленький пузырек с распылителем, и несколько раз брызнул содержимым пузырька на печатные листки.
– Вот вам ещё один фокус. Держите.
Он протянул мне газету, которую я, скорее инстинктивно, чем осознанно, взял… Но уже в следующую минуту до сознания дошло, что в руке ничего нет! Неужели, промахнулся из-за досады на этого психа?!
Но «псих» усмехался так, словно я и не мог взять у него газету… Он даже руки не опустил, и продолжал держать чертову программку, уверенный на все сто в моем бессилии. Ладно, попробуем ещё…
Не сводя сердитого взора с лица Гольданцева, я медленно, почти прицельно, потянулся за газетой…
– Черт! – вырвалось у меня через секунду. – Черт! Черт! Черт! Это фокус.., гипноз.., воздействие на сознание…
– Как бы не так, – зловещё прошептал Гольданцев. – Хотите, ещё на что-нибудь брызну? Только потом вы никогда уже эту вещь взять не сможете. Даже если приведете сюда десяток гипнотизеров… Они, кстати, тоже не смогут… И никто, кроме меня…
Он победно потряс пузырьком. И я, оглушенный, потрясенный, раздавленный, не мог не спросить:
– Что у вас там?
Гольданцев усмехнулся.
– Называйте, как хотите, но, думаю, лучше всего подошло бы словосочетание «концентрированная совесть».
Глава третья. Всего так много,
что лучше не разбираться
Знаете, сочиняя свои книги, я очень часто подводил героев к моменту, когда нужно было выбирать – сделать так, или иначе. И они всегда прозорливо угадывали единственно верное решение, даже если, на первый взгляд, оно и казалось абсурдным. Вы скажете: «А как иначе? Ты же сам придумал и события, и поступки, и наперед знал, какое решение будет верным». Все так. Но, почему же тогда, вложив в меня умение сочинять за других, тот, кто придумывает повесть моей жизни, оказался так жесток? Почему, в момент, когда ещё можно было остановиться, мне не был брошен спасительный канат разума?
Или его, все-таки, бросили, а я сам, вопреки воле пишущего обо мне, не захотел за него ухватиться?
Да, наверное, так.
Просто всегда хочется найти виноватого, чтобы доказать всем, (а, в первую очередь, самому себе), что ты не мог поступить неправильно. Что обстоятельства, чья-то злая воля, а лучше всего, просто Судьба, не дали возможности сделать выбор такой, какой нужно. Ведь так не хочется выглядеть и чувствовать себя болваном, особенно тогда, когда ты именно болван и есть!
В ту минуту, пялясь на треклятый пузырек, вспомнил же я, как вспоминает тонущий о забытом круге, про дядину странную смерть, про его предостережение, про смерть Гольданцева-старшего… Но ведь этот, крайне неприятный Николай, копаясь в тех же губительных тайнах, стоял сейчас передо мной живой и здоровый. К тому же, сам я ни о какой тайне ещё не узнал. Могу лишь догадываться, что в тех, сказочно появившихся рукописях Галена, содержались рецепты содержимого для таких вот пузырьков. Вероятно, Олег Александрович и мой дядя решили испробовать чудодейственные составы на себе, за что и поплатились. Но я-то на себе ничего пробовать не собираюсь! Я только поставлю защиту от воров, и все! Не мог же дядя, в конце концов, предвидеть, что сложится такая ситуация, при которой помощь младшего Гольданцева станет мне просто необходима, хотя бы ради возможности спокойно жить и работать дальше… Не мучай меня идиотские, постыдные страхи, разве стал бы я слушать этого Николая? Нет, конечно! Я бы послушно выполнил волю Василия Львовича и захлопнул бы дверь перед носом безумного посетителя.
Но сейчас Гольданцев был совершенно необходим!
Пусть сделает такой же пузырек и мне, а потом мы простимся, как люди, случайно сведенные Судьбой.
Нет, я, конечно, заплачу ему за работу, даже если придется влезть в долги. И позволю звонить, интересоваться, как долго и надежно держится защита, в том случае, если ему будет нужна такая информация. Но попытки к дальнейшему сближению решительно пресеку. Таким образом, убью сразу двух зайцев – и от страхов избавлюсь, и дядину волю не нарушу. И роковая тайна так и не сможет заразить меня дурной болезнью!
Решение это показалось единственно верным, очень разумным, и, воспрянув духом, я, для пущей важности, пожал плечами и небрежно произнес:
– Занятно. «Концентрированная совесть» – это, знаете ли… Открывает большие перспективы… Как я понял, в этом пузырьке жидкость с вашей, так сказать, совестью, а, если бы была с моей…
– Ничего вы не поняли, – буркнул Гольданцев. – А все потому, что не пожелали выслушать теорию. В этом пузырьке, во-первых, газ. А во-вторых, он представляет собой сложнейшее сочетание «гомоймеров» мировой пневмы и моих основных соков. Говоря понятным вам языком, я плюнул, высморкался и надрезал себе палец. Потом смешал все это с землей, с водой, подул и подогрел… Боюсь, вы опять не поверите, но этих действий вполне хватило, чтобы создать некую субстанцию, которую я назвал не слишком оригинально – эликсир – и она теперь воздействует на человеческое подсознание так, что любой начинает особенно остро понимать – это чужое, брать нельзя…
– Между прочим, у меня в голове ничего подобного не было, когда я не смог взять ваше портмоне и свою, между прочим, газету.
– Вы снова не желаете слушать. Я сказал «подсознание», а не «сознание». Это разные, между прочим, вещи, – передразнил Гольданцев. – Как только эликсир попал на вашу газету, она автоматически стала моей, потому что эликсир составлен на моей основе. Будет создан на вашей, и уже я ничего не смогу взять, даже собственные, пардон, трусы, если вам вздумается брызнуть на них своей «концентрацией совести».
Я пропустил мимо ушей последнее замечание и качнул головой в сторону пузырька.
– Что же нужно для создания моего эликсира?
Гольданцев пристально посмотрел на меня.
– Значит, вы все-таки решили принять мое предложение? – вопросом на вопрос ответил он.
– А вам в этом что-то не нравится? – усмехнулся я. – Или нужно договор подписать? Может ещё и кровью?
– Нет, кровью не надо. Кровь я у вас и так возьму – как составляющую. Кровь, слюну, желудочный сок, немного желчи… Скажите, вы сегодня завтракали?
Я поскреб подбородок. Ночь и утро, когда я, чертыхаясь, резался дядиной бритвой, казались такими далекими, позавчерашними, что было немного странно видеть на часах только первую половину дня.
– Я пил всю ночь. У меня сегодня день рождения.
– Это плохо, – вздохнул Гольданцев. – То есть, с днем рождения я вас, конечно, поздравляю, но то, что пили нехорошо. Можно было бы прямо сегодня все сделать, а так… Впрочем, завтра тоже не получится. Ваша кровь должна быть абсолютно чистой. За одни сутки спиртное до конца не выветрится.
– Выходит, мне и сегодня пить нельзя?
– Ни в коем случае! Конечно, если вы заинтересованы в скорейшем создании эликсира.
– И курить нельзя?
– Нет, курите на здоровье. Вы же не вчера начали это делать?
– Нет.
– Вот видите, значит, это стало неотъемлемо вашим. Курение портит организм, но сознание не изменяет, не то, что алкоголь. Скажите, а наркотики…
– Нет, нет, что вы! – замахал я руками.
– Хорошо, хорошо, – кивнул Гольданцев. – Просто я подумал – Чечня, экстремальные ситуации, стресс… Я же читал ваше кое-что… Впрочем, ладно. Решили, да?
Я в последний раз ощутил легкий озноб, дрожь в коленках и, словно шагнул в пропасть:
– Да.
– Хорошо.
Гольданцев, похоже, был не в восторге от визита ко мне. Он явно рассчитывал на больший интерес к теоретической части и своего разочарования не скрывал. Но я уже убедил себя, что не могу идти наперекор воле Василия Львовича, тем более, что всякие околонаучные теории казались мне чрезвычайно скучными. Работают – и ладно. А уж, что там к чему примешивается, и в каком соотношении, знать совершенно необязательно. Это пусть Гольданцев знает. Будет повод сказать лишний раз, что знает больше моего.
Оставался, правда, ещё один нерешенный вопрос, разъяснить который следовало прямо сейчас, во избежание дальнейших недоразумений.
– Во что же мне все это обойдется? – деловито спросил я.
– Вы про деньги?
– Конечно.
– Тогда, ни во что. Денег я не возьму.
Гольданцев сунул в карман пузырек и встал.
– Я буду очень признателен, – медленно начал он, – если получу возможность взглянуть на бумаги вашего дяди. Среди них должна быть тетрадка моего отца. Вы её не видели? Такая обычная, школьная, с формулами…
– Как же, видел, – удивился я. – Ещё подумал – зачем дяде какие-то математические расчеты.
– Это расчеты отца, – странно сведенными губами проговорил Гольданцев. – Если вы мне её отдадите, будем считать, что мы в расчете.
– Хорошо, я обязательно поищу.
Гольданцев взглянул на меня совершенно безумным взором.
– Вы уверены, что она цела?
– Конечно. Я ничего не выбрасывал после дядиной смерти.
– Хорошо. Очень хорошо.
Гольданцев продолжал с минуту безумно на меня смотреть, потом, словно бы, успокоился.
– Дайте какой-нибудь листок, – сказал он, – я запишу вам свой адрес. Через три дня приедете. Это будет суббота, так что приезжайте прямо с утра, пораньше. Не завтракайте и на ночь, накануне, особенно много не ешьте. А лучше всего, после шести не ешьте совсем… Вот, – он протянул записанный адрес. – Там я указал, каким транспортом удобней добираться, и телефон. Позвоните перед выходом…
С этими словами он решительно прошагал к двери, сам её отпер и, бросив через плечо, «до скорой встречи», вышел.
Я был слегка озадачен.
Разговор про тетрадку страшно меня смутил. Искать её не требовалось – все дядины бумаги, включая и пресловутое предсмертное письмо, лежали в одном и том же месте все эти десять лет. Я мог бы достать тетрадку сразу же, как только о ней зашел разговор, но выражение лица Гольданцева, его сведенные губы, словно он еле сдерживал крик, безумно напугали. Можно, конечно, предположить, что боль от потери отца до сих пор не утихла. Такому, как он, одержимому, естественно, не хватает рядом единомышленника и близкого человека. И тетрадка, наверняка нужна для продолжения работ. Но тут возникает вопрос: почему же он не пришел раньше? Десять лет занимался опытами без тетрадки, достиг вполне конкретных успехов и, вдруг, опомнился…
Мне, конечно, не жалко. И тетрадку эту я отдам. Но, что-то подсказывало – не спеши, просмотри сначала сам.. Прямо сейчас, возьми и посмотри…
И тут, в эту самую минуту, телефон буквально взорвался звонком!
«Странно, – подумал я, идя к нему, – за все время, что Гольданцев здесь был, (а был он, все-таки, долго), ни одного звонка! И это в такой-то день! Но, стоило ему уйти, как сразу… Может, и здесь какой-нибудь фокус?».
– Алло!
– Поздравляю!!!
Жизнерадостный голос Екатерины показался голосом какой-то другой галактики. Этот Гольданцев, видно, совсем меня заболтал.
– Милый, я тебя люблю, люблю, целую и дергаю за ушки! Подарок привезу чуть позже – вот только спихну статью и…
– Катюш, – перебил я, – ты сегодня ещё мне не звонила?
– Нет. А что?
– Да так, визитер тут был один, очень странный… Впрочем, ерунда. Показалось. Просто, за время его визита ни одного звонка не было, представляешь? Я уж и подумал, не наложил ли этот тип на мой телефон какое-нибудь заклятие.
Екатерина рассмеялась.
– Вот и видно сразу, что ты новорожденный. Рассуждаешь, как грудничок. А, между тем, тебе действительно никто не звонил. Во всяком случае, из наших. Тебя решено наказать за уклонение от банкета. Поэтому, звонить целый день никто не будет, зато вечером все неожиданно нагрянут с подарками и бутылками.
– А ты, значит, как Павлик Морозов, всех решила заложить?
– Да. Чтобы ты, не дай бог, никуда из дома не ушел и хоть немного прибрался. Неплохо будет встретить гостей с видом унылым и похоронным – дескать, все меня забыли… Сделаешь людям приятное. И, ещё раз напоминаю, убери все носки и трусы, которые ты привык развешивать на видных местах. Мне твое пристрастие к антиквариату известно, а вот остальные, боюсь, будут шокированы убожеством нижнего белья у известного писателя.
– Ладно, уберу, – усмехнулся я, чувствуя, как отлегло от сердца. Все-таки Гольданцев не маг, не чародей, и не экстрасенс, вроде Мессинга – никакого заклятия на мое сознание он не навел, нечего и думать…
– Саш, – донеслось из трубки, – у тебя еда, хоть какая-нибудь, есть?
– Да так.., кое-что. А вот водки уже нет.
– Выпил?
Судя по интонации, Екатерина не слишком этому удивилась.
– Святое дело – я именинник.
– Ладно, убирайся пока. Я что-нибудь куплю по дороге. И молись, чтобы гости не пришли раньше меня. Все будут голодные, злые – сожрут…
Посмеиваясь и чувствуя приятное умиротворение, я принялся за уборку.
Черт с ней, с тетрадкой! Да и с Гольданцевым этим тоже. Сегодня мой день рождения, а, значит, думать буду только о себе и своих удовольствиях! Никаких страхов перед грабителями и никаких размышлений о всяких таинственных опытах! Как там говорила эта очаровательная эгоистка, которой так бредит Екатерина? «Подумаю об этом завтра»? Вот я и подумаю обо всем завтра. А сегодня… По крайней мере, бояться мне сегодня уж точно не придется. Гости наверняка засидятся до утра…
А может, выгнать их пораньше и остаться только с Екатериной? Последнее время я был к ней ужасно невнимателен. Да ещё статья эта масла в огонь подлила… Впрочем, какой огонь? Наши отношения стали остывать все больше и больше, и мне это совсем не нравилось. Екатерина из тех женщин, с которыми не чувствуешь себя повязанным по рукам и ногам. Она прекрасная любовница, заботливая и понимающая подруга… Беда в том, что мы вместе уже так давно, что неизбежно оказались на распутье – либо семья, либо разрыв, после которого каждый идет своим путем. Екатерина, естественно, мечтает о семье, а я… Ох, я и сам не знаю, чего хочу…
Ладно, все! Подумаю об этом завтра. Может, и женюсь, в самом деле. Сегодня мне так хорошо, даже удивительно! Вот, что значит положительная перспектива! И, хотя предстоящий визит к неприятному Гольданцеву, положительным действом не назовешь, все же, он вернет мне утраченный покой, даст твердую уверенность в том, что «мой дом, отныне, моя крепость», и чихать я хотел на все остальное!
Теперь главное придумать, как отвертеться от выпивки.
Своих друзей я знал достаточно хорошо, чтобы не сомневаться – нальют, заставят и не угомонятся, пока не споят в усмерть.
Что ж, придется, видимо, пойти на примитивную хитрость. Налью в водочную бутылку воды, поставлю перед собой и скажу, что это персональная, именинная. Запашок от меня приличный, так что никто ничего не заметит.
Таким образом, «растряся» все свои проблемы, я закончил уборку в самом радужном настроении и, когда под вечер гости ввалились, наконец, в квартиру, я, вопреки обещанию, данному Екатерине, встретил их широченной улыбкой юбиляра и распростертыми объятиями.
Застолье организовали в комнатах Эльвиры Борисовны. Прямо на строительные козлы положили клеенку и расставили все, что было принесено гостями и Екатериной, которая, конечно же, опоздала и пришла самой последней.
– Рассчитывала найти мои обглоданные кости? – спросил я, принимая у неё пакеты.
– Нет, – в тон ответила она, – Лешка обещал, что без меня, тебя никто пожирать не начнет. Сказал – вожак нужен, который уже давно прогрыз тебе печень и знает все уязвимые места.
– Кстати, о печени, – зашептал я, утаскивая её в кухню. – У меня к тебе маленькое, но очень ответственное поручение.
На кухне, закрыв дверь, налил воду в бутылку, которую опорожнил ночью, (причем не забыл остатками водки опрыскать себя, словно духами), и протянул Екатерине.
– Поможешь мне остаться трезвым. Сейчас, при всех, вручишь эту бутылку и скажешь, что она предназначена персонально имениннику, и никому больше из неё пить не дозволяется, ладно?
– Ладно. Но почему?
– Да потому.., потому что мне нужно получить от тебя сегодня самый главный подарок, а для этого надо быть трезвым. Но сама, уж будь добра, напейся. И, пожалуйста, до состояния совершенно непристойного…
Екатерина покраснела.
Я, ещё с первых дней знакомства, был без ума от этой её привычки краснеть, как невинная гимназистка. Нарочно, в гостях или людных местах, шептал на ушко всякие любовные непристойности и радостно наблюдал, как Екатерина заливается краской, обводя окружающих застенчиво-испуганным взглядом. «Ты ханжа, – говорил я ей потом. – Тартюф в юбке. Краснеть краснеешь, а слушать любишь». Екатерина притворно дулась, но никогда моей правоты не отрицала.
Вот и теперь, покраснев, улыбнулась понимающе и довольно. А потом, перед гостями, торжественно вручила мне бутылку со словами, что это особенный любовный напиток тридцатипятилетней выдержки, который, во избежание неприятностей, никто больше пить не должен.
Тут же кто-то больно ткнул меня в бок.
– Мерзавец, а мерзавец, – зашептал в ухо Лешка Сомов, – ты, что это, воду хлестать задумал?
– Леха-а-а, – простонал я, – не выдавай! Не могу я сейчас пить, понимаешь? Никак не могу! В субботу кровь сдавать – надо, чтобы чистая была.
– Где же это ты собрался в субботу кровь сдавать, а?
– У частника. Я уже договорился, и он велел не пить.
– Заболел, что ли?
– Нет, просто провериться. Депрессии одолели – прямо жуть одна…
– Это у тебя, старик, кризис среднего возраста, – авторитетно хлопнул меня по плечу Лешка. – Я недавно по телевизору передачу об этом смотрел. Нужно сорок часов не спать, и все пройдет. Но лучше, конечно, как следует надраться.
