Читать онлайн Шепот пепла бесплатно
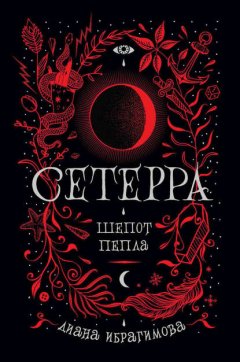
Серия «Сетерра»
© Диана Ибрагимова, текст, 2018
© Макет, оформление. ООО «РОСМЭН», 2018
* * *
Пролог
И тогда люди отказались от чувств тяжких и непокорных, оставив себе только те, с которыми жить легко, а грешить не совестно. Но чувства не отказались от людей и стали рождаться в семьях детьми с Целью. Когда-то сетеррийцы называли их «пережитками», как нечто устаревшее и ненужное, а потом придумали другое слово – «порченые».
(Из черновиков книги «Племя черного солнца» отшельника Такалама)
С тех пор как в ночь затмения родился Астре, Шелара и муж ее Маито не ведали спокойной жизни. Ни разу не удавалось им продержаться на одном месте дольше года. То любопытная соседка заглянет в окно, то куль на спине вызовет подозрение, то бестолковые младшие ребятишки пустят в дом кого попало, а то и сам Астре на своей тележечке выкатит во двор. Если люди прознавали о безногом ребенке, нужно было бежать прочь. Слухи и толки разносились по округе, как саранча по хлебным полям. Никто не хотел иметь дела с про́клятой семьей, а иногда находились и те, кто считал своим долгом очистить мир от бессовестных.
Только спустя десять лет мучений и скитаний Маито получил право освободиться от обузы. Астре навсегда запомнил слова, которыми закончилось его детство. Как-то вечером после очередного новоселья уставшая за день мать села у окна, подперла подбородок ладонью и сказала со вздохом:
– Наконец-то как люди заживем. Отмучились.
А назавтра пришел странный человек. Отец привел его поздно ночью, когда в большинстве домов затворили ставни и погасили свечи. Человек был еще не стар, худ и очень высок. Войдя, он почти коснулся макушкой потолка и загородил настенный светильник. Тень, похожая на колонну, упала на ситцевый полог, за которым прятался Астре. Младшие спали тут же – за ширмой, на общей кровати. Они не слышали ни шагов, ни ноток испуга в родительских голосах.
Незнакомец едва слышно поздоровался с хозяйкой и прошел к столу. Чуть сдвинув штору, Астре смог разглядеть его пыльную одежду и затылок с коротко стриженными волосами медного цвета. А еще заложенную за спину руку в истершейся кожаной перчатке. Она держалась на ремне, перекинутом через плечо, и совсем не двигалась.
Незнакомец устроился на сундуке. Мать засуетилась у печи. В воздухе витал сладкий запах молочной каши с маслом, оставшейся с ужина. Отец предложил гостю стакан вина и, когда тот выпил, спросил:
– Стало быть, завтра и выходим?
– Если все готово, то и выходим. Сонного питья раздобыли?
– Да нам и не надо питья-то, – сконфузился отец. – Чего зазря тратиться? Не убежит он.
– Безногий он, – тихо добавила мать.
Она дала незнакомцу ложку и принялась громко, почти остервенело выскребывать кашу из котелка. Словно стыдилась собственных слов и хотела поскорее заглушить их другими звуками.
– Ясно тогда, – кивнул человек. – Еды и воды надо взять поболее. На трид[1] хватило чтобы.
– Аи-аи, это я мигом соображу. На лошадей погрузим, – заверил его отец.
– Лошадей твоих у границы оставить придется. Денег прихвати. Знаю я там мужика одного, уплатишь ему сребреник, чтобы скотину твою кормил-поил, пока мы не вернемся.
– А точно ли худом не выйдет? – Мать сжала в руках передник. – Младших у меня двое. Не помрут теперь, а?
– А что, не десять ему?
– Десять! Десять! – принялся уверять гостя Маито. – Уже трид как!
– Тогда не помрут. Долг совести уплачен.
После ужина человека уложили на лавке у дальней стены. Закончив приготовления, родители тоже легли отдыхать. Ослепший без света дом наполнился тихими звуками, от которых под полог забиралась дрема, и веки сами собой опускались под неведомой тяжестью. Все покорились сну, лишь Астре не мог сомкнуть глаз. В мыслях накрепко засели отцовские слова: «Не убежит он». Так от чего нужно бежать? Мальчик невольно заерзал от плохого предчувствия. Ему захотелось спуститься на тележечку и покатить прочь из дома, но снаружи было куда страшнее.
Астре пугало чужое дыхание и скрип лавки под весом тела незнакомца. Но больше всего нагоняла жути черная груда тряпья в углу. Там лежал походный куль, заготовленные с вечера мешки с крупой и мукой, фляги для воды. Казалось, чудище вот-вот отделится от теней и встанет у кровати. Астре зашторил полог, заполз под покрывало, обнял брата и сестру. Те завозились, но тут же затихли. Воздух снова заполнился спокойной мелодией сопения. От мягких щек пахло яблочной пастилой. Дети мирно спали, не ведая тревоги старшего. Астре знал, что завтра их не будет рядом. Грудь сдавило, и противно защипало в носу, но слезы не появились.
Поднялись рано. Так рано, что мальчику померещился чернодень. Но затмение наступало всегда на третьи сутки, а сегодня вторые, значит, просто еще темно. Родители не стали завтракать, младших тоже не будили. Астре хотел притвориться спящим, но мать подняла его с постели и тут же сунула в стоявший у кровати куль. По ее жестким, торопливым движениям Астре понял – просить бесполезно. Поначалу Шелара часто бормотала, не лучше ли держать калеку в подполе. Маито всегда возражал: «Аи-аи, глупая ты жаба! Хочешь, чтобы в сырости и холоде помер? А потом ты мне еще одного такого головастика принесешь? Вот погоди, ему уже пять. Половина осталась».
Куль накрыли сверху, и отец с кряхтеньем поднял его. Мать суетливо застегнула ремни. В мешке было душно, воняло застарелым потом и пылью. Его редко стирали, и на ткани, если провести пальцами, чувствовались шероховатости – высохшее повидло. Это сестренка совала его Астре во время очередного переезда, пока никто не видел.
Судя по звукам, человек, спавший на лавке у стены, тоже встал. Астре слышал, как он одевается. Родители долго перешептывались, потом их прервал голос чужака:
– Наверняка решились?
Вопрос прозвучал резко, даже грубо, и отец тут же начал юлить, как перед покупателями, нашедшими порченый товар.
– Аи, не сомневайся уж! Столько лет ждали, не потащу я его обратно! И с платой не обману! Не зря идем-то, не зря!
Скрипнула дверь. Астре ощутил прошедший сквозь ткань холодный утренний воздух. Мать, стоя на пороге, окликнула Маито:
– Ты мешок принеси обратно, крепкий он, сгодится еще в хозяйстве-то.
– Принесу, жадная ты жаба, принесу.
* * *
Ценность прималей обнаружилась в ту пору, когда люди поняли, что вестники мертвых не боятся порченых. Есть неуловимая связь между теми, кто носит в себе пепел, и теми, на ком лежит груз Цели. Отношение прималей к порченым всюду разнится. Лжеколдуны согласны убивать увечных за деньги, тогда как обычный люд боится даже прикасаться к ним. Но истинные примали не стремятся уничтожать носителей Цели. Они пытаются понять их природу, хотя и не знают, для чего.
(Из черновиков книги «Летопись прималя» отшельника Такалама)
Белобрысый от природы Иремил красил волосы то в смоляные, то в рыжие, то в медные цвета. Сейчас он был коротко острижен, до того ходил совершенно лысым, а два трида назад носил патлы до плеч. Стараясь не быть похожим на себя, прималь порой гладко брился, а в другое время отпускал бороду и усы, и тогда глаза его были точно два зеленых болотца посреди дремучего леса. Ныне, заросший густой щетиной, он выглядел на порядок старше своих сорока лет.
У Иремила были причины для перемен. Он вел себя осторожно, никогда не ходил дважды в одно и то же селение, часто перебирался с острова на остров. Иначе давно бы развеялся пеплом.
Круглый год столбы перед городскими воротами пестрели множеством лент. Красные показывали невест на выданье. Желтые зазывали обменщиков и торговцев. Синие – работников. Иногда встречались белые. В них заключалось желание поговорить с мертвым или унять душевную болезнь. Иремил отвязывал самые редкие – черные. Такие тряпицы вешали те, кто хотел избавиться от порченых детей.
Чаще всего прималей звали осенью, когда появлялись деньги от проданного урожая и шла подготовка к долгой, тяжелой зиме. На памяти Иремила семья Маито была двенадцатой и самой неприятной. Целый трид пришлось терпеть под боком назойливого злоязычного мужичишку. Маито все жаловался на годы с совестью на горбу и угомонился, только когда они ступили на тленные земли, где сама смерть шла по пятам.
Последнее затмение провели в небольшой, наполовину ушедшей в песок пещере. Проход забили ветками и камнями. Потом спали, сколько могли. С тех пор минуло уже много времени, усталость давно давала о себе знать, но Иремил остановился лишь на закате.
Он присел и провел по земле шершавой ладонью. Попробовал пыль на вкус: горькая, соленая. Тут же сплюнул и, поднявшись с колен, обернулся к спутникам.
– Здесь.
Хрипота в голосе норовила сорваться на кашель. В горле свербело от недавнего прохода через праховое облако. Иремил чуть не задохнулся, пока уговаривал толпу бродячих душ пропустить их. Даже колдуну-прималю бывало нелегко поладить с мертвецами. В тленных землях выживали только те, кто носил в себе пепел. Иремил отдал сожженным левую руку, так что от плеча до запястья по его конечности вместо вен ползли трещины. Крови, костей и жил там давно не было. Рука стала темно-серой, цвета опущенной в воду гальки, и каменно-тяжелой. Иремил обыкновенно привязывал ее за спину и иногда покрывал рыбьим клеем, чтобы прах не рассыпался и не разлетался во все стороны от ветра. Теперь уже тридень у Иремила не было ни клея, ни мучного сока, ни смолы. Воды и той почти не осталось. Трещины разъедали сухую плоть, и прималь боялся, как бы чего не случилось.
– Аи-аи. Точно ли тут что-то есть? – недоверчиво прищурился Маито.
Русоволосый и коренастый, как большинство валаарцев, он едва доходил Иремилу до груди. У него были глаза торговца: цепкие, бегающие, ищущие. Покупателя, бесплатной выпивки, выгодной сделки или простофиль, которых можно трижды одурачить. В последние дни искра во взгляде Маито потускнела, но сейчас вспыхнула снова.
– Точно говоришь? – повторил он с пытливостью пройдохи, всюду ожидающего подвох.
Иремил посмотрел на него внимательно, тяжело посмотрел. Взглядом прокатился точно жерновом. Маито сразу как-то осунулся, принялся торопливо расстегивать ремни на груди и животе, чтобы снять бесформенный горб, в котором, как в коконе, сидел его сын Астре. За трид пути Иремил видел его всего два раза, да и то случайно. Маито не хотел показывать ребенка даже звездам и солнцу. Чем меньше людей запомнит лицо Астре, тем скорее мир забудет, что мальчик когда-то родился. Так считал Маито и поклонялся собственному мнению.
Астре был белым и хрупким, словно фигурка из слоновой кости. Иремила заворожили его глаза. Не голубые, как у отца, а темно-синие с дымчатыми ресницами. В них запечатлелось грозовое небо. Непроглядное, густое, подвижное. Готовое вот-вот разразиться молниями. И если бы подождать еще лет семь, оно бы разразилось, а пока стихия бушевала только внутри Астре, где спал его мощный дух.
Маито морил сына голодом, пытаясь сделать легче, но мальчик все больше пригибал отца к земле. Иремил видел заключенный в Астре свинец. Видел глазами прималя – безумца, хранящего в душе ворох бесполезной человечности. Эта первобытная шелуха, которую люди начали сбрасывать тысячелетия назад, нашла свое пристанище в Иремиле. Сейчас она скрипела на зубах сродни песку, слизанному с пальцев. А иногда разливалась медом. А порой заходилась набатным звоном, заставляя сердце биться тревожно и неистово.
Иремил чувствовал многое. То, как дремлют в мертвой почве съедобные луковицы, и то, как Маито уже две ночи терзается желанием бросить сына и двинуться в обратный путь. Каждый раз, ложась рядом с пыльным свертком, отец про себя клял спящего в нем сына. Однако если мальчик погибнет здесь, то через год или два родится снова. Не точно такой же, но с прежней Целью.
Раздумывая об этом, Иремил осторожно поддевал ножом землю, чтобы добраться до мальвий. Плотные, белые, полные живительной мякоти луковицы этих цветов навсегда замерли в недрах пустоши, готовые в любой момент пустить росток. Но родиться им было уже не суждено, и Иремил ел их без опаски, зная, что так освобождает души нерожденных и дает им шанс появиться на свет в другом месте. Съедобны были только те, над которыми матери проливали слезы, потому Иремил и пробовал почву на соль. Никому не нужные луковицы окаменевали, не было смысла тратить силы, откапывая их.
Маито освободился от ноши, упал на колени рядом с прималем и принялся орудовать лезвием, вспарывая жесткое брюхо поверхности. Иремил на мгновение разогнул усталую спину и увидел, что Астре чуть-чуть выглянул из кокона и смотрит на него. Прималь хотел улыбнуться, но не смог. Улыбка означала бы ложь. Грозовые глаза поняли его и скрылись за пыльной кромкой мешка. Иремил подумал, что кроме этих глаз он ничего не смог уловить. Даже цвет волос Астре не вспомнил, хотя вот только что смотрел на него. Дети с Целью всегда странные.
Маито вытащил первую луковицу. Наскоро обтер полой куртки, жадно вгрызся и захрустел. С уголков обветренных губ потекли прозрачные струйки. Иремил добыл свою. Одной рукой ловко очистил верхний слой, порезал, как яблоко, и стал есть неторопливо, кладя в рот по ломтику. В носу защипало, когда разлилась по языку первая прохладная сладость. Астре больше не шелохнулся и не выглянул.
– Дай ему, – сказал Иремил.
Маито зыркнул исподлобья. Метнул взгляд-молнию в сторону мешка. Что-то проворчал себе под нос, однако вторая луковица утонула не в его животе, а в недрах тканевого кокона. До этого дня Иремил не встревал, но сегодня пришлось. Предчувствие стало холодным и колким, как ледяная игла. Оно било под сердце при каждом вдохе, предупреждая о скором конце путешествия.
Сизые тучи заволокли горизонт. Куда ни глянь – мертвая земля, мозаичная, как дно высохшего океана. Взгляду не за что зацепиться, только растянулось вдоль горизонта манящее озеро-мираж, созданное игрой воздуха со светом.
После ужина Маито забрался во второй мешок и тут же уснул. Иремил остался сторожить. Нашел еще луковицу, выдавил сок на глиняную руку, чтобы смочить трещины и забить их влажной, пахшей тленом пылью. Небо и земля сливались в ночном поцелуе, когда на горизонте Иремил увидел несколько крупных вихрей, похожих на торнадо. Они стремительно приближались к устроившимся на отдых путникам. Прималь быстро закрыл лицо заскорузлой тряпицей, надел очки с мутными стеклами. Они прилегали плотно, не пропускали песок и пепел. Но и видеть в них он почти не мог.
Воздух стал густым, душным. Его заполнил знакомый травяной запах. Такой же шел от перетертой между ладонями полыни, которой отгоняли покойников. Иремил встал и пошел навстречу вихревым воронкам.
Сожженные не говорят и не шепчут. У них нет голосов и лиц, а вместо ног их носит ветер. Иремилу понадобилось десять лет, чтобы стать прималем, но даже тому, кто научился усмирять праховые вихри, требовалась еда и одежда, уголь на зиму и лекарства. Маито заплатил десять монет. Еще столько же обещал отдать по возвращении. Трид можно жить безбедно, а потом еще кто-нибудь захочет избавиться от ребенка, рожденного с Целью. Такие дети всегда выбирали грязные семьи, а грязные семьи раз за разом торопились от них избавиться.
Иремил задержал дыхание и вступил в объятия первого пыльного вихря. Каждая песчинка в нем хотела рассказать живому свою историю. Каждая стремилась забраться в прималя, втиснуться в складки одежды и в щели на руке. Иремил для сожженных, как медовые соты для роя голодных пчел. Всем хотелось найти свое место. Всем хотелось уйти с ним. Прималь согласился взять с собой щепотку, но за услугу. Услышав его желание, пепельные облака тут же ринулись в сторону спящих отца и сына. Астре не тронули. Так велел Иремил.
Прималь подарил валаарцу много времени на раздумья. Он вел Маито к жертвенному ущелью десятки дней и ночей, ожидая, что тот передумает и оставит сына. Теперь, почти трид спустя, уже не было смысла давать ему шанс.
Мешок не спас Маито. Торгаш задергался, захрипел, закашлял. Стал махать руками, закрывался полой плаща, но бесполезно. Пепел полез ему в ноздри, заполнил горло удушливой пробкой, заершился в легких. Он забил Маито до краев и остался внутри, найдя пристанище в его теле. Остатки душ вернулись к прималю, и он, как обещал, взял наугад щепотку и, скатав в комочек, замазал одну из трещин на руке. Затем взвалил на спину куль с Астре.
В кармане прималя лежало десять монет. В нагрудном кошельке Маито – двадцать. Полтора трида можно жить спокойно, а потом придет пора отправиться в другую деревню.
Иремил сорвал с потрескавшихся губ повязку и сунул ее за пазуху.
– Ты не бойся, – сказал он нарочито бодро. – К ущелью мы не пойдем, мы его окрест обойдем вместе с гейзерами, а потом в другое место отправимся. Отсюда подальше. А сначала заглянем к брату моему – Зехме. Он у самого севера отшельничает, за пустыней. Там лесами дубовыми все поросло. Знаешь, какие он желуди в меду делает вкусные? Слаще всякого варенья. Ел ты их раньше?
Ответом прималю была кроткая, испуганная тишина.
Глава 1
Дом порченых
Затмение разом накрывает всю Сетерру и оттого кажется всевидящим, вездесущим. Жители Соаху встречают его в начале вечера, а угрюмые руссивцы глубокой ночью. В эту пору земли Западного Твадора тонут в рассветных лучах, а хребты Саль-Апин у кромки Жемчужной пустыни врезаются пиками в жаркий полдень.
Но черное солнце всходило над планетой не всегда, и потому я задался вопросом, какой была Сетерра тысячу лет назад.
Первый вопрос о природе затмений я задал названой матери в четыре года. Тогда я спросил:
– Ами, почему мне нельзя гулять?
– Потому, что сегодня чернодень, – ответила она устало и нехотя, как отвечала на все мои глупые вопросы, которые в детстве задавала сама. – Злое солнце сожжет тебя, Такалу, даже кости почернеют и обуглятся, а потом станут прахом.
– Только меня? Почему? Почему?
Уже в ту пору я был дотошным ребенком и не умолкал, пока не получал ответа.
– Не только тебя. Всех нас, – отмахнулась Ами, что-то стирая в корытце.
Я до сих пор помню запах ее самодельного желтого мыла, душистого, как само лето. Им пахла моя одежда и кожа после купания, простыни и подушки. Все вокруг дышало цветочным ароматом. Наверное, поэтому я представлял затмение круглым черным жуком, забравшимся в середину ромашки-солнца.
– И тебя сожжет, если пойдешь? – удивился я, осознав, что даже взрослым не все бывает можно.
– И меня.
– А почему оно не сжигает наших кур? А сено? А дрова?
– Потому, что только люди грешны, Такалу. Черное солнце карает нас за наши грехи.
Тогда слова Ами не впечатлили меня, я тут же позабыл о них и занялся игрой в кубики. Но после часто ловил себя на мысли, что есть другой, настоящий ответ: большое знание, скрытое от мира подобно яркому камню в мутном болоте. Я будто всю жизнь искал этот камень ощупью, ныряя в тину неизвестности с зажмуренными глазами и затаенным дыханием.
(Из черновиков книги «Племя черного солнца» отшельника Такалама)
* * *
Архипелаг Большая Коса, о-в Пепельный
12-й трид 1019 г. от р. ч. с.
Страх расходился по комнате вязкими, холодными волнами. Астре пытался отгородиться от предчувствий сестры, но не мог. С тех пор как в нем пробудился дух прималя, мир стал пугающе многогранным. Людские эмоции заиграли сотнями оттенков: искрилась радость, смола тоски стягивала грудь, тревога дрожала, словно хрупкое стекло, готовое вот-вот треснуть.
Очередная волна прокатилась по спине россыпью мурашек. Астре поежился, будто его обдало сквозняком из щелей, забитых паклей. Он сидел на подоконнике, прислонившись спиной к подушке-креслу. Восточное окно – лучшее место для утренней работы. С приходом рассвета можно сберечь пару-тройку лучин, да и занятие привычное: сгодится и полумрак. Раньше Астре плел рыболовные сети, но их почти перестали покупать, и пришлось перейти на ложки. Илан – сын резчика по дереву, обучивший калеку этому ремеслу, – два дня назад ушел в деревню на торг и с тех пор не возвращался. Астре ждал, что вот-вот отворится дверь и запыхавшийся, веселый Илан появится на пороге, но ожидание все тянулось, а жалобы и вздохи Сиины угнетали. Это от нее расходились стылые волны.
– Ни крошки не осталось, – тихо сказала сестра.
Астре не поднял глаз. Он продолжал вытачивать пилкой деревянный черенок. Сиина откинула за спину светлую косу, оттопырила уголки мешка и выковыряла еще две крупинки. Какое-то время она собиралась с мыслями, потом ссыпала гречу в чашку, залила водой и начала разговор, который назревал уже давно:
– Его все нет, сколько еще ждать?
До сих пор Сиина молчала, но через тридень детей будет нечем кормить. Астре знал, что сегодня она обязательно спросит, но так и не придумал ответ.
– Наверное, продал мало. Решил на еще один торг остаться, – пробормотал он.
– Я не про Илана говорю!
В движениях Астре появилась нервная резкость. Он не ответил.
Разговор велся в комнате навроде кухни – тесной, узкой и прохладной, несмотря на большую печь. Дверь в сени открывалась по сто раз на дню, и натопленное тепло бестолково уходило наружу. В правом закутке, отделенном от спальни ширмой, держали в морозы новорожденных ягнят. В левом сгрудились вокруг длинного стола табуреты. Подоконник, на котором сидел Астре, был вровень со столешницей. У перегородки стоял сундук – в эту минуту открытый. Сиина перебирала в нем тощие мешки с сухарями и крупой, словно надеясь каким-то чудом отыскать несколько новых, полных снеди.
– Мы уже все запасы подъели, – пожаловалась она. – Что, если Иремил не вернется?
– Замолчи!
Астре сказал это едва слышно, но звук рассек тишину и ударил девушку, точно стальной хлыст. Они говорили тихо, стараясь не разбудить спящих на полатях детей. В нагом безмолвии, не укрытом посторонними шумами, слова получали особую силу.
– И чего все меня боятся, – огрызнулась Сиина, убирая упавшую на лицо соломенную прядь. – В тебе больше страха, чем во мне.
Пальцы скользнули по буграм и шрамам на щеке, заправили волосы за изорванное ухо. С утра Сиина не успела привести себя в порядок. Коса за ночь растрепалась и стала похожа на измочаленную веревку.
Астре привстал на руках, чтобы затекшие культи немного отдохнули. В свои семнадцать он выглядел почти так же, как и в тот день, когда его принес сюда прималь.
– Иремил может не вернуться, – набравшись решимости, сказала Сиина. – Это говорит не страх во мне. Это говорит страх во всех. Кругом одни пустые мешки да глазюки голодные. Думаешь, я не вижу?
Она кивнула в сторону полатей, занавешенных ситцевыми шторками.
– У меня тут уже полно готовых, – устало ответил Астре, указав на корзину под окном. – Продадим и купим муки или пшена.
– Да ты скорее ослепнешь, чем прокормишь нас этими ложками. В деревне мастера и получше есть.
– А торговцы берут у нас.
– Да потому, что за гроши продаем. – Сиина закусила губу. – Зима скоро. По сугробам не находишься. Следов наделаем. Найдут нас по ним. Может, случилось чего? Или он нас бросил, а? Может…
В этот момент Астре сломал баклушу, из которой начал долбить очередную заготовку, и девушка замолкла.
– Бросил, говоришь? Да ему с самого начала надо было нас бросить. В жертвенное ущелье. Если он не вернется, будем сами выживать.
– И как? – не то расплакалась, не то рассмеялась Сиина. – Мне пойти собой торговать? Я бы и пошла, да кто на такую взглянет, а, Астре? Кто взглянет?
– Последи за языком. – Калека смахнул на пол горсть опилок. – Твое дело – убирать дом, готовить еду и смотреть за младшими. Остальное мы сами решим.
Решат они, – огрызнулась Сиина, тут же деловито выметая мусор из щели между окном и рядом табуретов. – Много вы нарешаете. Один безногий, второй без костей в языке, третий нюня, а четвертого любое дитя вокруг пальца обведет. – Она вдруг замерла и прислушалась к нарастающим звукам шагов из сеней. – Явились твои решатели. Гремят-то как, балбесы. Всех перебудят.
Медленно, с каким-то воркующим скрипом приоткрылась дверь. Астре встрепенулся и замер, ловя каждый шорох. Из прохода разило самодовольством и тихой, безропотной жалостью. Чувства перекрывали, перебивали друг друга.
* * *
– Заходите скорей! Холоду напустите!
Покачнулись от сквозняка ожерелья на балках – заготовленные с лета сушеные корни лопуха, нарезанные кольцами. Они ждали своего часа, чтобы окунуться в кипящую воду вместе с веточками укропа, мяты и прочей съедобной травы. С вечера прошел дождь, и Сиина представила с расстройством, сколько грязи притащили в дом бестолковые мальчишки. На крыльце так уж точно натоптано, а ведь отмывала вчера ледяной водой, пока руки не задубели.
Первым внутрь протиснулся Рори. Даже в сиреневом полумраке раннего утра Сиина разглядела его покрасневшие глаза и мешки под ними. К пятнадцати годам круглолицый Рори уже оброс первой редкой бороденкой, но внутри остался дитем и рыдал по поводу и без. Вот и в этот раз что-то ранило его до глубины души. Иремил объяснял – у Рори просто такая Цель. Она называлась то ли сочувствием, то ли жалостью. Вихрастый, чуть сутулый, но крепкий, как дубовый табурет, Рори молча прошествовал в общую комнату и встал спиной к Сиине, грея руки у зева печи.
Следом в проеме появилась сияющая физиономия четырнадцатилетнего Марха. Его узкое лицо с острыми чертами, обрамленное копной спадавших до плеч каштановых волос, лучилось восторгом. Если глянуть разом на Рори и Марха, в жизни не угадаешь, что случилось, пока не расспросишь обоих. Но расспрашивать было и не нужно. Марх длинными богомольими руками сгреб Сиину в охапку вместе с метлой и звонко чмокнул в щеку. От него пахло потом, чесночным хлебом и редькой.
– Привет, сестрица! Ты бы хоть причесалась. Страшна, как прошлогоднее пугало!
– Фу-ты! – Сиина отпихнула его. – Чего опять у Рори глаза на мокром месте?
– А вот чего!
Марх с воодушевлением вытащил из-за пазухи заячью тушку.
– Ох! – Сиина всплеснула руками. – Попался-таки!
– Дак он, похоже, с вечера в капкан угодил. Маялся, бедняга, до утра, верещал, как младенчик. А там уж я его успокоил. Шею, значит, свернул.
Рори шумно всхлипнул, Сиина молча погладила его по светлой макушке.
– А этот опять реветь начал! – возмутился Марх. – Я ему говорю: «Дурак, мы теперь супа с мясом поедим!» А он ревет! Так бы и врезал ему, да тогда ведро для его соплей подставлять придется.
– Хватит, – сказал Астре. – Мне надоел твой ядовитый язык.
– Ну так оторви его, – пожал плечами Марх. – Буду калекой, как ты. Только догони сначала! Давай, прыгай с подоконника и беги за мной на своих культяпках!
Он хохотал до тех пор, пока тяжелый кулак Рори не стукнул его по затылку. Марх даже согнулся.
– Боров! – бросил он, обернувшись. – Тебе надо было дитем на всю жизнь остаться, раз так соленую пускать любишь. А то вымахал, мышцами забугрился. Больше всех жрешь, что ли?
– Тише ты! Я тебя за патлы оттаскаю, если детей разбудишь! – шикнула на него Сиина.
– Я его сам оттаскаю, – буркнул, шмыгнув носом, хмурый Рори.
– И так-то они хвалят кормильца! А чьи силки зайца словили, а? Кому спасибо?
– Ну, хоть в чем-то ты молодец, – отстраненно согласился Астре, и все разом замолкли.
Слышалось сопение детей, чуть потрескивал огонь в топке, но кроме этого не раздалось ни звука. По лицу Марха расплылась торжествующая улыбка. Он ничего больше не сказал, а стал снимать с себя вещи и вешать возле печи, чтобы горячим воздухом прогнать из них сырость туманного утра.
Сиину пронзила горечь. Она глянула на заячью тушку почти с ненавистью. Этот кусок мяса так важен и нужен сейчас, что его добытчик заслужил даже похвалу Астре. Значит, все и в самом деле плохо. Иремил не вернется. Они уже выживают. Только теперь по-настоящему, без ожидания чуда, когда в дни последних подъеденных крох, как бы подгадывая нужное время, появлялся прималь. Приносил хлеб, масло и мясо. Раздавал леденцы всем, даже самым старшим, и оставался с семьей на долгую зиму, чтобы вместе есть горячие пироги, учить порченых чтению и письму, рассказывать истории о мире.
Чуда больше не будет. У девушки мелко задрожали плечи. Стоя над распростертым на столе зайцем, она пустила две слезы. Рори подошел к ней, погладил по спине нагретой печным жаром ладонью. От переданного тепла кожа покрылась мурашками. Рори жалел то ли зайца, то ли Сиину. Он думал, сестра так огорчилась из-за зверька.
Марх цыкнул и махнул на них рукой. Похвала до сих пор питала его, и он удержался от язвительного словца. Целью Марха была правда, но пока еще парень не понимал, как доносить ее должным образом. Он просто выплевывал все, что крутилось в голове, расточал направо и налево ядовитые уколы, издевки и шутки, за которые получил немало обидных прозвищ.
Сиине было неспокойно. Чувство, липкое и неприятное, забилось в грудь комком, не давая дышать.
– Что-то случится сегодня, – шепнула она едва слышно, и дрогнувшее сердце подтвердило догадку.
Натужно заскрипело колесо нового дня. Медленно перекатывались минуты-спицы до тех пор, пока не проснулись дети. Сиина не успела опомниться, как послышался топот босых ног, и с обеих боков к ней приникла пара сонных галчат.
– Есть хочу! – требовательно сказала рыжая веселушка Яни, обняв сестру изо всех сил.
Сиина улучила минутку, чтобы погладить ее по голове. Она знала, как это важно для Яни, старавшейся восполнить нехватку ласки и больше всего на свете любившей обниматься. Она была самой младшей из всех, бойкой, храброй и неугомонной. С трудом верилось, что у них с плаксой Рори одна и та же Цель – сочувствие.
– Ты кашу сварила? – поинтересовался здоровячок Дорри – лупоглазый веснушчатый мальчишка с большим ртом и русыми волосами до плеч, такими гладкими, будто он старательно причесывался целое утро, а не только что оторвал голову от подушки.
Дорри родился с Целью правды, но, как водится, ничуть не походил на Марха. Его научили молчать, и научили жестоко, поэтому в первый год мальчик совсем не разговаривал. К Иремилу он попал настоящим скелетиком, все не мог наесться и после каждого обеда жалостливо выпрашивал у Сиины сухари, да так и растолстел. Затем вытянулся, перегнал лишний вес в рост, но его все равно ласково называли здоровячком.
– Ой, а кто это? – встрепенулась Яни, увидев добычу Марха. – Пушистенький!
– Он мертвый? Мертвый, да?
– Нет, он спит!
– Сама ты спишь, у него шея свернута!
– Зайчик, ты спишь? Это зайчик, да?
– Это не зайчик, это ваш обед, – хмыкнул вернувшийся Марх. – Мною, между прочим, добытый. Сам словил, сам прибил. Так что спасибо скажите, малявки!
– Я не буду его е-е-есть! – разревелась Яни.
– А я буду! – честно сообщил Дорри.
– Ох и шумные вы! А ну не путайтесь под ногами, не то без завтрака оставлю! – прикрикнула Сиина, и две юлы тотчас принялись нарезать круги в стороне от нее.
Колесо дня набирало обороты, подминало под себя тревогу и дурное предчувствие. До самой ночи юная хозяйка скребла и мыла, кормила и поила, скоблила заячью шкурку, разнимала ссоры, хвалила и ругала.
Только с наступлением темноты усталая, с налитым свинцом телом и гудящими ногами старшая для всех сестра смогла присесть. Она примостилась на подоконнике напротив Астре и под мерный шум дождя принялась штопать латаные-перелатаные штанишки здоровячка Дорри. Липкий комок в груди снова разросся, но Сиина отгородилась от него. В это время все уже спали. Даже Марх и Рори на полатях перестали драться за одеяло и мерно сопели спиной друг к другу.
Сиина посмотрела на чернильные ветки за окном. Невольно перевела взгляд на Астре. На его ловкие пальцы и внимательные серо-синие глаза. На волосы цвета дыма. Они были короткие, чуть встопорщенные на затылке и тонкие, словно колючковый пух. Объятый полумраком комнаты, Астре показался Сиине совсем крошечным. Если обнять, можно два раза руками обхватить. Он ел слишком мало, вот же дурень. Стыдился лишний раз просить перенести его с места на место и пытался стать легче.
Испокон веков считалось, что безногие дети – кара для самых бесстыжих семей. Матери и отцы должны были носить их на спине, чтобы познать тяжесть вины, которую не могли ощутить душой. Астре воплощал совесть – одно из сильнейших забытых качеств. Он не раз подтверждал это рассуждениями и поступками, но никогда не относился справедливо к самому себе.
– Пока не проглотишь, не отстану, – буркнула Сиина, достав из кармана фартука завернутый в тряпицу кусочек мяса на косточке.
Астре посмотрел на сестру. Не на ее уродства, а куда-то внутрь. Отложил резак, молча взял угощение и стал жевать.
– Я боюсь, что ты так умрешь когда-нибудь от голода, – вздохнула девушка.
– У тебя много глупых страхов.
– Я из них состою.
В этот момент из сеней донесся шум. Астре метнул резкий взгляд на дверь.
– Уж не Илан ли? – заволновалась Сиина, откладывая шитье, а сама подумала об Иремиле.
Дверь с силой дернули, но железный засов удержал ее на месте. Следом послышался громкий стук. Астре схватил сестру за запястье. Она и сама уже поняла, что это не Илан. Страх выступил на спине холодным потом. Ни задержавшиеся на охоте ребята, ни прималь не имели привычки шуметь по ночам и будить детей. Они или тихонько барабанили в окно, где на подоконнике спал Астре, или отпирали замок своим ключом. В сенях был кто-то чужой.
Глава 2
Тайна мертвого прималя
Дворец властия хуже любой из тюрем. Я много раз жалел, что когда-то выбрал Соаху вместо Чаина, ибо нигде в мире к прималям не относятся с таким благоговением, как в стране заходящего солнца. Мне стоило остаться там и довольствоваться малым. Но разве мог Чаин сравниться с могуществом и богатством Соаху? Едва я завидел юного властия, глаза мои ослепли ко всему остальному. Ведь если я сумею убедить Седьмого, весь мир прислушается к моим словам! Вот о чем я тогда подумал.
Ах, если бы только я остался в Чаине! С поддержкой местной знати я добился бы куда большего, а здесь топчусь на месте, не в силах отыскать брешь в скорлупе Седьмого. Драгоценное время утекает, но властию не до моих учений, он воспитан иначе, и одно мое неверное замечание может повергнуть его в гнев.
Если бы он не доверил мне сына, я бы лишился всякой надежды. Теперь у меня есть Нико, но я не могу открыть ему суть черного солнца до тех пор, пока мальчик не подрастет. Сейчас он слишком мал и может проговориться. Люди Тавара следят за каждым моим шагом. За каждым словом. Они требуют, чтобы Нико пересказывал им все, чему я его учу. Говорят мальчику, будто я полоумен, потому что ненавидят меня и опасаются, как бы я не воспитал его иначе, чем воспитывали других властиев. Они настраивают Седьмого против меня, но он не поддается и не поддастся до тех пор, пока я буду служить ему, обличая ложь советников и клеветников.
…Меня страшит мысль, что они все-таки убедят Нико в моей полоумности. Мальчик очень привязан ко мне, но что, если, будучи юношей, он не поверит сказкам старого прималя? Недавно он сказал страшную вещь, несвойственную десятилетнему ребенку. Он сказал: «Я никому не доверяю. Даже ты можешь врать, Такалам. Ты врешь, когда говоришь неправду, думая, что это правда». Я отчаянно боюсь, что он не поверит мне.
…Мне удалось обучить мальчика тайному языку под видом игры. Нико это нравится, а я объясняю властию, что с помощью загадок принц развивает память и логическое мышление. Это и в самом деле так.
…Я хотел бы дожить до его зрелости. Хотел бы сопровождать его в путешествии в честь шестнадцати лет. Когда-то я встретил в Чаине его отца и отправился с ним в эту тюрьму. Теперь же мечтаю вырваться из нее вместе с Нико и наконец поведать ему тайны Сетерры, спрятавшись на корабле от сплетников и летучих крыс.
…Меня тревожит увлеченность Тавара ядами. Властий знает о его неприязни и приставил ко мне человека, который пробует еду. Если он погибнет, Тавара заподозрят в заговоре, но он попытается обойти эту стену. Я должен научить Нико всему раньше, чем до меня доберутся. И я должен оставить подсказки на случай, если не смогу быть с ним в путешествии. Нико должен узнать обо всем.
…Он не видит, как трясутся мои сухие руки над этими листками, и не видит высохших пятен от слез. Я всего лишь несчастный старик, напуганный, слабый и уставший от великого знания, разъедающего меня. Все, что мне остается, – облегчать душу, жалуясь вечерами бумаге, а после сжигать написанное, превращая буквы в шепчущий пепел.
…Они следят. Они следят за каждым моим шагом, и меня все сильнее стискивает паранойя. Должно быть, я и правда схожу с ума. Нико мне не поверит.
(Отрывки из тайных дневников Такалама)
* * *
Материк Террай, государство Соаху, г. Падур
8-й трид 1019 г. от р. ч. с.
Нико лежал в ворохе подушек у окна и смотрел, как в небе гаснут созвездия. Он не выходил из дворца после смерти Такалама. Не видел, как останки учителя сметали с шелка и ссыпали через бараний рог в красное чрево шкатулки. Мягкие серые хлопья поместили в землю, где пласты за пластами оседали сотни ушедших жизней. Такалама упокоили на вершине горы Достойного Праха, где хоронили предыдущих властиев и их семьи.
Наследнику Соаху не хотелось шевелиться и думать. Лучше бы уснуть, как ящерице зимой где-нибудь в северной стране. Оторвать хвост воспоминаний о Такаламе и медленно отращивать новый, уже без него. А весной открыть глаза человеком, свободным от груза прошлого.
В первый день было много ярости. Как мог этот порченый старик вот так запросто умереть? Он же обещал ему! Он ему столько всего обещал! Юноша переворачивал подносы и табуреты, разбивал вазы и статуэтки, выкрикивал проклятия всем и вся, пока не сорвал голос. Когда злость иссякла, ее место заняла тупая боль, затем пришла пустота. Нико сделался отрешенным и потерянным. Он почти не ел, отказывался от прогулок. Мать стенала и молила супруга повлиять на сына, но Седьмой велел оставить его в покое.
Нико закрыл глаза, зеленые, как листья перечной мяты, и запустил пальцы в каштановые кудри.
– Мерзкий старик, как ты мог умереть без моего разрешения?
Он ударил кулаком в подушку. В этот миг над ухом что-то просвистело и впилось в шелковые обои. Нож! Принц сделал кувырок и спрятался за ширму.
– Неудачное место, молодой господин! Вас видно как на ладони.
Нико и правда сплоховал. Свет, падавший из окна, отчетливо вырисовывал его силуэт на фоне расписных створок.
– Чтоб тебя пеплом разнесло!
Чинуша было не разглядеть в утренних сумерках, но его выдал дерзкий молодой голос. Нико вышел из укрытия, торопливо зажег лампу. Чинуш картинно скривился, оглядев покои господина. Всюду бардак: подносы с сухими лепешками, огрызки фруктов, скомканные грязные вещи по углам. Нико не разрешал служанкам входить в комнату, так что здесь давно не убирали.
– Да вы самоубивец, господин! – весело сказал Чинуш, цокнув языком. – Не держите оружие поблизости. Не закрыли окно. Даже дверь не удосужились запереть.
– Смерти захотел? – прошипел Нико. – Да как ты посмел нарушить приказ Седьмого?! Тавар придушит тебя собственными руками!
– Он скорее прикончил бы вас, – холодно отозвался Чинуш. – Более бесполезного ученика сложно представить.
Слова дернули разом все нервы. Чинуш знал, как разозлить принца. Нико ненавидел его немногим меньше Тавара – лучшего мастера ножей Соаху, их общего учителя.
Чинуш был старше Нико на два года. В свете пламени его серые глаза казались золотистыми. Короткие волосы цвета красного дерева отливали медью. Черты лица тонкие, почти приятные. Вид портили только торчащие уши. Несмотря на духоту, Чинуш был в полном облачении: кожаный доспех, высокие сапоги на шнуровке, под плащом оружейный пояс. Все черное, как и положено члену отряда Летучих мышей, которых Такалам в шутку называл летучими крысами. Люди Тавара считались лучшими наемниками на материке. Седьмой очень их ценил и доверял, насколько мог, хотя прежде каждый трид Летучие мыши собирались в главном зале и клялись ему в верности, а Такалам проверял искренность присяги. Мысль о том, что старика скоро кем-нибудь заменят, расстроила Нико еще больше.
– Какого затмения тебе надо? – процедил он сквозь зубы.
Чинуш хитро прищурился:
– Да вот, знаете, не спалось. Решил погонять воздух в вашей комнате. Уж больно спертый. Тут давно не проветривали?
– Пшел вон!
– Вообще-то я пришел вызвать вас на поединок.
Нико вырвал нож из стены, метнул в Чинуша. Тот крутанулся, пропуская лезвие, и хлопнул в ладоши.
– Оп! А если без шуток, выглядите паршиво. – Взгляд наемника сделался жестким. – Лучший ученик мастера никогда не довел бы себя до такого. Но я сегодня добрый! Отменю вызов и уйду, если отдадите мне брошь первенства.
– Вот оно что, – хмыкнул Нико. – Выжидал столько дней, пока я ослабну?
– Я всего лишь наблюдал, до чего вас доведет порченый старик. Мастер всегда говорил, что он ваша слабость. У вас подушки от слез просыхать успевают? Может, сразимся разок, пока они сушатся? Ветер сегодня хороший.
– Ты подписал себе смертный приговор одним приходом сюда! – выпалил Нико, краснея от стыда и ярости. – Унизил моего учителя, а теперь и меня! Так хочешь выслужиться перед Таваром? Ты хоть знаешь, как я могу тебя наказать?!
Чинуш выдержал тяжелый взгляд Нико с дерзкой улыбкой и снова цокнул языком.
– Не грозите словами! Они и царапины на мне не оставят. Идемте.
Он развернулся и скрылся в темноте коридора.
Нико сделал несколько глубоких вдохов. Поддаваться глупо. Чинуш просто наглая шавка Тавара, он не стоит и капли пролитого пота.
– Проклятье!
Юноша пнул вазу и взъерошил кудри, задев серьгу – изумруд в форме виноградного листа, раскачивавшийся на тонком золотом плетении.
Злость не утихала. Как они смеют так радоваться смерти Такалама? Стариковский прах еще улечься не успел, а Тавар и Чинуш уже готовы втоптать его имя в грязь. Нико ударил кулаком по столу с такой силой, что взволновалась фруктовая вода в графине. Часть ее выплеснулась на мозаичную столешницу. Запахло мускатом и медом. Розовая лужица медленно вытянулась и поползла к краю.
– Лучший ученик! Я покажу тебе, кто тут лучший ученик!
Он торопливо переоделся, натянув белую тунику с золотым шитьем и короткие коричневые шаровары, защелкнул оружейный пояс, подхватил кинжалы в резных ножнах и выскочил из комнаты. В коридоре мирно сопел десяток стражников. Пахло чем-то сладким. Юноша затаил дыхание и побежал. Чинуш наверняка использовал ядовитое благовоние, чтобы пробраться к нему.
Снаружи было пустынно и тихо. В завесе духоты нет-нет и появлялись нотки утренней прохлады. Террасу увивали лозы камписа и винограда. Мозаика листьев рябила под влажным дыханием бриза. Вдалеке журчали фонтаны.
Чинуш был здесь не один. Грудь сдавило от плохого предчувствия. На скулах заиграли желваки. Ладони вспотели.
– Мышонок наконец соизволил выглянуть из норки! Это повод для большой тренировки.
– Обратись пеплом, Тавар! Я не в настроении!
– Убийцам плевать на ваше настроение, мой господин, – ответил учитель, прищурив карие глаза, в полумраке казавшиеся смоляными.
Как и всегда, его темные одежды навевали мысли о чем-то неприятном и мрачном вроде затмения. Каждая деталь мастера ножей – идеально подогнанный наряд без единой складки и пятнышка, ровно обрезанные усы и борода, гладкие волосы, собранные на затылке в черный, лоснящийся хвост, вычищенные ногти и глянец сапог – говорила о нем, как о человеке в высшей степени педантичном и привыкшем просчитывать все на сто шагов вперед. Тавар был настолько аккуратен в работе, что ни разу еще его жертва не успела закричать перед смертью. Внутри Нико при виде мастера ножей поднималась волна страха, и мигом обострялись нервы. Тавар, словно тарантул, подбирался неслышно и нападал неожиданно, в самый неподходящий момент, следуя приказу Седьмого. Даже во дворце Нико не чувствовал себя в безопасности и старался всегда оставаться начеку. Это было частью его обучения.
– И это все, что вы подготовили для поединка? Самоуверенность убивает, мой господин. – Глаза Тавара сузились до щелок. – Вы позволяете себе подобную беспечность из-за смерти какого-то порченого старика?
Нико промолчал. Ярость лучше использовать по-другому.
Тавар ненавидел ошибки ученика. Он замечал их сразу. По выражению лица, дерганым движениям, сбитому дыханию. И тогда мастер ножей становился беспощаден. Нико вспомнил, как однажды забыл проверить сигнальные колокольчики на окнах. Тавар, пробравшись в комнату ночью, чуть не задушил его за эту оплошность. След на шее потом держался два-три дня, а глаза так налились краснотой, что даже в зеркало смотреться было страшно. Урок мастера ножей подарил Нико триды кошмаров и волны мурашек по телу от одного вида учителя.
Публика собралась тихая. Робко перешептывались за балюстрадой смоковницы, с укором кивали георгины. На арке позади Чинуша гудели осы. Они облепили спелые гроздья и жадно пили ягодную кровь.
– Мастер пообещал мне хорошее наказание, если я не уложу вас сегодня! – весело заявил молодой наемник. – А если одержу победу, Седьмой получит подробный доклад о вашем позоре.
– Это Тавар задумал? Я знал, что у тебя кишка тонка вытворять такое без его приказа.
Чинуш уже не слушал. В бою он становился холодным и расчетливым на манер учителя. Ни лишнего слова, ни посторонней мысли. Медленно, плавно, словно тень от тучи, скользящая по мраморному полу, он надвигался на Нико.
Юноша встал в стойку. Он старался исподволь следить за ногами противника. Шаг ускорялся. Чинуш ринулся на Нико черным вороном. Полы плаща разлетелись, точно крылья. Метательный нож незаметно лег в ладонь. Нико уличил заминку в ногах перед броском. Откатился в сторону. Стальная кобра канула в сеть плюща и застряла в листве. Второе лезвие дзинькнуло о камень колонны.
Чинуш сократил расстояние. Кинжалы встретились. Лязгнула сталь. Напряглись мускулы.
Тело непослушное, тяжелое. Даже распаленное гневом и азартом, оно двигалось медленней обычного. Тавар стоял в стороне и наблюдал с видом триумфатора. Для двух учителей, контрастных, как ночь и день, сын властия давно стал полем боя. Мягкость или жестокость. Самопожертвование или предательство. Любовь к ближним или себялюбие. Нико часто терялся, не зная, что правильней. В его сознании боролись убеждения Тавара и Такалама. Мастер ножей учил выживать любой ценой, убивать, лгать, жертвовать другими. Прималь наставлял отдавать последнее ближнему, защищать слабых, говорить правду. Сейчас Нико сражался не против Чинуша. Он бился за идеи Такалама. Отвоевывал им право на существование внутри себя. Обида на прималя забылась. Вместо нее вспыхнул гнев, обращенный к мастеру ножей и Чинушу. Все, кроме победы, стало незначительным, эфемерным. Нико больше не сомневался, на чьей он стороне.
Они двигались по кругу. У наемника длинный кард и жесткая ладонь наизготове. У Нико два парных, коротких кинжала с узкими лезвиями. В глазах – огонь. В жилах – бурлящая лава.
Первый удар. Кинжал схлестнулся с кардом. Мышцы свело от напряжения. Рука Чинуша остановила второй клинок. Нико вывернулся и сделал укол. Наемник отпрыгнул, как стервятник, чья добыча внезапно ожила. Краем глаза Нико улавливал танец теней на мерцающем мраморе. Они то сливались в единое пятно, то разрывались на два силуэта. Нико ринулся на Чинуша, целясь в горло. Тот увернулся. Кард прорезал воздух по диагонали. Нико пропустил лезвие над грудью. Сделал кувырок назад. Чинуш уловил мгновение и метнул нож. Лезвие задело край штанины. Нико едва успел откатиться. Он вскочил, отводя рубящий удар сверху. Противники снова сцепились в каскаде коротких выпадов. Сверкали объятые лязгом и звоном металлические молнии. Чинуш попытался сделать подсечку. Нико пнул его по колену и на долю секунды ослабил внимание. Кард скользнул по бедру. Боли не было. Пока не было.
Нико ушел влево и ударил в открытую зону Чинуша. Тот успел поставить блок. Вид первой крови сводил его с ума. Молодой наемник пылал от восторга. Нико снова принял боевую стойку. Ему нужно было немного подумать. Сосредоточиться. Собраться. Но Чинуш не давал передышки. Разгоряченный, он наступал снова и снова. Бесполезно рассекал воздух, будто стараясь напугать. В какой-то миг его движения сделались беспорядочными. Нико поднырнул под лезвие. Чинуш перехватил его руку с кинжалом, но было уже поздно. Резко распрямившись, Нико ударил Чинуша в подбородок рукоятью. Тот пошатнулся и упал, выронив кард.
Тренировка была окончена. Не будь в ней ограничений, Чинуш мог вывернуть кисть Нико, а тот пронзил бы соперника острием.
Победитель старался скрыть дрожь в руках, но схватка слишком вымотала его. Тавар не удержался от едкого словца:
– Будь на его месте я, вы бы давно харкали кровью, мой господин. Вы дрались отвратительно. Взгляните на свое бедро и воздайте благодарность Такаламу за него. Я надеюсь, что преподал вам хороший урок.
– Ты думаешь, что теперь я буду целиком твой? – жестко спросил Нико.
На лице Тавара пролегла едва заметная тень.
– Я рад, что больше никто не будет забивать вашу голову дрянными мыслями и отвлекать от тренировок.
Нико ловким движением заткнул кинжалы за пояс. Посмотрел на учителя с серьезной суровостью.
– Ты научил меня драться, Тавар. А Такалам научил меня думать. Однажды я спросил его, почему он говорит с тобой на равных. Почему не боится. Он сказал, что у него есть особенное оружие против тебя. И что когда-нибудь оно сыграет с твоей чванливостью злую шутку.
Тавар рассмеялся:
– И что это за оружие, мой господин? Я должен бояться горстку пыли?
– Время, Тавар. Всего лишь время. Знаешь, в чем была сила Такалама? Он становился мудрее с годами. И хотя он всего лишь порченый старик, ему до самой смерти было, что мне дать. А что дашь мне ты, Тавар? Что ты дашь мне, когда постареешь? Подумай об этом.
Он развернулся и отправился в покои, чувствуя спиной прожигающий взгляд мастера ножей. Наверное, не стоило так говорить. Глупо настраивать против себя опасного человека. Но как приятно было видеть гримасу недовольства на лице Тавара! Будь он хоть трижды лучшим наемником Соаху и доверенным Седьмого. Пусть ни он, ни его шавки не забывают о том, кто станет следующим властием. Сейчас Нико просто мальчишка с кратким именем, но когда-то оно распустится в грозное Нишайравиннам Корхеннес Седьмой.
Сладкий запах в коридоре выветрился. Нико распинал храпящих стражников и позвал служанок, наказав им принести умывальную чашу с прохладной водой и легкую закуску. Впервые за много дней проснулся голод. Нико словно освободился от тяжкого груза. Стены комнаты больше не прельщали ложным спокойствием. Хотелось вырваться из плена дворца и отправиться куда-нибудь далеко. Туда, где ветер выдует из головы темный туман. Где не будет Чинуша и Тавара, каждодневных примерок свадебного наряда, глупой невесты и материнских слез. Где бьющий набатом властный голос отца не догонит и не ударит в спину приказом. Где тысячи историй и знания, разбросанные на каждом шагу, начнут вливаться в глаза и уши, превращая разум в сокровищницу.
Пришлось повозиться, обрабатывая порез. На такой случай в комнате всегда имелась мазь и чистые бинты. Рана обильно кровоточила, но оказалась неглубокой, зашивать не пришлось. Нико давно не обращался к лекарю и заботился о себе сам.
Умывшись и сжевав пластинку обезболивающей пастилы, он вдохнул полной грудью и вдруг вспомнил слова, которые Такалам повторял каждый раз, когда его донимали люди Тавара: «Скоро крысы окончательно выберутся из помойной ямы, залезут тебе на плечи и станут пищать гадости обо мне в оба уха. Они и сейчас делают это каждый день, поэтому позволь мне попросить тебя кое о чем. Играй со мной в го, когда я умру. Доставай доску в моей комнате и играй так, будто играешь со мной. Мне будет приятно, если ты почтишь мою память. Покажи этим летунам, что помнишь старика. Они ничего не смыслят в логических играх, так что я смогу поквитаться с ними даже с того света».
Произнеся это, Такалам странно поглядывал в сторону дверей, за которыми, как обычно, кто-то подслушивал. В его голосе звучала тревога, но раньше Нико не придавал значения бредням учителя. Он не любил думать о смерти Такалама и отмахивался от его просьб, стараясь забыть их как можно скорее, но выходка Тавара задела юношу за живое, и ему захотелось наведаться в домик прималя.
Ночь уже растаяла среди трепета листьев. Нико сбежал по ступеням террасы, и рассвет коснулся румянцем его бледных щек. Вдалеке, за арками, увитыми лианами камписа, виднелся лимонный сад. Юноша легко нашел бы его и с закрытыми глазами – по аромату листьев. Чуть восточнее, на берегу крошечного, заросшего кувшинками озера, стоял дом Такалама с зеленой крышей. Сердце сжалось от тоски. Здесь все было по-прежнему, будто старик вышел на прогулку, а не умер. Под ногами знакомо скрипели половицы. Ладонь скользила по гладкому дереву перил. Под навесом качались фонарики, выдутые из цветного стекла, – подарок далекого Намула. Свечи внутри оплавились, прогорели. Надо бы снять поддоны, очистить от воска и насадить на тонкие стержни новые желтые столбики с фитилями. Но кому это теперь нужно?
Нико по привычке отер подошвы сандалий о коврик у порога и вошел. В комнате было темно и душно. Пахло старым деревом и гарью. Неужели Такалам разжигал камин в такую жару? Если подумать, в его топке каждое утро лежал ворох золы, хотя служанка приходила убираться ежедневно.
Доска для го отыскалась под кроватью. Старинный, тяжелый гобан выглядел как столик на коротких ножках и был целиком вырезан из бука. Нико провел по нему ладонью, чувствуя под пальцами царапины, избороздившие лаковое покрытие. Грубые, заметные царапины. Для Такалама, боготворившего го, такое отношение к доске выглядело странно. Где он так ее повредил? Обычно они с Нико играли на другом гобане, а на этом Такалам упражнялся дома, в одиночестве. Юноша проследил узор царапин кончиками пальцев и, задыхаясь от волнения, поднял доску к свету. Лаковый глянец на крышке гобана перечеркивали секретные знаки Такалама. Нико тут же опустил его и торопливо открутил одну из ножек. Внутри обнаружился плотный свиток из тонко выделанной кожи, а в нем письмо учителя, состоявшее целиком из тайнописи:
Я рад, что ты нашел послание, хотя меня печалит причина этого действа. Должно быть, я уже мертв, а ты пришел сыграть со мной в го и, конечно, заметил царапины. Я хочу рассказать тебе кое-что очень важное, но боюсь твоего недоверия. Боюсь настолько, что это сводит меня с ума. Ибо ты можешь посчитать мои слова выдумкой полоумного старика, а мне пока нечем их подкрепить. Потому я не раскрою всего здесь и сейчас, но попрошу у тебя внимания.
Долгие годы я изучал черное солнце и людей с Целью. Великое чудо, что здесь, в Соаху, к нам относятся не слишком предвзято. Еще большее чудо, что отец твой принял мое проклятие как дар. Я был счастлив служить ему и воспитывать тебя.
Однажды ты спросил, почему я так люблю детей. Этих «крикливых созданий с глупым взглядом, сопливым носом и вечной грязью у рта». Я промолчал, ибо всякому ответу свое время. Теперь я отвечу, взяв за пример опыты северного садовника, давным-давно приютившего меня.
– Зачем ты это делаешь? – спросил я, увидев, как он срезает верхушки молодых яблонь, похожих на прутики, и приматывает к ним новые веточки, прежде расщепив и вставив их друг в друга.
– Это дикушка, – ответил мне старик. – Плоды у нее мелкие, а горечь от них такая, что, того гляди, язык себе выкрутишь. Зато здесь хорошие корни. – Он похлопал по земле рядом со стволиком. – Крепкие корни. Холода и засуха им не страшны. А вот это, – он указал на деревце в кадке, от которого отделял веточки для примотки, – я раздобыл на южной окраине материка. У нас такие не растут. Яблоки сочные, сладкие. С твой кулак будут. Да только земля у нас мерзлая, а они к теплу привыкшие. Вот чтобы не погибли, я и прививаю их на дикушки. Когда древесина срастется, сила корней поднимется по стволу, и почки в рост пойдут. Корни-то северные, а плоды южные будут.
Позже он показал мне, как пытался привить ветки к зрелому дереву. Многие не срослись, а если и срастались, большая часть яблони все равно продолжала плодоносить терпкими бусинками.
Теперь представь, Нико, что молодая дикушка – это ребенок, а ветка культурной яблони – знание. Если привить его малышу в начале жизни, он вырастет вместе с ним и будет думать и поступать так, как его научили. Взрослый же давно укрепился на диких корнях, и переубеждать его почти бесполезно. Даже если новая мысль приживется на одной из веток его разума, останутся сотни других, на изменение которых могут уйти десятки лет.
Когда я пришел в дом Седьмого, ты еще не родился. Я видел живот твоей матери, видел тебя младенцем. И как только ты научился ходить, еще не отягощенный миром, напитанный только любовью, неиспорченный и неозлобленный, принялся учить тебя. Я вырастил хорошее дерево, Нико, с тем чтобы ты когда-нибудь разбил на моих учениях целый сад. Воспитывая потомков, увлекая своим примером близких, правя народом Соаху. Будучи единственным наследником, ты вскоре получишь большую власть. Потому я мечтаю, что ты останешься далек от жестокости в отношении таких, как я.
В конце жизни я наконец понял, в чем состоит Цель порченых людей и как она связана с черным солнцем. Однако воплотить ее уже не успею, а на объяснения уйдет уйма времени. Но у меня есть записи. Две книги, которые я писал и переписывал целую жизнь. Я не мог хранить их во дворце: здесь всюду глаза и уши. Они спрятаны в местах, где людям и животным до них не добраться. С их помощью я надеюсь раскрыть тебе великую загадку мира – загадку затмений.
Я собирался рассказать все в путешествии в честь твоего совершеннолетия, но не дожил до него, и потому тебе придется дважды изменить курс корабля, дабы отыскать рукописи. Я уверен, капитан выполнит любую твою прихоть, даже если Седьмой будет против. Книги написаны на тайном языке, и ты единственный в мире сможешь понять их. Это важно, Нико. Важно, как сама жизнь. Ты можешь лишиться ее, если не выполнишь мою просьбу. Я нарочно не открываю подробностей, потому как знаю тебя лучше всех. Ты теряешь интерес к тому, что получаешь легко, не доверяешь подобным вещам и не ценишь их, а поделившись моими знаниями с Таваром или отцом, и вовсе плюнешь на бредни полоумного старика. Я болен, Нико. Болен страхом твоего недоверия. Но я приучил тебя к поиску истин и надеюсь, эти строки не оставят тебя равнодушным. Считай их моей главной и последней загадкой.
Глава 3
Вороненок с бедой на хвосте
Если читатель задастся вопросом, почему я потратил всю жизнь на изучение порченых людей, ответ будет прост: я стремился познать их, дабы стать ближе к самому себе. «За каждый труд да воздастся», – любила повторять Ами. Это правдивая поговорка. После долгих лет работы мои старания наконец оплачены. Я сделал выводы, которыми хочу поделиться с другими. Однако то, что я напишу, – всего лишь догадки измученного старика-скитальца. Я не стану утверждать, будто мысли мои – последняя истина. Но и оставить их только в бренном теле, а после пустить по ветру прахом было бы глупо. Потому я запишу их здесь.
Догадка первая: у каждого, кто рожден с Целью, есть и свой дар в противовес изъяну. Для правдолюбца ложь очевидна, как грязное пятно на рубахе. Мне даже кажется, у людей меняется голос, когда они лгут. Уроды предчувствуют беду. Плакальщики отличаются небывалой силой. Легковеры всюду видят хорошее и дарят надежду. Тайну безногих я не мог разгадать много лет. Только единицы калек доживают хотя бы до юности, а в детстве дар почти неразличим. Но все же кое-кого встретить мне удалось. И из наблюдений я могу сделать вывод, что такие люди способны управлять. Управлять кем угодно. Власть их слова и взгляда не поддается объяснению. До сих пор не погас в моей памяти образ хрупкой безногой девушки, подчинявшей воинов и крестьян, душегубов и прималей. Девушки, которую я любил.
(Из черновиков книги «Племя черного солнца» отшельника Такалама)
* * *
Архипелаг Большая Коса, о-в Пепельный
12-й трид 1019 г. от р. ч. с.
– Отпирайте, сонные тетери! – послышался мальчишеский голос. – Тут на мне дружок ваш кулем лежит!
Сиина торопливо растормошила парней на полатях. Астре спрятал в рукаве столярный нож.
– Открывайте!
Дверь пнули.
– Не врет, – коротко бросил Марх, всегда отличавший правду от вымысла.
Проснувшиеся дети испуганно жались друг к другу, словно замерзшие пташки.
– Ты кто? – громко спросил Астре. – И что за дружок?
– Да Генхард я! Генхард! – взволнованно сообщил мальчишка. – А этого звать как-то не по-нашему, не помню я! Он по дереву мастер вроде как. Всякие плошки да ложки делает. Забирайте его, зря пер, что ли?
Переглянувшись с остальными, Рори пошел сдвигать засов. Марх встал чуть поодаль, накладывая на тетиву стрелу. Сиина застыла у окна, до дрожи сжав ладонь Астре. Предчувствие не обмануло ее.
Из сеней дохнуло холодом и сырым запахом дождя. В проеме появились две фигуры. Рори тут же побежал снимать Илана со спины мальчишки. Генхарду было лет четырнадцать на вид. Бедняга согнулся в три погибели, с носа и повисших сосульками темных волос капала вода. Грязный след растоптанных башмаков тянулся от самого порога.
– Вот и ладно, – пробормотал он, опасливо косясь на Марха. – А я-то пойду. Пойду я. Больно надо мне с вами, обормотами, связываться.
Он развернулся и собрался бежать, но Рори проворно сгреб мальчишку в охапку свободной рукой.
– Так ведь чернодень скоро, – пробубнил он сочувственно. – Куда пойдешь-то? Обсохни хоть.
– А я и в лесочке схоронюсь! – завопил Генхард, извиваясь ужом и пытаясь укусить Рори. – А ну пусти! Пусти меня!
Не тут-то было. Хватка у плакальщика оказалась железной.
– Тащи его внутрь! – скомандовал Марх, подставляя спину для Илана.
Мальчишку вытолкнули на середину комнаты и обступили со всех сторон. Сиина только краем уха слышала разговор. Она подтапливала печь ради горячей воды и металась от кладовой с настойками и травами к стонущему брату. Он весь был в синяках и кровоподтеках. Нос сломан, губы разбиты, лицо вспухло так, что от карих глаз одни щелочки остались.
Дорри при виде его забился в угол, а Яни подошла и погладила по слипшимся темно-рыжим волосам.
– Больно, да? – спросила она.
– Не мешайся, – подтолкнула ее Сиина. – Иди к остальным.
Яни стащила с соседней лавки одеяло и отправилась в общую комнату, где вели допрос нового знакомца. Она протиснулась между старших и деловито, без тени страха укутала трясущегося Генхарда. Потом обняла крепко и спросила, глядя на него снизу вверх:
– Ты теперь тоже с нами, да?
Мальчишка выпучился на нее.
– А я и говорю, – вступился за него Рори. – Обсохнет пусть, потом говорит. Все равно чернодень.
– Еще охаживать его не хватало! – завелся Марх. – Может, тут целая толпа таких в кустах прячется, пока мы его греем да жалеем!
– Эй. – Яни дернула парня за штанину. – Убери свою стрелялку. Иди лучше ставни затвори, затмение скоро.
– Ты чего раскомандовалась, поганка мелкая? – вспыхнул тот. – А ну иди сюда! Сама у меня закроешь! Сначала рот свой бесстыжий, а потом и все остальное!
– Ты у нас самый длинный, – фыркнула Яни, прищурив раскосые глаза и спрятавшись за Рори так, что видны были только две тугие рыжие косички. – У тебя руки, как оглобли, вот и закрывай сам. Я не достану.
– Зато язык у тебя до потолка достает! Что за дети пошли! – возмутился Марх. – Попадись мне только!
Он поворчал для вида, развернулся и нехотя поплелся выполнять поручение маленькой хозяйки.
– Жить будет, – сообщила Сиина, забежав на кухню.
– Помочь надо? – спросил Рори.
– Нет, я сама.
Астре пропитался болью Илана, от которой все внутри переворачивалось. Страдания шли не от тела, они кипели внутри парня. Его что-то мучило и давило.
– Яни, завари чаю, – попросил Рори.
– А с чем? – оживилась та.
– С малиной. Две горсти положи, – суетливо бросила пробегавшая мимо с полотенцем Сиина. – Ему пропотеть нужно. – Она мельком глянула на Генхарда и добавила: – И этому тоже.
Рори подвинул к печи стул и усадил на него мальчишку. Марх плюхнулся на лавку, вытянул босые ноги. На рукавах и штанинах пестрели полосы материи. Сиина подшивала их каждые полгода, но Марх рос быстро, и лодыжки все равно оставались голыми, а руки открытыми до середины предплечий. Генхард, напротив, тонул в не по размеру большом подранном тулупе и грязных шароварах, подпоясанных не то скрученным платком, не то лоскутом от скатерти. Великаньи башмаки, туго стянутые ремешками, едва держались на худых икрах.
Долгих пару минут, пока Яни гремела банками с заваркой, все молча сверлили взглядом нового знакомца.
– Чего уставились, как воронье на падаль? – буркнул Генхард, обхватив ладонями горячую кружку и сделав первый несмелый глоток. – А я и ничего. Я мимо себе проходил, а там смотрю, а его колотят – рыжего вашего. А я этих-то знаю. Они бока намнут, пообдирают наспех, да и все. А там то монетка в сторону откатится, то обувка справная окажется, то еще чего. Я и подбираю за ними. Ну, и хотел тут тоже посмотреть, может, забыли чего. А они озверели чего-то, обобрали до нитки, ладно хоть, штаны на нем оставили. А я и смотрю – шевелится еще. Дай, думаю, до дома дотащу. Вдруг чего пожрать дадут.
– Вдруг чего спереть можно? – поправил Марх, прищурив зеленые глаза.
– А чего сразу переть-то? Чего переть? – заершился Генхард. – Я-то и ничего. Я только за хлеба кусочек.
– Ты его в гору через глухой лес пер за кусочек хлеба? – фыркнул правдолюбец, скрестив руки на груди. – Лучше не ври, малой, я тебя насквозь вижу.
– А я и не вру… – Мальчишка вжал голову в плечи и совсем скукожился. – А вы все эти, да? – Он боязливо кивнул в сторону Сиины. – Порченые?
– Так и знал! – выпалил Марх, подскочив. – Ясно вам, зачем он сюда поперся? Дорожку заприметить, а потом провести сюда его «этих», чтобы они нам бошки посрубали!
– А ты чего тут развонялся, клоп?! – разъярился вдруг мальчишка. – Чего чернишь меня? Чего чернишь? Откуда тебе знать, где я слово не в ту сторону заворачиваю? У самого язык колет, как солома голый зад! Расплодились тут, как тараканы! Да кому вы нужны, уродцы этакие? – Он сплюнул на пол и зло зыркнул на остальных.
Яни, только что вручившая кружку бледному Астре, подошла к мальчишке и без лишних слов бахнула его по лбу железным ковшом.
– Дурак, – сердито сказала она. – Ты теперь будешь жить с нами, так что не ругайся тут, а то язык будет как у Марха. Бери тряпку и вытирай свои слюни. Сестра тут моет-моет, а ты плюешься. Убирай давай!
А ты-то чего разоралась, мелкая? – всхлипнул мальчишка, приложив грязную ладонь к ушибу. – Чего вы все орете? Я даже дорогу не помню! По темноте шли-то! Кому я вас теперь… кому я про вас расскажу-у-у-у?
Рори потянулся к Генхарду, чтобы утешить. Тот весь съежился и подозрительно быстро перестал выть.
– Илан очнулся, – выдохнула появившаяся в проеме Сиина. – Бормочет что-то невнятное.
Рори подхватил Астре и понес в комнату, где лежал раненый. Марх последовал за ними. На пороге он обернулся и велел Яни проследить за Генхардом.
– Сиди тут, со мной, – сказала она, пристроившись на краешке стула и взяв его за руку. – И не сбегай, а то укушу. А если ты меня обидишь, мой брат тебя побьет.
– А который из них твой брат? – опасливо шепнул Генхард.
– Все, – гордо ответила Яни и улыбнулась.
Мальчишка стянул одеяло и прислонился спиной к печи. Он до сих пор дрожал, а с волос капала вода.
– Ты так заболеешь, – заметила Яни. – А у нас малины мало. Снимай все и вешай вот тут, на веревку.
– И не буду я снимать!
– Снимай! – Яни принялась стаскивать с него обувь. – Все равно не сбежишь! Не косись на дверь!
– Да уж голым-то точно не сбегу, – огрызнулся Генхард, смелея от того, что старшие собрались в другой комнате.
– Снимай, а то закричу и скажу, что ты меня обижал, – недовольно прищурилась Яни. – Знаешь, какие у Рори кулаки? Он тебя ух! И сплющит, как блинчик! А Марх тебе стрелу прямо в попу пустит! Ты потом целый трид будешь стоя сидеть.
– Вот же пиявка приставучая! И чего я вообще сюда перся? Попал в клеть со зверями! Вы небось и человечину едите?
– Мы кролика едим, – пожала плечами Яни, сдвигая одежду Марха и помогая Генхарду развесить свою. – Сестра варила суп из его косточек. Я сначала не хотела есть, но Дорри говорит, он уже мертвый. Он не обидится, и ему не больно.
– А-а-а, вон оно чем пахнет так вкусно. – Мальчишка сглотнул, глянув на котелок за спиной. – А этот ваш рыжий мне обещал, что накормит. А я и думал, он на краю деревни живет. А он, гад, вон откуда. В самых горах, да в глуши. И как он меня уговорил на такое? Знаешь, сколько я его тащил? Полтора дня! Он-то здоровенный, ноги еле волок, а я его почитай на своем горбу пер. Как поглубже в лес зашли, я его бросить хотел, а ночью не видать ничего, дорогу назад забыл! Так и пришлось до самого порога волочь! Вы мне теперь не хлеба кусочек, вы мне пир закатить должны! Целую свинью зажарить! Да с яблоками! Или с чем там целых свиней едят?
– Тут служанок нет, – отозвалась выглянувшая в дверной проем Сиина. – Ложку возьми и ешь. Котелок уже нагреться должен.
– Еще кормить его не хватало! Не для него ловил! – взъелся было Марх, но его прервал Астре:
– Пусть ест.
Оставшийся в одних подштанниках Генхард подошел к столу. Снял с крючка половник, воровато озираясь, отломил кусок хлеба, завернутого в тряпицу. Пристроился у печи и принялся жадно хлебать. Яни с интересом наблюдала за ним. У Генхарда были черные глаза и такие же волосы. Впалые щеки чуть порозовели от теплой еды. Когда он смахивал пряди со лба, Яни заметила коротенький обрубок на месте правого мизинца. Генхард давился и кашлял, но продолжал черпать жидкий суп, а после обсасывать и грызть косточки, на которых не было мяса.
Илан приходил в себя мучительно и медленно. Сиина сидела рядом, на табурете, поглаживала его по руке, старалась не плакать. В парня влили два стакана крепкой настойки на дубовых стружках. Сиина готовила ее для прималя и иногда добавляла в питье детям, чтобы выгнать простуду. Марх хищно косился на бутыль, которую в прошлый раз ополовинил, а в этот раз так и не нашел.
Наконец Илан открыл глаза и сказал первую осмысленную фразу:
– Уходите отсюда…
– Все хорошо, Илан, это я! – взволнованно выдохнула Сиина. – Ты уже дома, все хорошо, ты теперь дома! Где у тебя болит? Я сделаю примочки.
– Дверь заприте! – прохрипел Илан. – Они убили Иремила! Они за нами пришли, заприте дверь!
Предчувствие не обмануло Сиину, как не обманывало никогда.
Приближалось затмение. Марх и Рори подтащили к двери сундук, стол и обе лавки, но спокойней не стало. Густая, душная тревога сочилась в щели, мешалась с жаром натопленной печи.
– Все будет хорошо, – сказал Астре, стряхнув оцепенение.
Его голос временами звучал по-особенному, и в эти мгновения никто не решался вставить лишнее слово.
– Где Генхард?
– Он тут в угол забился, – отозвалась Яни. – Я за ним слежу!
Она не слышала об Иремиле и оставалась спокойной, остальные едва держали себя в руках.
– Пусть подойдет ко мне, – сказал Астре.
– И н-не пойду я! Чего вам, обормотам, от меня надо? Не я же этого вашего колотил! Ничего я не помню! Не помню ничегошеньки! Ни как сюда шел, ни рожи ваши порченые!
– Врет, – поморщился Дорри, пряча мокрые глаза. – Он точно врет, это он их привел. Я ему врежу!
Он сжал кулаки.
Марх втащил крикуна в комнату и поставил перед калекой. Это далось ему нелегко, но от ревущего на полу Рори не было никакого толку.
– Когда затмение закончится, ты выйдешь и скажешь, что порченых здесь нет. Ни одного, – громко произнес Астре, используя силу дара. – Ты никому о нас не расскажешь. Никогда. Даже под пытками. Ты понял?
Он посмотрел на мальчишку так пристально, что тот невольно отступил.
– Д-да и понял я…
Сиина крепко сжала плечо Дорри и велела ему принести воды для Илана.
– Ну ты и гад, – бросил здоровячок, проходя мимо Генхарда. – И зачем ты вообще родился?
– Это я-то гад?! – завопил вдруг вороненок не своим голосом. – Да это вы тут все! Мусор безродный! А я! А я!
– Заткнись уже! – не выдержал Марх, отвесив ему оплеуху.
Какое-то время прошло в оцепенении и молчании. Астре рассеянно смотрел на дверь. Рори беззвучно всхлипывал, а Яни его жалела. Марх стоял возле Илана, прикусив губу. Генхард притих и шмыгал носом, глядя в пол. Одна Сиина не находила себе места. Она металась из комнаты в комнату беспокойной тенью. Переставляла чашки на полках. Зачем-то взялась перетряхивать мешки. Марх, наблюдая за ней, не выдержал. Подошел, отвел сестру за ширму и прижал к груди.
– Хватит уже, – сказал он тихо. – Поплачь.
Девушка мелко задрожала и вдруг вцепилась в Марха, прильнула изо всех сил. По шрамам на щеках одна за другой покатились скудные слезы.
– Мне так страшно! Мне страшно! – шептала она.
– Поплачь и успокойся. Нам нельзя раскисать и с ума сходить.
Сиина судорожно вздохнула и замерла. Ее снова кольнуло предчувствие. Липкий комок в груди разросся.
В ту же секунду тишину прорвал оглушительный треск. В сенях скрипели половицы под топотом шагов. Звякали бутыли и стеклянные плошки на полках. Марх оттолкнул сестру и схватился за лук. Внутренняя дверь дрогнула от мощного толчка, но не открылась. Снова удар. Сильный, будто тараном. Яни завизжала. Сиина, не зная, что делать, накинула на нее покрывало. Астре сжался. Все были до смерти напуганы, и лишь глаза Генхарда сияли. Они отражали блеск золотых монет, обещанных за каждую порченую голову.
– А и правда вы убить никого не можете! – выпалил он радостно. – Бестолочи! Так и надо вам! Это мои пришли! Они вам зададут теперь!
Снаружи слышались отчаянные крики:
– Р-раз!
– Еще!
– Ломайте! Затмение начинается!
– Затмение!!
Марх подскочил к сундуку и стал его подпирать. Рори бросился на помощь. Дверь держалась и, может, спасла бы их, если бы не Сиина. Она стояла, дрожа от ужаса, и вдруг закричала:
– Они же сгорят! Там нет ставней! У нас в сенях нет ставней! Они сгорят!
И эти слова перекрыли все. Парни оттолкнули лавки и распахнули дверь настежь. В комнату ворвались шестеро мужчин. Генхард был прав – порченые беззащитны. Вот почему так легко с ними расправиться. Вот почему звон монет за их головы способен затмить даже страх перед черноднем. Они впустили в дом убийц, чтобы те не сгорели. Так велела проклятая Цель.
Глава 4
Змеиная шкура
Взлелеянный многими, он далек от скромности. Он знает, что красив и умен. Знает, какое будущее ждет его. Но зароненные в глубину зерна истины не позволят переступить начерченную мной грань. Та к думал я до сих пор. Теперь же терзаюсь сомнениями. У Нико множество учителей. Я лишь один из пальцев на его руке. Пойдет ли он по пути, на который я укажу?
(Отрывок из тайных дневников Такалама)
* * *
Материк Террай, государство Соаху, г. Падур
8-й трид 1019 г. от р. ч. с.
К моменту, когда взволнованный, запыхавшийся принц вернулся в покои, солнце уже поднялось, и окна, выходившие на восток, напоминали два золоченых щита: блестящие занавеси в лучах сияли жидким золотом. Юноша раздвинул их, озарив бликами кованую люстру и заставив полыхать зеркало у кровати. Потом бережно вынул из шкафа длинный свиток и, освободив достаточно места, развернул прямо на полу. Шелковый прямоугольник, занявший треть комнаты, оказался картой Сетерры.
Сверху и снизу, словно яичные скорлупки, ее обрамляли земли, занятые снегом и льдом. В Западном полушарии, под северной шапкой, рассыпался бусинами-островами архипелаг со странным названием: «Джанай, команда из тридцати трех человек и храбрый пес Унка». Чуть ниже растянулись два почти слипшихся материка: крошечный Твадор и огромный Исах. Под брюхом у Исаха ютились кривой ромб Нанумба и похожий на силуэт оленя с ветвистыми рогами Ноо. Крупные острова внизу были плохо и мало изучены. В основном они носили цвет вечной мерзлоты и не представляли интереса для мореходов.
Террай – один из трех малых материков Сетерры – расположился аккурат между двумя полушариями – в самом центре материкового кольца. На западе его зажимала клешня великана Исаха, с юга подпирали рога Ноо. Правее, на большем расстоянии, распростерся похожий на летучую мышь Намул, а на востоке кольцо замыкал крупнейший в мире архипелаг Большая Коса – родина Такалама. За ним у кромки карты вытянулась сверху вниз узкая Руссива с народом неприветливым и неохочим до торговли.
Террай, целиком поглощенный государством Соаху, со всех сторон омывался водами внутренних и полузамкнутых морей и имел выход в Серебряный пролив. Это способствовало бурной торговле, а золотые рудники, обилие рек и благодатных почв, защищенных горной цепью, делали Террай самым богатым и процветающим местом Сетерры.
Отца Нико, властия Соаху, звали попросту Седьмым. Таким образом опускалось и его собственное имя, и многоэтажные титулы, налепленные друг на друга подобно виноградинам. Во времена важные и пышные, на большие праздники и при встрече послов имя Седьмого звучало многословно и многозначно. Впору было сломать язык, выговаривая его. Но в обычное время оно уравнивалось с родовым числом правящей династии.
Нико опустился на колени перед картой и внимательно разглядывал ее, пока не наткнулся на маленькую точку посреди Медвежьего моря – Акулий остров. В этом месте Такалам изучал легенды о черном солнце и здесь же спрятал часть своих записей.
Нико мысленно прочертил несколько линий, однако все торговые пути проходили в стороне от тайника. Это усложняло задуманный план.
Послышался стук в дверь и голос служанки:
– Молодой господин!
Если выплыть из порта Падура и через Шейвелов пролив отправиться к основанию Большой Косы, а на середине пути взять курс северней…
– Молодой господин!
– Вот же проклятье! – Нико подскочил. – Я велел всем катиться отсюда!
– Седьмой властий ждет вас у себя! Позвольте помочь вам одеться!
Вырванный из потока мыслей юноша сгорал от раздражения, но слово отца – закон.
– Я сам оденусь, проваливай!
Нарядившись и расчесав непослушные кудри, Нико поспешил в сторону главного дворца.
Седьмой властий на первый взгляд не оправдывал слухов о собственной мудрости и величии. Ему было всего тридцать с небольшим. Возле уголков серых глаз чуть наметились морщины. Волосы того же каштанового цвета, что и у сына, рассыпались кольцами до груди. На левой щеке темнели три родинки. Седьмого можно было легко принять за брата Нико. Безбородый и хрупкий, он едва ли выглядел старше двадцати пяти. Между тем разум властия значительно опережал тело. Седьмой правил Соаху вот уже шестнадцать лет. В роду его давно не было чистокровных соахийцев – смуглых, черноволосых и высоких подобно пирамидальным тополям. Пройдя сквозь череду политических браков – с пухлогубыми ноойками, рыжими намулийками и множеством других народностей, – родовые черты сохранились только в кудрях и лисьем разрезе глаз. Они же передались Нико. Остальное юноша унаследовал от матери – принцессы государства Пакутта, имевшего большое влияние в Рыбном море.
Властии всегда с трепетом относились ко внешности наследников и заключали «красивые браки». Они выбирали сыновьям невест, обращая внимание не столько на статус, сколько на здоровье и выразительность лица девушки. Потому матерью Нико стала не первая, а пятая дочь шана с редкими мятно-зелеными глазами. И, надо сказать, весьма удачно. Благодаря ей Нико затмил даже Седьмого, имевшего очень приятную наружность.
Властий ожидал сына в светлом кабинете со стенами, завешанными расписным шелком. Нико терпеть не мог это место. Он помнил наизусть каждый штрих сюжетов, по линиям которых так внимательно скользил взглядом, пока слушал нравоучения отца. Конечно, теперь Седьмой бранил сына редко, но неприятные воспоминания навсегда пропитали узоры тканей.
– Ты избегаешь ее уже трид, сын мой, – спокойно сообщил властий, дымя трубкой из слоновьей кости.
Он сидел на подушке, скрестив ноги и опершись о низкий стол. Тело властия скрывали одежды из простого хлопка. Ни золотого шитья, ни тройного знакового пояса, ни жемчужных нитей в волосах. В общении с близкими родственниками Седьмой ценил простоту.
Юноша сел на коврик напротив, кашлянул в кулак, вдохнув порцию дыма.
– Я говорю о Варии. Она плачет день и ночь. Говорит, ты не хочешь на ней жениться, – продолжал Седьмой, и в его голосе сквозила сталь.
Нико съежился и промолчал.
– Ты так горяч ко всему, так чем же невеста заслужила твой холод?
– Своей глупостью, – сказал Нико. – Она пустая, как выеденная осой виноградина.
– Жене монарха не нужно быть умной, – отрезал Седьмой. – Она всего лишь следует за мужем. Достаточно и того, что у вас будут красивые дети. Я надеюсь, тебе хватает ума не очернять Варию у всех на виду. Ты не Такалам, чтобы быть таким честным. Давно пора поумнеть, а ты все еще похож на визгливого щенка. Я слишком тебя разбаловал.
– Как же. – Нико был взволнован запиской учителя и не следил за языком. – У нас будут очень красивые дети! Красивые и безмозглые. Вот увидишь, им и половины моего ума не достанется, если я разделю ложе с такой… – Он запнулся, не решаясь продолжать.
Седьмой пристально смотрел на сына. Нико чувствовал, как взгляд отца тяжелеет, норовя припечатать его к земле. Щеки юноши залились краской, на лбу и висках заблестели бисерины пота.
– Когда ты родился, я долго размышлял, как тебя назвать, – сказал властий, дробя слова, точно куски стекла. – Я выбрал прекрасное имя. Скрытность. Хитрость. Опасность. Вот каким ты должен был вырасти. А на деле у тебя нет ничего, кроме острого языка и чванливости. Ты не змея, ты ее сброшенная шкура, которая мнит себя коброй и раздувается от бахвальства при каждом удобном случае. Может, ты и умен, да только в одну сторону. Меня поражает, как ты в один миг с легкостью обыгрываешь меня в го, а в другой творишь такие нелепости, что хочется схватиться за голову. Ты совсем не понимаешь, как устроен мир. Сыплешь красивыми фразами вроде той, что недавно посвятил Тавару, а сам не видишь дальше собственного носа. Кажется, я зря разрешал Такаламу проводить с тобой столько времени. Он затуманил твой рассудок.
– Да что я сделал не так?! – воскликнул Нико. – Просто скажи, в чем я не прав? Зачем ты меня унижаешь?
– Я не унижаю тебя. Ты мой сын, и я хочу сделать из тебя властия. Тебе уже шестнадцать, так что перестань вести себя как ребенок. Судмир для нас точно острие копья. С тех пор как там открылись золотые рудники, он все богаче и мощнее, а ты избегаешь Варию. Хочешь, чтобы мы потеряли Брашский пролив?
– Нет…
– Девяти дней на скорбь достаточно. Мы должны подготовиться к вашей свадьбе.
– Отец, я…
Ты вырос из того возраста, когда мог делать только то, что хотел! – отрезал Седьмой. – В твои годы я придумал, как обойти Геллу и Стамбал, чтобы отвоевать путь в Море Трех Царств, и я был женат, растил годовалого тебя, а ты все бегаешь по дворцу, пиная слуг и без конца играя в го.
– У меня просьба! Всего одна! И потом я пойду к Варии, я сделаю что угодно, только выполни ее!
Сказав это, Нико подался вперед и замер в ожидании, чем, кажется, удивил отца. Серые глаза властия посветлели, он смягчил тон.
– Чего ты хочешь?
– Путешествие. Я не хочу жениться до тех пор, пока не посмотрю мир. Я перестану быть глупцом, когда пройду испытание. Ты справился с этим в пятнадцать. Так почему я до сих пор здесь?
– Традиции важны для Соаху, – холодно произнес Седьмой. – Но ты еще не готов скитаться по свету в одиночестве целый год. Потренируйся, почитай книг.
Лицо Нико почернело.
– И сколько ты собираешься держать меня у матери под подолом? Уж не всю ли жизнь? Ты намерен отказаться от испытания? Так?
Седьмой ударил ладонью по столу.
– Молчи! Ты мой сын и будешь слушаться меня, пока я не умру. Если я сказал, что ты не готов, значит, так и есть.
– Тогда просто убей меня и сделай нового сына! – крикнул Нико, подскочив. – А я не стану жениться!
Он чувствовал, как земля уходит из-под ног, как истончается терпение отца, как мосты между ними опасно расшатываются.
Седьмой уставился на сына, и на этот раз Нико не отвел взгляд. От волнения он весь пошел красными пятнами и дрожал, словно мокрый косуленок на зимнем ветру.
– Что ж, Такалам предупреждал меня, – неожиданно спокойно вздохнул властий, выпустив кольцо дыма. – Этот старый скиталец говорил, что ты заболел его сказками и теперь не оставишь их в покое. Мало того что он провалил свою задачу, так еще и с радостью. Я же велел ему подавлять в тебе бурные настроения. Даже разрешил воспитывать тебя, чтобы ты мог узнать о мире все, не выходя из дворца, а он только распалил тебя.
– Что толку рассказывать мне о вкусе блюда, если я никогда его не пробовал? – торопливо начал Нико, чувствуя, что поддел правильную нить. – Зачем тренировки с Таваром, если тут никто на меня не нападет? Если хочешь уберечь меня, дай мне закалиться!
– Это все громкие слова самонадеянного мальчишки! Ты не представляешь, какова жизнь снаружи! Без слуг, без больших денег, без учителей на каждом шагу. Когда выйдешь за ворота, станешь никем. За пределами дворца никто не знает тебя. Для народа ты всего лишь имя. Без лица и без тела. И если ты выдашь себя и погибнешь, я не стану выкупать даже твой прах. Мы с твоей матерью еще достаточно молоды для нового наследника.
– Я знаю, – сдержанно кивнул Нико после недолгого молчания. – Спасибо, отец. Я скажу Варии, что мы поженимся сразу после моего путешествия. Я буду к ней внимателен.
Властий повернулся к окну. Юноша выскочил из кабинета, растолкав перепуганную свиту, и отправился обратно в покои. Слова отца задели его, но Седьмой был прав. Нико оберегали шестнадцать лет, и лишь немногие знали, как выглядит принц. Властиям нельзя было иметь больше одного ребенка мужского пола. Того требовал почти столетний закон, основанный на трех догмах Соаху. Первая запрещала делить земли между сыновьями ради сохранения цельности материка-государства. Вторая говорила о силе предков. Считалось, что энергия поколений сосредотачивается в первенце, а затем делится между всеми мальчиками в семье. Чем меньше сыновей, тем сильнее будущий монарх. Третья догма накладывала табу на братоубийство. По легенде, именно родственные междоусобицы погубили династии с первой по шестую. Кровные убийства приводили к потере энергии предков, делали правителей слабыми, подвластными болезням и сглазам. И потому, вступив на трон, Седьмой отказался от них. Из-за черного солнца на Сетерре не было войн между государствами, но Нико иногда размышлял, что случится, если кто-то убьет властия и его наследника. Сменится ли тогда династическое число на восьмерку? Но для этого нужно найти тех, кто заплатит убийцам больше, чем самый богатый правитель мира. И придется уложить отряд Летучих мышей во главе с Таваром. Во все времена деньги служили роду Седьмых нерушимой стеной. Спокойствием Соаху правила алчность.
* * *
Все кругом было облито ржавчиной восхода. Мерзкий час, когда тьма уступает свету и благородная чернота одежд выдает, а не скрывает. Чинуш не любил утро и не любил день. Он хотел, чтобы миром правила ночь. Густая, пряная, как дым благовоний. Покорная тем, кто ее не боится.
Тавар обещал вернуться как можно скорее, и молодой наемник с трудом сдерживал волнение, расхаживая перед дворцовой стеной из бледно-желтого кирпича. Невдалеке благоухал сад фиалковых деревьев. К облегчению Летучего мыша, ветер дул на юг, относя пыльцу в сторону моря. Из-за треклятой жакаранды Чинуш по два трида не мог свободно дышать. Ближе к осени цветение было не таким бурным, и он переносил его легче, но все равно чувствовал себя так, будто наглотался металлической стружки.
Чтобы унять першение в горле, он достал из кармана персик и, надкусив, ухмыльнулся. Пару тридней назад, когда девушка, несшая ужин Такаламу, проходила мимо, Чинуш, флиртуя, предложил ей точно такое же угощение. Служанка торопилась, но мыш остановил ее и спросил, не голодна ли бедняжка. Она ведь бегает с подносами целый день, обслуживая гнусных стариков, а у самой наверняка и крошки на языке не лежало. Девушка вспыхнула и с радостью откусила от сочного фрукта, так и не узнав, что тем самым спасла себе жизнь.
За день до этого один из людей Тавара наконец отыскал подходящую отраву. У нее не было запаха, цвета и вкуса. Смертельное совершенство не вызывало ни кровотечений, ни пены изо рта. Человек просто засыпал и не просыпался. Служанка попробовала еду сразу после того, как съела кусочек персика, пропитанного противоядием, поэтому осталась жива и убийства не заподозрили, а порченый старик наконец-то развеялся пеплом.
Смакуя десерт, подслащенный долгожданной смертью Такалама, Чинуш наблюдал за Падуром, сдернувшим кисею ночи. Наливалась цветом крикливая мозаика фасадов, рябила в глазах пестрота куполов и торговых палаток. По главной дороге ехали повозки, оживали рынки. Воды причала светлели, облекаясь в дымную синеву. Ночь уходила, а Тавара все не было.
– Да где вас носит? – прошипел Чинуш спустя четверть часа, изнемогая от ожидания.
Седьмой вскоре должен был позвать их на утренний совет. Опоздание мастера могло вызвать подозрение, поэтому мыш весь извелся и позабыл об осторожности. Тавар не преминул наказать ученика. Он задел ему ухо метательным ножом с расстояния в сто шагов. Чинуш резко обернулся, схватившись за рану.
– Смерть всегда приходит вовремя, – сказал мастер, подойдя вплотную и небрежно утерев кровь мыша. – А к нетерпеливым в два раза быстрее. От твоих больших ушей снова никакого толку.
Чинуш стиснул зубы. На скулах заиграли желваки.
– Простите, – выдавил он вместо ругательства.
– В другой раз я просто наступлю на твой труп. Пойдем. Есть время поговорить. На оружейном рынке много интересных вещиц. Я присмотрел кое-что.
Тавар говорил вовсе не о рынке, а о тайной встрече с главой Судмира, чья дочь вот уже шесть тридов жила во дворце в ожидании свадьбы с сыном Седьмого. В последние года властий урезал плату и привилегии Летучих мышей. Тавар не мог такого стерпеть. Он знал себе цену, любил роскошь и не принимал отказов. Седьмой вел разговоры о том, что рудники Соаху пустеют и нужно время, дабы расширить торговлю и восстановить приток золота. Он смотрел в будущее, а Тавар жил одним днем, не загадывая на завтра. В этом и разошлись их пути. Теперь мастер колотил разом две лодки, чтобы в итоге уплыть на той, которая окажется крепче. Первую то и дело подтапливал Такалам. Он мешал Тавару как следует воспитать будущего властия, чтобы после совершеннолетия возвести его на престол, тайно убив Седьмого. Потому пришлось строить вторую – наводить мосты с Судмиром.
– Вы нашли кинжал, который искали? – спросил Чинуш, имея в виду, состоялась ли встреча.
– Нашел, – кивнул Тавар, проходя мимо стражников в ворота дворца. – Но меня гложут сомнения. Я рассмотрел его вблизи и понял, что издалека он смотрелся лучше.
– У него недостаточно хорошее лезвие?
– Он остер и готов к бою, но на рукояти мало золота. Мне обещали, что он будет богаче.
– Так вы не купили его?
– Я не спешу со сделкой. Пусть добавят обещанных украшений, а там можно будет торговаться. Но, судя по последним новостям, он может и не пригодиться.
– Что вы имеете в виду? – нахмурился Чинуш.
– Есть еще шанс заполучить назад мой нож. Мертвец ему не хозяин. Думаю, я смогу вернуть его и заточить по-своему.
Это означало, что Судмир предложил недостаточно денег. Убийство Седьмого и переворот пришлось отложить. Тавар собирался воспользоваться душевной слабостью Нико после смерти Такалама и перетянуть его на свою сторону.
– Но сначала нужно показать, как нерадивый хозяин затупил мое оружие. Насколько никчемным сделал лезвие. Раз он так слаб, завтра на рассвете ты заберешь то, что хочешь.
Чинуш понял – речь идет о броши первенства.
– Я буду готов, – сказал он с довольной ухмылкой.
Но следующим утром Нико, утонувший в омуте переживаний, собрался и ударил Чинуша до темноты в глазах. Увидев, какую ярость вызвали у принца слова о Такаламе, мастер отказался от первой лодки.
Мыш тяжело пережил позор, но куда хуже было разочарование Тавара. Ученик чувствовал ненависть и презрение мастера ножей. Он не решался просить прощения или наказания. Слухи расползлись по дворцу сотнями юрких змей, и вскоре над Чинушем глумился весь отряд. Тавар предстал перед властием, однако вышел сухим из воды, объяснив суть поединка. Мутное озеро его мыслей скрывало чудищ.
В мрачных думах прошел очередной день, и на дворец опустился колпак ночи. Мыш сидел на крыше ротонды, когда шорох заставил его резко лечь, прижаться к прохладе черепицы.
– Спустись, – тихо сказал Тавар.
Он не разговаривал с учеником четыре тридня, и у Чинуша екнуло в груди от знакомого голоса. Он скользнул по колонне, спрыгнул на мягкую траву и оказался перед мастером.
– Мой старый нож совсем заржавел. Толку от него не будет.
Тавар медленно пошел по дорожке, обрамленной стрижеными кустами. Сладко пахло валерианой. На стене темнели силуэты дозорных.
– Вы решили купить кинжал? – загорелся Чинуш.
– Да, но я пришел поговорить не об этом. Первую лодку скоро спустят на большую воду, а тебе велят ее сопровождать. Она ненадежна, и лучше бы избавиться от нее, пока кто-нибудь не утонул. Я поручаю это тебе.
Глаза Чинуша загорелись. Он горячо кивнул.
– Подготовься и не спеши. Недавно ты увидел, какое там крепкое дерево. Не руби сгоряча. Если нужно, используй огонь и смолу. Утопи ее как можно дальше от Соаху. Сделай все тихо.
С этими словами Тавар сунул Чинушу крохотные флаконы.
Глава 5
Навстречу затмению
В 969 году от рождения черного солнца у императора Большой Косы появился на свет уродливый первенец. Разгневавшись, Валаарий приказал тотчас вывести жену и младенца во двор и предать их лучам затмения, а после несколько тридней рассыпать по городу полынь, дабы прах сожженных навсегда покинул дворец и его окрестности. Мне думается, ярость эта была показной и выполняла роль щита. Император знал, что причина крылась в нем, но власть требовала от монарха безупречности. И дабы не позволить усомниться в себе, Валаарий вскоре издал указ, по которому отныне должно было избавляться ото всех порченых младенцев, детей и взрослых, разводить грешных матерей и отцов, запрещать им впредь жениться. Та к хотел он пресечь ветви проклятого племени и заявил, будто сама императрица была рождена нечистой, но скрыла это поддельной родословной. И долго еще выставлял он себя жертвой обмана, не ведая, что имя его, и титул, и семейное древо – одна большая ложь.
В этом месте, пользуясь правом рассказчика, должен я оставить строку благодарности моей матери, чья хитрость и изворотливость позволила мне встретить старость, а ей благоденствовать до самой смерти. Ложь была главным ее оружием, и потому я родился с Целью правды. Если бы матушка не успела вовремя подменить меня на другого младенца, нас ждала бы та же участь, что постигла жену и сына Валаария. Смирившись же, отец привел бы меня на трон, где ныне сидит мой дряхлеющий названый брат. И тогда я вместо Валаария стал бы плохим правителем, а не ученым мужем, алчущим истины во всем и доводящим эту истину до читателя.
(Из черновиков книги «Племя черного солнца» отшельника Такалама)
* * *
Архипелаг Большая Коса, о-в Валаар
13-й трид 1019 г. от р. ч. с.
Едкий дым от курительных трубок заполнил дом. Горели по углам свечи, трещали поленья в топке. Чужаки смели все, что было на столе, и требовали еще. В ход пошли остатки муки и заячье мясо, из которых Сиина испекла румяный пирог. Запах от него шел изумительный, но порченым не досталось ни кусочка. За пару глотков опустела пущенная по кругу бутыль с настойкой на дубовых стружках. Теперь Илану нечем было спастись от боли.
Астре ненавидел себя. Власть голоса достигла Генхарда, но не мужчин. Калека мог управлять только теми, кто младше его.
Пласты чувств и эмоций втекали друг в друга, спорили, смешивались. Они были почти осязаемы. В комнате, где сбились порченые, плескался океан страха, а с кухни сквозило отвращением и злобой. Астре пропитался эмоциями. Он с трудом держал себя в руках, но среди невзгод витало крохотное утешение: чужаки боялись детей черного солнца. Вряд ли Илана били, зная, что он с Целью. Временами выпивка горячила головы, и мужчины храбрились, но скоро остывали.
– Так ты, оборвыш, узнал, кто из них с какой заразой? – спросил щербатый главарь, обгладывая косточку. – Девка-то сразу понятно какая. С этим обрубленным тоже дело ясное. А остальные?
– А я и узнал почти! – обрадовался Генхард, подскочив к столу, но тут же вскрикнул от пощечины.
– Ты мне в глаза-то не пялься, вшивый!
– Да я и не пялюсь! И не пялюсь я! Хошь обувку твою поцелую? Хошь?
Генхард упал на колени и подполз ближе к ногам главаря с высунутым языком.
– Ах ты собачонка слюнявая! – прорычал щербатый под хохот остальных. – Ты не бреши в сторону. Ты давай выкладывай, как нам на суде про них говорить!
– А я и… я… – Генхард попятился, удивленно округлив глаза. – И не могу я… сказать…
Последнюю фразу он произнес полушепотом, неосознанно повинуясь приказу Астре.
– Чего ты там бормочешь, патлатый?
– Да не помню! Забыл я!
Его долго пинали под ребра, но он молчал.
Ночь и день объединились. Под столом валялась груда банок из-под земляничного вина. Голоса становились громче, разговоры – смелее.
– Слышьте, – сказал, икнув, рыжий верзила. – Эта девка страшная, а та вон, которая с косичками, ничего.
И он загоготал, будто услышал хорошую шутку. Сиина, убиравшая посуду, застыла на полпути к мойке. Внутри Астре поднялась волна страха, он стал судорожно соображать. Побитый Генхард стонал где-то на кухне, помощи от него никакой. Марх и Рори крепко спали в плену мор-травы. Остался только Дорри. Он понял все без слов: накрыл девочку одеялом и сел так, чтобы ее не было видно.
– Нашел хлеб в навозе, – фыркнул темноволосый. – Свяжись-ка с такой! Потом ни на одну девку до конца жизни не глянешь!
– И не гляну? – горячился рыжий. – Да у меня знаешь сколько их было? Эй, патлатый, скажи-ка? Сотня аль две?
Генхард, отходивший от побоев у дальней стены, проскулил что-то невнятное. Сиина умоляюще глянула на Астре. Она воплощала страх причинять боль и ничего не могла сделать.
– Чего ты лыбишься? Не веришь, а? Да я тебе покажу, каков я! – пообещал рыжий, вставая. – Ишь, заартачились! Давеча самого прималя порешили, и где хоть какая напасть случилась? Да нету ее! И теперь не будет!
Он решительным шагом направился к Яни.
– Не трогай! – бросилась к нему Сиина, спотыкаясь об уроненные чашки.
Илан попытался встать. Астре дернулся в сторону девочки. Дорри сжал кулаки и встал перед ней. Верзила отбросил его, как щенка, толкнул Сиину, пнул Астре и сорвал одеяло.
– Не смей! – прохрипел калека, держась за живот.
Яни смотрела на рыжего раскосыми глазенками. Сначала на него, потом на руку, которую он положил ей на плечо. Она аккуратно сняла ее и обхватила обеими ладошками.
Верзила уставился на девочку в недоумении. Все замерли.
– Знаешь, какая у меня Цель? – спросила Яни.
– Какая?
– Сочувствие. Я всех-всех жалею. Я тебя тоже пожалею. Потом.
И она сломала ему запястье. Легко, как хрупкую корочку льда. Рыжий заорал и шарахнулся в сторону. Сиина повалилась на пол рядом с Яни, укрыла ее собой, сотрясаясь всем телом. Следом подскочил Дорри. Астре сидел весь мокрый от пота и ошеломленный. Конечно, он знал, что у Яни дар защищать и что она обладает силой взрослого мужчины. Но не ожидал такого поступка.
– Я вам все сломаю, если подойдете! – крикнула девочка из-за плеча Сиины. – Я сильная! И мою семью мне больше жалко, чем вас, вы поэтому не думайте, что я вас из-за Цели не обижу!
Потом она спряталась за сестру и тихо заплакала.
Ближе к утру, когда почти все дремали, Яни выбралась из объятий Сиины и отправилась мимо спящего Астре на кухню, где громко попросила разрешения дать Генхарду воды.
Ей позволили.
Яни наполнила ковш, подошла к притихшему вороненку и сначала стукнула, а потом приподняла и помогла напиться.
– Ты дурак, – сказала она, обмакивая рукав и протирая окровавленное лицо паренька. – Но мне тебя все равно жалко. Ты противней, чем таракан. И жалко мне тебя меньше, чем таракана. Но пей уж так и быть.
Едва сдержавшая панику от выходки сестры Сиина нервно рассмеялась:
– И чего мы такие родились? Даже врагов своих жалеем. Как тут выжить?
Она прошептала это с досадой, но Астре почувствовал расцветшую внутри сестры гордость за Яни.
Когда открыли ставни, оказалось, что весь чернодень шел снег. Вокруг дома высились рыхлые сугробы, заставшие северян врасплох. Никто не видел, как зима рассыпа́ла по веткам белые горсти. Лишала зелени последние листья. Прикрывала грязь мира тонким серебристым платком.
Астре думал, что от них избавятся в ближайшей деревне, но чужаки решили переправить добычу на главный остров Большой Косы – Валаар, где за порченых была назначена самая высокая цена.
Сиина одела детей во все, что нашлось в доме. По советам Илана сколотили подобие саней для перевозки раненых. Потом пробирались по сугробам к хлеву на окраине деревни, куда прикатили крытую повозку, чтобы доехать до порта. Это были дни холода, темноты и тряски. Илану становилось то лучше, то хуже. Щербатый сказал, что избавится от него, если парень совсем не жилец.
Путешествие по морю проходило в темноте и забытьи. Отвар сон-травы притуплял чувство голода и страха, гасил боль. Благодаря ему Сиина не сошла с ума от предчувствий, а Илан и Рори не корчились от боли. Дремота, пропитанная душной вонью, стала для них спасением.
Астре просыпался и засыпал с тошнотой. От качки мерещилось, что отец снова несет его к ущелью в тесном куле. Но даже из такого кошмара не хотелось возвращаться в реальность. Пленников опаивали постоянно, чтобы вели себя тихо и не просили еды лишний раз. Пока их везли в порт, это было не так важно, но на судне, когда бочки с детьми заперли в одной из комнатушек товарного отсека, любой визит в трюм мог вызвать подозрение. Щербатый велел оставить порченым мешок сухарей, бочку воды и пару бурдюков, заполненных сонным зельем. Потом торговцы по традиции забили дверь наглухо, и до прибытия в порт Валаара пленников никто не навещал. Никто, кроме Генхарда.
Когда питье закончилось, вступил в силу план Астре, для которого он велел вороненку сопровождать их на Валаар. Сильно ослабев от голода, порченые могли упустить возможность побега. Им просто не хватило бы сил на него. Помощь Генхарда пришлась как нельзя кстати.
– У-у-у, обжоры, – бухтел мальчишка, толкая в щель под дверью кусочки сухого хлеба, а иногда даже плоские баночки тушенки. – Самому жрать охота аж спасу нет, а я тут гадость всякую подкармливаю. Я тебе, куценожка, за это отплачу!
– Генхард пришел! – каждый раз восхищалась Яни. – Ты мой хороший! Ты опять нам покушать принес?
И неслась к нему со всех ног. А вот Дорри отказывался брать еду вороненка, Астре приходилось его убеждать. Генхард торопливо просовывал все, что удавалось принести, и возвращался на палубу.
Головорезы сильно рисковали, решив продать порченых в столице. Согласно закону, проклятых запрещалось брать на судна. Это считалось дурным знаком, призывающим штормы.
Выбравшись из укрытий и улегшись кто где – на тюках, грудах мешков, воняющих рыбой, старых ящиках и веревках, – дети коротали дни за тихими, едва слышными разговорами. Никто не заикался о предстоящей казни или суде. Вспоминали прошлое. Хорошие моменты, теплые вечера, Иремила. Делились секретами, которые берегли до последнего.
– Слушай, Астре, а помнишь, как меня только-только привели в дом? – сказал Илан, пихнув калеку в бок.
– Ты целый тридень не вылезал из угла, обнимался с дубовым табуретом и плакал.
Дети захихикали.
– А как ты попал к Иремилу? – спросила Сиина, от нечего делать потроша на ниточки толстую веревку.
Этот вопрос прежде считался табу. Войдя в дом прималя, дети молчали о прошлом и начинали жизнь с чистого листа. Никто из них до сих пор не знал о детстве друг друга, кроме двоих.
– Да я… – запнулся резчик по дереву.
– Расскажи, – тихо сказал Астре. – Им понравится. Он чувствовал неловкость Илана и даже в полной темноте знал, что сейчас парень сцепил ладони в замок и по привычке крутит большими пальцами. Он родился на год раньше Астре, но появился в доме позже калеки и был единственным, кого в прежней семье любили. Потому Илан и не хотел ничего рассказывать, чтобы не ранить чувства других. Будучи ребенком, он о таком не думал, и Астре, конечно, знал его историю.
– Расскажи, – повторил калека. – Я хочу послушать про твоего отца.
Все притихли, даже Яни и Дорри перестали ерзать.
– Он не знал, что я в затмение родился, – вздохнул Илан. – Папка мой. Он меня в лесу нашел. За деревом туда ходил как-то по осени. Холодно уже было. Там много чего попадало, он напилил, набрал целый ворох чурбаков и поленьев, лыка надрал. А я не плакал, он бы меня не нашел, наверное, да собака нашла. Я не знаю, может, потому, что тоже рыжая, как я. Может, щенка во мне увидела. Я лежал в ямке среди листьев, а она подскочила, начала скулить, облизывать. Он на шум и пришел, папка мой. А у него до того по зиме всех детей покосило с женой вместе. Он тоже здорово переболел, у него все лицо и все тело в таких жутких струпьях было. Но он то какую-то кору заваривал, то ветки с почками грыз, то спиртовки из них делал. Деревом себя лечил. И выжил, а жениться во второй раз… Да кто за него пойдет? Он ведь еще и ослеп на один глаз. Когда он меня нашел, ему уже много лет было. Подобрал.
Голос у Илана начал дрожать. Астре положил руку ему на плечо.
– Я это не помню, это он рассказывал. Я маленький совсем был. Ну вот так я и жил с ним. Все детство помню пыль в лучах солнца, когда оно заглядывало в нашу мастерскую. И стружки – целая гора. Такие почти белые и закрученные спиральками. Как волосы какой-нибудь деревянной богини. Я чего только с ними не делал. А уж сколько заноз насажал в первые годы. Это у нас была традиция. Каждый вечер садились перед огоньком. Отец мне, а я ему – занозы вынимали. Он-то слепой наполовину, а я маленький, руки дрожат, даже ткнуть иголкой в нужное место не могу. И вот сидим друг дружку ковыряем. Смех и грех.
– Так вот почему ты всегда мои волосы расчесывать просился, – улыбнулась Сиина. – На стружки цветом похожи?
– Н-ну…
Все рассмеялись.
– Рассказывай дальше! – восхищенно шепнула Яни.
– А и вы там погромче маленько! Не слышно! – раздался из-за двери голос Генхарда.
– И ты, что ли, тут? – удивился Илан.
– А и тут! – буркнул вороненок. – Эти там нажрались, буянить начали, спасу нет. Тумаков словил за просто так, ухо теперь горит. Лучше тут посижу, пока не перебесятся. Ты громче говори, там все равно ор такой, что ничего не слышно.
– Ой, я тогда к тебе поближе сяду! – воодушевилась Яни, двигаясь к двери.
– Я рос и странный становился, – продолжал Илан. – Отец сначала думал, что я маленький, наивный, поэтому так. А потом понял, что со мной творится. Но он не такой был, как остальные, он все равно меня любил. Старался из дома одного не выпускать и следил, чтобы я лишний раз не разговаривал ни с кем. Я уже тогда привык быть все время один в мастерской. Мне и теперь это душу греет. Потом как-то к нам заявился Иремил. Попросился на постой. Прималей у нас мало кто ночевать пускал. Как-то их боялись. Считалось, что они вроде как носят за собой души убитых порченых. И что эти души могут вселиться в живот женщины. И родится невесть кто. Так что в дома, где женщины жили, их не пускали вообще. А отец пустил. И как-то они разговорились, пока я спал. И на другое утро… вы знаете, я тогда не понимал. Я так плакал, так обижался на отца. А он просто хотел, чтобы я выжил. Я с тех пор все мечтаю к нему вернуться. Не знаю, живой он или нет. Может, еще там, а может, и пепла от него не осталось.
– А давайте придумаем, как будто у нас всех такие папки были! – выдохнула Яни. – Мне нравится! Аж в груди тепло стало!
– Я сочинять не умею, – расстроенно сказал Дорри. – Это немножко вранье.
– Да кому оно надо? – фыркнул Марх. – У нас давно такой папка есть. Иремилом звать. Так что нечего тут огорчаться.
– Да ты и огорчился больше всех, – улыбнулась Сиина, ероша ему волосы.
– А у меня прямо на душе посветлело, – признался Рори. – Побольше бы таких историй. После них сны хорошие снятся. А расскажи еще, Илан.
* * *
Уже близ Валаара Сиина, повинуясь предчувствию, велела всем возвращаться в бочки. До того щербатый предупреждал, чтобы прятались, если за дверью раздастся шум. И в самом деле, не успели пленники вернуться на места, как снаружи послышался топот, громкие голоса и ругань. Спустя четверть часа гвозди из досок оказались вынуты, и в товарный отсек ввалились торговцы. Каждый отправился в свою временно выкупленную комнатушку. Кто-то бранился: мол, идут не по очереди. За перегородками бурно шла проверка ящиков, сундуков, мешков. Смотрели, не пропало ли чего, трясли счетовода за обман и чуть не убили, узнав, что он приписал себе десять локтей ценного сукна. Головорезы вели себя тихо и сдержанно, только сквозь зубы ругались на вонь. Дети давно принюхались, но тем, кто только что вошел в их обитель, яростно ударили в нос едкие запахи рвоты, мочи, тухлой рыбы.
Потом бочки выкатили на палубу, и болезненная карусель длилась до самого берега. Там товар погрузили то ли на телеги, то ли в крытые повозки и повезли прямиком в столицу. Руки пленников дрожали от усталости. Пришлось собрать все силы, упираясь ими в стенки, иначе синяков и ушибов было не избежать. Но никто не пискнул и не выдал себя. Безногий в который раз удивился терпению братьев и сестер.
К столице – серому, сродни глине, городу Рахма, названному в честь отца императора, – добрались на шестой день. В щелки было видно, что большинство домов в нем каменные. Тусклые, неприглядные постройки из известняка и песчаника создавали разительный контраст с мраморным дворцом Валаария. Он возвышался над Рахмой, горделивый и пышный, словно богач, взирающий на распростертую у ног толпу нищих.
В какой-то миг топот копыт и стук колес заглушился шумом потока. Это бурная Лейхо несла воды к Медвежьему морю. Неугомонная, резвая, как девчонка, она спотыкалась о пороги и падала с обрывов. Сочась через щели, прокладывала путь меж скал. Раскидывала по сторонам притоки, делясь благодатной влагой с землями близ столицы.
Вскоре мягкая поступь сменилась цоканьем. Астре понял, что проезжают по мосту. Главные ворота были уже близко. Он услышал гомон толпы, звяканье, ругань, вскрики. Люди шумели так отчаянно, будто от этого зависела их жизнь. Пленники в тюрьмах-бочках испуганно молчали. Сиина сжалась от предчувствий, пока еще слабых, но настойчивых. Убеждение Астре теряло силу.
* * *
А нажиться было на чем! Тут словечко, там колечко. Генхард собирал все подряд: и слухи, и что где плохо лежало. Он-то не дурак – пропускать разговоры мимо ушей. У некоторых деньги изо рта сыплются – успевай карманы подставлять!
Приглаживая длинные патлы, Генхард при любом подходящем случае хвастал, что мамка его была не просто себе портовая угодница, а самая дорогая девка во всей округе. Уж она кого попало не привечала. И Генхард, значит, появился не от беззубого матросишки и не от бродяги из подворотни, а от богатого соахийца. У кого еще такие волосы бывают? Точно не у белобрысых северян. Черный – признак знатного рода. Стало быть, Генхард почти принц или кто там у них самый знатный в этой Соахии.
А на Валаар плыть заставил проклятый куценожка. Генхард о таком и не думал. Хотел сбежать подальше, выскулив у Рябого пару-тройку монет. А вместо этого в ногах у него валялся, прося, чтобы взяли с собой на корабль. Ну и взяли. Генхард злился, конечно, а делать нечего. Всю дорогу бегал в трюм к порченым да сухари тайком в щель под дверью совал. Их там не больно-то кормили, но Генхард и сам не толстый. А этот мелкий еще пыжился – не буду, мол, есть то, что гад принес. Это ж надо! Из соахийских рук подачку брать не хочет! Вот и пусть без Генхардовых сухарей с голоду околеет. А куценожке вообще надо глаза выколоть и язык оторвать. А то зыркает. Спасу нет. И голос этот. До костей пробирает.
Как порченых в столицу привезли, у всей округи мозоли во рту натерлись от болтовни. Слушок даже прошел, что сам император на суде будет. Раньше-то уродов по одному ловили и тащили. А тут сборище целое. Может, проклятие какое натворить собрались. Как устроят потоп или засуху, бед не оберешься. Валаарий до этого только один раз на суд приходил. В самый первый, когда жену казнить велел и ребенка ее. Неспроста он спустя столько лет снова решился в зал порченых явиться. Заволновался. Испугался, что плодятся, как крысы в амбаре с зерном. Столько времени боролся, а они все лезут.
К бочке куценожкиной Генхард зря подошел, когда в столицу ехали. Хотел в отместку плюнуть на него, крышку приоткрыл, а тот взглядом впился и давай шептать. На суд, мол, с нами иди, потом того, потом сего. Ну и пришлось опять в ногах у Рябого кататься, еще и под ребра словил. Во второй раз, между прочим! Но Генхард не червяк безродный – своего добился. И стоял теперь гордый посередь здоровенной залы. Рот раззявил от удивления и голову задрал.
Потолок был такой высокий, что, если корабль сюда затащить, мачты даже до разноцветных стекляшек наверху могли не достать. Купол из-за них казался воздушным, и узоры красивые получались, особенно пока солнце не пряталось за облаками. Когда лучи проходили сквозь стекло, на полу мерцали желтые, зеленые и розовые пятна. Такие чу́дные – наступать жалко. Генхарду хотелось, чтобы они стали расписными платочками. Рассовал бы по карманам, а потом продал за сребреник каждый. Только один бы себе оставил. Для памяти. Ну и потому, что принцам положено такое иметь. Тогда пьянчужки с Пепельного перестали бы надсмехаться, и все девки в ногах катались. У сына-то соахийца.
А кругом все белое, чтобы затмение поняло – тут день правит. И стены из светлого мрамора. И колонны, как кости. Одежонка у судей и та одинаково светлая. А народу-то полно! Забили зал. Не продохнуть. Хорошо хоть, Генхарду досталось место почетное – перед круглой впадиной, где, будто в колодце, переминались с ноги на ногу порченые. Отсюда видно было и судей на той стороне, и возвышение, где главный готовился произнести речь, и балкон высоко наверху, где за белой ширмой сидел сам Валаарий. Никому не видный, но грозный.
Генхард прожигал полотно взглядом, изо всех сил надеясь увидеть хотя бы тень императора, и так увлекся, что вздрогнул от голоса обрюзглого старика, кое-как забравшегося на постамент. У главного судьи в животе мог уместиться здоровенный порося. Жирдяй говорил хриплым голосом, задыхался и переводил дух после каждого предложения. У него было противное лицо. Сплющенное, как если бы морду из теста шлепнули об пол, прежде чем прилепить к шее. Казалось, глаза, рот и нос вжались в сальные складки. От такого зрелища впору было морщиться, но Генхард разглядывал старика с восхищением. Он страстно желал стать таким же упитанным, наряженным и важным. Задыхаться от сытости – роскошь. Тратить на одежду столько ткани, что хватило бы троим, – богатство.
– И здесь мы собрались. Без решения покинуть место сие не посмеем. Словом императора нашего и дланью его да свершится пусть суд над грешниками!
Раздробленное эхо заплясало по стенам и затихло. Воцарилась торжественная тишина. Генхард замер от предвкушения. Порченые жались друг к другу, глядя в пол. Куценожку держала на спине уродка, потому что сутулый, длинноногий и рыжий едва стояли. Чем-то их накачали здорово. Яни цеплялась за мелкого. Он, гад, так и не помер – точно сухари Генхардовы грыз.
Ну и ладно. Все равно их всех скоро затмение подпалит, да и дело с концом. А Генхарду можно на Валааре остаться. Погодка здесь теплее, народ богаче, и соахийцы бывают часто. Вдруг какой-нибудь узнает в Генхарде сына и заберет с собой. Главное – уехать в богатый край и уж там зажить как следует. Говорят, в Соахии принцы все подряд.
– Назовите же свои проклятия перед императором нашим!
Порченые, один другого бледнее, начали по очереди открывать рты и признаваться. Даром только Рябой бил Генхарда. Они сами себя на казнь выставили. Суд короткий получился, даже жалко. И не пытали никого. Валаарий сидел за ширмой, не показывался, но голос Генхард слышал. Император велел казнь не откладывать и этой же ночью привязать всех семерых к столбам. Сначала, ясное дело, опоить хорошенько, вдруг убежать попытаются. Лучше бы убить приказал, но народ суеверный больно. Говорят, если порченого убьешь, черное солнце на всю жизнь проклянет.
Все вроде шло хорошо, только заноза Генхарда изнутри колола. Он забыл какой-то приказ куценожки.
* * *
Пахло той особенной сырой свежестью последних дней лета, когда днем прошел дождь, а к вечеру воздух снова прогрелся, но не успел выпарить из почвы всю влагу. Дорога, зажатая меж хлебных полей, мягко пружинила под босыми ступнями. Астре вздрогнул. У него же нет ног. Он посмотрел вниз и увидел, как из-под длинных, невообразимо длинных штанин выглядывают стопы. Серые, подобно руке Иремила, они медленно шагали в сторону закатного солнца.
– Я ведь сказал, что всегда буду твоими ногами, – послышался знакомый голос.
Это говорил прах прималя. Сгоревший Иремил нес Астре на себе, как было много лет назад. Калеке захотелось плакать, и он заплакал. Как обычный человек, только слезы получились холодные.
– Я уже умер? – спросил Астре.
– Кто знает. Главное, что я могу нести тебя. Чувствуешь, какая прохладная почва?
– Чувствую…
– А камушки?
– Колкие…
– Вот и хорошо. Я буду твоими ногами, Астре.
Слезы все катились, туманили грозовые глаза калеки. Какие жгучие капли. Холодные. Ненастоящие.
– Прости меня.
– За что?
Табак и пыль – запах Иремила.
– Это из-за меня тебя поймали, – с трудом произнес Астре. – Наверняка из-за меня. Я убедил тебя, что убивать родителей неправильно, поэтому ты перестал. Ты хотел понять мою Цель, а я предал тебя, Иремил. Я привел к погибели всех нас.
Ноги стали тяжелыми, неподъемными. Они вязли в невидимой жиже и таяли, словно восковые свечи. Астре приближался к земле.
– Ты все сделал правильно, – возразил Иремил. – Такова твоя Цель.
– Я не хочу такую Цель! Не хочу убивать всех!
Астре почувствовал, что щеки сухие. Ни следа влаги, все обман. Не было никакой беседы с Иремилом и не было ног – поддержки, которой калека навсегда лишился. Он убил человека, который пытался спасти порченых, и теперь разговаривал сам с собой в поисках прощения. Обманное, но такое желанное, оно могло остаться с Астре до конца. До мига, когда черное солнце обратит прахом привязанное к столбу тело. Сонный отвар подарил минуты покоя. И лучше погрузиться в них. Отпустить все, простить себя и забыться.
Но Совесть била в грудь набатом. Цель заставила Астре поднять тяжелые веки.
На горизонте бледно-розовая полоса – след ушедшего солнца. Капли на щеках – остывший пот. Пустынная степь вокруг ощетинилась сухой травой. Никто не стал бы жечь порченых близ столицы, поэтому ряд столбов для казни оказался вкопан здесь. Культи упирались во что-то жесткое. К столбу Астре прибили пару досок, чтобы можно было привязать калеку на уровне остальных. Слева безвольно повисли на веревках Илан, Марх и Рори. Справа – Сиина и младшие. Никто, кроме Астре, не пришел в себя.
– Это несправедливо, – шепнул калека, посмотрев на небо.
Почти ясное, только пара жалких облаков на горизонте, они не укроют от затмения. Руки, туго стянутые за спиной, онемели, Астре попробовал пошевелиться, но скорчился от боли.
– Это неправильно! – выпалил он, дернувшись. – Это я должен был умереть! Не они!
Что-то зарождалось в душе после сна с Иремилом. Цель мешалась с духом прималя и создавала нечто невыносимое. Оно не умещалось внутри калеки и терзало его маленькое тело.
– Пожалуйста, не сжигай их! Не сжигай! Это я виноват! Они должны жить! – повторял он, сдирая кожу на окровавленных запястьях.
Светлая полоса на западе истончилась до нити.
Начинался чернодень.
Глава 6
«Пьяный Ульо»
Кто бы знал, что на очередном торговом судне меня будет поджидать такой подарок! Нынешним утром я познакомился с оружейным мастером из Намула. Стоило большого труда убедить его показать эту вещицу. Без уроков милой Каримы я бы и близко не подобрался к заветному сундучку. Как я слаб и смешон по сравнению с ней! Как тусклы и мутны мои глаза, как дрожит голос! Я все думаю, какой невероятной силой обладала бы Карима, дожив до старости. Черное солнце отмерило безногим слишком короткий срок, и я зол на него. Я знаю всего троих людей с Целью совести, кто сумел миновать детство и коснуться юности, однако все они угасли в семнадцать лет…
Нет, я не дам волю страданию в этот раз. Я хочу написать о вещи. Это был пистоль! Настоящий пистоль с кремневым замком! Я прикасался к гладкому дереву его ложа и латунной рукояти, катал на ладони пули, даже чувствовал запах пороха. На миг меня объял восторг, ибо это часть забытого прошлого. Но тут же накрыла волна ужаса. Как столь маленькая вещица способна убить на расстоянии?
Оружейный мастер поистине бесстрашный парень. Его зовут Оньо. Он так и пучился от тщеславия. Убедить его методом Каримы оказалось несложно. Пистоль переходил от отца к сыну долгие годы и был чем-то вроде семейной реликвии, но моему новому знакомцу не по душе жизнь в Намуле, потому он украл пистоль и отправился за море, чтобы продать секрет оружия императору Чаина за очень большую цену. «И тогда ему покорится даже Соаху, а я буду процветать до конца моих дней» – так он сказал.
…Все было правдой! Проклятие было правдой! Я погубил Оньо своим любопытством. Я слышал, что не стоит говорить об этой вещи и никогда нельзя показывать ее солнцу! Но в трюме было так темно! Я хотел рассмотреть каждую деталь и уговорил Оньо вынести сундучок на палубу, притворившись, будто в нем игральные кости. Мы уселись в стороне и тайком ото всех разглядывали пистоль. Оньо не выпускал сокровище из рук и не позволял мне притронуться к нему снова. Должно быть, поэтому сгорел только он. Я не видел пожара, это была всего лишь вспышка, но запах паленой плоти захватил меня. В сундучке вместо дерева и металла осталась горстка пыли, а вокруг рассыпались шелковистые останки Оньо. Я бежал обратно в трюм со всех ног и сидел в темноте два дня и две ночи. Черное солнце обратило пеплом оружие и его хозяина. Отныне я верю в легенду о Красном озере.
Говорят, первые пистоли изобрели в Чаине. По слухам, битва, описанная в древних летописях, сопровождалась оружием с использованием пороха. Чаинцы до сих пор знают секрет его изготовления, но применяют огненный порошок только для фейерверков.
Из совокупности догадок следует, что черное солнце враждебно к нововведениям. Ему не нравится дележ земель, определенных государствам изначально, и оно готово обращать в пепел целые армии, сжигать морские эскадры. На своем веку я не помню ни одной крупной войны. Стычки между дикарями крошечных островов не в счет.
Еще черное солнце не любит изобретательств. Оно может стерпеть мелкие из них, но не те, что приведут к чему-то глобальному. Потому мы развиваемся медленно и однобоко. Не знаю, плохо это или нет. Но знаю, что иначе Сетерра утонула бы в крови, как, возможно, тонула в ней до появления затмений.
(Из черновиков книги «Летопись прималя» отшельника Такалама)
* * *
Материк Террай, государство Соаху, г. Падур
8-й трид 1019 г. от р. ч. с.
Седьмой приготовил для Нико роскошный галеон «Око солнца» с кипенно-белыми парусами. Янтарный блеск дерева завораживал. Узкий маневренный корпус наводил страх и вызывал зависть у владельцев неуклюжих черепах вроде «Большого Наная». На судно под видом торговцев и простых моряков нагнали толпу Летучих мышей. Трюмы забили яствами, приготовили два мешка мятных трав от тошноты. Седьмой решил выгулять Нико на коротком поводке под тщательным надзором. Он велел отправлять подробные отчеты из каждого порта. Следить за передвижением наследника и, если придется, припугнуть его, чтобы скорее вернулся домой.
Властий тщательно спланировал путешествие: сначала к летучей мыши Намула, а потом на юг. Обогнуть оленя Ноо, добраться до Твадора и проплыть вдоль громады Исаха, а затем через Брашский пролив вернуться в родной порт. Это кольцо охватывало большую часть материков и архипелагов. Оставались незатронутыми только Руссива и Большая Коса, где, по мнению Седьмого, Нико нечего было делать.
Принц молча принял условия отца, выдержал слезливые лобызания матери, перетерпел едкие упреки Тавара и насмешки Чинуша. А за день до отплытия покинул дворец тайными ходами. На низком столике в комнате он оставил послание:
- Меня не раз ломали ураганы.
- Дрожал я, вспышкой молний обеленный.
- Но выжил. Среди мертвого бурьяна
- Один стою, судьбой непокоренный.
- Не подпирай меня. Знай, я не рухну.
- Не поднимай меня. Поверь, я встану.
- Не бойся. Мне достанет силы духа.
- Не плачь. Я залечу любую рану.
Это были строки из любимой песни отца «Вящий дуб».
Выбравшись за стену, Нико пошел по главной улице в сторону берега. Падур спал, объятый ночной мглой. Сон царил на Железном и Шелковом рынках. Молчали ремесленные улочки, расходившиеся от площади путаными узорами.
В тишине стук сердца казался громче. Нико то и дело оглядывался, но за ним следили только темные силуэты фонарей. Свобода будоражила и пугала. Казалось, в спину вот-вот прилетит нож, а из-за дома выбежит толпа наемников во главе с Таваром. Но мир вокруг застыл под пеленой спокойствия. Главный порт был почти мертв. Лишь пара огоньков желтела вдалеке, отражаясь в беспокойных волнах. Начинался отлив, с ним уходил в море «Пьяный Ульо». Нико присмотрел этот корабль вчера, когда Седьмой велел прогуляться к берегу и полюбоваться на снаряженное «Око солнца».
Растворялись в дымке силуэты судов с убранными парусами. На стапельной площадке зияли пробитой обшивкой корабли, скелеты мачт выглядели мрачными и пустыми. Сбившиеся у пристаней лодчонки раскачивались вместе с мусором. Вода у берегов провоняла тухлой рыбой, потрохами, гниющими водорослями и тиной.
Возле «Пьяного Ульо» было живо и шумно: корабль готовился к отплытию. Вчера Нико рассмотрел его от ватерлинии до верхушек мачт и нашел вполне пригодным для путешествия. Судно было большой торговой караккой с причудливо украшенными резьбой высокими надстройками на баке и юте. Они назывались форкастль и ахтеркастль. Те, кто мало смыслил в строении кораблей, иногда именовали их передней и задней башенками. Обшивка бортов каракки была гладкой – доска к доске. Якорей насчитывалось три: один на носу и два боковых.
Предрассветную дымку разгонял свет кормовых фонарей. Все три большие, богато украшенные, с многочисленными стеклами, вставленными в ажурные решетки. В их ореоле было видно сновавших по верхней палубе матросов в желтой одежде из просмоленной ткани. По сходням катили бочки. Тащили на борт клетки с живой провизией: курами, баранами, свиньями. Принц поднял голову и увидел человека в богатых одеждах, облокотившегося о балюстраду. Он лениво оглядывал царившую кругом суету, пока не наткнулся взглядом на Нико.
– Эй, не найдется ковша с серебряным дном для меня? – окликнул его юноша.
– С серебряным? Найдется, если у тебя самого есть серебро.
Пресная вода на кораблях портилась через половину трида и начинала издавать дурной запах. Чтобы она дольше оставалась свежей, дно некоторых бочек покрывали тончайшим слоем серебра. Пить такую воду давали только людям высших сословий и тем, кто в состоянии заплатить.
С колотящимся от волнения сердцем Нико поднялся по скрипучим сходням, лавируя между суетливыми горластыми матросами. Он не ошибся, приняв человека на палубе за капитана. Мужчина был одет как богатый купец: расшитые золотыми нитями шаровары, белое парчовое одеяние до пят поверх бархатного кафтана. На голове причудливая шапочка со свисающими по бокам шнурками. Каждый оканчивался янтарной бусиной.
Капитан цепким взглядом осмотрел Нико с ног до головы. Юноша походил на сына зажиточного ремесленника. На нем были ладные штаны простого покроя, ботинки из мягкой кожи, шелковая рубаха с дутыми рукавами, подпоясанная серебристым ремнем, и длинный жилет. Через плечо перекинута сумка, украшенная узором из кожаных лоскутков. Цвета тканей скромные. Черные, белые и коричневые. Ни драгоценных орнаментов, ни каменьев, но все очень добротно сшито и подогнано точно по фигуре.
– Раз деньжата есть, чего бы тебе не подождать вон того расфуфыренного павлина? – спросил капитан, кивнув в сторону галеона.
– Раз место есть, чего бы тебе не взять меня без вопросов?
Капитан хмыкнул и сплюнул в воду.
– Ты то ли дурак, то ли притворяешься.
– Твой корабль выглядит крепким, а суевериями пусть крыс по амбарам пугают.
Страх перед каракками начал гаснуть не так давно. Судна-призраки, обугленные, с пробитыми бортами и рваными парусами, часто упоминались в матросских байках. Такалам говорил, что каракки были первыми и последними военными кораблями Сетерры. Когда-то на них имелось вооружение, запасы взрывной пыли и железные шары, которыми топили другие суда. Во время первого крупного морского сражения черное солнце спалило сотню боевых кораблей. С тех пор каракки на долгое время ушли в небытие, хотя считались куда быстрее и маневреннее старых судов. На «Пьяном Ульо», построенном по новым чертежам, не было и намека на вооружение. Как и на всех парусниках мира, включая флот Седьмого.
Купцы мало-помалу возвращали к жизни наследие прошлого, но путешествовать на каракках решались немногие. Бедняки ходили по океанам на неуклюжих одно-двухмачтовых суденышках. Зажиточные люди предпочитали современные галеоны вроде «Ока солнца». Ремесленники и торговцы старались выкупить детям места получше, поэтому странно было видеть на «Пьяном Ульо» хорошо одетого юношу.
– Твой корабль может дать мне то, чего не дадут другие. Пойдем-ка на мостик, мне нужна карта.
Капитан расхохотался:
– А ты не слишком наглый? А? Не слишком ты наглый, кучерявый щенок?
Нико внутренне осекся. Стоило разговаривать не так напористо.
– Я думал, люди вроде тебя не упускают выгоду.
– Сколько у тебя серебра и кто твой папаша?
– Я плачу золотом, а имя моего отца подарит тебе бесплатную стоянку в любом порту Соаху на много лет. Я уже сочинил нужную бумагу для соглашения.
Капитан удивленно вскинул густые брови:
– Дай-ка глянем на твою бумагу.
Оставив штурмана следить за суетой на верхней палубе, он повел Нико в просторную каюту со стенами, обитыми красным деревом, где в свете масляного фонаря так и эдак перечитывал договор, пытаясь найти подвох.
– А ну покажи родовой знак.
Принц неохотно стянул перчатку и продемонстрировал внушительный перстень, оттиск которого точно соответствовал чернильному узору на бумаге. Седьмой хорошо постарался, готовя сына к путешествию. По отцовской линии вымышленная семья Нико относилась к купцам главной гильдии, потому первым знаком стал украшенный каменьями штурвал. Мать принадлежала к семье ремесленников с монетного двора – самой богатой и привилегированной среди прочих. Об этом говорил особый символ в виде монеты, вписанной в штурвал. Было еще множество мелких надписей, которые не так-то легко удавалось разобрать при свете лампы.
