Читать онлайн Бусый Волк: Книга 1. Кузница ветров. Книга 2. Берестяная книга бесплатно
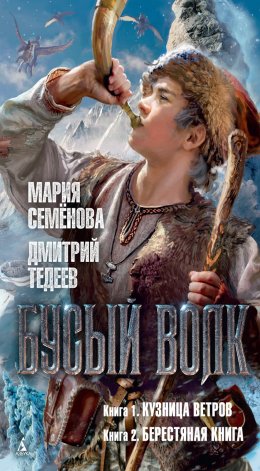
© М. В. Семёнова, Д. Ю. Тедеев, 2019
© В. В. Еклерис, иллюстрация на обложке, 2016
© ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2016
Издательство АЗБУКА®
Книга 1. Кузница ветров
У костра
Тёмное облако как-то неожиданно наползло на луну, и сосновый лес, только что стынувший в прозрачном серебре, превратился в сплошную стену отчётливо зловещего мрака. Облако пришло не одно, от северо-запада падала непроглядная волна темноты. С неба начали пропадать огоньки звёзд. Кто-то огромный и недобрый то ли задувал их один за другим, то ли накрывал горстью и прятал в кошель.
Яркое пламя костра, горевшего над заснеженным обрывом на берегу Светыни, заметалось и припало к земле, хотя здесь, под защитой леса, никакого ветра не чувствовалось.
Потому что тьма, гасившая в небесах последние звёзды, не была обычной темнотой, кутающей землю перед рассветом. Она дышала отголосками того ледяного холода, который когда-то остановил течение рек и на тридцать лет и три года стёр с неба солнце. Над костерком взмахивала обрывками плаща сама Незваная Гостья, и мальчик двенадцати лет, жавшийся к огню, чувствовал, как стискивает сердце неведомо откуда взявшийся ужас.
В самом деле, откуда бы?.. Сколько раз он ночевал в зимнем лесу, один у такого же костра, принимая как должное все лесные опасности и страхи, потому что они были вещественны, каждодневны и давно известны ему.
Да, но сегодня стояла совсем особая ночь…
Тьма жила холодной не-жизнью, она несла смерть, она всё теснее смыкалась кругом костерка, и тот слабел на глазах. Мальчик по имени Бусый не отводил глаз от последней на всём свете искры тепла, и холод, пробравшийся в самое сердце, не давал сделать усилие, потребное, чтобы повернуться и бросить в огонь несколько сухих веток. Ощущение присутствия за спиной цепенило, отнимая жалкие остатки решимости. Бусый даже скрипнул зубами и оскалился, нашаривая у пояса оберег и мысленно взывая к Светлым Богам. Молитва помогла. Он всё-таки протянул руку и отправил в пламя обломанный сосновый сук, потом другой… И наконец – не удержавшись – и весь припасённый хворост.
Потому что костёр Бусого тоже был особым, совсем не таким, какой разожжёт на ночь глядя всякий правильный венн. Вместо двух или трёх уложенных рядом лесин, между которыми уютно устраивается пятнышко домовитого жара, над обрывом полыхала бестолковая куча сухих веток и смолистых корней, нарубленных с соснового выворотня. Подобные костры согревали людей на самой заре времён, когда всё происходило впервые. Оттого-то сегодня по берегу вспыхивали огни, пришедшие из той изначальной поры, и каждый мальчишка неминуемо оставался один на один с тьмой. При последней хворостине в руке…
…Пламя затрещало, взревело и рванулось ввысь, с безоглядной яростью вступая в неравную битву. Граница света сразу расширилась, тьма торопливо отступила, но совсем недалеко, она затаилась в чёрных кустах и выглядывала оттуда в жадном ожидании, когда ярость огня вновь пойдёт на убыль. Тьма знала, что долго ждать не придётся. Силёнок у костра в самом деле хватило на несколько коротких мгновений, больше кормить пламя мальчику было нечем, и от голода оно начало неестественно быстро слабеть. Тьма вновь стала осторожно придвигаться поближе, терпеливо подгадывая, чтобы ненавистный огонь окончательно изнемог…
Бусый с ужасом следил, как съёживался круг тёплого света, всей кожей ощущая ледяные пальцы, тянувшиеся к его сердцу. Он знал, что новый запас хвороста сам по себе к костру не придёт, но о том, что нужно немедленно встать и самому шагнуть в объятия этой Тьмы, страшно было даже подумать. Нет! Лучше уж до конца оставаться здесь, чтобы хоть лечь потом на прогретую землю…
Умирающий огонь вдруг показался мальчику бесстрашным живым существом. Бог Огня, которого он, Бусый, по своей трусости почти уже решился предать, всё равно до последнего силился его защитить, отдавал себя без остатка, но не подпускал Тьму.
Вот тогда-то и нахлынул спасительный стыд. Он был такой силы, что Бусый поднялся на ноги, стискивая в потной ладони топор. На лезвии ярко сверкнули знаки Солнца и Грома. Бусый шагнул вперёд. Умирать – один раз!..
Когда мальчишка вернулся с охапкой дров, огонь был ещё жив. Он таился в рдеющих углях, словно раненый воин, заслонившийся багряным щитом. Бусый поспешно опустился перед костром на колени, сунул в угли пучок берёзовых веток, сорванных с засохшего дерева, и стал раздувать. Огонь сразу принял подношение. Он не помнил обиды. Мальчик предложил ему несколько веток потолще, и огонь, окончательно оживая, уверенно затрещал. Он радовался, что мог вновь сражаться с тьмой и холодом, оберегая своего человека.
Бусый обезопасил костёр самыми толстыми сучьями, а сам вновь отправился за дровами. Особой в том необходимости пока не было, но мальчишка упрямо пошёл навстречу собственному страху. Тьма по-прежнему была густой, как дёготь, но он прислушался к себе и понял, что теперь это была всего лишь самая обычная тьма. Смертная жуть ушла из неё, отбежала, иссякла, точно поняв, что не сумеет совладать ни с ним, Бусым, ни с его костром. А значит, венн из рода Белок, ожидавший этим летом Посвящения в мужчины, снова был дома. В серебряном сосновом лесу, стынущем на самом пороге весны.
«Станет страшно – соберись с духом, улыбнись и взгляни страху прямо в глаза, он и отступит, – напутствовал когда-то Бусого его приёмный отец, Летобор. – Страх сам пугается тех, кто силён и отважен, кто смеётся ему в лицо и не опускает перед ним взгляда…»
Бусый хорошо помнил отцовское вразумление, тем паче что оно не раз его выручало. Он даже придумал способ заставить себя улыбнуться, несмотря ни на что.
Ярко-зелёные глаза на смуглом лице… В глазах плещется из последних сил сдерживаемый смех. Девчонка-ровесница бежит к Бусому по залитому солнцем летнему лугу, бежит босиком, в одной рубашонке, и встречный ветерок треплет латаный подол, лохматит чёрные пушистые волосы. Под босыми ногами мелькают жёлтые лютики, и от этого кажется, что девчонка светится изнутри. Это свет радости, тепла, самой жизни…
Не улыбнуться ей в ответ невозможно. Бусый ощутил, как дрогнули губы, а сердце, как струна, зазвенело удалью и весельем. Он даже почти наяву услышал песенку жаворонка, льющуюся из-под лёгких облаков…
«Э, погодите-ка!..»
Небо, чистое на востоке, понемногу начинало бледнеть, там явственно обозначилась зубчатая стена соснового леса. Юный Бог Солнца торжественно и нетерпеливо готовился явить Себя миру. Скоро сияние золотой колесницы изольётся жидким алым огнём за край небесного свода, ночной мрак не выдержит и окончательно побежит прочь…
Бусый неожиданно почувствовал, до чего устал. Хотелось упасть возле костра и заснуть, забыв обо всём. Встряхнувшись, мальчишка зачерпнул полные ладони колючего, чуть подтаявшего и схваченного морозом снега, крепко растёр враз загоревшееся лицо.
Потом подошёл к краю речного обрыва и стал всматриваться, вслушиваться в необъятную даль, ещё тонувшую в предутренней мгле.
И вновь всем телом ощутил еле уловимую звенящую песню…
Только теперь звон этот зарождался не на пригрезившемся Бусому летнем лугу, он шёл снаружи, снизу, так что мальчик слышал его, можно сказать, ступнями. И он медленно, торжественно нарастал.
Бусый ещё внимательнее прислушался – нет ли ошибки, действительно ли это именно то, о чём он начал с замиранием сердца догадываться?
Нет, никакой ошибки быть не могло! Звон шёл снизу, от могучей реки. Это начинала просыпаться, готовилась освободиться от зимнего ледяного плена Мать рек, великая Светынь.
Бусый со всех ног бросился к костру, к оставленному там заплечному мешку. Вот сейчас откуда-нибудь слева или справа прокричит рожок, и он поймёт, что его опередили, что он опоздал. Почему он не догадался загодя ослабить завязки, а ещё лучше, не переложил отцовский охотничий рожок прямо за пазуху?.. Едва не сломав ноготь, Бусый всё-таки распутал ремешки, вытащил заледенелую медную снасть, тут же прилипшую к губам…
Чистый высокий звук, звонко и отчаянно раскатившийся над речным обрывом, как будто послужил сигналом к решительному наступлению на холод и тьму. С востока хлынул ало-золотой огонь, тьма вместе с налитыми смертной чернотой тучами поспешно отступала, откатывалась на запад, свет начал заполнять лес, проливаться в бескрайнюю речную долину. Отец Небо протягивал руку Матери Земле, отгораживая её от мрака и холода.
Звон, шедший от реки, неудержимо нарастал, могучая Светынь готовилась разорвать ледяной панцирь. Бусому страсть хотелось своими глазами увидеть начало величественного ледохода, но было не до того. Лыжи стремительно несли его домой, в деревню Белок, и прямо на бегу он время от времени торжествующе бросал к ободранным губам рожок: «Ледоход! Люди, ледоход начинается! Я самым первым узнал про него! И всем вам рассказал!..»
Мальчишка мчался на лыжах по заваленному сугробами лесу, а рядом с ним незримо неслась босиком по цветущему лугу придуманная Бусым зеленоглазая девочка. Она звонко смеялась… или это Светынь пела у него за спиной?
Когда Бусый уже подбегал к деревне, поднятой на ноги голосом его рожка, ни дать ни взять с самого неба обрушился гулкий удар. Зародившись вдалеке, он стремительно приблизился, обгоняя мальчишку, отдался в холмах и вознёсся с розовых снегов обратно в налитое синей чистотой небо – лишь посыпалась с ёлок тонкая серебристая пыль. На льду Светыни возникла самая первая трещина.
Задыхаясь от счастья, паренёк влетел в распахнутые ворота. Все, от мала до велика, высыпали навстречу принёсшему радостную весть. Ликующие лица сородичей, шутки и похвалы – всё неслось мимо! Бусый не останавливался покрасоваться, он бежал к своему дому.
Летобор подхватил приёмного сына, оторвал от земли. Вновь поставил на лыжи, и мать, плача от радости, обняла их обоих.
Заботы Бусого
Могучая Светынь была во многом похожа на своих детей, веннов. Верней сказать, они на неё. Когда венны выходили плясать, танец, которому предстояло увенчаться удалым верчением, хождением вприсядку, прыжками выше головы и, в общем, чуть ли не полётами на посрамление тяги земной под крики, топот и свист, – этот чреватый стремительным движением танец всегда начинался как бы лениво, как бы медлительно, как бы вразвалочку… Вот только нечаянным образом в ленивой и медлительной развалочке подспудно угадывалась ликующая сила, готовая к безоглядному взрыву.
Светынь пробуждалась после зимы в точности так, как пробуждается в танце ладная и щедрая телом веннская красавица, что вышла потешиться и пока ещё не пляшет, не летит, – лебедью плывёт над утоптанным кругом, заламывая гордую бровь, исподволь разгоняя кровь и дыхание для предстоящего действа.
Великая река неспешно наливалась яростным весельем. Раз за разом в глубине возникало напряжение и принималось расти, делаясь невыносимым и неудержимым и разрешаясь исполинским ударом. Это, распираемый изнутри, лопался лёд. Это рушилась зима. Это уходила печальная и погибельная память о Великой Ночи.
Гром, пронизывающий небо и заставляющий содрогаться землю, в некотором смысле был слышен по всей веннской земле.
Даром ли первые удары ледолома почитались лесным племенем едва ли не равно с раскатами первой весенней грозы! Венны знали, что новая зима была неизбежна, но то, что нынешняя не задержалась навеки, было важней…
Под напором Светыни во льду возникали всё новые трещины. Сплошной ледяной панцирь дробился, белая гладь распадалась на тяжёлые ледяные поля. Увлекаемые течением льдины медленно трогались вниз по реке, они сталкивались, поворачивались, с чудовищным хрустом крошили и перетирали друг друга, вставали дыбом, разламывались, наползали, громоздились, намертво спаивались в высоченные торосы, но только затем, чтобы под напором новых льдин вновь обрушиться с грохотом и плеском…
Венны, конечно, не могли покинуть мать-реку одну в её победном борении, оставить без помощи. Если Люди и Боги перестанут друг дружку выручать, наступят последние времена и мир кончится. Всякий венн знал приметы, которые указывали на скорый ледолом. И понятное дело, первыми их усматривали мальчишки, ожидавшие Посвящения в мужчины. Тогда-то начиналось сидение на берегу, продолжавшееся иной раз по несколько суток и полное восторга, страха и ревности. Всякий мечтал первым заметить начавшуюся Битву и возвестить о ней сородичам.
Этой весной повезло пареньку из рода Белок. Его прозвали Бусым за цвет волос, выделявший подростка среди сплошь русых и рыжих Бельчат: серый пепел, в котором лишь при ярком солнечном свете заметна была ржавчина. Ещё у Бусого отсутствовало левое ухо и оттуда на щёку тянулся шрам не шрам, след не след… тонкий белый узор, словно к коже прилип травяной стебелёк с листьями, покрытыми инеем.
Чужого человека такая наружность, может, слегка удивила бы, но кому какое дело до отметин, да и у кого их, собственно, нет? Только у того, кто в жизни своей носа не высовывал за порог и, стало быть, не получал по этому самому носу. Но таких людей не бывает, оглянешься – тут рубец, там ожог, кого болезнь поглодала, а кого, вот как Бусого, куснул когда-то мороз.
Оттого что это был именно мороз, бдение у костра далось Бусому тяжелее, нежели многим. Особенно последняя ночь, когда он в самом деле готов был свалиться без сил и только гордость удержала его. А вот поди ж ты!.. Наступило утро – и вся усталость улетела куда-то, наверное, взмыла к весеннему небу вместе с победным криком рожка. Теперь стоял уже день, а Бусый и не думал отсыпаться на тёплых полатях. Вместе с другими мальчишками он носился по дворам, боясь прозевать самое интересное, отирался среди взрослых в надежде, что ему дадут какое-нибудь поручение, а когда это случалось, стремглав кидался выполнять.
Ну а забот было хоть отбавляй!.. Вволю наготовить праздничной снеди для пира, чтобы хватило всем, в том числе и лесным сородичам, хвостатым белкам. В последний раз проверить одежды для ряженых. Украсить особым образом изнутри и снаружи все избы в деревне. Сделать ещё девяносто девять дел, которые всё казалось несвоевременным исполнять загодя, их откладывали на последний срок, а он, этот последний срок, взял вдруг и наступил…
Между прочим, праздник ледолома означал не только шумное беззаботное веселье. Светлых Богов не просто звали незримо пображничать вместе с людьми на честном пиру. В мире вершилась великая битва, и её земным отражением должна была стать исконно любимая веннами потеха. Кулачный бой.
Конечно же, дружеский, радостный, но всё равно – бой. Настоящий, где без остатка выплёскиваются душевные и телесные силы, где будет пощада, а вот поддавок и не примут, и не предложат.
Белки и их соседи Зайцы всегда бились по весне на льду Крупца, благо он, как и подобает послушному сыну, не смел прежде матери Светыни избавиться от зимних одежд.
Вообще-то, лёд на мелком, но быстром и своенравном Крупце даже в самые лютые зимы оставался не слишком надёжен. Речку поили незамерзающие родники, так что, как ни свирепствуй мороз, заковать непокорный Крупец ему не удавалось никогда. Было только одно место как раз на полпути между деревнями Белок и Зайцев, где берега неожиданно расступались и узкая речка растекалась на добрых два перестрела, образуя мелководное смирное озерцо. Его так и называли – Межинное Плёсо, или просто Межина. Здесь можно было выходить на лёд хоть поодиночке, хоть целой толпой, не боясь провалиться.
На обширном Плёсе Белки и Зайцы с осени вместе готовили гладкую площадку, Потешное поле, где сообща и проводили все зимние веселия. И нынешний день не стал исключением.
Бусый отмерял масло для котла, в котором мать собиралась жарить вкусные пирожки. Молодой кобель Летун, любимец и баловень, ходил след в след за хозяином и то и дело усаживался, преданно заглядывая в глаза, напоказ принимался облизываться. Забывал, что он уже не щенок, и ждал лакомства.
– Цыц! – покрикивал на него Бусый, безуспешно силясь быть строгим.
Ему уже доводилось участвовать в молодецкой потехе, но мальчишку не оставляло ощущение, что именно сегодня на Плёсе должно было произойти нечто небывалое, необыкновенное. От предчувствия сладко и тревожно обмирала душа. А ну как выпадет ему сказать самое главное слово, или победить десять Зайчат, или вовсе выручить кого-нибудь из взрослой родни?..
«Может, всё потому, что я первым принёс весть о Светыни и честь для рода добыл? Вот и кажется теперь – какое дело ни дай, всё по плечу?»
Бусый закрыл котёл крышкой и бережно, чтобы не разлить, отнёс корчагу масла назад в клеть. Вернулся с охапкой дров, вывалил их у очажка и вспомнил своё ночное сидение возле костра. При дневном свете давешние страхи показались безобидными и смешными.
«Я тоже сегодня победил Тьму. Свою Тьму…»
Зря ли наставлял отец: Тьма в каждой человеческой душе отыщет слабинку и проберётся в неё. А значит, и победа над нею у каждого человека – своя.
Бусый принёс ещё дров, сложил всё так, чтобы удобнее было подкидывать в очажок. Полюбовался работой… и, повинуясь внезапному вдохновению, попытался вновь вызвать в себе телесное ощущение дивного единения со Вселенной. Удивительное чувство, постигшее его перед рассветом, когда сама земля донесла до его, как он понимал, духовного слуха звон струн мироздания, трепетавших от предельного напряжения…
Ничего не получилось.
Мальчик не знал, повторится ли ещё когда-нибудь чудесное переживание или останется единственным воспоминанием на всю жизнь. Бусый, конечно, хотел, чтобы оно повторилось.
«Дядька Лось видит пальцами вместо глаз. А Осока никогда не ошибается с направлением, даже когда ей завязывают глаза и начинают крутить. Ульгеш, тот вовсе чёрный, как у этого котла дно… Полгода уже у Зайцев живёт, а его всё норовят пальцем потереть, вдруг отойдёт чернота-то… Тем и хорош. А мне и похвастаться нечем, обыкновенному. Не тем же, что приёмыш, виллами принесённый. Если вправду вы, Светлые Боги, новое умение мне открыли, я… я бахвалиться не стану, я уж не посрамлю! Ну… то есть постараюсь…»
Каждый человек сам для себя особенный, не как все, тем паче – в детстве, когда вокруг тебя крутится мир, всякий ищет хоть что-нибудь, что выделяло бы его среди сверстников, и очень огорчается, не обнаруживая у себя никакого заветного свойства.
– Эй, Бусый! Не слышишь, что ли, – зову?
Мальчик оглянулся. Над плетнём высотой в средний человеческий рост возвышались плечи и голова Колояра, первого среди Белок кулачного бойца.
– Пошли, говорю, пора!
Бусый подхватил брошенные на снег рукавицы и бегом бросился со двора. Любовно уложенная поленница за его спиной с шуршанием развалилась, заставив отскочить Летуна. Бусый не заметил.
Ульгеш
– Почему они смеются?!
Голос, полный возмущённого изумления, принадлежал закутанному в меха пареньку, чья кожа на весеннем солнышке отливала чернёной медью. Янтарные глаза на очень тёмном лице, казалось, источали собственный свет. Их взгляд беспокойно устремлялся то на толпу мальчишек, Зайчат и Бельчат, сошедшихся посреди Потешного поля, то на двоих немолодых мужчин, стоявших рядом с парнишкой.
Один из этих двоих держал голову так прямо и высоко, как никогда не будет держать её зрячий. Когда-то он принадлежал к роду Лося, но потом женился в род Зайцев, и врождённая слепота не стала помехой его сватовству. Она и теперь не мешала ему участвовать в празднике и наблюдать за происходившим внизу. А что? Каждый голос был внятен ему, каждый звук дыхания, шорох походки.
Второй из взрослых имел такую же чёрную кожу, что и юнец, только испещрённую морщинами, а волосы под меховой ушанкой были совсем белыми. Если смотреть издали и не видеть морщин, старика можно было бы принять едва ли не за подростка, до того легко и свободно он двигался.
– Не суди их строго, Ульгеш, – сказал он пареньку. – Их суровая земля не так изобильна поводами для радости и красоты, как наша родная Мономатана. Вот они и придумывают себе повод посмеяться, вышучивая друг дружку.
– А ещё у нас полагают, что герой должен уметь ответить шуткой на оскорбление и тем обратить его в ничто, – добавил дядька Лось. – Воистину силён тот, кого нельзя уязвить.
Ульгеш понял его, ибо слышал веннскую речь каждый день вот уже несколько месяцев и волей-неволей попривык её понимать. Они со стариком явились в эти места прошлым летом и, собственно, не собирались задерживаться, но деда свалил жестокий приступ удушья, и Зайцы, понятно, оставили немощного путешественника у себя. Дочери дядьки Лося под руки водили старца на болото, где шальные пчёлы гудели над цветущим багульником. Там у чернокожего сперва глаза полезли на лоб от головной боли, но узы в груди немедленно начали распадаться. Он раздумал помирать, благополучно пережил свирепую веннскую зиму и, к радости Ульгеша, пока не заговаривал о том, чтобы покинуть приютивший их род.
А внизу, на ледяном поле, ребятня исчерпала вежливые вопросы о благополучии рода, и словесная перепалка пошла в полную силу.
– Ну что, длиннохвостые, хвосты-то поджали? – раздавалось над Межинным Плёсом. Это звонко и задиристо выкрикивал Зайчонок с весёлыми и отчаянными глазами, признанный заводила. – Кабы от вашей дрожи лёд на Крупце не порушился!
– Не бойтесь, – поддержали вожака сверстники. – Сильно вас, худосочных, бить не будем, так, поваляем немного, да и отпустим!
Бельчата не остались в долгу.
– Это что там такое стучит? Ага, заячьи зубы от страха на лёд сыплются…
– Погодите к мамкам бежать! Мы вас сильно не обидим, так, за уши слегка оттаскаем, чтобы лучше росли…
– Напугали ежа голым задом! – отозвались Зайчата. – Самих на сосны позакидываем, а Колояр ваш вместо красной шишки будет!
– Наш Резоуст, – добавил кто-то, – вашего Колояра в кучку сложит и не вспотеет!
По мнению Ульгеша, каждый подобный выкрик мог послужить достойной причиной для кровной вражды между семействами. Если верить книгам, которые с малолетства читал ему дедушка Аканума, именно так время от времени происходило в их родном городе, Мванааке. В тех же книгах утверждалось, что беззлобно спускать оскорбления было свойственно только лишённым гордости людям – рабам да необразованному простонародью. Ульгеш знал, что сам происходит из очень знатной семьи; многие на его месте удовольствовались бы лестным для себя объяснением. Но как быть, если венны, среди которых они с дедушкой прожили более полугода, никак не походили ни на утративших мужество рабов, ни на грубое простонародье?.. «Вельх с вельхом поссорится, подерётся, а наутро не вспомнит, – гласила местная поговорка. – Сольвенн, разругавшись с соседом, седмицу злой будет ходить. А венн – на всю жизнь запомнит…»
Что же до родовитости, каждый из этих ребятишек без запинки рассказал бы о своих предках на множество поколений назад. Притом что он, Ульгеш, не знал даже имени своего отца. Только то, что отец был великим героем. На все дальнейшие расспросы воспитанника старый Аканума отвечал односложно: не время.
«Вот так и выяснится однажды, что и Ульгеш – не моё настоящее имя…»
– Нашего Колояра, – раздавалось на льду, – мама Белка на свет родила. Это вы, Зайцы, только на пришлых бойцов уповаете, а у нас свои есть!
– Резоуст! Резоуст!
– Колояр! Колояр!..
* * *
Пока мальчишки на льду перебрасывались задиристыми шутками, по обеим сторонам Потешного поля собирались остальные участники торжества: взрослые мужики и бабы, молодые девки с парнями… и, конечно, старики, украшенные честными сединами, но не утратившие желания повеселиться, потешиться самим и потешить Богов.
Подходившие обменивались вежливыми приветствиями, после чего с неменьшим удовольствием, чем ребятня, вступали в перепалку. И важные, взрослые мужатые бабы, и даже самые ветхие старики и старухи. Каждый стремился поддержать сородичей вовремя произнесённым острым словом. Битва есть битва, пусть и словесная, победа в ней привлекает ратную удачу, можно ли этим пренебрегать?
Рука дядьки Лося с сильными, натруженными пальцами легла на плечо Ульгеша, и мальчик с готовностью обернулся.
«Научи меня заботиться о тебе», – сказал он Лосю полгода назад, только-только выучившись слепливать вместе слова трудного для чужеземцев веннского языка.
«На что тебе?..» – удивился тот, сроду не нуждавшийся в поводырях.
«Ты слепой, – ответил юный мономатанец. – И моего отца ослепили и изгнали враги. Так говорит дедушка Аканума. Я должен буду сделаться ему опорой, когда настанет час и я его разыщу…»
– Когда стояла Великая Ночь, – негромко проговорил Лось, – кто-то первым заметил, как бежали приспешники Тьмы отовсюду, где творилось веселье и смеялся народ. С тех пор мы чтим смех как священное оружие, приличествующее соратнику Светлых Богов… – Лось помолчал, подумал и довершил: – А сегодня мы все здесь Их соратники. Даже те, на ком личины слуг Мораны, кто будет защищать Ледяную Башню.
История Соболя
То, что лучший ратоборец Зайцев был пришлым, а Колояра родила своя мамка Белка, явилось, конечно, для «длинноухих» отменным щипком. За веннами испокон веку тянулась слава прирождённых неклюдов[1], которые сидели сиднем по своим лесам, не очень-то высовываясь наружу, и подавно никого к себе не пускали. Дыма без огня, понятное дело, не бывает, – но всё-таки, если бы кто посетил один за другим несколько веннских родов, почти в каждом обнаружилось бы по одному-два вабья[2]. Так называли венны людей, чужих по крови и языку, пришедших и оставшихся с ними «в едином хлебе, в одном дыму», – в особенности тех, кто своего изначального рода либо не знал, либо не хотел о нём говорить.
Таких вабьев на льду Крупца стояло сейчас двое.
Подкидыш Бусый был не в счёт: его с рук на руки приняли у вилл младенцем в пелёнках, его названая мать прикладывала к груди, его ни один язык не повернулся бы назвать чужаком.
И Ульгеш с дедом Аканумой были не в счёт, венны числили их просто гостями, ведь за полгода никак не станешь своим.
Первым вабьем был упомянутый Резоуст, евший хлеб с Зайцами, но о нём речь впереди. А вот второй вабья заслуживает рассказа прямо сейчас, потому что на кулачную потеху, совершавшуюся во славу Светлой стороны веннских небес, этот человек вышел не зрителем, даже не лихим бойцом, а – поднимай выше! – самым главным судьёй.
На Крупце его звали Соболем, хотя к роду Соболя, обитавшему на северо-востоке, он никакого отношения не имел. Просто на смуглом, с тонкими чертами лице привлекали внимание брови, сросшиеся над переносьем в одну, причём соболиной гладкости и густоты.
Дело было около тридцати лет назад…
Чужой человек пришёл на осеннюю ярмарку, где встречаются люди из разных веннских родов и куда, как известно, никому путь не заказан. В том числе и странно смуглым людям в ещё более странной одежде, прожжённой у далёких костров. Ещё не названный Соболем слонялся среди толпы, пристально оглядываясь по сторонам. Не приценивался к товарам, не покупал ни орехов, ни пирожков… словно искал кого-то, кого давно отчаялся найти.
Если оно и вправду было именно так, поиски Соболя и в тот раз удачей не увенчались. Зато произошло кое-что, чего он совсем не ожидал. Совсем рядом вдруг раздался глухой удар о землю, прихваченную первым морозцем… а потом дружно ахнули люди. Дружно и так, словно стряслось нечто непоправимо ужасное.
Что за безотчётная сила метнула Соболя туда, куда все оглянулись, – он сам не мог бы сказать. Уж всяко не праздное любопытство. Эта сила заставила его оттолкнуть кого-то с дороги, и он увидел мальчонку, безжизненно раскинувшегося на земле. Малыш сорвался с высоченных качелей и угодил головой прямо о камень. Теперь из-под затылка густой лужей растекалась кровь. И хотя дыхание ещё надувало на губах пузыри, видно было, что кость-то проломлена, что вздохи эти – последние…
Соболь решительно сделал шаг и опустился возле мальчика на колени…
Закрыл глаза…
Многие потом утверждали, будто он улыбнулся.
Это была особая улыбка, порождённая отнюдь не весельем. Говорили, именно она остановила отца мальчишки, рванувшегося было отогнать от умирающего сына праздного чужака.
Такое выражение лица бывает у воина, очистившего свой дух и готового к поединку, к жизни и к смерти. Веннские мужчины в этом кое-что понимали. И отец раненого мальчонки тоже что-то понял, он остановился и отступил прочь… но для Соболя скрученный горем венн уже был смутно видимой тенью. Ярко и чётко в тот миг Соболь видел то, что оставалось недоступным обычному взгляду.
Свою Соперницу в намечавшемся поединке.
Высокую худую женщину с длинными распущенными седыми волосами, облачённую в длинную белую рубаху и тёмно-красную понёву…
Из-под её – вернее, Её – ног тянулась непроглядно-чёрная тень, жившая своей особенной жизнью. Тень кралась к неподвижному мальчику, цеплялась за него, готовилась опутать совсем, погасить судорожно бьющийся светоч в его груди…
Соболь бестрепетно простёр ладони над расшибленной головой паренька, и многие утверждали потом, будто его руки окутало тёплое золотое сияние.
Тень сразу отскочила, кровь перестала истекать наземь, а на бесстрастном лице женщины явила себя досада. Когда Соболь нащупал обломки костей и соединил их, усилием духа избавив рану от дурного напряжения, беспокойство Незваной Гостьи сменилось бессильным гневом и наконец – чем-то вроде испуга. А потом солнце ярче вспыхнуло в небе, и мир очистился от Её тени. Щёки мальчика из восковых сделались просто бледными, он стал дышать ровно и глубоко. И появилась надежда, что его удастся выходить. Скажем сразу: так потом и случилось, первенец второй дочери большухи Белок вырос здоровым и крепким парнем, женился в род Пятнистых Оленей и сам стал отцом четверых славных детей…
Чем ещё дорожить правильному венну, если не жизнями своих детей? И грош в базарный день была бы цена Белкам, если бы они не увели шатающегося спасителя с собой и не приказали жить у себя, покуда не наскучит, хоть до конца дней. Соболь приглашение принял… да так с тех пор никуда прочь и не подался.
Зато Белки, а за ними и Зайцы очень скоро узнали, что способность исцелять не была ни единственным, ни даже самым главным умением нового вабьи. Соболь, с виду не ахти какой великан и силач, оказался воителем. Да таким, что самые признанные кулачники нескольких окрестных родов явили себя перед ним бессильными тростинками на ветру.
За тридцать лет он великолепно овладел веннской речью, но очень мало что рассказал о себе, Белки с Зайцами по-прежнему весьма смутно представляли себе, в какой стране он появился на свет… Тем не менее любовь и уважение к Соболю оставались таковы, что ему было доверено учить боевой чести мальчишек, готовивших себя к Посвящению. Даже половины подобного доверия никогда не оказывалось у веннов ни одному чужестранцу. И не только. Когда Белки с Зайцами выходили потешиться на Межинное Плёсо, о справедливом суде просили именно Соболя.
Тем более что сам он в кулачных забавах давным-давно не участвовал…
А что толку участвовать, если достойных противников для него не находилось всё равно? Такому бою, исход которого известен заранее, на священном празднике совсем даже не место.
Ожидание боя
От Зайцев судить назначили двоих крепких стариков, большуху и… Лося, да не впервые. Сколько раз слепой Лось поправлял зрячих, и кривить душой перед ним было бесполезно – он всех видел насквозь. От Белок выслали большуху рода и двоих нестарых, но уже украшенных почтенными сединами мужиков, один из которых был Летобор, приёмный отец Бусого.
Глазастый парнишка заметил, как на лице Летобора законная гордость боролась с невольной досадой. Судейство в бою вроде нынешнего было честью великой. Но… как тут не подосадовать, если в кулаках уже поселился зуд предвкушения!
Встретившись взглядом с пасынком и встретив его понимающую ухмылку, Летобор сильно смутился. А Бусый с радостными воплями бросился обнимать отца. Судья на бое! Таким отцом гордился бы любой мальчишка. Бог Солнца улыбался, наблюдая за приготовлениями к празднику. Глухой торжественный гул наплывал со Светыни, сопровождаемый скрипом утаптываемого снега, задорными прибаутками, звоном бубенцов в руках у старух. Было весело и шумно, но необоримые раскаты ледяного грома господствовали надо всем, возвышая дух и давая нетерпеливое биение сердцу. В эти мгновения на льду Крупца жилось как-то особенно ярко и жарко. Бусому всё мнилось, будто Вселенная раскачивалась и подрагивала у него под ногами, он даже удивился, как же этого не замечали другие: «Может, я просто не спал несколько ночей, вот мне и мерещится наяву?..»
Когда, перешучиваясь с дружками, он третий раз подряд ответил на ещё не прозвучавший вопрос, Колояр ткнул его пудовым кулаком в плечо и расхохотался:
– И ты, значит, это почувствовал?.. Добрым кулачником будешь! Ишь как раззадорило-то тебя! У меня тоже так было в год Посвящения!..
Бусому вдруг показалось, что по одежде друга смутно пробежали красные и зелёные волны, вроде бы несвойственные выделанной овчине, но всё сразу приняло обычный вид, и он не успел как следует поразмыслить над увиденным, потому что Соболь махнул рукой, народ дружно загалдел и двинулся к середине Потешного поля.
Начиналось то, что не только Бусый считал самым занятным и важным, важнее даже, может быть, самого боя.
* * *
Вообще-то, у веннов очень много родов, чьи нравы и обычаи порой весьма сильно разнятся. В иных деревнях не считается зазорным сражаться на кулаках и девкам против девок, и бабам против баб. Спроси кто сторонний, и те люди истолковали бы свой обычай так, что при всём желании не придерёшься. В самом деле, когда припирала нужда, веннские женщины ходили на врага рядом с братьями и мужьями и уж бились так бились, – всё те же враги, оставшиеся в земле, соврать не дадут, – ничуть не хуже мужчин. Кому то есть должным образом восславить потешной битвой Пламень Небесный, если не им?.. Опять-таки, попробуй кто обидь удалую красавицу, хорошо знающую, чего ради Богами дан человеку крепкий кулак на сильной руке. Небось за дочку, поднаторевшую драться, у всякой матери сердце меньше будет болеть!
Белки с Зайцами тоже знали между собой немало такого, о чём навряд ли сумели бы договориться. Но было кое-что, на чём те и другие стояли в твёрдом согласии.
«Бой, – говорили они, – он, как ни крути, оттого так и называется, что люди друг дружку бьют. А женщину кулачить, пускай и женской рукой, – тьфу, святотатство, а вовсе не радость Светлым Богам…»
Да и потом… ну сами подумайте. Мужика, одетого в толстый овчинный тулуп, сколько ни лупи хоть в грудь, хоть в живот, ничего ему от этого не будет, только крепче сделается. А женщину?! Да мыслимо ли так оскорблять её право и дар, её способность вынашивать, рожать и кормить?! Да на святом празднике весеннего пробуждения жизни?..
Белки и Зайцы держались обычая, несомненно самого правильного и угодного Небесам. У их дочек и жён было издавна заведено в Праздник ледолома завоёвывать и сокрушать Ледяную Башню, неприступное логово Мораны Смерти. Действо неизменно получалось настолько захватывающим, веселящим кровь и возвышающим дух, что многие мужчины не на шутку завидовали подругам. Да что поделаешь! Допускать мужиков к исконно женскому делу никто не собирался. Вот помогать возводить Башню и подступ к ней – Ледяной Мост – это пожалуйста. Но побеждать Морану на самом празднике следовало именно дарительницам жизни, и это было правильно и хорошо.
Башню и Мост с его Преградами загодя строили всем миром. Долбили толстенный, почти в человеческий рост, лёд, выпиливали в нём громадную Прорубь, а выпиленные глыбы чистейшего льда волокли на строительство Башни, Взгорка и Врат. Скрепляли сверкающие глыбы снегом, замешанным с водой, а когда мороз надёжно прихватывал ледяную кладку, вновь обильно поливали всю постройку водой. Выходили Башня и Мост с Преградами каменно прочными. И благодаря дневному, уже тёплому солнышку – невозможно скользкими. Пройти Мост само по себе было испытанием. А уж захватить Башню, которую со всей яростью отстаивали слуги Мораны… надо ли говорить!
«Что без бою даётся, то не будет и свято», – утверждала песня, забредшая к Белкам и Зайцам откуда-то из верховий Светыни. В самом деле, от весны к весне взятие Башни проходило по-разному, но было замечено: в те года, когда священное действо получалось на славу, огороды и поля брались за свой род[3] с особенной силой.
Нынче незавидная участь войска Мораны досталась Бельчихам. Что поделать, так уж лёг жребий. Метали его на зимний Солнцеворот, и случалось, что одни и те же защищали Башню и год, и другой, и третий подряд, но если посмотреть лет за двадцать – так на так и выходило.
У Бусого отчаянно колотилось сердце, будто он только что во весь дух одолел гору с Белый Яр высотой. Чернокожий Ульгеш неподалёку от него так сверкал жёлтыми глазищами, что Бусый вмиг понял: не зря они с Колояром полдня вчера ему растолковывали, чего ради нужно поднимать из проруби тяжёлые вёдра и передавать их по цепочке. Бельчихи с заправленными под шапки космами из льняной выбеленной кудели – мёртвыми волосами Мораны – взбирались на башенки по сторонам Врат. Зайчихи с подвязанными огненно-рыжими бородами уже собрались перед Взгорком.
– Видишь Врата, построенные на Взгорке? – прилежно объясняла старому Акануме младшенькая дочь Лося. Чернокожий гость не особенно нуждался в её разъяснениях, но это было делом, помогавшим девчушке не разреветься от обиды на мать и сестёр, не взявших её с собой: слишком мала. – Врата – это первая из Преград. Их нужно преодолеть все подряд, добираясь до Башни. Наше войско пойдёт с восточной стороны, потому что там солнце восходит. По Ледяному Мосту! Он прямой, как горячий солнечный луч, он как стрела, нацеленная прямо в Морану!
– Мост не слишком широк, – заметил старик, больше ради того, чтобы девочка чувствовала свою полезность. – Отчего светлое воинство не обойдёт Преграды и не окружит Башню?
Мост действительно был достаточно узок и к тому же являлся мостом больше по названию. Его и ограничивали не перильца, а всего лишь бороздки, прочерченные в речном льду топорами и заполненные золой.
– Ты что?! – Девочка округлила глаза, ужасаясь невежеству гостя. – По сторонам, это Мгла!.. Ледяная, стылая, страшная! Кто туда попадёт, станет пленником Мораны и будет сражаться после этого на её стороне!
Тут молчаливый Соболь дал наконец сигнал, и в отдалённый грохот ледохода вплелась звонкая песня медного рожка. Немедленно заверещали свирели, призывно ударили бубны, и раздавшийся в ответ дружный боевой крик Зайчих сменился отчаянным визгом – войско Бога Солнца ринулось на штурм первой Преграды.
Взгорок и Врата
Чтобы добраться до Врат, надо было подняться по обманчиво невысокому, но крутому и неимоверно скользкому, ровно в меру обтаявшему ледяному Взгорку. А сами Врата высотой в полтора человеческих роста сложены были из больших – не уцепишься и не обхватишь – зеркально-гладких шаров хрустального льда.
Кто-то из Зайчих сумел взять хороший разгон и, несмотря на бешеный град снежков, с первого раза добрался до Врат… Но только для того, чтобы беспомощно съехать обратно под уклон. Да ещё и посшибать с ног чуть приотставших подруг.
Бусый видел, как на одной из привратных башенок выплясывала, корчила рожи, грозила кулаком и выкрикивала злорадные поношения Зайкам противная седая Морана – его, Бусого, тётка, славившаяся зычным голосом и неисчерпаемым сквернословием.
Конечно, на истинную Незваную Гостью крикливая Белка походила примерно так же, как «страшная» сказка, рассказанная в тепле и уюте, на настоящую смертную жуть, но тем и хорошо было её лицедейство. Всё лишнее посрамление злодейке!
– А мужья ваши… – разобрал Бусый, ибо тёткин голос, как всегда, легко прорезал шум и гам, – маленькие, скрюченные, сморщенные! И беззубые! У меня зубов и то будет побольше…
Морана обратила солнечному воинству зад и, нагнувшись, лихо взмахнула подолом. По толпе зрителей пролетел невольный смешок. Заюшки отозвались гневным и горестным стоном. Крыть было нечем!.. Поди-ка навскидку сообрази, каким образом можно какое там разрушить эти Врата, даже просто около них удержаться? Не слишком ли постарались в этом году изобретательные строители Взгорка и Врат?.. Не случится ли превеликого срама, чреватого, ко всему прочему, неурожаем?..
Благодарение Богам – не попустили.
Посовещавшись, Зайчихи выставили вперёд трёх девок, самых крепких и ловких. Им ещё помогли взять хороший разбег, подталкивая, почти бросая на Взгорок. Когда же воительницы достигли ледяных шаров и на краткий миг застыли на месте, уравновесив земную тягу силой своего разгона, – по согнутым спинам молнией взлетела четвёртая девка, бежавшая сзади. Взлетела – и, не останавливаясь, яростно оттолкнувшись от плеч уже начавших скользить вниз подруг, перевалилась через Врата…
– Ха-а-а-ах!.. – пронёсся над толпой замерших зрителей восхищённый выдох.
И тут же – спустя мгновение, только достаточное, чтобы пополнить воздух в груди, – все голоса смешались в громовом, оглушительном рёве, диком крике восторга и надежды.
– Давай, Осока! Давай! Круши! Ну?! Давай, милая!..
Как вообще могла что-то сокрушить одинокая девка посреди полчищ врагов, вряд ли кто себе толком представлял. Кричали просто потому, что не было сил не кричать, хотелось помочь ловкой и отважной девчонке, а ничем, кроме как криком, помочь было нельзя.
– Ой же ты, безобразница… – различил Бусый рядом с собой тихий, какой-то придушенный всхлип Колояра.
Между тем Осока, преодолев Врата, свалилась на маленькую площадку, где стояли всего две или три Бельчихи. Все прочие торчали на башенках, откуда было так удобно закидывать наступавших снежками, плескать из вёдер стылой прорубной водой. Вот сейчас они спустятся, ухватят Осоку да и скинут с Моста. И ничего она в одиночку не сумеет против них учинить. А на подмогу вряд ли кто подоспеет…
Только не стала Осока ни Врата крушить, ни с Белками воевать. Взяла да торопливо сунула между огромными ледяными шарами конец захваченной с собой верёвки. Размахнулась – и другой конец полетел через Врата. Далеко полетел, увлекаемый привязанной деревяшкой. Бельчихи спохватились мешать, но брошенные концы уже подхватило у подножия Взгорка множество рук.
Подхватило, дружно рвануло… ещё и ещё раз…
Осока в это время в одиночку яростно отбивалась от облепивших её Бельчих, силясь не подпустить их к верёвке, не дать перебить её ударами тяжёлых ледышек. Долго она не могла продержаться, ещё немного, и…
С четвёртого или пятого отчаянного рывка ледяные глыбы со скрежетом посунулись, чуть дрогнули, утрачивая казавшееся несокрушимым единство. Осока ужом вывернулась из крепких рук супротивниц, оставив у прислужниц Мораны в лапах тулуп. Подхватила подол – и ногой шарахнула в одну из глыб, помогая подругам. Не то чтобы она могла действительно её сдвинуть, но всё же…
Зрители взревели с новой силой: Врата рухнули, рассыпаясь. Зайчихи, оскальзываясь, падая и поднимаясь, подпирая друг дружку, всё-таки всхлынули к пролому и с ходу ринулись дальше.
– А-а-а-а!.. – начисто забыв о госте, порученном её заботам, верещала и прыгала на берегу младшая дочка Лося.
Успеют ли Заюшки спасти от пленения удалую Осоку, успеют ли оттащить её от края погибельной Мглы?..
Успели.
В бескровном сражении, кажется, наступал перелом.
* * *
Прислужницы Мораны поспешно оставляли рухнувшие Врата. Тех, кто не успел убежать с Моста и укрыться в царстве Мрака, брали в плен, срывали белые космы и подвязывали рыжие бороды. Ни от кого не укрылось, как радовались «пленницы». Ещё бы! Теперь они будут сражаться на стороне Жизни! Так Солнце расколдовывает угрюмый лёд, и он радостно превращается в живую, благодатную воду.
Всякому венну был понятен смысл происходившего на Межинном Плёсе. Дочка Лося опамятовалась, перестала визжать, чинно одёрнула свиту и принялась объяснять, что к чему, старому мономатанцу, потому что он не был венном, жил, как ей говорили, в бесснежной стране и, наверное, в самом деле чего-то не понимал.
Прорубь
Как ни радовались Бельчихи, присоединённые к воинству Солнца, по доброй воле никто из них не сдавался. Главная их сила вслед за Мораной обошла огромную Прорубь и собралась на другой стороне. Зайчихам обходить Прорубь и вступать во Мглу было нельзя. Все Преграды на Мосту требовалось преодолеть в лоб, ведь солнечный луч не изгибается, не обходит препятствий.
Площадка, захваченная Зайками, – на самом верху Взгорка, сразу за разрушенными Вратами, – была совсем небольшой. И к Проруби, прямо под воду, от этой площадки падал почти отвесный ледяной откос, свалишься – нипочём сама обратно не вылезешь. Ну да кто сказал, будто путь к Башне обойдётся без бед?..
Решительные Зайчихи разом перекинули длинные жерди. Бесстрашные девки устремились на Ту сторону по шатким мосткам…
Не добежали.
– Ну-ка, вы, кувшины разбитые, бочки без затычек!!! – повелительно взревела Морана.
Бельчихи дёрнули в сторону лежащие на их стороне концы жердей, сбрасывая нападающих в жадную и тревожную воду. Девки вынырнули и, не убоявшись, поплыли. Да не назад, а вперёд! Достигли Той стороны и попытались вылезти на склизкий лёд.
И опять не вышло… Воительницы Мораны легко сбрасывали упорных Заек назад в Прорубь.
Заново перекинули жерди, и на них, вскидывая стынущие руки, повисли упавшие. Не затем, чтобы вылезти и убежать в тепло. Девки силились помочь подругам, не дать сшибить переправу…
…И вновь всуе все старания. Дочери Мораны были начеку и сдаваться не собирались. Дружный рывок – и в Проруби прибавилось девок и баб.
* * *
Бусый схватил в охапку Ульгеша, – чернокожий парнишка был готов броситься на выручку барахтавшимся в воде. Ульгеш совсем недавно узнал, что такое лёд и снег, лежащий не где-то там, на далёкой горной вершине, а всюду вокруг. Ему казалось, что люди в воде были обречены немедленной смерти, он забыл веннскую речь и кричал что-то на своём языке, вырываясь и указывая рукой в сторону Проруби.
В отличие от него Бусому доводилось самому спасаться из полыньи. У него сразу заболел шрам на щеке, оставленный укусом мороза, он очень живо представил, как это, когда под ногами нет опоры, рукам не за что ухватиться, а в теле начинает останавливаться кровяной ток. Ему передалось волнение друга, Бусый даже не задумался, отчего Ульгеша поспел перехватить именно он, ведь стояли они друг от друга далековато, другие находились куда как поближе. Бусый как будто увидел движение юного мономатанца за миг до того, как оно произошло уже наяву… Увидел, перехватил – и забыл, потому что его душа, как у всех, рвалась спасти тонущих.
Никто больше не помнил, что нынешнее сражение с Мораной Смертью было всё-таки потешным. Женщины сражались по-настоящему. И терпели неудачу. Тоже очень нешуточную… А мужчины ничем не могли помочь. И бессильная ярость у многих выдавливала слёзы из глаз.
Слёзы Осоки
Вот поэтому содеянное всё той же Осокой увидели только в самый последний миг. Когда она уже летела по воздуху, распластав тело в небывалом и невозможном прыжке.
Для этого прыжка Осока разбежалась по жерди, конец которой Зайчихи высунули над Прорубью прямо с верхней площадки Взгорка. Высунули – и крепко держали другой конец, прижав его к площадке тяжестью своих тел. Осока пробежала по согнувшейся жерди, легко подпрыгнула и что было силы оттолкнулась. Жердь упруго распрямилась и бросила девку вверх и вперёд, как лук бросает стрелу. Осока птицей перелетела широченную Прорубь и свалилась с неба прямо на головы супротивницам.
Падая, она сшибла с ног сразу двух Зайчих и, перекатившись, сразу вскочила, чтобы ринуться прямо к Моране, не успевшей укрыться в Башне.
«Ох, – подумалось Бусому, – быть же Колояру нынче без Золотого Ножа…»
Зато его языкатая и голосистая тётка в кои веки раз утратила дар речи.
Вдохновенный полёт Осоки потряс не только врагов, ведь Прорубь на то и была Прорубью, чтобы оставаться за пределами обычного человеческого прыжка. Никто из дочек Мораны не позаботился оградить свою предводительницу, никто и охнуть не успел, а Осока уже тащила упирающуюся Смерть топить в Проруби.
Опомнившись, Бельчихи навалились всем скопом, сшибли Осоку с ног. Девка и не подумала сдаваться, она держала подмятую Морану железной хваткой и перекатывалась вместе с нею по льду, раздавая пинки и подсечки…
Позже Бусый вспоминал эти мгновения и спрашивал себя: «Как же получилось, что я просто болел за Осоку и видел лишь внешнее, а поглубже не глянул? Как я мог позабыть, что передо мной – не обычное состязание в силе и ловкости, а священное действо, осенённое присутствием Богов и глаголющее Их волю?..»
* * *
Сумей Осока увлечь Морану в Прорубь, это была бы, уж что говорить, всем победам победа, из тех, о которых и через сто лет бабки рассказывают внучатам. Бельчихи всё-таки увернулись от вселенского срама. Три могучие бабы сграбастали Осоку, с мясом отодрали её от Мораны и потащили… нет, не к Проруби, что толку её кидать туда, с этой станется сразу выскочить и взяться опять за своё! Девку поволокли за границу Моста, во Мглу. Туда, откуда отважная воительница могла выйти лишь на сторону Мораны.
Да только и Зайчихи не дремали. Замешательство Белок длилось мгновение, но Зайкам больше и не требовалось. По жердям помчались ловкие ноги в лапотках, валенках и сапожках, а плававшие в Проруби собрали последние силы и без уговора все разом рванулись на лёд. Две девки сумели сдёрнуть за собой супротивниц, превратив их в союзниц. А одной, донельзя отчаянной и ловкой, удалось, ринув через себя в воду Мораничну, самой удержаться на краю льда. Ещё висели в воздухе брызги, а мокрая Зайка уже мчалась на помощь подруге.
– Осока! Держись!..
С разбегу влетела под колени одной из тащивших Осоку, опрокинула, заставила выпустить жертву. И Осока, уже качнувшаяся над царством Мглы, так и не пересекла края Моста. Её держали теперь всего-то вдвоём, а ведь засмеют люди ту веннскую девку, которая не сумеет вырваться от двоих! Осока и вырвалась. И увидела, что её избавительница, потратившая в Проруби мало не все силы, обвисла на плече у крепкой Бельчихи. И та, с красным от досады лицом – шутка ли, две девки-соплюхи что хотят, то и вытворяют в стане Мораны, будто они, Бельчихи, вовсе уже ничего не смыслят в воинском деле! – изготовилась выкинуть девушку прямо во Мглу.
– Подружка, Берёзка!..
Осока плашмя пролетела по скользкому льду. Застигнутая врасплох Моранична покачнулась, выронила Берёзку, и та упала на Мост. А Осока, увлекаемая разгоном, вместе с Белкой выкатилась во Мглу…
Среди зрителей в голос застонал Колояр.
Бусый видел, как она приподнялась и села на льду, – медленно, словно до неё только сейчас добрались все ушибы, усталость, холод и боль. Подвязанная борода съехала за плечо. С полусотни шагов всего не разглядишь, но Бусый увидел: бесстрашная Осока заплакала.
Уж верно, тяжко ей было становиться Мораничной, но ничего не поделаешь. Лёд, бывший некогда живым ручейком, под пятою мороза сам становится смертью.
За краем Моста Осоку поджидала плачущая Берёзка.
Когда новая прислужница Смерти наконец поднялась и шагнула из Мглы, подруга немедленно сбила её милосердной подножкой и бросила в Прорубь, возвращая на Светлую сторону. Осока поправила мочальную бороду и следом за другими Зайками двинулась к Башне Мораны, но уже без прежнего задора, что-то в ней словно бы надломилось, погасло.
Бусый огорчился. Так дело пойдёт, может, вовсе и не ей доведётся резать пироги Золотым Ножом, почётом лучшего воина. Ещё рушить неприступную Башню, ещё мужской бой… глядишь, и подзабудутся два её подвига, и затмятся свершениями того же Колояра.
И будет это, как ни крути, справедливо. Вышел драться, так уж дерись до конца.
Страшная птица
Когда целый род или даже целых два рода сообща творят великое дело, стремиться к отдельному успеху вроде бы даже и не особенно хорошо. Поэтому уныние Осоки было неуместно на празднике, она сама это понимала и старалась всячески его скрыть. Но Бусый следил за ней, мелькавшей возле полупрозрачных стен Башни, а рядом вздыхал Колояр, и, может быть, поэтому тускло-серое облачко, окутавшее удалую Осоку, всё более казалось Бусому… ну, что ли, каким-то неправильным.
Чужеродным среди весёлой радуги, полыхавшей в душах людей.
Словно кто взял да накрыл девушку душным серым мешком.
Кто-то сторонний – и очень-очень недобрый…
Это ощущение мешало, тревожило и пугало. Как будто яркий солнечный свет заслонили тенёта осторожно раскинутой паутины. От морока не удавалось отмахнуться, по сердцу скребануло нехорошим предчувствием, а Бусый привык своим предчувствиям доверять. Он оторвался от Потешного поля и задумался.
«Если тебе станет страшно, собери силы, улыбнись и взгляни страху прямо в глаза. Он и отступит…»
Что же не так было на светлом и радостном празднике? Что могло затаиться здесь – в присутствии Светлых Богов?..
Бусый задрал голову к небу… И почти сразу почувствовал чей-то тяжёлый пристальный взгляд. Похоже, не только Светлые Боги взирали на Межинное Плёсо из синевы Праведных Небес… Но кто же?
Бусый давно знал за собой эту способность – ощущать чужое внимание. Направленное даже не обязательно на него самого – на кого-нибудь, кто был рядом. Наверное, он перенял это у вилл, пока был младенцем. Он всегда чувствовал взгляд зверя и человека, вот только тот, кто смотрел сейчас на Потешное поле, не был ни человеком, ни зверем.
Такой взгляд мог бы быть у ожившего мертвеца, слепого и при этом не по-здешнему зоркого… Взгляд, от которого не заслонишься, не спрячешься…
Захотелось кинуться на землю плашмя, приникнуть к её материнской груди и закрыть руками голову: спаси, укрой!.. Бусый напряг зрение, и вот в слепящей синеве мелькнула крылатая тень. Над разливом Крупца неторопливо ходил кругами… нет, не ворон. И не орёл. И подавно не благородный летун симуран. Уже понимая умом, что не стоит, ой не стоит этого делать, Бусый вгляделся…
Тварь кружила очень высоко, но сегодня Бусому было свойственно особое зрение. Как он углядел за полсотни шагов слёзы Осоки, так и теперь сумел отчётливо рассмотреть чешуйчатые крылья, холодные немигающие глаза и клюв, больше смахивавший на пасть, потому что в нём торчали острые желтоватые зубы.
Бусому сразу стало холодно, душа содрогнулась от ужаса и никакими словами не передаваемого омерзения. Над полем, где посрамляли Морану и славили Жизнь, парил трупоед.
Ко всему прочему, страшная птица как будто была здесь, рядом, и в то же самое время было совершенно ясно, что на самом деле её здесь нет. Призрак, тень, еле различимая в небе, и Бусый почему-то знал, что никто, кроме него самого, этой тени не видит и увидеть не сможет, сколько он о ней ни кричи.
Птица смотрела не на Бусого. И не на его сородичей Белок. И даже не на кого-то из Зайцев. Она следила за почти незнакомым Бусому парнем, тем самым пришлецом, лучшим бойцом Зайцев по имени Резоуст.
Едва Бусый успел это осознать, как его ледяной иглой уколол встречный взгляд нежити. Вот это было уже совсем плохо. Бусый ощутил, как заледенело нутро. Пока он не смотрел на птицу, то и сам оставался невидим. Зато теперь… Теперь она могла следить не только за Резоустом, но и за ним, Бусым.
Соприкосновение взглядами словно бы осквернило его, замарало, сделало уязвимым.
Но зачем?.. На что он понадобился кому-то злобному и чешуекрылому? А может, ему попросту примерещилось – после нескольких-то суток почти без сна, чего доброго, и не такое увидишь…
Сердце гулко колотилось в груди, рядом шумел народ, радовавшийся падению Башни. Знакомые голоса поддержали мальчишку, точно сотня дружеских рук. Бусый отдышался и вновь поднял глаза. На сей раз – с каменным намерением ни перед кем их не опускать! И ни перед чем!
В небе было пусто. Ни страшной птицы, ни её тени. И никакого мертвящего взгляда. Вообще ничего. Лишь солнце улыбалось в безоблачном небе. Дескать, ну приблизилось что-то страшное… Подумаешь! А ты наплюй на него и дальше живи!..
Бусый встряхнулся, словно сбрасывая ту скверну, что попыталась прикоснуться к нему. Люди кругом ликовали. Воительницы Солнца наконец изловили Морану и с торжеством волокли её к Проруби.
Бусый ещё раз оглядел Потешное поле, думая найти глазами Осоку… И вдруг понял, от кого расползалась серая паутина.
Резоуст
Позапрошлой осенью, в пору, когда укладывался первый снег, случилось величественное и страшное диво. Люди, одарённые особенной чуткостью, начали ощущать смутное беспокойство. А потом не только они, но и самые что ни есть обычные насельники веннских лесов ощутили тяжкую судорогу земной тверди, докатившуюся из-за южного горизонта. Ещё через некоторое время в той стороне поднялись и долго не опадали тяжёлые и странные тучи. Вещие старики вглядывались в их облик и говорили, что надо ждать перемен.
И перемены не задержались. Уже через несколько месяцев в полуденных землях, где зимой всегда воцарялась сонная тишина, сделалось небывалое беспокойство. Начали появляться разрозненные ватаги людей, большей частью напуганных и голодных, но порой и опасных. Вместе с ними мало-помалу распространилась весть, будто где-то там, очень далеко от веннских чащоб, Мать Земля испытала очистительные муки и приняла в разверзшееся лоно целый горный хребет, именовавшийся Самоцветным.
И это был не простой горный хребет. Кто-кто, а венны хорошо знали: Самоцветные горы являли собою шрам, причинённый стародавним падением Тёмной Звезды. Поговаривали даже, будто в тамошних недрах было заперто какое-то додревнее зло, прибывшее с Тёмной Звездой извне этого мира. Чем ещё объяснить, что эти самые недра, словно мышиными норами, были источены многовековыми рудными копями, в которые со всего света везли несчастных рабов?..
И вот иссякло Божье терпение, и Самоцветные горы перестали быть. Ватаги уцелевших каторжников и надсмотрщиков разбрелись в разные стороны, как расходятся круги по воде. Слухи о бродячих ватагах ходили самые разные, в том числе и откровенно тревожные. Ясное дело, не все бывшие узники были законченными головорезами, но опять же далеко не все угодили на каторгу безвинно. И как знать, до какой крайности дойдёт просто отчаявшийся и голодный беглец?..
Всё обдумав, венны пожали плечами и стали держать оружие под рукой. Не то чтобы подобная бдительность сильно им пригодилась. К веннам не особо совались: всякий, кто хотел это знать, давно уяснил себе, что в их стране не сыскать лёгкой и богатой добычи, зато победушек[4] себе наживёшь столько, что и не расхлебать будет потом.
Этой зимой на Крупце появился человек, по виду и выговору – сольвенн, назвавший себя Резоустом. Первыми его встретили Белки. Резоуст попросил пристанища, посулив вышедшим ему навстречу мужчинам, что обузой роду не будет. Он не скрывал, откуда явился, да и поди это скрой! Резоуст сразу сказал, что многое умеет, особенно по воинской части. Намекнул, дескать, времена наступают беспокойные, лихие люди бродят целыми шайками, мало ли что может случиться, лишним ли тогда покажется веннам справный боец?..
И всё вроде бы и ладно и складно, вот только собаки, сторожившие деревню, дружно ополчились на незнакомца. Тут надобно пояснить, что у Белок сидели по дворам не вполне обычные собаки. Лет сорок назад к одной из Белочек пришёл жених из западных чащ, из рода Серого Пса, и привёл с собой волкодавов на зависть всем ближним и даже дальним соседям. Эти псы доныне почитались за особое отродье, Белки верили им, как себе.
Большуха позвала тогда Соболя. Молчаливый Соболь один раз покосился на глядевшие из-под седых брылей клыки старого кобеля по имени Срезень – и сказал пришлому человеку:
«Вот тебе еда, вот одежда. Ступай».
С тем Резоусту и указали путь от ворот, а в деревню не допустили. Случилось это, когда низкое зимнее солнце клонилось к закату и медленно свирепел вечерний мороз. Резоуст ушёл озлобленный, бормоча что-то о чужеплеменниках, которые решения принимают вместо своих. А поскольку между селениями Белок и Зайцев тянулась натоптанная дорожка, он и вышел по этой дорожке прямиком к Зайцам.
Те оказались мягкосердечнее… А может, просто меньше привыкли обращать внимание на своих собак, хотя псы у них были тех же кровей, что у соседей. Резоуст действительно быстро доказал, что не даром ест хлеб, мало было равных ему в любом деле, а на охоте, пожалуй, не было вовсе. Был он ловок, силён, весел, удачлив, красив зрелой мужской красотой. Надобно думать, Заиньки поглядывали на него, соображая, не подарить ли бусину.
Да только ни одна что-то так и не подарила…
Все знали, что нынешней молодецкой потехи Резоуст ждал с особенным нетерпением, и это было понятно. Где, как не в кулачном бою, исчерпать тягостную обиду на Белок и в особенности на Соболя! Исчерпать, выплеснуть в Прорубь, где потонет злая Морана, – да и забыть. Так от века водилось у веннов, и это было правильно и хорошо. И сольвенны, насколько помнилось Бусому, тоже уважали старый обычай.
Теперь он воочию убедился – все, да не все…
Танец
Когда Башню растащили на ледяные обломки, а сброшенная в Прорубь Морана оставила под водой белёсые патлы и выплыла в своём обычном естестве – добродушно матерящейся тёткой Белкой, – настало время мужчинам явить свою удаль перед лицом Светлых Богов.
Девки и бабы, доблестно изгнавшие Смерть и уже переодетые в тёплые сухие одежды, взялись за руки, образовав большое коло, священный круг, площадку, внутри которой станут вершить потешный бой мужики. Под звон бубенцов и весёлые песни женщины двинулись посолонь, и это был совсем особенный коловорот. Совсем не те плавные, завораживающе медлительные хождения прозрачными летними вечерами! Хороводницы до времени сдерживали себя, но всякий мог видеть: готовилась именно та яростная, задорная пляска, которой венны уподобляли ледоход на Светыни.
Старухи мерно встряхивали бубны, заставляя их тихо переговариваться. Ноги плясуний притопывали всё крепче и чаще, и всё увесистей приминала снег внутри Круга слитная поступь мужчин.
У бойцов шаг от шага пуще играла кровь, сами собой начинали подёргиваться, ходуном ходить плечи, женский хоровод двигался всё стремительнее, незаметно начиналась пляска, без которой не обходился ни один зимний бой…
Да и что бы это за бой был, без пляски? Одна срамота. Венны знали это всегда. Знали и то, что лучшие плясуны зачастую оказывались затем и лучшими бойцами.
Хорошенько утоптав площадку, Белки и Зайцы встали по сторонам подготовленного Круга, освободив место в центре. Вперёд выскочили шустрые мальчишки и принялись выделывать коленца, кто был во что горазд. Вот полетели первые снежки, кто-то с кем-то для затравки обменялся крепкими тумаками…
Бусый пружинисто припадал ко льду и взлетал в воздух, вертелся и стремительно бил то рукой, то ногой, разя воображаемых супостатов. Если бы он заметил взгляд старого Аканумы, во взгляде мономатанца он заметил бы понимание и одобрение. Уж в чём, в чём, а в боевых плясках чернокожий понимал толк! Бусый как будто не плясал, а пел, и его песнь была внятна любому имеющему глаза. Он славил Светлых Богов, Весну, Жизнь и Любовь.
Всё то, чего ради живёт на свете мужчина, всё то, за что ему и жизнь не жалко будет отдать.
Девочка с зелёными, искрящимися весельем глазами, одетая в летнюю рубашонку… Она незримо шла в танце об руку с Бусым, отвечая на каждое его движение, на лету ловя его замысел и продолжая его своим… Девчонка ещё поспевала смеяться и хлопать в ладоши, кружась и не приминая ромашек, и вместо того чтобы задохнуться и уступить середину Круга новому плясуну, Бусый летел и летел на крыльях вдохновения и счастья…
Со стороны Зайцев в Бусого густо летели снежки. Позже ему рассказали, как сноровисто он от них уворачивался, и Бусый удивился. Медлительные комья всего лишь скользили по туго натянутым нитям чьих-то намерений: отчего же не обойти их, не перешагнуть?..
Мальчишки Белки ревниво оберегали его, бросались под снежки, готовые, как им казалось, вот-вот ударить его…
Потом рядом с ним появился Ульгеш. Может, юному мономатанцу и стоило бы скромно остаться в сторонке, дабы не навлекать на гостеприимных Зайцев ехидное поношение: у вас, мол, не только лучший боец пришлый, но и лучший плясун!.. Но Ульгеш был сыном народа, чьи дети ощущают потребность в танце раньше, чем осознают необходимость ходить. Народа, который молился, колдовал и советовался с давно ушедшими предками, вполне обходясь без слов. И пускай Ульгеш вырос вдали от родной земли, что с того! У него был очень хороший наставник…
На лёд Крупца вышел крадущейся походкой неведомый зверь. Именно зверь, и притом такой, каких отроду не видали в здешних лесах. Глаза мальчишки горели кошачьим хищным огнём, на праздничном белом Кругу полыхал неистовый танец знойной Мономатаны. Непостижимо, но изумлённые венны узрели крадущуюся к добыче, неслышно текущую сквозь густые заросли когтистую и прекрасную тень. Вот, оставляя в воздухе след, чёрно-жёлтая молния метнулась к добыче, сшибла её неудержимым прыжком, покатилась вместе с ней по земле… Вот она выгнулась и отскочила, уходя от рогов всё ещё очень сильного и бесстрашного буйвола… Вот нанесла последний удар и застыла с поднятой лапой, готовая отстаивать добычу от всякого, кому придёт охота за неё поспорить…
Даже юные Зайчата, каждому из которых мечталось блеснуть взрослым умением, забыли ревновать чужака и во все глаза смотрели на его танец.
На лице Аканумы вдруг стали отчётливо видны все морщины, старик крепко зажмурился, пряча подступившие слёзы. Он-то, заметив своеволие ученика, успел испугаться, как бы веннов не оскорбило подобное вмешательство в их священную пляску. У одной из старух поначалу действительно мало не выпал из рук бубен, но затем лица белокожих северных варваров отразили изумление и восторг, и Аканума понял, что его наука не пропала втуне.
Вот если бы маленький Ульгеш ещё и звездословие с таким же рвением постигал…
Поединок
Между прочим, Ульгеш с Бусым должны были теперь неминуемо встретиться и на кулаках. Ульгеш это понял не сразу, но ему подсказали, и он не попятился, не смутился. Постепенно зрители перестали плясать, оставили кидаться снежками и наконец вовсе замерли, затаив дыхание. А ну пропустишь такое, о чём, может быть, долго будут все вспоминать!
Знать бы Белкам с Зайцами, чем в действительности предстояло запомниться этому поединку… Что поделаешь, не всем людям дано заглядывать в будущее, и, право, это им же только во благо.
Стоя грудь в грудь, светлокожий Бусый и чёрный Ульгеш, весьма далёкие от внешнего сходства, показались зрителям едва ли не кровными близнецами.
Бусый метнул снежок в противника. Кистью снизу вверх, хлёстко и очень сильно, поди увернись! Ульгеш увернулся играючи. Его, как и Бусого, вела звеневшая внутри песня, за которой телу только оставалось радостно следовать.
Ульгеш изогнулся, точно хлыст, пропустил мимо пущенный Бусым снежок. Довершая начатое движение, прянул вперёд – и его ступня выстрелила Бусому в грудь!
Но и Бусый не остался на месте, он как бы устремился следом за кистью, метнувшей снежок, мягко отсягнул по кругу и, не пытаясь остановить, чуть подправил удар чернокожего, продлевая, продёргивая его дальше – мимо себя. А когда Ульгеш провалился в ударе, подставил ему бок, – рубанул в этот самый бок кулаком.
И вот тут…
Мимо, безопасно скользя по тугим нитям намерений, всё так же пролетали снежки, неспособные попасть ни в Бусого, ни в Ульгеша. Бусый на них уже и внимания-то почти не обращал, радость пляски и боя заставила его подзабыть даже о твари, мелькнувшей в небесах. Всё злое и скверное было готово отодвинуться прочь, вымытое из души святым огнём праздника, как вдруг…
Девочка с зелёными глазами испуганно вскрикнула, указывая на что-то у Бусого за спиной…
…Как вдруг одна из нитей-намерений оказала себя липким и серым щупальцем паутины. И по ней летел никакой не снежок, а глыбка льда, увесистая, как камень. Неслась она, далеко не играючи пущенная, Бусому прямо в затылок. А если бы он убрал голову – то Ульгешу в висок.
Это была уже не потеха, это было увечье и смерть.
Бусый не обернулся, некогда было ему оборачиваться, да, в общем, и незачем. Он и так знал, что ледышку метнул Резоуст. Он это увидел.
Для внешнего зрения Резоуст весело приплясывал среди Зайцев, как все, разогреваясь перед боем, смеялся, кричал, кидал в Белок снежки, ловко сам от них уворачивался.
Но это было всё напускное, куда менее настоящее, чем кудельные патлы Белки-Мораны. Истинное зрение – то, которое останавливало в полёте снежки, – усматривало на месте Резоуста сущий ком липкой паутины. От него по направлению к Белкам расползались смертные токи. К большухе, к Соболю… И… и всех гуще почему-то к нему, к Бусому, хотя он-то за всю зиму Резоусту двух слов не сказал, какое там ссориться. Ну с чего можно до такой степени ненавидеть недавно встреченного мальчишку, паче того – люто завидовать ему и желать каким угодно способом причинить зло?..
«За что?..»
«А за то, что я узнал в тебе кое-кого, на чью голову у меня давным-давно ножик наточен. Сдохни теперь, пащенок, вместо него!..»
Конечно, Бусому ответил не сам Резоуст, ответила его нить-намерение, которая, если ловко её ухватить, о чём только ни напоёт…
…Кулак Бусого, нацеленный Ульгешу в бок, до этого самого бока так и не долетел. Вместо удара у Бусого вдруг разъехались ноги, он схватился за юного мономатанца и рухнул вместе с ним в снег.
Девочка из снов была по-прежнему подле него, только в изумрудных глазах плескалось уже не веселье, а тревога за Бусого. Всё-таки она продолжала хлопать в ладоши, задавая меру танцу и бою. Бусый откуда-то знал: пока она рядом, ничего непоправимо страшного с ним не случится.
Потом он сообразил, что ни разу ещё не слыхал её голоса.
«Как тебя зовут, славница?»
«Таемлу…»
И вновь в вышине мелькнула тень зубастой птицы, наблюдавшей за Резоустом. Издав что-то вроде раздражённого карканья, птица тут же исчезла опять, без следа растаяла в воздухе. Только резанула напоследок страшным неживым взглядом по нему, Бусому. И ещё по кому-то… По кому, Бусый разглядеть не успел.
Колояр и Осока
А потом тяжеловесно и основательно сдвинулись мужские «стенки», и лёд загудел.
– Кулаки у вас добрые, да плечи хлипкие… – укоряли противников могучие Зайцы.
– Святым кулаком, да по окаянной шее… – ухали в ответ Белки.
И охаживали друг дружку, кому с кем пришлось.
Правда, завязавшуюся потеху едва не прервали в самом начале, потому что в заячьей «стенке» была обнаружена девушка, возжелавшая биться наравне с мужиками. Сперва кругом неё все закашляли, поскольку не знали, сердиться или смеяться, но Осока невозмутимо метнула ушанку под ноги тому, кого избрала себе в поединщики.
Конечно же, это был Колояр.
Про Колояра поговаривали, будто в лесу ему даже туры уступали дорогу, ибо понимали, что шуйцей он любому из них посшибает рога, а десницей и вовсе убьёт.
Осока полетела в бой сразу, без долгого кружения, без «пробников», как здесь называли осторожные удары, назначенные испытать цель. А что тут испытывать, когда и без пробы всё ясно?! Рысью скакнула вперёд и с ходу затеяла парню ядрёную оплеуху.
Кто-то из бойцов невольно пригнулся, кто-то безотчётно поморщился и моргнул… Что греха таить, имелись среди мужиков сведавшие тяжёлую руку Осоки! Руку, привычную к лопате и вилам, способную натянуть тугой охотничий лук. Видели, как вместе с матерью она разнимала дурную драку на ярмарке. Мать властно прикрикнула на драчунов, топнула ногой, так Осока не стала ждать, хватит ли материнского гнева. Ка-ак влепила обоим плюгавцам![5] Не сразу поднялись. И орехов после долго не щёлкали – у обоих зубы шатались…
Не поздоровилось бы даже и Колояру, если бы принял удар, только он и не думал его принимать. Он прянул назад, метя ухватить промахнувшуюся руку за овчинный рукав…
И – не вышло. Затрещина оказалась обманным ударом. Настоящий вышел куда увесистей. Враз обоими кулаками, прямо в грудь, под сердце. Причём била девка даже не в саму грудь, а как будто сквозь, словно целя во что-то, стоящее за спиной Колояра, и самого Колояра при этом даже вроде не особенно замечая.
Не испытавшему на себе подобного удара поди объясни, чем он так уж отличается от обычного… Внешне – ничем. Только внутренняя сущность его такова, что голая рука отчего-то перешибает дубину, а меч рассекает врага пополам вместе с кольчугой и прочным кованым шлемом. Рассказать, в чём тут секрет, могли все веннские мальчишки и половина девчонок. Нанести сквозной удар умели очень немногие. Осока – умела.
Молодого великана унесло прочь, как ветошку со стола. Но Колояр был и сам куда как непрост, уже в падении он зацепил-таки Осокин рукав, рванул за собой. И уже девка отправилась в полёт, а Колояр вернул равновесие и остался стоять.
Полёту Осоки полагалось бы завершиться на льду, вот только зря ли слепой дядька Лось завязывал ей глаза и гонял веником среди хрупких корзин? Рука Колояра была слишком надёжной опорой, чтобы её не использовать к своей выгоде! Осока перевернулась в воздухе – и с удалым хеканьем смачно вбила в грудь парня оба колена.
А коленки были у девки… Да ладно, Колояр выгнулся назад едва не раньше удара. Перекатился и миг спустя опять стоял на ногах.
Зрители начали хохотать. Сдвинувшиеся «стенки» попятились прочь, мужики оставили драться и неспешно переговаривались, любуясь неожиданным поединком, от мощи и красоты которого обмирала душа.
– Во жизни ваша девка даёт! – пробурчал коренастый Белка.
Он обеими руками крепко держал за пояс круглолицего Зайца, которого было вознамерился ринуть через себя, да так и забыл, о чём помышлял.
– А Колояр ваш будто хуже! – отозвался вроде бы пойманный на захват Заяц. Он тоже смыслил толк в суровой кулачной забаве и именно поэтому не спешил воспользоваться оплошностью Белки. – Только недолго он вашим будет, скоро в наш род перейдёт!
То, что на льду перед ними происходило объяснение в любви, было очевидно обоим.
– Добрая пара будет! – заключил Белка.
Закончился бой, когда притомившаяся Зайка вновь попыталась круговым ударом подсечь ногу Колояра, но промахнулась и, поскользнувшись, чуть было не упала на лёд по-настоящему неловко и тяжело. Колояр, конечно, не допустил непотребства. Распластался, как люди не могут, подхватил девушку у самого льда, вскинул на руки.
Народ с криком кинулся качать обоих. «Стенки» заново налились суровостью, обратились в две грозовые тучи, сдвинулись – и кулачная потеха продолжилась обычным порядком.
Паутина
Залюбовавшись чудесным искусством Осоки и Колояра, Бусый на время оставил думать и про Резоуста, и про страшную птицу, а зря…
Когда Колояр, улыбаясь, вернулся к молодецкой потехе, лицом к лицу с ним как будто случайно встал Резоуст. И напоказ, слишком открыто нанёс молодецкий удар, от которого Колояр, понятно, легко ушёл. Промахнувшегося Резоуста развернуло к нему спиной, и вот тут Бусый, стоявший поодаль, насторожился, но поздно. Колояр уже протянул руку и взял Резоуста за ворот, но не для того, чтобы разложить незадачливого соперника на праздничном льду. У него в жилах ещё гулял поединок с Осокой, полный беспредельного доверия и приязни. Молодой великан думал поддержать Резоуста, помочь вернуть невзначай утраченное равновесие…
Бусый раскрывал рот для крика, но крик уже не мог ни предупредить, ни помочь.
«А не верь никому! Надо было топтать, а теперь я тебя затопчу!»
Обмякшее в притворном падении тело рванулось освобождённой пружиной. Резко крутанувшись, Резоуст ни дать ни взять намотался на руку Колояра, чтобы неожиданно оказаться у него за спиной, устремить его вкруг себя…
…И резко подать бёдрами в обратную сторону. Уже Резоустова рука ухватила за ворот пошатнувшегося Колояра и сделала то, что молодой Белка отказался сотворить над ним мгновение назад. Бывший каторжник припал на колено и со всего маху перебросил Колояра через ногу, выставленную назад.
Всё было проделано быстро. Очень быстро и очень умело. Так, чтобы никто не заметил, как согнутый левый локоть Резоуста на лету ударил Колояра в лицо. Ударил коротко и жёстко, всей силой и весом двух тел, разогнавшихся одно другому навстречу.
Подобные удары проламывают кости лица, и человеку настаёт почти мгновенная смерть…
Опытный Резоуст всё проделал так ловко, что, кажется, никто, кроме Бусого, не заметил случившегося с Колояром. Подумаешь, упал и упал, чего не бывает в кулачной потехе даже и с первейшим бойцом!
На поверженного Колояра мигом навалились хохочущие Зайцы, стремясь не дать ему встать. На выручку ринулись Белки, началась свалка. Поднявшийся Резоуст тоже устремился в самую гущу, сноровисто расшвыривая Белок. Рёв поднялся настолько оглушительный, что отчаянный крик мальчишки просто в нём потонул. Орали все, причём каждый орал своё, мыслимо ли при этом ещё и что-то услышать?
Но плохим судьёй был бы Соболь, пропусти он оказавшееся внятным для Бусого. Соболь, стоявший вроде бы далеко в стороне, стремительной тенью ввинтился в толпу дерущихся и внезапно оказался прямо перед Резоустом. Да не просто так оказался. И Зайцев, и Белок словно ветром отнесло в разные стороны, и умолкли разом все голоса, и стал виден лежавший без движения Колояр, и побежала к нему белая от страха Осока, а Резоуст, если судить по лицу, понял, что на самом деле не обманул никого.
Соболь был раза в два старше Резоуста и раза в полтора легче, но перед паутинным человеком стояла стена. Взметнувшуюся руку бывшего каторжника взяли в захват железные пальцы. Ещё движение, и Резоуст завизжал от ужаса и неотвратимости. Его рука превратилась в сплошную боль, ни на что на свете не похожую, Соболь поставил визжащего Резоуста сперва на колени, потом заставил нагнуться лицом до самого льда. Недобрый гость, вздумавший осквернить Божий праздник жестокостью и убийством, был беспомощен в его хватке. Он не мог не то что освободиться, даже чуть изменить постав тела, подневольный и несообразный. Посмей он двинуться, Соболь безжалостно и хладнокровно оставил бы его без руки навсегда.
Вместо оглушительного весёлого шума на льду Потешного поля воцарилась поистине мёртвая тишина.
– С Колояром что? – спросил Соболь ровным голосом, внешне спокойно. Он даже не сбил дыхания, расплющивая Резоуста.
Ответил ему слабый горестный вскрик Осоки. Как она ни спешила, прежде всех к Колояру поспел его старый пёс, Срезень. Он перевернул хозяина и вылизал ему окровавленное лицо. Когда рядом на лёд припала Осока, могучий волкодав двинулся к Резоусту, молча обнажая клыки и с каждым шагом словно бы делаясь всё страшнее и больше. Голова Колояра уже лежала на коленях Осоки. Лицо у него было совсем белое, глаза закрыты, а из ноздрей продолжала вытекать кровь.
Днём в небесах властвовало чуть ли не по-летнему тёплое солнце (насколько вообще в этой зимней стране можно было говорить о тепле), ночами же возвращалась словно бы спохватившаяся зима, и мороз принимался хватать за уши и нос.
Старик Аканума сидел на удобной завалинке, благодарно сунув ноги в валенках под бок свернувшемуся кобелю, и смотрел в небо.
Нет, веннские звёзды, так странно и непривычно развёрнутые в горних сферах, больше не изумляли его. И не то чтобы их созерцание было насущно для его ежедневных кропотливых расчётов. Ему просто нравилось вновь и вновь перечитывать небесные письмена. Любоваться их мудростью и совершенством. Зримо представлять, как они восходили над Городом Тысячи Храмов. Называть каждый Божий светоч по имени, словно старого и неизменного друга…
Откинув голову к индевеющим от дыхания брёвнам, старик приветствовал Вечность. Которая, как он знал, должна была его очень скоро принять.
«Мой маленький Ульгеш… – Разум Аканумы, ничуть не потускневший с годами, выплавлял строку за строкой, чтобы утром излить их на шершавую поверхность письменного листа. – Если ты нашёл это послание, значит я не ошибся в исчислениях и моя линия судьбы уже пресеклась. Не грусти, ибо я не жалею о том, как распорядился временем, милосердно отпущенным мне Свыше…»
Старый жрец обмакнул тростниковое перо, зачеркнул несколько слов, вставил на их место другие. Сквозь воображаемый лист просвечивали бесценные огни, брошенные в непроглядно-синюю бездну. Аканума вымарал ещё несколько слов. Как же ему хотелось, чтобы строки последнего письма обрели совершенство, присущее этим серебряным жемчугам.
«Дитя сердца моего, я пытался растить тебя гордым и добрым. Достойным отца, которого злоба людская не позволила тебе узнать. И в этом я, кажется, преуспел…»
Исчёрканные листы медленно поворачивались кругом Северного Гвоздя. Аканума не торопился. До срока, что подсказали ему звёзды, оставалось ещё несколько дней.
На другое утро
Звон в ушах. Боль, тупо бьющаяся в голове. Онемевшее, непослушное тело. Беспомощный трепет сердца в груди. Колояр не может понять, где он находится, чьи это голоса глухо, как сквозь толщу воды, доносятся до него. Перед глазами висит багровая пелена, и нет мочи приподнять веки, и любой свет ослепителен и беспощаден…
Женская рука ласково касается лица, успокаивающе скользит по щеке. Вздрагивают потрескавшиеся губы Колояра.
– Мама…
Мамина душа не первый год уже приглядывает за ним с Острова Жизни. Она ушла туда, когда Колояру минуло четырнадцать лет. Отца год спустя взяла в мужья младшая сестрица умершей. Мачеху Колояр почитал и любил, но мамой не называл никогда. У веннского парня много отцов, ему все батюшкины братья и побратимы – отцы, наставники и заступники, а вот мать бывает только одна, иную он мамой не величает.
Но кого, если не маму, позовёт сквозь дурнотное забытьё человек, которому очень худо?
– Всё хорошо, родной, всё будет хорошо. Я здесь, с тобой. Ты сейчас очнёшься и быстро поправишься… опять будешь самым сильным и ловким… Я люблю тебя. Я тобой горжусь…
Голос звучал и звучал, он вёл Колояра за собой, не давал совсем соскользнуть в багровую тьму.
И вот снова дрогнули искусанные губы, на сей раз – в едва заметной улыбке… Прерывистое дыхание стало немного ровнее. Ладонь, широкая, как сковорода, медленно переползла и нащупала тёплую женскую ладошку. Осторожно сжала её… Приняла ответное пожатие, крепкое и беспредельно нежное.
Колояр открыл глаза. Недоумевающий взгляд натолкнулся на расплывчатый силуэт в полутьме. Спустя ещё несколько мгновений мама ушла из его мыслей, оставив вместо себя Осоку.
Лёд, Потешное поле, сородичи, стоящие вперемешку с Зайцами… Колояр медленно возвращался в дневной мир, с горем пополам вспоминая кулачный бой и своё в нём участие. Вспоминалось не всё. Как перед ним явила себя Осока, как славно они с ней потешили себя и других – это представало ясно и внятно, движение за движением, хоть сейчас взять всё повторить… А потом? Что стряслось, что уложило его сперва на лёд, а потом и на эту деревянную лавку?.. Колояр тщетно напрягал память. Сказывали ему, бывало подобное от сильного удара по голове. Очнётся побитый, а кто его так, за что и про что – припомнить не может.
– Напугал я тебя… – глядя на Осоку, с трудом и раскаянием выговорил Колояр.
Он всё пытался рассмотреть, уж не плачет ли девка, но от малейшего напряжения перед глазами поднимался туман, а переносье придавливала боль, грозившая снова бросить в беспамятство.
Рука Осоки упиралась ему в грудь, возбраняя всякое шевеление.
– Говорила же я, всё будет хорошо! – почти сердито проворчала она, и Колояр вновь вспомнил маму. Когда мама за что-нибудь ругала домашних, это значило, что, в общем, всё хорошо. Когда воркотня прекращалась, на них с отцом нападала тревога.
Колояр вдруг смутился и убрал ладонь, накрывшую Осокину руку.
– Идти надо, – пробормотал он, соображая, сумеет ли в самом деле подняться.
– Или спешишь куда? – насмешливо подбоченилась девушка. – На потеху, может? Так она вчера ещё кончилась.
Колояр кое-как повернул на бок деревянное, непослушное тело. Вся середина лица ощущалась как некий колышущийся холодец, переносье и лоб хотелось немедленно ощупать, но страшно было касаться. Он поддержал ладонью скулу, чтобы голова не отломилась от шеи, и только так приподнял её с подушки. Сел, и сразу сделалось жарко, а из просторной, смутно знакомой избы куда-то подевался весь воздух.
Осока села рядом, старательно делая вид, что вовсе даже и не подпирает тяжело покачнувшегося Колояра.
– Это тебя дядька Летобор в гости зазвал, – пояснила она.
Парень выждал, пока стены не оставят кружиться перед глазами, и прохрипел:
– Случилось-то что?..
В это время распахнулась дверь, впустив сноп ослепительного полуденного света, от которого веки у Колояра разом захлопнулись, – но не прежде, чем в проёме обрисовался знакомый силуэт Бусого.
– Опамятовался!.. – завопил Бельчонок, заставив Колояра отчаянно сморщиться, отчего студень на лице пронзила острая боль, и дверь бухнула: Бусый шарахнулся обратно во двор, неся кому-то счастливую весть. – Опамятовался!.. На лавке сидит!..
Тут Колояр сообразил, что насмерть перепугал не только Осоку. Молодой великан преисполнился смущения и стыда и положил себе встать как можно быстрее. Тем паче что некая часть его существа уже заставляла припоминать, где у дядьки Летобора в доме задок[6].
«Дядька Летобор… – туповато повторил про себя Колояр. И запоздало удивился: – Э, а почему я не дома?..»
Как ни мешкотно трудился сейчас его точно паутинами облепленный разум, неутешительный ответ пришёл сразу:
«А потому, что дядька Летобор всех ближе к речке живёт…»
Совсем плохи, значит, были дела, если его на руках внесли в первую же родную дверь, да там и оставили, не дерзнув дальше тащить.
Он повторил:
– Случилось-то что?..
– А ты головкой ударился, – как-то очень уж весело объяснила Осока. Помялась и неохотно добавила: – Иные говорят, Резоуст нарочно тебя приласкал, а иные не верят.
«Резоуст?..»
Колояр не числил заячьего вабью в друзьях, но и врагом себе его не считал. Так, сторонний человек… тень на плетне.
«Приласкал?.. Да за что бы?..»
Думалось по-прежнему скверно, и Колояр отставил трудные мысли, тем более что пристально вспомнить бой и в особенности «ласку» Резоуста по-прежнему не удавалось, хоть тресни.
Он ещё посидел, понуждая тело к решимости, потом начал вставать. Главнейшим лекарством от хворей Колояр чтил движение, особенно когда было невмоготу. Это средство и теперь его не подвело. Колояр сумел дошагать почти до самых дверей.
Осока семенила рядом, давя желание немедленно подхватить, подпереть.
Между тем вопли Бусого собрали со двора обрадованный народ. Двери отворились навстречу, и Колояр снова захлопнул глаза, но уже не так плотно. От ворот к нему шёл Соболь, сбоку спешили мачеха и отец, а прямо перед крылечком, упираясь мохнатыми плечами, сидели два кобеля, дед с внуком, Срезень и Летун.
Колояр улыбнулся всем сразу, потянулся опереться рукой о косяк и начал заваливаться навзничь.
Что сделал Соболь, рассмотреть никто не успел. Только то, что он не побежал и не прыгнул. Как бы просто исчез в одном месте и возник сразу в другом, рядом с Колояром. Колояр дотянулся до косяка, выправился и устоял на ногах.
Во дворе ликовала просвеченная золотом небесная синева. Колояр глотнул свежего морозного воздуха, и мерзкая слабость тут же начала отступать. Он сумел без чьей-либо помощи завернуть за угол дома и сделать ещё несколько шагов. После чего вернулся в избу взмокший, смертельно уставший, но исполненный законной гордости.
Тень на плетне
Позже ему во всех подробностях рассказали, чем в действительности завершился праздничный бой. Колояр внимательно слушал, но ему всё казалось, будто речь шла не о нём. И не о тех людях, которых он до вчерашнего дня думал, что знает. Ему казалось, что это не к добру.
После вмешательства Соболя потеха прекратилась, чтобы больше не возобновляться. А что её возобновлять, если вмиг пропали и веселье, и радостное вдохновение. Люди стояли молча, глядя то на упавшего Колояра, над которым хлопотала встревоженная родня, то на Соболя с Резоустом.
Их молчание ничего хорошего Резоусту не предвещало.
Соболь успел разомкнуть живодёрский захват, но отпущенный Резоуст не торопился вставать. И не потому, что Правда веннского кулачного боя мстила[7] бить «лёжку и мазку», то есть лежачего или в крови. Вот он со всей силы бухнул о лёд сперва ладонями, а после и лбом.
И… завыл.
«Я же не хотел! Я не хотел… не хотел…»
Сдвинувшиеся люди зашевелились, начали разжимать пудовые кулаки, неловко переговариваться. Горе униженного и растерянного Резоуста вроде бы не подлежало сомнению, голос заметно дрожал. Начисто не поверили ему только двое: Соболь да Бусый. Ещё не поверили Осока и Срезень, но Осока не отходила от Колояра, а Срезню не было позволено вмешиваться по своему усмотрению в людские дела.
И если уж на то пошло, Бусого тоже никто здесь особенно спрашивать не собирался.
«Чего ты не хотел?»
Это неожиданно громко заговорил слепой Лось, и Резоуст отчего-то вздрогнул всем телом. Он плохо ещё знал обычаи веннов, лишь помнил, что венн вряд ли заговорит напрямую с человеком, которого собирается убивать. Резоуст ответил почти без дрожи в голосе, разве что чересчур торопливо:
«Бить его не хотел… Нечаянно вышло… бросить думал… – Резоуст приподнялся и показал как. – Да вот локтем голову нечаянно зацепил…»
«Врёшь».
Соболь произнёс своё слово спокойно, почти равнодушно, но захлёбывающаяся речь Резоуста сразу оборвалась. Потому что было это не просто слово. Это прозвучал приговор. Вынесенный человеком, привыкшим, что другие люди ему верят и безоговорочно подчиняются. Услышав его, Резоуст сделался ещё белей Колояра, потому что искалеченный Колояр стремился к жизни и бился за неё, а живой и невредимый Резоуст уже чувствовал себя мертвецом.
Он заметался, не решаясь подняться с коленей, посыпал словами, начал что-то доказывать, путая веннский говор с сольвеннским, перемежая их ещё какими-то реченьями, вовсе уже никому здесь не знакомыми, а глаза его шарили по лицам мужчин, выискивая хоть искру сочувствия.
Бусому, обнимавшему Срезня, помнится, на миг показалось, что перед ними на льду билась и брызгала серой кровью та самая птица, сброшенная с небес…
В груди Срезня отдавались далёкие громовые раскаты. Старый кобель пристально следил глазами за Резоустом, и Бусый пытался понять, что же мудрый пёс в действительности видит перед собой.
«Врёшь, – так же спокойно и непререкаемо повторил Соболь. – Ты с самого начала думал убить. У тебя умение мастера, а душа – труса. Вот, значит, как ты отплатил Колояру за благородство в бою, а Зайцам – за гостеприимство. Ты для этого попросился под кров?»
Резоуст уничтоженно молчал.
«Да-а… – вздохнул неподалёку от Соболя кто-то из Зайцев. – Правду старики бают. Все беды от чужаков».
Соболь не торопясь повернулся к бывшему ученику, седые усы дрогнули в усмешке. Он сказал:
«Если помнишь, я здесь тоже когда-то был чужаком».
Молодой Заяц смутился, и его смущение постепенно распространилось в толпе. Лет двести назад человека, сгубившего чёрным непотребством святой праздник, не иначе бросили бы в ту самую Прорубь, да с тяжёлым камешком на ногах. Ныне люди стали непростительно мягкосердечны. Кто-то вспомнил, что Колояр, как ни крути, остался ведь жив, Резоуст же… Венны видывали каторжников и знали, как способна изломать человеческую душу неволя. Что, если Светлые Боги привели сюда Резоуста Своим детям во испытание? Легко добить человека, надломленного страданием и успевшего порядком накуролесить. А вот распрямить его… отогреть…
На том, собственно, и кончилось дело. Люди потоптались ещё немного и начали расходиться. И только Бусого, да, может быть, ещё Соболя не оставляло видение серой птицы, что, волоча смятое крыло, поспешно убралась с омрачённого Потешного поля.
…Срезень, ради больного хозяина допущенный в дом, поставил на лавку лапищи и взялся заботливо умывать Колояра. Даром ли говорили венны, что пёс хотя и вонюч, да на языке у него – двенадцать лекарств. Колояру уже рассказали, что Срезень всю ночь лежал на крыльце, приникнув к дверной щели носом, и даже не взвизгивал, когда на него наступали. И вот дорвался, холил и ласкал своего человека, и человек чувствовал, как уходила боль и рождалась уверенность: всё будет хорошо. Всё заживёт. И в душе, и на теле.
«А там, – жарко стукнуло сердце, – по пословице, и до свадьбы недалеко…»
Соболь одобрительно похлопал собаку по могучему загривку.
– Умница, лохматый. Повезло тебе, парень, с друзьями… – Соболь кивнул на Бусого и Осоку. – Цени.
Колояр ценил. Ему хотелось всех обнять и повторить каждому по отдельности то, что чувствовал сам.
Он притянул к себе голову Срезня и крепко поцеловал в чёрный шевелящийся нос. Всё будет хорошо. Всё будет хорошо…
К Вороной Гриве
Снег искрился на утреннем солнце и весело поскрипывал под лыжами. Летобор и Бусый по очереди торили лыжню, забираясь всё выше по заросшему соснами склону. Лес здесь был воистину вековой, и Бусый, задирая по временам голову, спрашивал себя, есть ли что на свете красивее зеленохвойных макушек, вознесённых в солнечное синее небо.
«Есть, – с улыбкой поправлял он себя самого. – То же небо между ветвями, когда в нём скользят крылатые симураны…»
Вдали над макушками сосен медленно росла, поворачивалась обрывистая вершина Вороной Гривы. Дорога к ней была тяжела, и Колояра, пусть даже он отлежался и вовсю хорохорился идти в лес, – оставили дома. Вместе с ним остался и Срезень. Отца с сыном сопровождал весёлый Летун.
Вот кому нипочём был заснеженный склон, заставлявший людей то и дело отирать лица от пота! Летун, словно оправдывая прозвание, носился кругами, без усилия перемахивая груды валежника. Одолевал индевелые гранитные лбы и замирал наверху, вывалив язык и ожидая, когда же наконец подойдут нерасторопные люди.
Веннов считали дремучими лесовиками, упрямыми пнями, еловыми шишками. Они обижались на эти прозвания, но куда денешься – вполне им соответствовали. Как бескрайние леса от Светыни до моря на севере не стояли без веннов, так и венны очень плохо приживались там, где не рос лес. Без торжественных боров-беломошников, без нарядных весёлых березняков и без ельников во влажноватых низинах, чьи распростёртые корни тонули в бархатном мху… Без вздымающихся над лесом гольцов наподобие Вороной Гривы, откуда так славно было обозревать небоскат…
Венны испокон селились в основном на северном, правом берегу Светыни, и это было правильно и хорошо. Их берег был в отличие от левого высок и обрывист, с него взору открывались бескрайние дали вверх и вниз по великой реке. А также огромные пространства на левом, чужом берегу. И в самую ясную погоду – еле видимые зоркому глазу очертания удалённых на много дней пути Железных гор.
На левом, низком, местами заболоченном берегу, за широкими зарослями камыша, за чёрными молчаливыми корбами[8] был другой мир. Жили там люди, говорившие на чужих языках, и на них с непонятных небес взирали чуждые Боги. В старину к людям, пришедшим из-за реки, относились весьма настороженно, крепко сомневаясь, в самом ли деле оттуда могли прийти люди. Что, если это явилась и просится в людское жильё притворившаяся человеком мёртвая нежить?.. Пусти её через порог, не оберёшься беды!
Приминая лыжами снег, Бусый думал о том, что и Резоуст пришёл ведь оттуда, с левого берега, да не откуда-нибудь, а из самых что ни есть Железных гор, именуемых ещё Самоцветными. А вдруг этот бывший каторжник, отмеченный давними следами оков, – и не человек вовсе? Может ли исходить от человека настолько страшная злоба, что даже глаз начинает её различать в виде отвратительной паутины?..
Мальчишке хотелось расспросить об этом отца, но он не решался. Никто ведь, кроме него самого, паутины той не видал, люди если бы видели, непременно бы о том объявили. Скажут небось – померещилась. Да и посмеются ещё. Здоров, скажут, после драки кулаками махать!
«Надо с Соболем перемолвиться. Соболь всё на свете постиг. Он небось смеяться не станет…»
На том Бусый решительно отодвинул от себя тень Резоуста, чтобы не печалила солнечного дня, по-своему даже священного, пусть не для целого рода, а всего лишь для отца с матерью, для их малой семьи.
Одиннадцать лет назад, ровно в этот день, виллы принесли им Бусого.
О виллах спорили: кто-то числил их и не людьми вовсе, кто-то – особым отродьем людей. Виллы жили высоко в горах, отличались маленьким ростом и лёгким сложением и беседовали при помощи мыслей едва ли не чаще, нежели при помощи слов.
«Ну да, – всякий раз говорил себе Бусый, когда ему случалось об этом задумываться. – А мономатанцы живут за морем, где солнце не в ту сторону движется, и кожа у них как сажа, а пятки – розовые. И ничего, люди как люди…»
Зато вилл поднимали на крыло симураны, громадные летучие псы. Виллы повелевали ветрами, рождением и движением облаков, и поля, над которыми ранней весной пролетали небесные всадники, всегда приносили обильные урожаи.
Всякий веннский род, дружески посещаемый виллами, почитал их приязнь за великую удачу и счастье.
Белки изведали эту удачу одиннадцать лет назад, когда сразу четверо симуранов подняли крыльями снежную метель наверху Белого Яра. И опустились с небес прямо в самую гущу игравшей там ребятни.
Дети хоть и не испугались, но заробели.
Покуда лохматые летуны обнюхивались с местными волкодавами (ибо разумные венны не отпускали детей за околицу без собак), из деревни примчался от мала до велика весь род.
Не пришёл только один дедушка, лежавший больным в доме возле самой реки. И не пришла его внучка, потому что не могла оставить дедушку одного. И ещё парень-жених, явившийся просить у девушки бус, потому что не дело мужчине покидать женщину и старца одних, без помощи и защиты.
А над падавшим в реку обрывом рядом с отдыхающими симуранами стояли четверо виллинов, очень невысоких и обманчиво хрупких. Соболь почтительно им поклонился. И они ему поклонились, как равному. Самый старший виллин, чья борода явственно отливала серебром, лишь немного странно, пронзительно на него посмотрел. Но ничего не сказал.
Он-то, старший, с рук на руки передал большухе годовалого мальчика, завёрнутого в пуховое покрывало и мех. Синеглазого и румяного, с волосами пепельного цвета, отливающими золотой рыжиной на ярком свету… Если бы ещё не левое ушко да не лапчатый белый след на детской щеке…
«Он попал к нам очень больным, – сказал старший виллин большухе, и она утверждала потом, что его голос звучал у неё не столько в ушах, сколько непосредственно в голове. – Мы вылечили его, он стал для нас Сыном. Но по рождению он из Бескрылых, а значит, оставшись у нас, он будет несчастен».
Лица виллинов были суровы, их покрывала почти мономатанская чернота, ибо в заоблачной разреженной вышине полагается пребывать Солнечной колеснице, а вовсе не человеку. На медной чеканке этих лиц невозможно было прочитать никаких чувств.
«Вон там, у реки, стоит дом, в котором мальчику будет хорошо. Мы не забудем того, кого полюбили».
Симураны один за другим оттолкнулись от края обрыва и, расправляя широченные перепончатые крылья, пронеслись над Крупцом, потом начали набирать высоту. Люди и звери легко уносились в небесную высь, а тот, кому от рождения полёт был заказан, остался внизу. Мальчик горько расплакался, что-то взахлёб щебеча на птичьем языке и протягивая ручонки вслед улетевшим. Соболь провожал симуранов задумчивым взглядом из-под ладони. Юные Белки, сгрудившись возле большухи, разглядывали малыша…
Она же, большуха, немедленно отнесла Бусого в дом на берегу, где сидели подле бессильного старца жених с невестой – Летобор и Митуса.
«А вот вам, детушки, и первый сынок…» – несколько растерянно выговорила большуха…
Так приёмыш, виллами принесённый, обрёл мать и отца, тёплый дом, дружную ораву бесстрашных родичей-Белок. И надо ли сказывать, что за капуста родилась в тот год по огородам – на диво ядрёная, руками не обхватишь, от земли не оторвёшь…
Свою прежнюю жизнь в горах, среди вилл, Бусый помнил смутно. Сам не был уверен, что в тех воспоминаниях оставалось истинным, а что домыслилось позже.
«Это тебе потом рассказали», – порой говорила мама, и он, дурак, на неё обижался. Осколки истинной памяти были крохотными, но на диво яркими. Взять хоть неведомое большинству людей чувство полёта, откуда же ему явиться, если не оттуда, даром, что ли, полёты по сию пору иногда Бусому снились… и ещё ласковые сильные руки, и наплывал иной, чем здесь, вкус тёплого козьего молока… запах горного мёда…
Этот круг тепла, безопасности, доброты… Он хранил Бусого от ещё более смутных воспоминаний о чём-то безжалостном, смертельном и страшном, о лютом морозе и ослепительном мраке…
Всё это тоже по временам ему снилось…
Когда он подрос, они с Летобором стали что ни год подниматься на неблизкую Гриву. Просто ради того, чтобы махнуть рукой симуранам, летящим куда-то вдаль в бескрайнем, распахнутом настежь весеннем просторе.
Бусина
Сразу после их ухода Осока схватилась собираться домой.
– И так без стыда загостилась, пора вежество знать.
– А я тебя провожу, – сказал Колояр. – Иначе никуда не пойдёшь.
Осока было возмутилась. Добежать домой через лес, да не глухоманью какой, а по натоптанной тропке, глаза совсем зажмурь, и то мимо не промахнёшься, – на что надобно провожать?
Колояр в бесполезный спор не полез, он себе молчал, сидя на пригретом крылечке, смотрел на неё снизу вверх, улыбался, щурился против солнышка и молчал, а рядом, прижавшись к хозяину, сидел Срезень и точно так же помалкивал, улыбаясь, и получалось это у них до того одинаково, что Осока в конце концов не выдержала – расхохоталась.
Пышный хвост Срезня немедленно застучал по доскам крылечка, старый пёс вскочил, резвый, точно дождавшийся прогулки щенок. Вытряхнул шубу, к которой мачеха Колояра уже примеривалась с частым гребешком, и даже глухо гавкнул на радостях. Между прочим, он совсем не зря носил своё прозвище. Срезень – это, если кто сам не видал, стрела с остро отточенным наконечником в распахнутую пядь шириной. В шею придётся, так голову сразу срежет долой. За спиной у такого надёжи-пса что ж по лесу не шагать, да не на всякий шорох оглядываясь.
А в лесу было впрямь хорошо. И пахло не просто смолой – живыми соками, готовыми вот-вот двинуться вверх по хвойным стволам.
– Ну так что молчишь? Хочешь бусину-то али нет?
Сказаны были эти слова до того легко, мимоходом, как о деле самом обыденном и привычном, что Колояр не сразу даже смекнул, о чём это она, и прошёл целых два шага, прежде чем встать столб столбом, дурак дураком. Замер, пришибленный свалившимся счастьем. Сугробы по сторонам тропки усеивала опавшая хвоя и мелкие чешуйки коры. Осока могла сколько угодно напускать на себя легкомысленный вид, но глаза, ставшие вдруг бездонными, выдавали.
Бусина между ключиц вздрагивала, искрилась синими огоньками.
– Любая моя… – выдохнул Колояр.
Больше ничего сказать не сумел, горло перехватило. Молча принял бусину, поднёс к губам, поцеловал… Распустил ремешок и неверными пальцами стал вплетать драгоценный подарок себе в косу.
Ближе к родной деревне Осоки навстречу попалось несколько Зайцев. Они поздоровались с Колояром виноватыми голосами, опуская глаза. Колояру, светившемуся изнутри, дела не было до их смущения и вины. Он не стал спрашивать их, куда они запрятали своего Резоуста. От Зайцев же не укрылось, на каких лебединых крыльях проплыли мимо парень и девка. И многим помстилось, будто тень, павшая на две деревни после осквернённого праздника, стала рассеиваться.
Но оказалось, хрустальные искры всё-таки обожгли кое-кому завистливый глаз.
– Вот, значит, как нынче светлые бусины добывают… – произнёс голос, который Колояр меньше всего желал бы услышать. – Сунуть голову под удар да на лёд лечь, ан глядь, честное дельце и сладилось… Поздорову тебе, сын славных матери и отца.
Резоуст стоял у ворот, в каждой руке по ведёрку. Он появился до того неожиданно, что Осока еле успела схватить Срезня за холку, не то сразу быть бы беде. Резоуст и глазом не моргнул при виде напрягшегося кобеля, здороваясь с Колояром, он как бы и его не очень-то замечал, смотрел лишь на Осоку, смотрел с той надменностью на лице, какая бывает порой присуща отвергнутым.
Это неправда, будто сильные люди, притом искусные биться, бывают не особенно проворны умом.
– А ты другой раз попробуй, – посоветовал ему Колояр. – Вдруг тоже какая жалостливая подбежит и бусину сунет. Поздорову тебе.
Сам он был сейчас весьма неказист, осунувшийся, с чёрными синяками кругом глаз. Но эти запавшие глаза сияли надеждой и счастьем, а глаза Резоуста никакого света не источали, наоборот, всякий свет, попадая в них, гас как в погребе, не освещая души.
Колояр вдруг сообразил, что Осока, кроткой молчаливостью никогда не отличавшаяся, не сказала совсем ничего, даже не ответила на приветствие Резоуста. Может, потому, что правильной веннской девке никто, кроме собственной совести, не указ, с кем ей здороваться, не здороваться. А может, и ещё причина была, только она её при себе держала.
– Что скажешь, красавица? – прямо обратился к ней Резоуст.
Осока смолчала и тут, так смолчала, словно он был пустым местом, и Резоуст добавил с усмешкой, но глаза были холодные:
– Да никак шею мне свернуть собралась, оттого и молчишь?
– Пошли, Колояр, – сказала Осока.
Резоуст вдруг бухнулся перед ней на колени и двумя руками оттянул ворот.
– Вот тебе моя шея! – закричал он, и голос срывался то ли от дурного хохота, то ли от слёз. – Сворачивай с неё головушку победную[9], если иначе никак злой вины перед тобой не избуду!..
Над плетнями, ограждавшими дворы малых семей, разом выросли любопытные лица. Осока потом говорила, что именно в этот миг, глядя на подставленную Резоустову шею в отметинах от невольничьего ошейника, она уразумела причину его смертной ненависти к Колояру. И всякая девка уразумела бы, эта мудрость вместе с ними рождается. Не Колояра Резоуст ненавидел, а её, Осоку, любил. Окажись на месте Колояра Белки кто угодно другой – Зимородок, Волк, Росомаха, – он и этого другого точно так же попытался бы извести. Знать, думал, девка поплачет, поплачет, а после и вскинет ему, Резоусту, руки на плечи, не одной же век вековать.
Любовь каторжника была уродливой и жестокой, как вся его минувшая жизнь, она не возвышала его, а толкала на непотребства. Заставляла причинять боль другим и самого обрекала на горькие муки. Но всё же это была любовь, и, глядя на нешуточное страдание Резоуста, Осока тихо проговорила:
– Скажите, добрые люди, этому молодцу, что я сердца на него не держу. Пошли, Колояр.
С тем и удалились по улице, направляясь к избе Осокиных матери и отца, а Резоуст остался на коленях, с разодранным воротом, у опрокинувшегося ведёрка, и было ему, надо думать, не слаще, чем у Соболя в железных тисках.
Венисы[10] Ветродуя
Вороная Грива была не просто холмом, что стоял бы сам по себе посреди широкой равнины. Здешних земель достигали отроги словутого[11] кряжа Камно. Крутые узкие гряды, такие же скалистые, как сам коренной кряж, тянулись с севера, становясь то выше, то ниже, и венны называли их гривами. Соседи-сольвенны пользовались другим именем, понятным без толмача, но непривычным для слуха, – «перешейки».
Вороная Грива подходила к этому слову больше других, ибо вздымалась круто и высоко, действительно как шея коня, непокорно вставшего на дыбы.
«Я же спал и видел, как бы по достоинству отплатить Колояру добром… А явился случай, что содеять сумел? Да ничего…»
Бусый с Летобором достигли подножия Вороной Гривы. Скоро придётся отвязывать лыжи и лезть дальше так.
На самом деле вилл можно было разглядеть не только отсюда. Летобор придумал этот поход-приключение много лет назад, придумал нарочно для сынишки, когда тот только стал подрастать. Путь, который давался сейчас Бусому легко и в охотку, для тогдашнего мальчонки был немалым свершением. Свершение, за которым следовала награда!.. Чего, спрашивается, ещё надобно?!
«…И ничего не содеял. А мог?»
Бусый подхватил горсть липкого влажноватого снега, разбил о мокрый лоб, вытер лицо. Белый след на левой щеке тотчас дёрнула знакомая боль, но эта боль жила с ним всю его жизнь. Она была вроде знакомой гадюки, обитающей в давно известном распадке. Изволь с ней считаться, не топочи где попало, не то будешь укушен. А истреби гадину[12], и чего-то будет недоставать.
«Вот если бы я, заметив страшную птицу, сразу громко о ней закричал? Аж на всё Потешное поле?»
Любил же Бусый задаваться вопросами, на которые не существовало ответов. «Без толку радеть о том, чего всё равно не изменишь, – улыбнулась бы мама. – Просто зарубай на носу[13] и живи дальше, сынок!» Бусый посмотрел в широкую спину шедшего впереди Летобора. Нет, отец ему бы вряд ли что-то сказал, разве подмигнул бы. Не мужчина, кто не учится каждый день. И в особенности на ошибках. Вольных и невольных. Собственных и чужих…
– Лыжи прочь, – объявил Летобор, останавливаясь у большого обломка тёмно-серого слоистого камня. – Пришли.
Здесь кругом ещё рос прозрачный, светлый сосновый бор, богатый грибами и крупной, удивительно сладкой черникой. Но чуть выше сосны начинали мельчать, становились корявыми, приземистыми и однобокими. Ветви и макушки тянулись все в одну сторону. И становилось понятно, откуда венчавший Гриву юр[14] получил имя: Ветродуй.
Летом на скалы взбирались олени и дикие козы, спасавшиеся от кусачих мух и мошки. По зиме спасительные утёсы превращались в ловушку. Те же козы и олени взлетали на отвесные скалы, удирая от голодных волков. Умные волки не пытались карабкаться, куда им не было ходу. Они усаживались дожидаться внизу. И спустя время добыча, окоченевшая на юру, сама падала к ним.
«А раскричись я о птице, сейчас срама не обобрался бы…»
Мальчик подхватил лыжу, не нашедшую опоры на мокрой поверхности камня и взявшуюся падать. Вот что получается, когда слишком зримо представляешь себе ехидные рожи Зайчат и их дружные вопли: «Кликуша, кликуша новая объявилась!»
Бусый привычно нашёл взглядом на снегу быстрый беличий след. И почти тотчас по рукаву отцовского кожуха взбежал проворный зверёк, устроился на плече. Бусый улыбнулся и протянул руку погладить. Лесной родич ласку принял…
Лишь на миг Бусому показалось, будто белка готова была отстраниться. Перескочить на другое плечо…
Нет. Показалось.
Только вспомнилось почему-то, как прошлой зимой Бусый, движимый глупой мальчишеской удалью, забрался сюда в самые глухие морозы и без Летуна. И навстречу ему, ничуть не скрываясь, вышел большой волк. Бусый от удивления остановился, стал рассматривать зверя. Матёрый преспокойно подошёл, обнюхал затаившего дыхание мальчика… Весело помахал пушистым хвостом. И – пропал, как вовсе не бывало его… А Бусый смотрел в ту сторону, где он скрылся, и думал, как славно было бы озябшие руки в его шубе согреть…
Ох и скакал же кругом хозяина недовольный Летун, когда вечером Бусый возвратился домой! Ох и ворчал же, обнюхивая дурака, старикан Срезень!..
Обходя плечо скалы, сын с отцом одновременно придержали дыхание, сделали ещё шаг – и ветер, давший название гребню, сразу выжал слёзы из глаз. Проморгавшись, Бусый принялся оглядываться, ища, не сверкнут ли где в ломаных каменных складках кроваво-красные искры?
Тёмные блестящие сланцы действительно были похожи на волны конских шелковистых волос, извитых прихотью ветра. И в этих роскошных волнах красными бусами путались щедро рассыпанные венисы. Парни Белки и Зайцы, вступая в пору жениховства, почти все лазили на Ветродуй, ища самые яркие, прозрачные, бесскверные камни. Оправляли их в бронзу и серебро, дарили милым славницам серёжки и перстни. Белок и Зайцев называли добрыми мастерами, при этом считалось, что и самая тонкая работа, и лучшие камни давались только тем, кто не просто покорялся родительской воле, но был вправду влюблён.
«И я однажды на юр за камнем приду…» – по-хозяйски гордо сказал себе Бусый.
Сорванцы вроде него дерзко лазили сюда тайно колупать сланец, но, как и полагалось им, находили смешные крохи. Что-то вроде обещания, наполовину насмешливого. Дескать, подрастайте, там поглядим.
Лишь для того, кто заслужит, ветер вобьёт в трещины камня текучую воду, мороз заморозит её, а солнце согреет. Чтобы под ударом молотка вдруг обрушился целый пласт, открывая горящий вишнёвыми пламенами желвак…
Заслуживали не все. Тут и там набрякший снег оседал над горловинами напытков[15]. Одни ямы были совсем мелкими, другие – опасно глубокими. Одни подарили копателям заветные камни, другие только зря подразнили их и измучили.
«Вот придёт сюда за камешком Колояр…»
Бусый, ясное дело, знать ничего не знал о светлой бусине, только что украсившей волосы парня, но отчего-то не сомневался: скоро Колояр снарядится на Ветродуй за жениховскими подарками для Осоки. Будет ли Бусому позволено пойти сюда с ним и помогать, чем сумеет?
…А ещё говорили, что невесты, принявшие в подарок венисы с Вороной Гривы, хранили их в сундуках, нечасто доставая на свет. Не на каждый день были тёмно-алые камни, грозные в своей красоте…
Красный цвет, цвет страсти и ярости, рвущейся наружу силы, беспощадной битвы… Кровь, жизнь и смерть, рождение и гибель… Всё вместили в себя пламенные венисы, всего можно было дождаться от них. Бусый с отцом шли осторожно, проверяя палками перед собой снег.
Горный мёд
Венисы повелись оттого, что когда-то на Вороную Гриву пал из-под облаков Змей, побеждённый Богом Грозы. Этот же стародавний удар расколол окраины Ветродуя на множество высоких отвесных козьих отстоев. Время обломало их на разной высоте, образовав исполинские ступени. Кто-то усматривал в развалинах каменных громад даже не ступени, а руины величественных чертогов. Бусому нравилось думать, что некогда на юру стоял храм. Святыня, ещё не вполне принадлежащая Небу, но и не вполне уже пребывающая на Земле.
Как чудно и страшно было стоять на самой-самой вершине, выше которой были только лёгкие мазки ледяных перистых облаков!.. Каким пустым и далёким вдруг сделалось всё не имевшее отношения к небесам и чуду полёта! Резоуст, привидевшаяся страшная птица, даже чаемое и жуткое Посвящение, это всё было – тьфу, песчинкой в глазу. Прядями невесомого тумана, несущимися мимо крыла. Сколько раз приходил сюда Бусый, столько же раз долгожданная встреча ему отзывалась напоминанием о Несбывшемся.
Год от года накатывало одно и то же: а вдруг произойдёт чудо, и Отец Мужей скажет ему: «С прошлой весны ты совсем не вырос, сынок. Твоё желание быть как мы превозмогло человеческое естество. Ты всё-таки наш…»
Бусый знал, что этого не произойдёт.
Сколько бы он ни прожил, чего бы он ни достиг, а на симуране ему не взлететь никогда.
Не пронестись в бескрайней вышине, не увидеть всё разом: Вороную Гриву и Светынь, Крупец с Белым Яром и деревнями Белок и Зайцев… Не прижаться к мохнатой тёплой спине, не ощутить могучего дыхания крыльев, не испытать того особого чувства, когда упругая сила возносит тебя над землёй…
Бусый знал, что это говорило с ним наваждение. За которое, между прочим, ему потом будет ещё и стыдно. Улетят Крылатые родичи, и вступит в свои права обычная жизнь. И одиннадцать лет среди Белок вновь станут важней и весомей единственного года в горах.
Но пока…
Летобор всё поглядывал на приёмного сына, что стоял, раскинув руки, на самой вершине скалы. Сам он уже нашёл небольшую заветерь и развёл костерок, но сына в тепло не звал – всё равно без толку. Будь здесь сейчас мать, точно раскудахталась бы: «Спустись, дитятко, ты ж весь распаренный, холодом прохватит тебя, застудишься, разболеешься…» И невдомёк ей, заботливой, что парню сейчас всё нипочём, мороз не заморозит его и ветер не сдует. Хранит его невидимая броня, именуемая напряжением духа.
– Далеко они ещё, малый? – только и спросил из укрытия Летобор.
Бусый, всеми чувствами слушавший налетающий ветер, уловил в его дыхании необычные токи. Откуда-то наплыл запах горного мёда, перемешанный с тонким дровяным дымком, да только из таких дров, каких отродясь не водилось в здешних лесах.
– Они здесь, батюшка! – крикнул Бусый. – Они здесь…
Летобор нисколько не усомнился. Говорит, что виллы близко, значит так оно и есть, кому лучше знать, чем ему? В южной стороне неба плыли лёгкие белые облачка. Вот сейчас среди них окажет себя цепочка чёрных крохотных точек…
У Летобора уже начинал сквозить в волосах иней, но глаза зоркости не утратили. Он заметил симуранов почти сразу, как только с вершины раздался ликующий крик. Благородные летуны мчались к тому, кого поклялись не забывать. Летобор смахнул с глаз невольную влагу и преисполнился гордости оттого, что ему довелось быть не просто сторонним свидетелем этой встречи. Правда, беседы, происходившей между его сыном и виллами, он разделить не мог. Бусый оставался единственным Белкой, кто обладал навыком, должным для настоящей мысленной речи. Только он умел особым образом направлять истечение мыслей, помогая себе птичьим свистом и щебетом.
Волкодав, совсем не случайно названный Летуном, поставил на камень передние лапы и во все глаза смотрел на маленького хозяина, замершего на юру. Может, пёс тоже кое-что слышал. И даже мог разуметь.
«Мы помним о тебе. Мы любим тебя. Мы гордимся тобой!»
«Я хочу к вам. В горы…»
«У тебя своя дорога, сын. Не так важно, Крылатый ты или нет по родству плоти. Важно, чтобы была крылатой душа. Тогда твоя дорога тебя приведёт туда, где над головой не будет преград…»
Симураны не стали спускаться на Вороную Гриву. Они вели над землёй весенние ветра, дарующие тепло, и не могли задерживаться в полёте. Только один из них, ярко-рыжий, оперением стрелы изломив крылья, нырнул вниз и понёсся прямо на Бусого. Летобору захотелось пригнуться, а пуще того схватить сына в охапку и вместе с ним закатиться за камень, но в самый последний миг симуран лёг на крыло. Белые лапы и грудь беззвучно пронеслись на расстоянии поменьше сажени. Из руки маленькой всадницы вырвался кожаный мешок. Пролетел, кувыркаясь, и увесисто шлёпнулся на камни прямо возле ног Бусого.
«Спасибо, милые…»
«Будут благословенны огороды Белок и их поля. Будут в лесах ягоды, грибы и орехи…»
«Милые! Чем я вам отплачу?»
«Ходи по земле крылатым, малыш. Мы всегда будем с тобой».
…Вот и всё. И скрылись вдали, и опустело беспредельное небо, и даже начало утрачивать прежнюю синеву, понемногу затягиваясь белёсой дымкой, что шла откуда-то с юга, из-за Железных гор. Наверное, это неповоротливо шествовали облака, кутавшие по весне веннскую землю. Под серым одеялом легче таяли снега, быстрее сопревал и крошился на реках и ручейках лёд… По щекам Бусого безудержно текли слёзы. Мальчик поднял мешок и спустился с вершины к отцовскому костерку. Вот теперь ему сделалось холодно, да так, что всё тело стало неловким, а зубы никак не попадали один на другой. Летобор обнял сынишку, распахнул полушубок, и Бусый благодарно прижался к его груди, чувствуя себя совсем маленьким и очень несчастным. Сейчас ему не хотелось гордых деяний, не тянуло сражаться и даже летать. Вечный век бы сидеть вот так, в тёплом кольце надёжных родных рук… Запах горного мёда, запах безопасности и неколебимой детской уверенности: всё будет хорошо… Летун, поскуливая, привалился к обоим, согревая, силясь утешить плачущего мальца…
Сломанная ветка
– Срезень! Ну? Ты что? В чём дело, малыш?..
Косматый «малыш» ростом с телёнка разлёгся посреди тропинки, не давая пройти. Вынужденный остановиться Колояр не знал, сердиться или смеяться.
– Пусти, говорю!
Проводив ставшую невестой Осоку, поклонившись должным образом её матери и отцу, Колояр отправился восвояси, но обратный путь по той же натоптанной стезе[16] показался счастливому жениху слишком коротким и быстрым.
«Если б не Резоустова ласка, сейчас бы уже на Вороной Гриве копанец[17] затевал…»
Противная слабость заставляла досадовать, Колояр шёл не спеша и старался избегать резких движений, от которых в голове пробуждалась тошнотворная боль. Конечно, он понимал, что до Вороной Гривы ему не дойти ни сегодня, ни завтра. И даже через седмицу – разве только тайком, потихоньку удрав от мачехи и заботливых тёток… Колояр подумал о Бусом, который непременно поможет ему от них ускользнуть, и улыбнулся. Сегодня Бусый был как раз там, куда ему, Колояру, долго ещё не случится дороги. Сегодня мальчонку навещала родня.
Почти против Межинного Плёса от короткой дорожки отбегала зимняя торёнка[18] через болота. По ней ходили вынимать из ледянок[19] горностаев и колонков, её сегодня поутру должны были пересечь Бусый и Летобор…
Вот тут и надумал Колояр свернуть с пути прямохожего. Пускай не до Вороной Гривы, но хоть треть расстояния он нынче преодолеет. Надо же, в самом деле, встретить Бусого с дядькой Летобором, когда те будут возвращаться домой!
…Срезень, топавший позади, забежал вдруг вперёд и улёгся, загораживая тропу, вынуждая Колояра остановиться.
– Да что случилось, малыш?
Срезень исподлобья смотрел на хозяина маленькими медвежьими глазками и не двигался с места.
Колояр с неожиданной нежностью подумал о том, как исподволь состарился Срезень. Прошло, видно, время, когда пёс рад был играть и валяться в чистом снегу, когда он неутомимо сопровождал его на охоте и в далёком пути. «Обстарел, разленился… В свой срок и меня, поседелого, от печки будет не отогнать…»
Он обошёл собаку по целине и двинулся дальше. Довольно долго Срезень не трогался с места, глядя ему вслед и ожидая, не одумается ли хозяин. Но хозяин не одумался, и пёс, делать нечего, встал. В его движениях, когда он проламывал наст, никакой старческой косности не было и в помине, лишь зрелая грозная мощь.
А Колояр очень зримо представлял, как они с Бусым вдвоём, в предутренней тьме, с заплечными мешочками и молотками тайно полезут через тын – в собственной деревне боязливые тати, – и главная боязнь будет в том, чтобы невзначай громко не расхохотаться. Между прочим, их дружба повелась оттого, что именно здесь, на болотах, Колояр когда-то Бусого спас.
Колояр тогда был чуть постарше, чем Бусый теперь, а сам Бусый – всего семи годков от роду. Стоял красный венец лета, на болотах зрела морошка. Это были мирные торфяные трясины[20], совсем не такие, как страшные Журавлиные мхи. Тем не менее Бусый и тут мало не доискался погибели. Его угораздило потревожить в зарослях секача.
Колояр помнил, как замолчал и испуганно замер малец, когда в густом папоротнике шевельнулось что-то громадное, бурое, недовольное. Шевельнулось, хрюкнуло, заворчало…
Колояр и сам целый миг стоял, точно льдом политый. Потом сипло шепнул:
«Ты веточку возьми и ломай… ломай потихоньку…»
Перепуганный Бусый по наитию всё сделал правильно. Взял веточку и начал ломать, как было сказано, – потихоньку. Размеренный звук достиг кабаньего слуха и сообщил зверю, что нечаянно подошедшие не таили ни угрозы, ни страха. Просто занимались своими делами и вовсе не думали чинить обладателю трёхгранных клыков какие-то обиды.
«А теперь иди тихонько назад…» – слушая, как успокаивается ворчание, шепнул Колояр…
Срезень снова обогнал его и залёг путь.
– Да ну тебя!
Колояр остановился, пользуясь предлогом перевести дух. Может, Срезень и прав был, стараясь завернуть его к дому. Нечего было ему пока делать у Вороной Гривы, нечего было силиться и одолеть вгорячах намеченную треть дороги туда…
Колояр постоял, вдыхая живой воздух близкой весны, глядя, как верхушки высоченных сосен летят мимо светлых пушистых облаков. Потом всё-таки заново обошёл кобеля.
Срезень догнал его, бережно взял сзади за меховую штанину и лёг прямо на лыжные пятки. Колояр от неожиданной помехи чуть не потерял равновесие.
– Ах ты, пень старый!..
Пёс съёжился перед лицом хозяйского гнева, но зубов не разжал. В карих глазах стояла мольба.
Колояр понял, что дальше в лес сегодня забрести ему не дадут. Сразу вспомнилось, как верный пёс лежал носом под дверью, вытаскивая его из беспамятства. Не сердиться же после такого на него по-настоящему, не гнать же пинком. Да и слишком неподходящий был нынче день, чтобы на кого-то сердиться.
– Ладно, что с тобой делать, дупло… Пошли домой.
Против его ожидания, Срезень не возрадовался, не заскакал впереди. Наоборот, вновь пошёл сзади, да ещё и беспрестанно оглядываясь.
Где-то далеко сухо хрустнула ветка.
Колояр размашисто катил к дому, и оттого, что по лыжне идти было проще, ему вправду стало казаться, будто тело, разогреваясь, полнилось прежней силой и ловкостью.
«И зачем повернул, ведь дошёл бы. Без спешки-то…»
Ветка хрустнула вдругорядь, громче и ближе.
Колояр повернул голову и увидел, что Срезень тоже обернулся на звук, да не как он сам, а всем телом. Поднятый хвост подрагивал боевым знаменем на ветру, под шкурой вздулись каменные бугры, а пушистая шуба поднялась дыбом вся до последней шерстинки, сделав кобеля вдвое больше обычного, и это могло означать только одно: Срезень боялся.
Таким Колояр его ещё не видал. Рука помимо воли двинулась к поясу, нащупала рукоять ножа в ножнах.
– Что там, малыш?..
Срезень мельком покосился на него, блеснули страшные кинжалы клыков, обнажённых для боя.
«Беги, хозяин! Беги…»
Ветка хрустнула третий раз, совсем близко.
Горестная находка
Своя ноша не тянет! Бусый ходко шёл по успевшей уже слегка затвердеть, заледенеть утренней лыжне, мешок с подарками не тяготил, только грел ему спину.
В мешке отыскались вязаная безрукавка и носки, связанные из тончайшего пуха. Такой пух носят на себе симураны, и ему не верста[21] даже собачий, до того он тёплый, лёгкий и прочный. Ещё Бусый увидел сапожки-чулки из тонкой, но очень крепкой кожи, венны называли такие босовиками. Запечатанный воском сосуд из берёзового наплыва, и восковая печать не могла удержать медового аромата. Маленький бурдючок с густым сладким вином. Круг невзрачного, но такого вкусного козьего сыра. Коробочку пахучей чёрной смолы, целебный дар гор. И мешочки с пряными травами, от запаха которых – Бусый заранее это знал – все знакомые домашние кушанья сразу станут небывалыми, баснословными, заморскими.
А самое главное – нашёлся в мешке и изящный маленький нож с клинком гибкой узорчатой стали.
– Не игрушка какая, – сразу определил Летобор. – Это тебе мужской подарок. Смотри, бережнее с ним!
Лезвие оказалось неимоверной остроты, в чём Бусый сразу и убедился. Хотел, как обычно, попробовать его пальцем, а оно тут же рассекло кожу – неосязаемо, зато до крови. Таких ножей не делал никто, кроме вилл. Это был подарок, воистину цены не имеющий, его не покупали на торгу и не продавали, отец-виллин ковал и дарил такой нож выросшему сыну, готовому принять честь и бремя взрослого мужества.
– Вот тебе, ножик, первая кровь… – тихо проговорил Бусый. – Теперь ты вправду мой, а больше ничей!
И пристегнул к поясу ножны с чудесным клинком.
Ещё в мешке лежал камень, желвак размером с яблоко, как будто небрежно расколотый пополам. Но когда Бусый с Летобором вгляделись сквозь этот скол в искристую глубину камня, то ахнули от восхищения. Камень казался бездонным, они словно бы заглянули сквозь маленькое окошко в совсем иной мир. Были в том мире, таившемся в глубине камня, знакомые холмы, поросшие могучими соснами, а между соснами бежали хрустальные ручейки. Но стоило чуть повернуть камень, и знакомые леса вдруг превращались в суровые скалистые горы, устремлённые в небо, спокойные ручьи становились стремительными потоками, и водопады в ущельях окутывала серебряная кисея… Ещё поворот – и на месте гор возникало море, а горные вершины не то чтобы исчезали совсем, но виделись лишь причудливым скоплением облаков, что невесомо парили над водной гладью и необъяснимо оставались при этом каменными утёсами.
Зато с новым поворотом становилось вдруг ясно, что все эти леса, горы, моря и облака на самом деле суть звёзды, искристые мириады звёзд, глаза давно ушедших предков, устремлённые на потомков из бесконечной дали времён…
Летобор шёл позади и помимо воли любовался мальчишкой. Одёргивал себя, понуждал к строгости, но ничего поделать не мог, улыбка сама собой раздвигала усы. Всякую, даже нешуточно тяжёлую работу Бусый умудрялся делать, будто танцуя. Он и сейчас, под грузом мешка, не скособочился натужно и некрасиво, как это сделал бы почти каждый его ровесник. Сразу разобрался, для чего нужна была широкая лямка из мягкой замши, и уложил её на лоб, хотя венны редко носили так свои мешки и корзины. Бежит себе теперь и поди представляет, как начнут восторгаться и визжать младшие, дёргая зорный[22] камень друг у дружки из рук, как станут одобрительно кивать старики и старухи, передавая по кругу чашу с густым сладким вином, как будет придирчиво нюхать пряности большуха, соображая, какая к какой еде подойдёт…
Что такого узрели в нём, Летоборе, вещие виллы, что именно ему доверили маленького приёмыша?
Незаметно вырос парень, стал сущей надёжей родителям и всему роду. Доброе и храброе сердце, а уж упорства!.. Вот ведь тащит мешок, тащит и нипочём не отдаст до самого дома, и не потому, что в нём подарки лежат, просто оттого, что тяжёлый, мне принесён, мне, мол, и тягу на плечо поднимать…
Летобор так и не успел стереть широкую улыбку с лица, когда Бусый вдруг повернулся к отцу и швырнул со спины тот самый мешок, и лицо у парня оказалось совсем белое, а глаза – широко распахнутые.
От ужаса.
– Батюшка!.. – выдохнул он одними губами. – Бежим!
И побежал. Покинув лыжню, по снежной целине. Да не в сторону деревни, а куда-то опричь.
Летобор слишком хорошо знал приёмного сына, а потому не бросился в расспросы, что да почему. Промедлил только затем, чтобы живо снарядить тяжёлый охотничий лук. Беду лучше встречать с оружием наготове. Летун сперва недоумённо оглянулся на людей, на брошенный мешок… да и рванул за хозяевами.
Когда Летобор догнал сына, мальчишка попытался объяснить прямо на бегу:
– Там… Колояр… он…
Летобор молча кивнул, поспевая за быстроногим мальцом. Сам выучил его когда-то бегать по лесу, теперь жилился, чтобы не отстать. Взгляд настороженно обшаривал редкий подлесок, руки держали лук наготове. Все расспросы, если какие будут, – потом. Когда им повезёт и окажется, что Бусый беспокоился зря.
Вот только сердце обречённо выстукивало: не зря, не зря…
Летобор окончательно в том убедился, когда Летун почуял что-то впереди. Что-то такое, отчего на загривке сразу поднялась дыбом щетина. Спустя время подхваченный ветерком запах накатился и на людей. И таков был этот запах, что у Бусого в руках разом оказались оба его ножа, старый и новый, а Летобор бросил стрелу к тетиве и уже вдоль её жала стал смотреть по сторонам и вперёд.
Пахло кровью. Разорванными внутренностями, ещё чем-то непередаваемо жутким. Безнадёжным отчаянием и болью заживо раздираемой плоти.
Это был запах смерти, причём только что случившейся. Смерти неожиданной, жестокой и страшной.
Глухо зарычав, пёс побежал вперёд…
Первым Бусый с отцом увидели Колояра. Верней, что это был Колояр, удалось понять больше по обрывкам одежды да ещё по лыжам, знакомые были лыжи, приметные. Всё остальное… Убивший Колояра стремился не просто его умертвить. Он отрывал кость от кости, жилку от жилочки.
Он разодрал грудь, вытащил и сожрал сердце…
Срезень лежал чуть поодаль, возле кустов. Его не рвали так, как хозяина, только странно выгнулось совсем ещё тёплое тело. Было видно место, откуда он совершил свой последний прыжок. И в этом прыжке, в воздухе, Срезня застиг жестокий удар, сломавший хребет. Всё же пёс прополз ещё несколько шагов и сумел запустить зубы в того, кто убивал Колояра. Из окровавленной пасти свисал клок длинных, грубых, ржаво-бурых волос.
Чужая кровь была и на ноже Колояра. И к лезвию тоже прилипло несколько бурых шерстинок.
И ещё – следы кругом. Очень много следов.
Убивший собаку и человека оставил звериные отпечатки. Не медвежьи, не волчьи, не росомашьи… Чьи? Неведомо. Таких следов венны-охотники отродясь не встречали.
Летун крутился рядом, жалобно скулил, потом принялся рыть лапами снег. Бусый наклонился и поднял слипшуюся прядь волос Колояра. По ладоням сразу побежали красноватые струйки, но прядь ещё охватывал связанный узлом ремешок, а на ремешке слезой дрожала хрустальная бусина.
Осокина бусина.
Знать, успела всё-таки подарить её Колояру…
И капли крови стали для неё обрамлением из венисов…
Мальчику вдруг показалось, что убийца тоже её искал, вспахивал когтями окровавленный снег, только бусина ему не далась. Спряталась, дождалась тех, кто зверя спугнул…
Глубоко вмятые отпечатки тянулись в сторону Крупца, туда, где мирно дымила за лесом деревня ничего не подозревающих Зайцев. Следы видны были отчётливо, но бесстрашный Летун идти по ним явно не хотел, да хозяева и не понуждали его. Следы принадлежали чудовищу, вдвоём с ним не сладить. На такого врага если уж выходить, так всем миром.
Крик рожка
Если по уму, следовало со всех ног бежать в родную деревню. Причём бежать тихо, не поднимая лишнего шума, ведь страшный зверь был где-то рядом и вполне мог вернуться. Отметины крови, что сопровождали следы, были слишком редкими. Значит, Колояр со Срезнем его опасно не ранили, больше обозлили.
Но следы вели прямо к Зайцам. Мыслимо ли убежать, не предупредив их об опасности?
Бусый непослушными пальцами заталкивал бусину с прядкой в поясной кошель и неотрывно смотрел на отца. Никогда ещё в жизни он не испытывал подобного страха. Даже тогда, на берегу Светыни, когда ноги мало не отнимались, только бы не идти за хворостом в лес. Стыд вспомнить ту детскую боязнь темноты, в которой якобы могло притаиться нечто ужасное. Нынешний страх был совсем другим. Он жил наяву. Этот страх только что люто растерзал Колояра и шутя сломал спину Срезню. Он оброс бурой щетиной, у него были кривые когти и смрадная слюнявая пасть, полная хищных зубов. Он взывал из самых костей, он понуждал забыть про соседей и скорее бежать, пока с ним и с отцом не случилось то же, что с Колояром.
Ну да, а потом жить всю жизнь с мыслью о том, что мог весть Зайцам подать, да смалодушничал…
Летобор ответил почти точно таким же взглядом, отстегнул от пояса прадедовский рожок и передал сыну. Рожок был тот самый, в который Бусый трубил звонко и радостно, возвещая о ледоходе. Маленький, изогнутый полумесяцем, сверкающий чистой медью и нарядной серебряной оправой. Белки всем на зависть умели делать такие рожки. Пели они звонко и чисто и каждый по-своему, и звук летел далеко, деревни с деревнями перекликались, передавали вести, добрые и дурные, из конца в конец обширной веннской земли.
Бусый со строгим поклоном принял рожок. Он понимал, почему трубить предстояло именно ему. Летобор стоял стражем, держа наготове лук. Мальчик стиснул зубы, унимая дрожь, и затрубил. Никому не дай Боги даже услышать подобный позыв, какое там самому его подавать. Голос рожка забился в небесах, как набат.
Ещё раз. И ещё…
Наверняка Зайцы услыхали его. Очень может быть, что услыхали и Белки. И где-то в лесной трущобе[23] насторожилась, повернула окровавленную морду страшная тварь, и в глазах её затлели красные огоньки.
Последняя трель ещё звенела, разносясь на вёрсты вокруг, а отец с сыном уже во весь мах мчались прочь, силясь добраться до родной деревни раньше, чем чудовище, разъярённое их дерзким предупреждением, доберётся до них самих.
Летобор велел Бусому бежать впереди. И это опять было понятно. Если зверь нападёт, то, скорее всего, – сзади. И покуда батюшка жив, к сыну смерть он не пропустит. Ни за что.
Летун бежал рядом с людьми, то и дело оглядываясь, может, чувствовал что?.. Поднятая шерсть всё не укладывалась…
Как глаголет верная примета, злосчастья поодиночке не ходят, уж коли явилась беда – отворяй ворота, жди следом другую.
И другая беда долго о себе гадать не заставила.
В каких-то сотнях шагов от места гибели Колояра Летобор не в меру разогнался на крутом спуске, и там, где свернул в распадок лёгкий телом мальчишка, Летобора метнуло по склону, бросило на покрытую снегом валежину. Он упал врастяжку, только почувствовав, как что-то вроде толкнулось в бедро. Досадуя, подхватился встать…
И едва удержался от крика. И увидел вышедший наружу из своей ноги острый, как кабаний клык, еловый сучок. Сплошь перемазанный кровью.
Летобор напоролся на него в падении и теперь неловко висел, как мелкая пташка, насаженная на шип запасливым сорокопутом.
Сквозь пелену боли увидел склонившееся над ним лицо сына.
– Батюшка…
– Ты беги, – прохрипел Летобор.
И тут у Бусого разом куда-то подевался весь страх. А миг спустя пересохли и слёзы.
Отцу было плохо. Куда же тут побежишь? А плакать – недосуг, если худо кому, значит помогать надо, а не цепенеть от испуга или слёзы бесполезные лить.
Бусый всё-таки не первый год жил на свете, он видел смерть и любовался рождением. Цвет крови сразу сказал ему, что сук, пропоровший ногу отцу, задел в ней широкую боевую жилу[24]. И потому никак нельзя высвобождать его из раны, во всяком случае прямо здесь и сейчас. Вытащи – и хлынет кровь, и в одиночку ему не сотворить жгут, способный её удержать. Тут подмога нужна, мужская взрослая сила. Не то отец истечёт кровью и умрёт прямо у него на глазах.
Вот когда кстати пришёлся подаренный виллами нож. Дивная сталь легко отсекла зловредный сук от ствола. Летобор застонал, сполз с валежины, кое-как устроился в снегу и скорее подтянул к себе лук. Добрый был лук, повитый берёстой, и кожаная тетива не боялась ни сырости, ни мороза[25]… Охотничья сноровка позволяла Летобору стрелять даже теперь, раненым и ослабшим. Только идти он больше не мог.
– Ты бы за подмогой, сынок, – выговорил он, заранее зная, что Бусый его не послушает. – С Летуном…
– Не пойду, батюшка, – тихо отозвался мальчишка.
Летобору подумалось, что сын, возможно, был прав. Вместе оно и легче оборону держать. Да и от зверя, вздумай тот гнаться, даже его легконогий сын навряд ли уйдёт. Что ж, пусть попробует мерзкая тварь сунуться…
Одну стрелу в неё Летобор уж как-нибудь всадит. А если повезёт, то даже две или три.
Бусый вновь завладел старинным рожком, и медное горлышко издало ещё один клич. Услышав его, Белки – мужики с копьями, бабы с вилами – всем скопом ринутся оборонять родича. И горе тому, кто попробует им помешать. Прячься, людоед, убирайся с дороги!
Между прочим, у Бусого тоже был при себе лук. Который он сейчас пускай с опозданием, но снарядил. Передвинул на место съехавший тул[26], откинул берестяную крышку… Охотничья снасть мальчишки была, конечно, не чета мощному луку отца, ну так любой воин подтвердит, что дело не только и не столько в оружии. Что оружие, если нож можно метнуть, а метательной сулицей[27] пырнуть, да сразу и насмерть. Верно, крупного зверя лёгкая стрелка не остановит и не отбросит. Зато она вполне способна воткнуться ему в глаз. А со стрелой в глазу поди-ка повоюй.
Лишь бы не дрогнула ни душа, ни рука, натянувшая тетиву…
Летобор поглядывал на сына и почему-то верил: не дрогнет.
У него чуть отлегло от сердца, когда со стороны деревни Белок отозвались рожки. Их голоса близились, причём быстро, это на выручку сквозь лес ломилась родня. Со стороны селения Зайцев тоже мчалась подмога. Бусый время от времени отвечал, давая им направление, и думал о том, как станет отдавать бусину Осоке.
До прихода Белок и Зайцев чудовище так и не появилось.
Начало погони
Первыми пришли Белки, до их деревни отсюда было поближе. Но одновременно с ними с другой стороны примчалась Осока. Примчалась одна, далеко опередив своих. Словно что чувствовала.
Бусый с рук на руки передал отца родичам, спрятал лук и молча вытянул из кошеля бусину. Бусина повлекла за собой ремешок и на нём – кровавую прядку.
Лицо у Осоки сделалось серое. И старое. Не то чтобы на нём враз явились морщины, просто глаза стали как у погасшей старухи.
– Веди туда, – тихо потребовала она.
И Бусый повёл. Не одну Осоку, много людей. И странное затишье было у него в душе. Рассказывал ровным медлительным голосом, как о чужом, и растерзанного Колояра им показал, как чужого, и отстранённо даже сам себе удивился. Так слишком сильно битая плоть вспухает подушкой, отказываясь допускать к сознанию новую боль.
Осока же при виде останков любимого не вскрикнула, не заплакала. Опустилась рядом с ним на колени, беззвучно, одними губами зашептала какие-то слова, размеренно покачиваясь из стороны в сторону.
Погодя приблизились обе большухи.
– Собрать бы… на честной костёр возложить… – простонала Бельчиха.
Осока разогнула колени.
– Я сделаю.
Ей передали лопатку, и она оказала жениху последнюю честь. Вынула из снега, сгребла, что собрать удалось, на чей-то расстеленный плащ.
– А и не велик же ты, не тяжёл: на руки возьму, укачаю, домой почивать отнесу…
И на том кончились Осокины силы. Мать Зайчиха обняла её, и девушка наконец заплакала, закричала, захохотала, выплёскивая невыносимое горе, и бабьи скорбные голоса со всех сторон обступили её крик, оградили от одиночества.
Слушать это было почему-то гораздо менее страшно, чем первоначальную тишину и звучавшие в ней мертвенно-спокойные речи.
Соболь угрюмо распоряжался, готовя облаву. Лица у охотников были хуже грозовых туч. Венны не собирались отсиживаться за тынами деревень, позволяя какому-то людоеду безнаказанно колотиться[28] по их лесам, скрадывая людей на тропках, как дичь. Пускай сам узнает, каково это – быть дичью, измотанной неотступной погоней.
Для Бусого их решимость отливала железом, так что кожухи и полушубки представали едва ли не воинскими кольчугами.
– Нет, – сказал ему Соболь. – Ты будь при отце.
Вот оно как!..
Стоило собраться взрослым мужчинам, и он, не изведавший Посвящения, сразу оказался мал и не нужен. Так ли было, пока они у печек грелись по избам, а он, Бусый, в рожок трубил, им весть подавал? Мальчишка едва опять не расплакался, на сей раз – злыми и горькими слезами смертельной обиды.
– А Ульгеш? Ему можно?! – завопил он, не помня себя от ярости и бессилия.
Соболь за этот выкрик мог вразумить его затрещиной и был бы, без сомнения, прав, но он лишь чуть улыбнулся. Чернокожий мальчишка в сторонке яростно спорил со своим наставником Аканумой, и нужды не было разуметь по-мономатански, чтобы понять, о чём у них шла речь.
– Ты и Ульгеш, – словно и не прерывали его, довершил Соболь.
А вот Осока осталась, и попробовал бы кто ей возразить. Утёрла глаза и вытребовала себе копьё, да первое протянутое ещё не взяла, удовлетворилась лишь самым тяжёлым и прочным. И встала среди мужиков, и с нею ещё несколько девок и отчаянных молодых баб. Соболь подошёл было к ним, но они все дружно так ощерили зубы, что он только рукою махнул и не стал без пользы тратить время.
И пошли: одни в одну сторону, другие в другую. К деревне Белок потянулись уносившие Летобора и останки Колояра со Срезнем. Бусый держал шест носилок, устроенных для раненого отца, и, скрутив унижение, не позволял ему сбить себя с шага, заставить тряхнуть, обеспокоить прикрывшего глаза Летобора. Ульгеш брёл рядом и тоже ни на кого не смотрел. Взъерошенный Летун держался сзади, он рад был выместить неправду, свою и хозяина, но на ком бы?..
А Соболь повёл погоню по горячему следу.
Вызов
Оказавшись в деревне и передав в чьи-то руки шест носилок, Бусый тут же сбежал обратно в лес. Юркнул тенью за ворота и сразу наддал ходу. Даже Летуна звать не стал. Смышлёный пёс, впрочем, вскоре догнал его.
«А что такого? – лихорадочно твердил он себе, как будто уже слышал суровые упрёки старших и пытался оправдаться перед ними. – Что такого-то? Велели сопроводить батюшку домой, я и сопроводил, не ослушался. А чтобы после того нельзя было опять в лес бежать охотников догонять, мне такого воспрещения никто не давал…»
Смешные младенческие доводы никого, конечно, не убедят. Бусый знал, что будет наказан. Кабы ещё и от Посвящения не отрешили: какое, скажут, тебе Посвящение, посчитали было за взрослого, а ты как есть возгривец[29]. Ну и бегай с такими же, пока бусорь[30] не порастратишь…
Скажут и сделают, и никто не вступится за него, но, странно, сейчас это его совершенно не волновало.
Он больше озаботился, обнаружив, что с Летуном, пропустив в ошейник верёвку и держась за неё, поспевал на лыжах Ульгеш.
– Ты-то куда?! – рявкнул было на него Бусый.
Жёлтые глазища яростно полыхнули на предвечернем солнце.
– А ты куда?!
«Ещё и гостя, которого доброму Белке след всячески ограждать, с собою сманил…» – как наяву, раздался над Бусым презрительный голос Соболя.
«Да не сманивал я!.. – мысленно закричал в ответ Бусый. – Он…»
И, как наяву же, осёкся, потому что Соболь опять будет прав. А то побежал бы куда по чужому для него лесу Ульгеш, если бы сверстник-венн так решительно не задал стрекача из деревни.
С отчаяния Бусый едва не кинулся в драку, поскольку не видел иного способа вразумить и вернуть Ульгеша домой… Удержался. Кто ещё кого в этой драке побьёт, неизвестно, а что время они по-глупому упустят, пока другие след гонят, – уж точно.
И Бусый только махнул рукой, отвернулся, дальше побежал. Поспевай как сумеешь.
Правду молвить, и Ульгеш, и его старый наставник на лыжах ходили очень неплохо. Особенно если учесть, что они снег-то впервые увидели хорошо если год назад. Сказывали, отродясь не бывало у них дома снега и льда. А пришлось – и ничего, и освоили новое умение, и упорный Ульгеш отставал от Бусого только на подъёмах.
«А я смог бы так-то скоро выучиться, к примеру, днями скакать на коне? Или веслом грести, как сегваны на корабле?..»
Когда проскакивали залитую кровью поляну, праздные мысли разлетелись стайкой испуганных воробьёв, и на смену им заново накатил страх. «Не вставай, собака, на волчий след: оглянется, съест!» Невольно Бусый переглянулся с Ульгешем… Чернокожий парнишка явно думал о том же.
Они стояли одни.
И кругом на вёрсты не было никого из своих.
И Летун им скверный защитник, если вдруг что. Уж если Срезень не смог…
Человеческого голоса не слыхать было в лесу, ни вблизи, ни вдали. Только глухо шумели сосны, раскачиваясь на влажном ветру. И солнце скрылось в плотном войлоке облаков, пришедших из-за Светыни.
Бывает, что хитрый зверь делает широкую петлю и возвращается на свой след, чтобы напасть на преследователя со спины…
Не сговариваясь, двое мальчишек во все лопатки полетели дальше по следу.
Рывок на вершину холма сжёг последние силы. Ульгеш поравнялся с Бусым и кулём свалился в снег, он всё-таки не выдерживал бега, его начало рвать. Бусый мельком посмотрел на товарища и вновь оглядел болотное редколесье внизу. Ему самому было худо. Лёгкие жгло огнём, сил не оставалось даже на то, чтобы бояться.
Охотников нигде не было видно.
Бусый дождался, чтобы утёршийся Ульгеш приподнялся сперва на колени, потом и во весь рост, и молча поехал с холма. Когда склон кончился – пошёл вперёд, бежать он тоже больше не мог.
Неужели только нынешним утром он, счастливый, лез на Вороную Гриву, и на Ветродуе стоял, и мечтал о полёте, и радовался подаркам Крылатой родни?.. Целая жизнь успела пройти…
Бусый не сразу поверил собственным ушам, когда впереди раздались людские голоса. Он даже остановился, и Ульгеш наехал ему сзади на лыжи, кажется, юный мономатанец уже плохо разбирал, куда идёт и зачем, но – плёлся, переставлял ноги, потому что иначе было нельзя.
А Бусого словно хлестнули, откуда что взялось! Он живо поднялся на очередной пригорок…
…И первым долгом увидел мелькнувшую в высоте тень. Тень птицы. Серую под серыми облаками. Ту самую, с мёртвым проницательным взглядом, от которого горячая кровь превращалась в стылую жижу.
Мальчишка торопливо зажмурился, чтобы ненароком не встретиться с птицей глазами. Если не удастся этого избежать, птица, витающая над людоедом, непременно его тоже увидит. И укажет чудовищу дорогу к нему, Бусому.
«Что?..»
С чего это он вдруг решил, будто птица парила именно над людоедом? Он видел-то её раньше всего один раз, на кулачном бою, и тогда никакого лиха лесного не было даже в помине, а птица приглядывала не за зверем – за человеком. За Резоустом.
Бусый ощутил, что близок к догадке… Догадке до такой степени страшной, что бестолковые мысли о Резоусте, людоеде и птице над ними завертелись водоворотом и от греха подальше понеслись прочь из сознания. Бусый рванулся вперёд, на звук человеческих голосов.
Со следующей гривы ему наконец удалось увидеть охотников.
И вмиг стало ясно, что оправдались его худшие страхи, а жуткая догадка оказалась верна.
Крепкие, скорые на ногу и нешуточно обозлённые мужики, которых вёл Соболь, просто не могли далеко отпустить людоеда. И зверь, чуя за плечами погоню, сотворил самую немудрёную хитрость. Вернулся на собственный след и пробежал по нему какое-то расстояние, ступая шаг в шаг…
А после могучим прыжком бросил себя далеко прочь.
Теперь охотники заняты были тем, что искали, в каком месте зверь с этой самой петли сошёл. Они упорно, обследуя каждую валежину, каждый куст, искали продолжение следа чудовища. Подзывали собак, но и от тех толку было немного. Собаки выглядели растерянными, сбитыми с толку. А Бусый, холодея, уже понимал, что никакого продолжения следа они не найдут.
Потому как зоркие глаза мальчика в самом деле отыскали среди охотников Резоуста.
А ведь его не было среди Зайцев, прибежавших на зов рожка. Бусый отчётливо помнил – не было!
Теперь Резоуст хлопотал вместе со всеми, обшаривая подлесок. Очень пристрастный взгляд мог бы отметить, как сторонились его собаки, ну так они его с самого начала не жаловали…
А над Резоустом, пристально наблюдая за ним, кружилась та самая птица…
Бусый услышал кровожадный рык Летуна, и в лицо полетели комья снега из-под лап. Летун сорвался с места без раздумий, он шёл убивать.
– Назад, Летун! Назад!
Всуе. Бесстрашный пёс двухсаженными скачками мчался вперёд, снег там, не снег. Оборотень сумел обмануть погоню, да только его, Летуна, не проведёшь. Не спрячешь истинной сути.
– Назад!..
Удивлённые охотники увидели последний прыжок Летуна и его пасть с оскаленными клыками, целившую Резоусту в горло…
Резоуст нимало не дрогнул. Неспешно, этак с ленцой чуть отшагнул в сторону, принимая собачий прыжок на копьё с широким и длинным клинком.
Когда мальчишка добежал до упавшего в снег пса, Летун был ещё жив. Он увидел хозяина и узнал его. Окровавленная пасть легонько сжала руку Бусого. Потом Летун вытянулся, вздохнул и затих.
– Не серчай, парень. Что ж ты так, собака твоя взбесилась, а ты и не уследил? Хорошо ещё на меня, не на кого другого первого бросилась. Беды бы наделала…
Резоуст, ухмыляясь, вытирал о снег копьё. Правду молвить, ухмылка была у него кривоватая, а глаза бегали. Он что думал, люди кругом него бешеной собаки никогда не видали? Кого решил обмануть?..
– Это он! – закричал Бусый, и крик не поместился в горле, но преодолел судорогу и вырвался на волю. – Это он! Он Колояра убил! Он оборотень!
Птица издала какое-то скрежещущее, раздражённое карканье, развернулась в воздухе и упёрлась своим ледяным взглядом в мальчишку.
Вот только Бусому было теперь всё равно. Все страхи для него кончились. «А смотри, серая дрянь, пока зенки не лопнут! Я ещё и сам на тебя посмотрю, мало не покажется!»
– Он оборотень! Он человеком прикинулся!..
А кого видели охотники и Соболь? Мальчишку, отчаянно ревущего над убитой собакой. И Резоуста, который спокойно стоял рядом и снисходительно усмехался. Он молчал, не трудя себя оправданиями. Чего ради, мол, и так всё понятно. Не может простить малец гибели собаки, вот и несёт всякую чепуху.
Да, но Летун ведь не бесился. А раз не бесился, почему бросился на Резоуста? Просто так, ни за что ни про что, веннские волкодавы на людей не бросаются…
– Это он!.. – с невменяемым упорством продолжал выкрикивать Бусый. – А давно ли он возле вас объявился? Не тогда, когда вы след потеряли?! – Люди начали переглядываться, и Бусый вдохновенно добавил: – Дедушка Соболь, вели ему, пусть он разденется! Пусть раны окажет! От ножа Колояра, от зубов Срезня!
Он увидел, как нахмурился Соболь. А потом вперёд всех выступил крепкий старик, что пришёл когда-то в дом Заюшки из западных чащ, из рода Серого Пса.
– Я своих собак знаю! – буркнул дед, точно капкан захлопнул. – Хочет очиститься, пускай заголится!
С лица Резоуста сбежала улыбка, а глаза снова прекратили отражать свет.
– Недоноска вздумали слушать?.. Я-то вас, веннов, за братьев было начал считать!.. А вы, чуть что случись, рады без разбора на пришлого всякую вину возложить!.. Так и я свою правду перед кем угодно отстою! Есть охотники удачу на Кругу попытать?..
Охотники были. Бусый взвился на ноги, торопливо стирая с ладоней кровь Летуна, чтобы не помешала выхватить нож. Серый Пёс начал открывать рот, собираясь должным образом принять брошенный вызов, но обоих опередили. Против Резоуста с таким же, как у него, копьём стояла Осока. И направляла вытянутой рукой своё оружие прямо ему в лицо.
Божий суд
Копьё в руке Резоуста взметнулось наконечником вверх, провернулось и… расплылось, размазалось в бешеном вращении, превратилось в свистящую завесу, отгораживая его от противницы. Резоуст не спешил приближаться к Осоке, он выплясывал на месте, играл оружием, которым владел явно получше, чем иные владеют собственной рукой. И была во взмахах и вращениях послушного копья особая красота. Красота сообразности и выверенности движений. Жуткая красота хищника, неумолимого, стремительного, смертоносного.
Птица, которую видел один только Бусый, крутнулась в вышине, одобрительно щёлкнула зубастым клювом.
Осока же не играла. Она просто держала копьё обеими руками на уровне пояса, направляя его наконечник в грудь Резоусту. Серое небо плыло над ними, и в нём тяжело качались мокрые вершины деревьев. День начинал меркнуть.
А Резоуст улыбался, всем своим видом показывая, что драться всерьёз с сумасшедшей девкой не собирается, не пристало такому умельцу своё мастерство осквернять всамделишной расправой над беззащитными неумехами. «Так, проучу слегка, чтобы вежество знала, – внятно сулила его улыбка. – Да с миром и отпущу, зла не помня, пусть её себе…»
Может, он ждал, что Осока не снесёт унижения и либо бестолково сунется вперёд, либо, ещё лучше, смутится, опустит оружие и ни с чем отступит из Круга.
Но этого не происходило, и ему надоело ждать.
Тяжёлое копьё, невесомо порхавшее в руках Резоуста, вдруг хлестнуло, словно кнутом, по ногам Зайки. Неожиданно, с резкой и неотвратимой силой спущенной тетивы. В ударе слились само копьё, вытянутая рука и всё тело, стелившееся в низком наклоне, в мощном скачке навстречу захваченной врасплох девке.
У Бусого на всём бегу споткнулось сердце. Люди беззвучно ахнули.
Когда доходило до копья, венны всего чаще били «тычком». То, что копьё можно было понимать ещё и как меч на длинной рукояти, они не то чтобы не знали, но так орудовали им в основном перенявшие копейный бой у сегванов. Удар же Резоуста был вовсе ни на что не похож. Если его с чем и можно было сравнить, то разве с хлыстом, стремительным и тугим. А ведь хлыст и без железка[31] на конце в умелых руках на щите оставляет отметины, человеческое же тело – рубит.
Может, и не собирался Резоуст этим ударом непременно перерубить ноги девчонке, но если бы вышло такое, огорчаться явно не стал бы. Кончилось лицедейство! Сама напросилась – мамке не жалуйся. Красивое лицо Резоуста исказил торжествующий оскал, и Бусый успел подумать: заметил ли кто-нибудь, кроме него самого, как мало человеческого в этом оскале?..
Резоуст хорошо знал, заранее видел внутренним взором, чему надлежало сейчас произойти. Девке, что бы она ни сотворила, конец. Отскочить она уже не поспеет. Пусть попытается, всё равно без толку. Всё равно летящее в ударе копьё окажется проворнее. А коли – чего не бывает! – вдруг хватит ума и ловкости поймать удар своим копьём, это тоже её не спасёт. Потому что, слившись с первым, прилетит второй удар, и от него ей уже точно не будет никакой обороны.
Потому что великий мастер, выучивший Резоуста, ей и веника бы не доверил двор подметать…
Осока не стала ни испуганно отскакивать от удара, ни подавно ловить несущееся копьё. Ей вправду было далеко до мастерства, явленного Резоустом, но она об этом не думала. Не заботило её и желание уцелеть в святом поединке. Она вошла в Круг, чтобы убить, а всё остальное было не важно. Она не очень-то и заметила Резоустов неодолимый удар. Не смотрела Осока на копьё в руках Резоуста. Смотрела только на него самого, а что он там выделывал с копьём, её занимало меньше всего. Не Резоустово копьё собиралась она убить, а самого Резоуста. С ним и билась, не с копьём.
Ей было внятно лишь то, что враг вдруг подался навстречу, стал досягаем. Ох, не к Осоке метнулся Резоуст, а к своей собственной смерти, встреченной им в её, Осоки, обличье!
Белки и Зайцы, стоявшие за чертой Круга, увидели, как Осока сама прянула навстречу удару. Прянула, о защите и не помышляя. Вложила во встречный, исконно веннский таранный удар всю мощь тела, подброшенного безоглядным прыжком.
Такие удары насквозь пробивают щиты. Да вместе с хозяевами, кольчуги там, не кольчуги.
И кончился этот миг.
И наступил следующий.
Как Резоуст сумел уцелеть, толком понял, может, разве один Соболь. А сумел он взметнуть оскепище над головой, оставляя наконечник косо направленным вниз и вперёд. Удар Осоки нельзя было остановить, его можно было только подправить, пустить мимо себя, и Резоуст совладал. Копьё девки скрежетнуло по копью Резоуста и ушло в пустоту. Так дождевая струя, падая с небес, скатывается с островерхой крыши, минуя тёплое и сухое жилище.
Да только и промахнувшаяся Осока не подумала останавливаться. Резоусту бы вспомнить, как на Потешном поле веселилась она с Колояром, как движение рождало движение, вспомнить бы да поостеречься… Не вспомнил. А ведь сейчас Осока шла не играть. Она шла бить его насмерть, бить, пока он не умрёт. Или пока не умрёт она сама.
И Осока, не останавливая, а, наоборот, продолжая посунувшийся мимо цели удар, прыгнула дальше, увела копьё вверх… И как топор обрушила его на противника. С небывалой силой обрушила. С желанием убить или умереть.
Такому удару не смог противодействовать даже косой клин, вновь умело подставленный Резоустом. Всему есть предел! Два тяжёлых копья разлетелись в щепы, люди за Кругом шарахнулись от брызнувших куда попало осколков. Старый мономатанец качнулся вперёд, закрывая своим телом Ульгеша, и стал вдруг медленно оседать в снег. Мальчишка подхватил Акануму, но не смог удержать.
На двоих чернокожих никто внимания не обратил. Все смотрели на Круг.
А там, на Кругу, оглушённый Резоуст пошатнулся… всё-таки выпрямился… и, выпрямляясь, напоролся на страшный удар.
Это Осока выпрыгнула почти на высоту его роста и со всего лёта всадила обе пятки ему в грудь.
Серые облака вспыхнули закатным кровавым заревом в глазах Резоуста… Воздух вынесло из груди, Резоуст отлетел, рухнул на сырой лёд в жёлтых разводах болотной воды, захрипел, начал корчиться, тщетно пытаясь наполнить смятые лёгкие. И увидел, как к нему с неспешной неотвратимостью по снегу шла смерть. Смерть, которую он, дурак, принял за беззащитную девку.
– Не-е-ет… – с трудом прохрипел он. – Не надо… Погоди…
Кто бы объяснил, почему душегубам, ради дурной забавы отнимающим чужие безвинные жизни, самим так нестерпимо хочется жить, когда приходит расплата?..
Резоуст, корчась, скрёб пятернями грудь, давился, еле проталкивая воздух в гортань, и униженно вымаливал у Осоки жизнь. А над ним металась, о чём-то беззвучно каркая, невидимая тень птицы с чешуёй вместо перьев.
– Это не я… Не я… Погоди… Заголюсь… Нет знака на мне…
Осока, уже вытянувшая из ножен нож Колояра, остановилась. Постояла, покачиваясь, на месте…
– Не слушай его! Он время выгадывает! – отчаянно, срывая голос и захлёбываясь слезами, выкрикнул Бусый.
Осока с неохотой шагнула назад.
– Сейчас… – бормотал Резоуст. – Я сейчас… Погоди…
Он бестолково теребил руками одежду, начинал расстёгивать и оставлял пояс, хватался за ворот…
– Осока, не слушай! Не верь ему! Бей! Осока! – кричал Бусый.
Осока ждала. Молча, не отрываясь следила за ёрзающим по снегу Резоустом. Стояла неподвижно и ждала.
Резоуст, немного отдышавшись, замолк и медленно начал подниматься. Перевалился на живот… Полежал ещё. Приподнялся на коленях, встал на четвереньки…
– Осока-а-а!..
Поздно. У стоявших за Кругом людей волосы поднялись дыбом. Там, где только что был Резоуст, стояло чудовище. Не волк, не медведь, не росомаха… Звериные черты жутко сливались с подобием человеческих. Из приоткрытой пасти доносилось зловонное дыхание, капала слюна. Плечо оборотня было разорвано собачьими зубами, левый бок вспорот ножом. Надо было Резоусту стаскивать рубаху, пока носил людскую личину, может, и вышел бы чист… Теперь об этом оставалось только гадать.
Красные глаза пылали огнём, задние лапы напружинивались, сгибаясь, готовясь бросить тело в смертельный прыжок.
– Осока-а-а…
Она не двинулась с места. Казалось, она, единственная из всех, даже не заметила страшного превращения. А и было бы в самом деле что замечать! Перед ней стоял всё тот же убийца, причинивший смерть Колояру, а какой облик он принимал, велика ли важность? Осока увидела на его теле раны, оставленные отважным псом и сражавшимся до конца человеком. Значит, Резоусту надлежало перестать быть. Остальное – не важно.
Прыжок оборотня состоялся почти одновременно со встречным движением Осоки. Враг опять приближался, и это было хорошо, ей оставалось лишь самой устремиться к нему… Чтобы расстояние между ними необходимым образом сократилось…
…Страшный и гулкий удар двух тел, с силой врезавшихся одно в другое… Осоку подбросило высоко вверх, перевернуло в воздухе. Оборотень, растерзавший жениха, легко сшиб когтистой лапищей и невесту, вот только проделал он это уже мёртвым.
Десница Осоки пришлась основанием ладони прямо в морду летевшего на неё людоеда. И сломала ему толстую носовую кость. И вбила острый осколок глубоко в мозг.
Остальное – не важно…
Вой
Осока уходила.
Она сосредоточенно карабкалась вверх по крутой каменной осыпи, и камни приветливо ложились ей под ноги, давая опору, потому что в своей земной жизни – в той самой, которая теперь завершалась, – Осока творила ошибки, но не делала зла. Не таила тёмного умысла, не завидовала, не лгала…
И теперь ничто не висело у неё на ногах, не мешало легко и радостно подниматься, ловить явственно ощутимый след Колояра. Любимый уже одолел тот путь, который теперь вершила Осока. Он ждал её наверху. Там, где над краем осыпи виднелись зелёные травы.
Земной мир постепенно удалялся, становился как бы прозрачным, заволакивался дымкой. Пропадали, скрадывались незначительные черты, оставалось лишь самое главное. Мир, в котором она жила почти семнадцать лет, не только отодвигался в пространстве, он всё менее ощущался как реальный. Уж не приснился ли он, не привиделся ли в красочном и добром детском сне, в котором бывает страшно, но никогда не случается большой беды?..
Осока смутно помнила: что-то всё же случилось, и сразу настала пора попрощаться с чудесным приснившимся миром. Ничто больше не держало её в нём. Ну… почти ничто… Вот только мама… Родные… Подружки… Тот смешной славный мальчишка, маленький товарищ любимого… Простите, мои дорогие, я не могу с вами остаться. Я ухожу.
Святые луга Острова Жизни видны всё отчётливее, там Колояр, скоро мы увидимся с ним…
Охотники возвращались в деревню Белок. Мужчины бережно, стараясь не толкнуть, не тряхнуть, несли двое носилок. На одних лежала Осока, укрытая тёплыми, прямо с тела, меховыми полушубками и плащами. Девушка ещё дышала, но всем было ясно, что душа её уже плыла хоть и рядом, но отдельно от тела. И не собиралась возвращаться. Сшибка с оборотнем почти не оставила на ней телесных ран, но Осока всё равно умирала. Умирала потому, что дальше жить ей было незачем.
Вторые носилки покоили тело старого Аканумы. Когда разлетелись обломками в разные стороны копья Осоки и Резоуста, наконечник копья оборотня всё же нашёл последнюю жертву. Он попал старику прямо в горло, сразу оборвав жизнь. Ульгеш неловко поспевал рядом с носилками, держась за руку наставника, и, похоже, не верил, что тот никогда больше не откроет глаза. Не устыдит его, понуждая к книжным занятиям. Не расскажет больше ничего о Городе Тысячи Храмов. Не объяснит, как быть достойным отца…
Позади всех шёл Серый Пёс. Он нёс на руках Летуна. Бусый наезжал лыжей на лыжу, глядя на безвольно мотающиеся лапы любимца. Они стыли на ветру, и больше им не суждено было согреться.
Соболь шагал подле Осоки, не отнимая ладони от её лба.
«Я, должно быть, состарился. Я не могу её удержать…»
По другую сторону носилок незримо шествовала Незваная Гостья. Высокая женщина с длинными седыми распущенными волосами. В белой рубахе и тёмно-красной понёве. И непроглядная тень облаком вилась у её ног. Тянулась к неподвижной Осоке…
Соболь ощущал, как жизнь Осоки уплывала сквозь его пальцы, едва замечая, что её пытаются удержать. Осока уходила, потому что хотела уйти.
«Да кто я такой, чтобы против воли тянуть её в жизнь…»
До деревни Белок осталось совсем немного, когда Соболь отчётливо понял: Осоку им не донести.
«Если я раздумываю, надо ли биться, значит я вправду стал никчёмной развалиной…»
Он нашёл глазами Бусого.
– Поди сюда, малыш.
Бусый поспешно утёрся и подошёл.
– Дедушка Соболь…
Соболь кивнул ему на Осоку.
– Позови её.
«Как?..»
Старый воин смотрел на него сурово и строго.
«Как мне её позвать?..»
Мальчишка беспомощно оглянулся, обежал глазами горестную людскую цепочку, растянувшуюся по склону холма. Гаснущее серое небо. И навсегда мёртвый Летун. И бескрайний лес с его жизнью, простой, мудрой, величественной и жестокой.
«А так, как ты позвал бы своих, чтобы им было невозможно не услышать тебя…»
Бусый зажмурился. Сцепил зубы. Вгляделся внутренним взором, сумел разглядеть там, впереди и далеко наверху, прозрачную тень девушки. Осока торопливо, не оглядываясь, уходила всё дальше от них.
Люди увидели, как Бусый запрокинул голову, стиснул кулаки…
И завыл.
Это был вой зверёныша, плачущего от непереносимой тоски.
Высоко в небо взлетел и поплыл над притихшими ельниками, пустил мурашки по спинам обомлевших охотников призывный, полный неодолимой скорби и безоглядной ярости вой. Вой молодого, входящего в силу волка, будущего вожака. Вот только звучал он из уст маленького Бельчонка.
Услышав вой, Осока досадливо оглянулась. Откуда было взяться волку здесь, на Дороге, которую каждому суждено проходить, когда настанет пора, в одиночку?.. Но вой плыл за ней, именно за ней, и звучали в нём такая тоска, такое отчаяние, рвущая душу жалоба и яростная мольба, что Осока, не выдержав, остановилась, вгляделась в уже пройденную Осыпь. Далеко внизу, где туманом плавала призрачная дымка, оскальзываясь и спотыкаясь, бежал по её следу волчонок. Маленький, светло-серый, с еле заметной золотистой рыжинкой. Бежал вверх, к ней.
Путь для него был непосилен, те камешки, по которым невесомо ступала Осока, для него обращались в неодолимые валуны, но он как-то карабкался с одного на другой, пятная острые края кровью разбитых лап.
И скулил, подвывал, взлаивал, призывая её на помощь.
– Уходи! – нахмурилась Осока. – Уходи, глупый! Сорвёшься!
Волчонок только пуще заплакал и припустил с новой силой. Попытался с ходу вспрыгнуть на очередной валун, но немного не долетел, бессильно царапнул когтями по гладкому камню и заскользил.
Куда-то вниз, к разверзшемуся страшному краю… за край…
– Нет, так дело не пойдёт, – сказала Осока.
И, бранясь на чём Миры стоят, полезла по Осыпи вниз.
Соболь успел подхватить падающего мальчишку, крепко обнять. Из ноздрей Бусого текла кровь.
Веки Осоки дрогнули, голова едва заметно повернулась, на лице обозначилась прозрачная краска. Девушка открыла глаза и с трудом, но всё-таки выпростала руку, дотянулась, погладила Бусого по голове.
– Волчонок… – прошептала она.
Вещий сон
Соболь тихо приоткрыл дверь, поклонился порогу и осторожно, стараясь не шуметь, вошёл в дом. Всего несколько дней назад это был просто дом родителей Колояра. Теперь здесь обитала странная большая семья, собранная под один кров общим горем.
Было ещё очень рано, но оказалось, что спал во всём доме только один мальчишка – Бусый. Как пришли с той памятной облавы, так он от Осоки почти что не отходил. Дневал здесь и ночевал, всё боялся, как бы снова не собралась помирать, лишь только он отвернётся. Он и теперь спал на той же широкой лавке, свернувшись клубочком у Осоки в ногах. Девкина мать, Любослава Заюшка, сидела у дочери в изголовье, что-то ей негромко рассказывала, вязала носок. Мачеха Колояра Красава Бельчиха и его отец Светел из рода Бобров тоже были давно на ногах. Видно, плохо им спалось после гибели сына. Соболь заметил во дворе, в раскрытой на солнце клети, деревянные заготовки, берёсту, горшочки с клеем. Светел мастерил новый лук. Страшно мощный даже среди веннских прославленных луков. Такой, что натянуть его только самому Светелу и было под силу. Да ещё Колояру, первенцу дорогому… Красава хлопотала возле печи, вполголоса уговаривала её хорошо спечь как раз подошедшие пироги. Младшие дети тихо одевались, собираясь во двор.
Красава и Светел встретили несчастье с удивительной стойкостью. Проводив на погребальный костёр сына, больше не позволили себе ни слезинки. Держались заботами друг о друге и об оставшихся у них на руках младших братьях и сестричках Колояра. И конечно, об Осоке, которую иначе как доченькой в разговорах между собой и не называли. Выхаживали её, всеми силами старались пробудить к жизни. Лелеять своё горе за всеми делами было попросту некогда.
С Осокой дело было всё ещё очень худо. Да, она покорно пила горькие настои, приготовленные Соболем, отвечала, когда спрашивали, иногда даже силилась улыбнуться. Но если её не тормошили, застывала на месте, смотрела куда-то неподвижным безжизненным взором, который Соболю очень не нравился, но поделать с этим он ничего не мог. Вот и сейчас она бездельно разглядывала узоры, что выплетал над нею волнистый колыхавшийся дым.
Соболь, впрочем, подошёл не к ней. Его занимал Бусый.
Мальчишка спал скверно. Соболь это сразу почувствовал. Он подошёл к Бусому и сел так, чтобы касаться бедром его бока. Бусый тяжело вздохнул сквозь сон, шевельнулся, придвинулся ближе, ни дать ни взять в поисках тепла и защиты. Соболь приподнял раскрытую ладонь над его лбом, поводил ею и замер, к чему-то внимательно прислушиваясь.
Бусому снился пригожий солнечный день в осеннем незнакомом лесу. Просторная поляна была удивительно хороша. Густые ели, золотые берёзки, пламенеющие кострами рябины, украшенные тяжёлыми – к лютой зиме – гроздьями спелых ягод… Весь день любуйся, не надоест. Белые пушистые облака в высокой прозрачной синеве… Солнце, льющее на поляну ласковое прощальное тепло…
Но посреди этой красоты затевалось что-то недоброе. Чистый осенний воздух был весь пронизан липкими нитями паутины. Невидимой, но от этого ничуть не менее вещественной и опасной. На поляне было много незнакомых людей, и никто из них не замечал, что опутан клейкой слизью по рукам и ногам. Непонятно было, откуда тянулись эти нити, казалось, они ползли со всех сторон, переплетаясь и сливаясь между собой.
А на середине поляны, в самой гуще паутины стоял… Колояр! Черты его лица почему-то расплывались, Бусый никак не мог как следует их рассмотреть, но это был, без сомнения, Колояр. Живой и здоровый. Как прежде полный буйной, играющей силы. Он стоял на зачем-то растянутом полотне, стоял обнажённый по пояс и весело поигрывал широкими плечами, отчего под чистой кожей перекатывались клубки мышц. И никто не выдирал у него из груди сердце. Удар когтистой пятерни оборотня лишь оставил длинные рубцы, давно зажившие, наискось протянувшиеся от левой ключицы к правому подреберью.
Молодой богатырь снова собирался с кем-то сражаться, и во сне Бусый отчётливо знал, что этого ни в коем случае нельзя было допустить, Бусый должен был крикнуть, предупредить…
Сделать то, чего не сделал когда-то прежде, отчего всё едва не кончилось горем…
Но предупредить друга мальчишке снова не удавалось, из горла вместо громкого крика рвался лишь стон, да и тот почти беззвучный, и на него никто не оборачивался. А беда надвигалась, и Бусый не мог её отвести…
Колояр улыбался, с нарочитой ленцой поводил литыми плечами, пританцовывал, пьяновато выламывался, неспешно шёл навстречу противнику. Готовился совершить уже вовсе не поправимое…
От нестерпимого ощущения бессилия у Бусого из-под плотно сомкнутых век потекли слёзы. Соболь вновь осторожно погладил мальчишку по голове, намереваясь вытащить из дурного сна. Сон послушно померк, видение расплылось, распалось на цветные беспорядочные пятна, за которыми солнечной поляны и происходившего на ней было уже не разглядеть. Однако Бусый застонал, упрямо замотал головой, пытаясь стряхнуть руку, вернуться обратно в ещё не ушедший окончательно сон. Старый воин, поколебавшись, убрал ладонь с его лба и прислушался.
Бусому удалось увидеть Колояра, уже раненого, со сломанной рукой. Он, впрочем, не сдавался и не отступал, не таков был Колояр, чтобы перед кем-нибудь отступать. Его противника мальчик видел когда-то в своих снах… или не в снах? – в общем, где-то, когда-то, подробно вспомнить не удавалось, да Бусый и не очень старался, ибо это не имело значения. Бусый даже не пробовал рассмотреть и понять, кто этот человек. Он знал одно: Колояру ни в коем случае нельзя было с ним сражаться. И не только потому нельзя, что Колояр был уже покалечен, а его противник – по-прежнему невредим. Имелась и ещё какая-то, куда более значимая причина.
Вот взгляд Колояра словно заледенел, обратился в летящие паутины… Они метнулись к противнику, слипаясь в один гнойно-кровавый сгусток. Бусый понял, что сейчас Колояр ударит.
«Не-е-е-е-ет…» – беззвучно закричал мальчишка, пытаясь криком своим остановить друга, воздвигнуть перед ним невидимую преграду, уберечь, оградить от беды…
Левая рука Колояра легко проткнула не успевшую затвердеть прозрачную стену, кулак полетел вперёд…
Соболь решительно разбудил мальчишку, не давая досмотреть страшный сон до конца. Резко встряхнул за плечи, приподнял и прижал к себе, стал шептать на ухо. Бусый задыхался и не понимал, где находится, он пытался освободиться, хотел куда-то бежать, всхлипывал и ловил ртом воздух, сердце ломилось вон из тощей груди. Соболь держал крепко, даже и не думал отпускать. Постепенно взгляд мальчишки стал осмысленным, дыхание выровнялось. А потом… его веки снова сомкнулись, голова доверчиво опустилась Соболю на плечо. Бусый заснул. Солнце светило сквозь ветки, кругом кувыркались маленькие то ли щенки, то ли волчата, и всех вместе оберегал кто-то большой, грозный и добрый. Было хорошо, безопасно и очень тепло.
Разговоры на посиделках
Уложив Бусого на лавку и постояв над ним, знахарь удовлетворённо кивнул. Потом обратился к Осоке:
– Поздорову тебе, красавица милая.
Осока услышала обращённую к ней тихую речь, повернула голову, мутновато взглянула, признала.
– И тебе поздорову, дядюшка Соболь.
Говорила приветливо, но от прежней Осоки, той, что бесшабашно взлетала к ледяному Мосту и сигала с жерди через Прорубь, в ней было немного. Вот побывавшая во Мгле, потерянная и погасшая – та на себя нынешнюю была больше похожа.
Вот бы ещё в Прорубь её окунуть и тем самым окончательно отвести от Мораны…
Соболь улыбнулся.
– Девки меня просили словечко замолвить, – обратился он к хозяйке. – Что вздумали, посиделки у тебя здесь устроить, беседы досветные. Берёзка все уши прожужжала, говорит, пирогов слаще твоих отроду не едала. Дозволишь позвать? А то я их застращал, ты к Осоке, мол, никого и не подпускаешь…
Все посмотрели на Осоку.
– Да я что… – обернулась от печки добрая Белка. – Ты доченьку спрашивай, не меня.
Осока вдруг часто заморгала.
– Спасибо, дядюшка Соболь, – негромко проговорила она. – Спасибо тебе, матушка… Тебе, государыня свекровушка… и тебе, государь свёкор. Замаяла я всех вас совсем. Вы уж простите меня, беспутницу…
Бусый, который, оказывается, всё-таки приоткрыл один глаз, высунул голову из-под овчины и пробурчал:
– Могла бы и меня помянуть, язык бы не отвалился небось.
Осока толкнула его под одеялом ногой.
– Братик милый… Ты спи, братик, не бойся, не денусь больше я никуда.
Досветные девичьи беседы всегда были событием, хотя бы потому, что за девками в облюбованный дом нагрянут и парни, не только Зайцы, долетит весть – прибегут из дальних родов поглазеть на славниц. А значит, начнутся достойные мужские речи, ревность и соперничество, порою нешуточное. Сразу захотелось что-то собирать и готовить. Бусый обязательно так и сделает… только полежит ещё немножко под одеялом. Совсем немножко…
– На-ка молочка тебе, – сказал Соболь.
Бусый жадно принюхался. В тёплом молоке была распущена добрая ложка мёда. Того самого, что принесли виллы. Бусый обеими руками схватил деревянную чашку и пил не отрываясь, пока не слизнул последнюю капельку.
Соболь с одобрением наблюдал, как мальчишка снова натянул на вихры овчину и задышал спокойно и ровно. Пусть спит, и кому какое дело, что на дворе – белый день. Нынче всё не как положено, всё не как всегда. Спи, малыш.
Только ли мёд был подмешан в то молоко, почём знать. Бусый прожил странный день: просыпался и блаженно засыпал, каждый раз заново преисполняясь уверенности: всё будет хорошо.
Соболь недаром слыл знахарем, он воистину ведал, что необходимо телу и душе, поднявшим непосильную ношу.
Окончательно Бусому расхотелось спать только под самый вечер, когда девки собрались в избе и уже вовсю рукодельничали, исполняя данные матерями уроки. Глаза Бусый пока открывать не стал, продолжал лежать под тёплым одеялом у бревенчатой стенки, слушать в полудрёме усыпляющее жужжание веретён.
Речи девок всё крутились около оборотней. Не диво!
Бусый забеспокоился и прислушался, выделяя среди прочих голос Осоки. Но Осоку россказни подружек о пугающем и непонятном, казалось, весьма мало трогали. Она рассеянно слушала, сама что-то говорила, но довольно отстранённо, больше пропускала мимо ушей, как… как? Бусый задумался и понял. Как взрослый – болтовню детей, взявшихся его напугать безобидными небывальщинами. После того, что Осоке пришлось пережить наяву, могли ли смутить её душу пустые побасенки?
Да какое Осоку, они и Бусого смутить теперь не могли…
– А правду ли сказывают, что Медведь этот появился всего лет десять назад? – прорезал общий гул знакомый голос Берёзки. – Вроде раньше про него никто и слыхом не слыхивал?
– Врут, – тоненько приговорили из другого угла. – Моя бабушка про него баяла, когда я под стол пешком хаживала. А она от своей бабушки слышала.
Раздался смех, обладательнице тонкого голоска напомнили, что под стол она пешком ходила очень недавно, ныне ещё была от горшка два вершка, да и бабушка её в старухи ну никак не годилась.
А Бусый опять вспомнил Колояра.
Просто потому, что на его памяти первый разговор о Медведе случился как раз в тот год, когда они крепко сдружились с Колояром. Вроде примерно тогда стали люди время от времени встречать этого странного зверя. Видели его всегда в сумерках и всегда издали, где-нибудь на вершине холма, на краю леса. И на глаза он попадался не всякому человеку, а как будто с разбором…
– Ясно, с разбором, – прогудел от двери мужской голос. – Дурень ли косолапый, девка нашего брата вкусней…
– Сам дурень, – окоротили парня сразу несколько девчонок.
У двери случилась возня, Бусому глаза открывать было лень, но, если он что-нибудь понимал, болтуну за поганый язык досталось по голове прялкой, да не одной. Потом дверь бухнула. Парня выставили во двор.
…Да, не всякому человеку являл себя тот Медведь. И не в любой день, а только если следовало ждать больших бед. То-то в осень, когда его стали замечать особенно часто, над Железными горами выросла небывалая туча, а земная твердь донесла отголоски сотрясений и корчей. Не говоря уже о приходивших оттуда шайках бывших каторжников наподобие Резоуста…
И мог ли быть добрым предвестником зверь, у которого на спине лежал человек! Да какой!
– Слышала я, девоньки, – летом и зимой совсем голый…
– Живой ли?
– А кто его разберёт, за кровью, за ранами!
– Соседушки дальние! Из ваших видел ли кто?
Оказалось, видели многие. Медведя и его страшноватую ношу видели в разные годы в самых разных местах и Щеглы, и Барсуки, и Лисицы… Да пожалуй, мало нашлось бы родов, в которых Медведя того вовсе не замечали хоть раз. Возле деревни Белок он, правда, пока вроде не появлялся, хотя наверное можно ли было сказать?
Кто таков этот Медведь и чего ради таскает израненного человека, никто толком не знал. Если людоед-оборотень наподобие Резоуста, ищущий место, где бы устроиться и спокойно свою жертву сожрать, что-то долго ему, выходит, такое место не попадается.
– А может, – вдруг выговорила Осока, – он того человека хранит, спасти пытается…
Выговорила очень негромко, может, один Бусый услышал её, и то потому, что за спиной лежал, совсем рядом.
– Следы-то оставляет ли? – спросила Берёзка.
Тоненький голос ответил, что да, после того как Медведь исчезал в зарослях, люди находили следы исполинских лап. Другие девки заспорили, утверждая, что порой вовсе даже ничего не удавалось найти.
– А ты что станешь делать, Берёзка, если у деревни своей его встретишь?
– Со всех ног домой побегу, – без хвастовства ответила непугливая Зайка.
Ей принялись советовать:
– Через плечо отплеваться не позабудь.
– Поршеньки[32] с левой ножки на правую, с правой на левую перемени…
Бусый поневоле задумался, что хорошего может принести встреча с не живым и не мёртвым, без смерти умирающим человеком, год за годом неприкаянно носимым по лесам в стужу и в комариный зной.
«Вот бы удалось человека того пожалеть и спасти? Вывести из заколдованного Безвременья, обогреть, раны его исцелить…»
– А ты что скажешь, бабушка Белка?
Большуха сидела над своим веретеном в молчаливой задумчивости, то ли слушая бойкие девичьи разговоры, то ли размышляя о чём-то своём. Водительница рода не поторопилась с ответом, её и не понукали, кто бы посмел. Знала мудрая Белка, что слово её выслушают без сомнения, поверят и другим передадут. Велика честь, а и хлопот не счесть…
Наконец большуха начала говорить:
– Первый раз про Медведя сама я услышала лет шесть тому от большухи Клестов. Встретил его подружкин старший внук, встретил в начале зимы, когда медведям по-хорошему-то уже пора в берлоге лапу сосать. Подумал сначала: шатун, ан глядь – на спине-то человек! Пока смотрел, Медведь прямо на глазах и растаял, как туман на реке. Парень уж подумал было – приблазнилось. Ближе подобрался и увидел следы. Лапищи, чуть не лыжа целиком в след уместилась. А позже в ту самую зиму замечали Медведя ещё в трёх или четырёх родах, тоже издалека. Мороз свирепый, а человек на звериной спине лежит, считай, голый. Пытались было его у Медведя отнять… что там, близко подойти никто не сумел… Да, так вот, шесть лет тому. А допрежь – в самом деле ничего вроде не было.
– А как судишь, бабушка, он кто – Медведь?
– А человек при нём – кто?..
Большуха негромко рассмеялась:
– Откуда ж я вам, девоньки, знаю? Вы Соболя попытайте и дядьку Лося, они двое у нас далеко глядят, много видят… Я-то что, я толку не ведаю. Скажу только: есть люди, бают, будто не к добру Медведь появился, в наказание за грехи людские Тёмными Богами нам послан. Ждать надо, мол, чуть не Ночи Великой, что тридцать лет и три года длилась. Ой, милые, не верится мне что-то в такое вот наказание. Куда, коли так, Светлые-то Боги смотрят?.. Я вот какое слово разумное слыхивала. Вроде бы Медведь этот – Предок рода, что отвратил его от себя дремучими непотребствами… Душа беспутного племени, покинутого Богами. Мается, бедная, в скитаниях вечных, ищет доброго пристанища своему последнему сыну… Вот это, сдаётся мне, и в самом деле могло бы правдой быть.
А Бусому, незаметно вновь задремавшему, снилось, как по ночному лесу, легко находя себе дорогу между могучими стволами, стремительно скользит косматая тень.
Тень эту отбрасывает при луне огромный медведь. Бежит он без видимой спешки, размашисто и свободно, длинными стелющимися скачками. Под роскошной шубой размеренно вздуваются и опадают железные мускулы. Мощно отталкивая от себя землю, зверь плывёт над нею по воздуху, бесшумно касаясь лесной подстилки широченными когтистыми лапами. Бежит медведь издалека, и впереди путь ему предстоит, скорее всего, неблизкий, но это не останавливает великана, ему зачем-то нужно бежать, и он бежит, не обращая внимания на усталость.
На спине у медведя, уткнувшись лицом в тёплый пушистый мех, лежит человек. Он не открывает глаз, его неприкаянная душа плавает в мглистом сумежье[33] жизни и смерти. И ещё б ей не плавать! Обнажённое до пояса тело горестно изувечено, диво, что в нём ещё бьётся сердце, ещё держатся последние крохи тепла. Человек не чувствует боли. Раскинувшись на медвежьей спине, он витает в блаженном забытьи, ему чудится, что он младенец в пелёнках, что мама держит его на руках и баюкает, бережно укачивая, напевая знакомую колыбельную… Впрочем, бодрствующей толикой сознания он всё-таки понимает, что это лишь чудится. А жаль.
Ему так хочется к маме, умершей много лет назад, он уже было направился к ней, но Предок Медведь зачем-то остановил его. И уговорил повременить. Ослушаться Прародителя было нельзя, и человек задержался в этом мире. Пообещал ждать, сколько хватит сил…
Сил совсем немного. Это не огорчает его. «Мама…»
Медведь торопится. Он несёт человека куда-то очень далеко, и ему нужно успеть завершить свой путь до того, как у правнука иссякнут последние силы. Если он не успеет, правнук умрёт. Умрёт, так и не свершив своё предназначение. Медведю нужно успеть, и он без устали спешит через ночной лес. Как тяжело ему ни было бы…
Последнее письмо
В это самое время чернокожий Ульгеш сидел в неполном десятке вёрст от Бусого, в общинном доме Зайцев, в отгороженном уголке, что несколько месяцев прослужил жилищем им с наставником Аканумой. Сидел при светце – так называлось устройство для лучины, коим здесь пользовались вместо добрых масляных ламп, – а кругом, занимая всё ложе почившего старца и половину его собственного, лежали книги. Книги деяний императоров Мавуно, древних и не очень, вроде Кешо, «Описания стран и земель» Салегрина Достопочтенного, почитаемые многими как непревзойдённые, а с ними рядом – «Дополнения» и «Удивительные странствия» Эвриха из Феда, столь же многими ценимые даже больше классических «Описаний». Другие тома несли изображения знаков звёздного неба, их страницы пестрели пометками, сделанными рукой Аканумы.
Дедушкины пальцы всегда были в чернилах. Потом их обагрила кровь. И уже никогда больше они привычным движением не поднимут перо. Не раздастся ворчливый голос, бранящий ленивого внука за то, что перо опять плохо очинено и брызгает, марая листы.
Тихо шипели угольки, падая в длинное корытце с водой. Ульгеш всхлипывал, размазывал по щекам слёзы и понимал, что его немужественные всхлипы сквозь меховой коврик, отгородивший угол, отлично слышат венны. Он пытался справиться с собой, но не мог.
Хорошо же знал его дедушка… Он предвидел, что Ульгеш сразу перероет все книги и за обложкой Эврихова «Похвального слова Кимноту» отыщет это письмо.
Мальчик с первого раза запомнил его наизусть, но продолжал перечитывать, и учитель Аканума незримо держал его за руку, наставляя в пути.
«Мой маленький Ульгеш! Если ты нашёл это послание, значит я не ошибся в расчётах и моя линия судьбы уже пресеклась. Не грусти, ибо я не жалею о том, как распорядился временем, милосердно отпущенным Свыше.
Дитя сердца моего, я пытался растить тебя гордым и добрым. Достойным отца, которого злоба людская не позволила тебе узнать. И в этом я, кажется, преуспел. Остальное – приложится.
Мой малыш, наши судьбы переплетены так тесно, как не всегда бывает даже у кровной родни. Хвала Мбо Мбелек Неизъяснимому, если моя судьба без остатка растворилась в твоей, а не наоборот, как приходится опасаться.
Я тщательно выверил орбиты светил и трижды произвёл вычисления, каждый раз с иной отправной точки, дабы исключить возможность ошибки.
Дитя моё, возможно, это и к лучшему, что ты не слишком прилежно постигал мудрость звездословия, которой я силился наполнить твой разум. Ты умён и, обладая должными знаниями, вполне мог сделать выводы, к которым пришёл и я.
Увы, всё указывает на то, что скоро наши жизненные пути омрачит тень зла, затаившегося под личиной. Сравняется время Переполненной Чаши, и из тени выйдет только кто-то один. Больше всего я боюсь, что твои смелость и честь не позволят мне в одиночку встретить её. Если это произойдёт, мне трудно будет тебя оградить. Но раз уж ты читаешь это письмо, значит мои стариковские страхи были напрасны. Всё закончилось хорошо.
Мой родной, ты, наверное, ждёшь, что сейчас тебе наконец будет открыто имя отца. Нет, Ульгеш. Это знание слишком опасно, и я не дерзаю тебе его вручить. Скажу иначе: тебе известно достаточно, чтобы сразу узнать отца, когда вы с ним встретитесь. Да, дитя моё, именно „когда“, а не „если“. Звёзды говорят мне, что при должном упорстве это обязательно произойдёт, а я знаю твоё упорство и то, что звёзды не ошибаются.
И ещё так скажу тебе: держись друга, которого успел здесь обрести. Ты, может быть, пока и не знаешь, что вы с ним друзья, но я видел вас вместе, и моя совесть очистилась: в этом чужом краю ты не будешь один.
Да хранит тебя Мбо Мбелек Неизъяснимый, моё дорогое дитя…»
Предупреждение
Скоро было замечено, что девичьи посиделки за прялками определённо пошли Осоке на пользу. На другое утро она заплела косу и взялась мести избу. Потом отобрала у «государыни свекровушки» корзину с бельём, развесила во дворе сохнуть. Подозвала Колоярова брата-подростка, велела снять суконную свиту, зашила порванный на локте рукав. Взяла деревянную мису и ложку, замесила тесто, нажарила вкусных оладий на всю семью…
Ещё через несколько дней вместе с Бусым сходила на буевище поклониться могиле, принявшей прах Колояра и Срезня. И наконец, честь честью поблагодарив за добро, ушла с матерью домой, в родную деревню. Белки всей толпой провожали её.
– Ты бы погостил, братик названый, – попросила она Бусого. – Батюшка твой поправляется, а мне…
Бусый увидел, как дрогнули у неё губы, и сразу побежал к матери за позволением, и мама, конечно, позволила ему задержаться.
Ну то есть у Зайцев в деревне не одна Осока жила. Была здесь лихая Берёзка, которая сразу взялась шпынять Бусого на каждом шагу, и он знай гадал про себя, на что бы ей это было надо. И слепой дядька Лось, ощупью отличавший крашеный ивовый прут от некрашеного. И чернокожий Ульгеш, что вечно торчал под навесом у Лося.
– Ты, парень, молодец, при Осоке ходишь вправду как брат, – сказал однажды Бусому Лось. – Только пора уже тебе её оставлять.
Свались на Бусого берестяная крыша, она и то не так сильно ударила бы его. Он почувствовал, как малиновый жар напитал уши и приготовился растечься на всё лицо, и покосился на Ульгеша: слышал ли, вздумает ли насмехаться?
Ульгеш сидел в сторонке. Поставив перед собой новенький туес, он сосредоточенно срисовывал плетёный узор.
– Спасибо за вразумление, дядька Лось, – выговорил Бусый. – Так мне и надобно сделать.
От Лося не укрылось напряжение в его голосе, а может, и то, как мальчишке бросилась в лицо кровь. Он погладил опрятно изогнутую ручку корзинки, проверяя, всё ли в порядке.
– Осоке с тобой легче и вспоминать Колояра, и забывать о нём временами, – сказал он Бусому. – Ты её на руках несёшь, словно ту цаплю подбитую… Помнишь, как ты её выпускал? Помнишь, как крыльями получил за то, что рук вовремя не разжал?..
– Помню, дяденька Лось, – ответил Бусый смиренно, но горькая обида не проходила.
«То ж птица глупая!.. А Осока, она… она же – Осока!»
Но сколько он ни силился потом истребить в памяти показавшиеся злыми слова – так и не совладал.
Трах!
Две крепкие дубовые палки с громким треском сшиблись в воздухе. Бусый и его противник, гибкий и стремительный чернокожий парнишка, почти одинаково покачнулись, но всё-таки удержались на своих чурбаках. Мальчишки, ждавшие очереди занять их места, лишь разочарованно вздохнули. Опять никому не удастся заменить оступившегося поединщика! Бой Бусого с юным мономатанцем затягивался, тот и другой раз за разом умудрялись сберегать равновесие, хотя сражались честно, били своими дубинами размашисто и сильно. Остальные игроки уже плясали от нетерпения, но места на чурбаках всё не освобождались.
