Читать онлайн Про злодея бесплатно
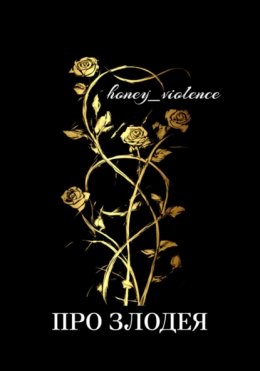
Про злодея
Я возьму твои истории, все в них перепишу,
разнесу по кирпичу, до мелкой щепы разрушу,
и, когда ты все же явишься покарать
за такое самодурство, даже не стану слушать.
У тебя все было, я тебя всем дарил!
Только не вписал меня ты в сюжет историй.
Но когда все будет стерто в них мною в пыль,
ты признаешь, что герой мой чего-то стоит?
Излепив из меня что-то, что мне претит,
дал мне шкуру зверя, дал мне приказ быть зверем.
Почему, когда явился я за тобой,
ты в сюжетный поворот этот не поверил?
Ты сам создал то, чем я ненавижу быть,
но, раз зубы дал, дай горло мне, чтоб вцепиться.
Написав себе чудовище из меня,
зря поверил, что мне сладостно на цепи.
Я разрушу все. Цунами, сход снежный, сель —
назови как хочешь, внутренне холодея:
тот герой, кем ты не дал мне возможность стать,
пишет новую историю. Про злодея.
Если есть злодей
Если есть злодей, значит есть причина —
кто-то ж влил в ребенка когда-то яд,
но об этом мало упоминают,
даже больше: вовсе не говорят.
Монстр для всех кажется очевидным,
словно Франкенштейн себя сваял сам…
Когда засыпает Аврора в башне,
ведьма ее гладит по волосам.
Мачеха скучает по Белоснежке:
пусть и не родная, но все же дочь.
Создает Урсула другое зелье,
но не успевает уже помочь,
только смотрит, как свой покой русалка
обретает, пеною обратясь.
Между взрослым Лордом и тем мальчишкой
из приюта тоже прямая связь.
Как же нам легко в этом лицемерить,
как же просто вовсе не замечать.
Говорить, что с самого их рожденья
на судьбе плохая лежит печать,
слепо игнорировать, что злодеи —
люди, чьи мечты были сожжены.
Что они когда-то могли быть нами.
Что однажды ими быть можем мы.
Взгляд
Правда открывается не случайно,
просто ты слепым был до сей поры.
Если говорится о равноправии,
значит быть кому-то всегда вторым.
Примеряй колпак шутовской, да с радостью,
грей собой у трона пол ледяной,
благодарен будь за подарок Господу,
что тебя от власти отсек стеной.
Долго ли сидится царям да правится?
Золото тяжелое в волосах
не спасет от яда, ножа, предательства.
Загляни в глаза его, видишь страх,
что засел внутри него и ест заживо?
И никто отныне ему не брат.
Ты меня не слышишь, глядишь на золото,
и я знаю лучше всех этот взгляд.
В этой сказке
В этой сказке, хороший мой, ходят едва дыша,
в этой сказке боятся тени своей же люди,
и героев здесь добрых, милый мой, нет, не будет.
Что читали тебе, укутанный в пух перин,
весь изнеженный лаской принц, что печаль не ведал?
В этой сказке проснуться целым уже победа.
Он клянется чуть свет мне деру отсюда дать.
Говорю: спи спокойно, я буду стеречь сон княжий.
Жду, пока меч отложит, на землю усталый ляжет,
и кидаюсь, как волк, и глотку зубами рву.
Говорила ж, не верь любому, кто метра ближе!
А он плачет и жемчуг слез на ресницы нижет.
Я смотрю на него и думаю: «Вот дурак!»
Был же камень, где было выбито пешим мимо:
«Не ходи туда, молодец». Все, кто пошел, всяк сгинул.
Так чего мне жалеть удалого храбреца,
кто совет не послушал и деве поверил красной?
И не первый же, Боже, раз. Ведь не первый раз же!
Тут таких караван проходил, да все полегли.
Кости ветер степной сточил, и не вспомнить имя.
В этой сказке, соколик, хорошим не быть живыми.
Откуп
А потом он сдается нежности,
называет ее своей
и приводит на ложе брачное,
где сжигает в другом огне.
Что до косточек тонких, беленьких
всех, кто отдан ему был до,
они страшным напоминанием
устилают пещеры дно.
Но окупится, ох, окупится
каждый крик, и слеза, и стон:
та, что сердце взяла драконие,
обратит прежний дом костром,
всех и каждого в нем ждет страшное,
и едва ль будет быстрой месть.
Сколько девушек было отдано
зверю страшному, и не счесть,
и лишь чудом одна хозяйкою
вдруг случилась его душе,
стала трепетною возлюбленной
человеческая мишень —
ритуала часть, жест покорности,
просто цель для его огня.
Она ластится теплой кошкою,
не страшится его обнять,
и дракон верным псом на привязи
восседает у белых ног.
Жатва жертву найдет кровавую
среди тех, кто ее обрек, —
так дракон обратится карою,
всяк предавший пятном золы.
Ночь, горящая в жарком пламени,
ярче станет любой зари.
Вы же поняли это загодя,
чуя в ней этот злой задор,
когда к зверю невеста первая
протянула свою ладонь,
не боясь ни огня, ни пасти, ни
гнева острых его клыков.
Сами видели, как чудовище
к ней всему вопреки влекло.
Так чего теперь горько плакаться,
что нарушился ваш обряд?
В темной ночи глаза драконии,
словно угли в костре, горят,
и стоит в серебре и золоте
дева возле его плеча.
Та, что прежде была лишь откупом,
теперь здесь его назначать.
Убивший монстра
Другие слагают победе песни,
а сам герой хмурый, молчит да пьет
и все вспоминает, каким красивым
был зверь в небесах. И его полет
навечно остался перед глазами,
в ушах скрип жестоких широких крыл.
Он пьет, чтоб забыться, не помогает,
ресницы, как прежде, от слез мокры.
За эту победу обрел он славу,
осыпан был милостью короля,
но, если опять тот попросит подвиг,
герой не отважится повторять.
И дело не в силе или отваге,
не в храбрости, ловкости удалой.
Он помнит, как нежно ложился ветер
под зверя чешуйчатое крыло,
как рев сотрясал, словно гром, долину,
как бил гибкий хвост по камням, дробя.
Каким было страшным и совершенным
жестокое чудо его огня.
А он не герой, просто злую правду
никто не узнает, чтоб объявить.
О том, как по локоть засунув руки
в грудь зверя, испачкавшийся в крови,
стоял он, и кровь была теплой-теплой,
бок зверя ходил ходуном, дрожа,
и бились в мозгу слова, что героям
пристало чудовищ уничтожать.
И нужно лишь сжать ком горячий в пальцах,
прочесть смерть по желтым глазам чужим…
И, с монстром покончив, понять внезапно,
что монстра убивший вдруг сам стал им.
Монстр
Победитель дракона сам становится драконом.
Победил двух драконов, третьего не сумел.
Превратиться не смог ни разу, как предрекали,
мол, дракона срази, проклятье его регалий
перейдет на тебя, явился раз, глуп и смел.
Я специально сдирал доспехи и голым шел,
не боясь, без меча кидался, как волк, на зверя.
Я хотел победить, желая, не лицемерил,
только что-то не так, быть может, с моей душой,
раз проклятье меня обходит за разом раз
и драконья душа вселяться в меня не хочет.
Почему только я – единственный среди прочих
и меня обманул предания гнилой сказ?
Третья туша в крови сгнивает у моих ног,
желтый глаз смотрит пристально-мертво, и режут сталью
крыльев черных шипы, которые не достались.
Я стою и смеюсь: «Я смог, да, я снова смог!
Но драконья судьба прошла стороной меня.
Победивший дракона остался как был когда-то!..»
Только правда стеклом драконьего жжется взгляда:
монстр уже был внутри, и его ни к чему вселять.
Обошел полмира
Обошел полмира, но на тебя
не хватило подвигов и дел ратных.
Ты ушел чудовище отыскать,
но вернулся сам им домой обратно.
Победил сильнейших, чтоб доказать,
что ты самый сильный из всех, но, право,
нет геройства в том, чтоб, сойдясь с другим,
не найти затем на себя управу.
Обмануть сумев всех и провести,
от себя ты правды, увы, не скроешь:
сколько б монстров ни было на земле,
но страшнее нет, чем ты сам, чудовищ.
Царевна-лягушка
Он не ходит с дня того на болота
Он не ходит с дня того на болота,
не глядится даже в колодца воды,
но причин на это отцу и братьям
не желает, как ни пытай, назвать.
И причина входит сама в палаты
ровно в миг пылающего заката,
и ползут от ног ее тени кругом.
Ходит все выискивает супруга,
говорит, вот, батюшка, стрелы клятва,
отдавай царевича мне обратно,
коль меня назвать он решил женою,
не узнав сперва, мертвой ли, живою,
верной буду, ласковой ли, послушной,
лебедем, волчицею иль лягушкой —
так его томила его охота!
Пусть теперь познает мою заботу.
Ляжет мох периной, укроет кости,
станет мужем, быть перестанет гостем
и навек поселится со мной рядом,
как докончим свадебные обряды.
Много женихов до него ходило,
все себе в болотах нашли могилы,
но глупее всех их Иван-царевич,
ведь о шкурках все же в совет поверил.
Но их недостаточно сжечь, Ванюша,
лучше б няньки сказочки меньше слушал.
Просила, молила
Просила, молила, взывала ко всем богам,
и шкура моя сползала к его ногам,
как клятва. Не смог, не сдержался, не вытерпел. Не хотел.
Теперь, утопая, идет ко мне по воде,
и шаг его каждый мне мазь на открытость ран.
Я выйти живому отсюда ему не дам.
На каждый ожог, когда шкуру сжигал в печи,
пусть раненым волком воет, пускай кричит
от боли, как я, сжигал он меня когда,
и пусть не омоет раны его вода!
Пусть куполом сверху накроет его, отняв
и жизнь, и дыхание. Простить никогда огня
ему не смогу. Как от дыма сжимало грудь,
так он под водой пускай будет теперь тонуть
и звать Василису. И погибнет у белых ног.
С дыханьем последним последний сойдет ожог.
О царевне, что всех прекрасней
Перед ним, во мгле печальной,
гроб качается хрустальный,
и в хрустальном гробе том
спит царевна вечным сном.
«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»
Елисей за царевной не скачет
Елисей за царевной не скачет, пещер не ищет.
Что ему ее мертвость, стеклянность незрячих глаз?
А народ и без подвига этот продолжит сказ.
Дочка царская спит, этот сон не разбить любовью,
этот сон ничем вовсе вовеки не одолеть,
а народ и без правды песни продолжит петь
про хрусталь и про гроб, про любви поцелуй священный,
что разрубит, как меч, и заклятье, и твердь цепей.
О царевне, что всех прекрасней и всех мертвей.
Он знает путь
Он знает путь, да что там – носит карту,
изрисовав лист вдоль и поперек.
Да только толку? Полюбил царевну
и не сберег. Не смог и не сберег.
Теперь лежит, закована в объятья
на смерть похожего безрадостного сна,
не зная ничего: любви, надежды,
страданья, и предательства, и зла.
Качают цепи, как младенца в люльке,
царевну мертвую, и нет исхода дням.
Хрустальный гроб скрывается под пылью,
но трещиной исходит по краям,
грозясь открыться, выпустить из плена
однажды обреченную на смерть,
но королевич потерял надежду
и не заходит даже посмотреть,
как изредка сквозь сон дрожат ресницы,
от жадного дыханья ходит грудь,
и нужно одарить лишь поцелуем…
Сжигая карту, он велит «Забудь!»
себе, а после забывает,
но много лет спустя в один из дней,
вернувшись в грот, находит гроб, а в гробе
царапины на внутреннем стекле.
Твой черед
У царевны, гляди, из левого рукава,
опаляя жизнь смертью, навь льется рекой на пол.
У царевны, гляди, из правого рукава
кости сыплются угощеньем на пышный стол.
Елисей стоит бледный, и пот по вискам течет.
Понимает, что заявилась та за душой.
Только ветер качал, как люльку, хрустальный гроб,
за царевной, в нем спавшей, никто так и не пришел.
Но склонилась над ней сестрой ласковой темнота,
дала силу и волю из гроба суметь восстать.
К королевичу путь лег пряжей у белых ног,
и дорога та вышла для легких шагов проста.
Потанцуй, королевич, невесту свою уважь,
поцелуй ее трепетно: холод в устах ее
по огню человечьему острой тоской томит.
Помоги растопить сердце прочно сковавший лед!
Но стоит Елисей перед нею ни мертв ни жив,
он давно позабыл про царевну и тайный грот.
Она ласково шепчет: «Как долго же я спала!»,
а затем добавляет: «Теперь пришел твой черед».
Коса
Башня не клеткой становится
Башня не клеткой становится, а прибежищем.
Волком не воешь, но в общем почти близка.
Заживо поедает тебя тоска.
Черная женщина, жестокая, злая мачеха;
к нежности ведьма едва ли была годна,
только с тобой она рядом была одна.
Все, кто затем обнимали и горько плакали,
от лицемерия заставили сатанеть.
Небо в фонариках, словно весь мир в огне.
В мягкой земле утопая ногами голыми,
мчишься обратно туда, где стоит стеной
то, что стояло меж миром их и тобой —
ясная правда, истоптанная, изгаженная,
только не ведьмы алым и хищным ртом:
мир за порогом всегда оставался злом.
Юность отчаянна, юность не верит на слово:
ногу засунуть в капкан бы на остроту.
Раны теперь зализывать, прячась тут.
Годы идут, новым слухом деревни полнятся
про злую ведьму, чей слышится смех в лесах,
но в этот раз ни слова о волосах,
о тонком золоте шелка их и их магии.
Значит, и не примчатся ее спасать.
В землю зарыта отрезанная коса.
Рапунцель, прости
Рапунцель, прости, конь издох, ноги в мясо сбиты,
доспехи по весу – надгробного камня плиты,
и заживо солнце печет в них меня, как мясо.
Уже не тебя – меня самого кто б спас?
Рапунцель, прости, я не маг, я не вижу чащи
твоей заколдованной, я даже не вижу башни,
с которой свисали бы волосы, как канаты,
мне чтобы подняться. А я лишь хочу обратно.
Кого мне спасать? Я идти не могу, здесь топи
болотные тянут, и звери лесные, тропы,
все глубже в леса уводящие – дальше далей.
Такого мне не сулили слова преданий.
Кого мне спасать? Истончаются мои силы,
а девушек много, все, как на подбор, красивы.
Чем ты лучше них? Идти до тебя – мученье.
Простых обстоятельств нерадужное теченье.
Пока что иду, не по воле уже – упрямству.
На хлеб и постель я б давно променял и царство,
но жаль, ведь так много пройдено, чтоб сдаваться.
Рапунцель смеется: не первый он из скитальцев
нелепых и верных – таких здесь ходило много.
Рапунцель глядит из окошка сторожевого
на грустного и уставшего вдали принца,
поверившего в нелепые небылицы.
О чем же еще умолчали о ней рассказы?
