Читать онлайн Поворот к лучшему бесплатно
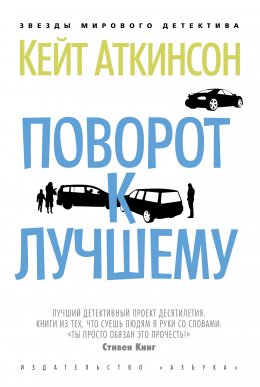
Kate Atkinson
ONE GOOD TURN
Copyright © 2006 by Kate Atkinson
All rights reserved
© М. Г. Нуянзина, перевод, 2011
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2020
Издательство АЗБУКА®
***
Лучший детективный проект десятилетия… Книги из тех, что суешь людям в руки со словами: «Ты просто обязан это прочесть!»
Стивен Кинг
«Преступления прошлого» были очень хорошим романом – а уж «Поворот» прямо-таки произведение искусства и недосягаемый образец жанра. Жанра? На самом деле если бы в конце романа детективная интрига разрешалась всего лишь условно, как бог на душу положит, то и тогда он нисколько бы не разочаровывал: великолепная черная комедия, сатирические картины из жизни современной Англии. Но ведь это и детектив выдающийся; из тех редчайших, где все объясняется в последней фразе, – то есть буквально все, и буквально в последней, не поверите.
Лев Данилкин (Афиша)
Кейт Аткинсон – настоящее чудо.
Гиллиан Флинн
Столь непринужденному сочетанию комичного и трагичного мог бы позавидовать сам Диккенс – разве что сюжет у Аткинсон выстроен даже хитроумнее.
Хилари Мантел
Талант у Кейт Аткинсон поистине безграничный.
Маргарет Форстер
Кейт Аткинсон – поразительный мастер. Она произвела революцию в жанре детектива…
Мэтт Хейг
Кейт Аткинсон – обязательное чтение. Я обожаю все, что она пишет.
Харлан Кобен
Каждую новую книгу Аткинсон ждешь, как Рождества: никто другой из наших современных писателей не способен так виртуозно балансировать на грани между серьезным и увлекательным, комичным и трагичным.
Sunday Telegraph
Восхитительная головоломка.
The New Yorker
Это нечто новое – детективный роман, который не разочарует множащихся поклонников Кейт Аткинсон своими резко очерченными характерами и интеллектуальностью текста.
Glamour
Меткий черный юмор, очаровательный герой в лице Броуди, многоплановый талант рассказчика.
Marie Claire
Один из самых блестящих, остроумных авторов нашего времени… В «Повороте к лучшему» все, за что мы так любим Кейт Аткинсон, имеется с избытком: острые, как булавка, наблюдения, мощный комический талант, цепкость к лингвистическому абсурду…
The Scotsman
По литературному мастерству, по яркости и глубине психологических описаний Кейт Аткинсон сегодня нет равных.
Evening Standard
Кейт Аткинсон умеет быть загадочной и смешной, поднимая этот свой дар в каждом новом романе до заоблачных высот.
Sunday Tribune
Как это у нее получается? Аткинсон заставляет читателя то хохотать навзрыд, то рыдать в голос – иногда в пределах одной и той же фразы. Выдающийся триумф, неудержимая радость!
The Boston Sunday Globe
Литературная карьера англичанки Кейт Аткинсон вычертила довольно необычный зигзаг: начав с «просто романов», писательница переместилась в нишу детектива, добилась там колоссального успеха, а затем не моргнув глазом вновь вернулась к «просто романам».
Галина Юзефович
Просто невероятно, насколько книги Кейт Аткинсон полны радости жизни, притом что смерть в них отнюдь не редкая гостья. Безудержная энергия пронизывает ее романы от первой до последней страницы, сплавляя воедино прошлое и настоящее…
Guardian
В шотландской столице фестиваль искусств, балет на каждом балконе, клоуны в прихожей, петарды над ухом, дурдом на выезде. И разные мелкие несуразицы, трещинками разлетевшиеся от мелкого ДТП с участием жлоба с битой и ротвейлером. Закомплексованный автор дамских детективов швыряет в жлоба сумку – и спасает второго водителя от добивания. Симпатичная разведенка-полисвумен, истерзанная любовью к шалому сыну и больному коту, каждые полдня с растущим раздражением возвращается к фигурантам происшествия, никто из которых претензий ни к кому не имеет, но выглядит крайне подозрительно и вообще давно смылся. Затюканная жена авторитетного девелопера прямо на месте аварии узнает, что ее ненаглядный впал в кому в разгар игрищ с русской доминаторшей, – и с этого мига принимается жить заново. А Джексон Броуди, бывший инспектор и неудачливый частный детектив, ныне растерянный нувориш, сопровождающий артистическую подругу с характером, поспотыкавшись о весь этот карнавал, вдруг вылавливает в море труп девушки – и тут же уступает его бешеному приливу.
Первая книга была блестящей, вторая не хуже – хотя Аткинсон, кажется, выполняла формальное упражнение под лозунгом «А могу и наоборот». По большинству параметров и толчковых ног «Поворот к лучшему» является противоположностью «Преступлений прошлого», упираясь в почти Аристотелевы единства сюжета вместо сада расходящихся тропинок.
Текст прекрасен, перевод адекватен, счастье есть. Неистово рекомендую.
Шамиль Идиатуллин
***
Дебби, Глинис, Джудит, Линн, Пенни, Шиле и Тессе
Тем, кто мы были, и тем, кто мы сейчас
Male parta, male dilabuntur.
(Что дурно добыто, то дурно расточится.)
Цицерон. «Филиппики». II, 27
Вторник
1
Он заблудился. Непривычная штука. Обычно он составлял план и четко ему следовал, но сейчас все явно шло против него, и он решил, что просто не мог этого предвидеть. Два часа он тупо простоял в пробке на А1 и в Эдинбург въехал только к полудню. Потом увяз в потоке одностороннего движения и застрял на улице, перекрытой из-за прорванного водопровода. Всю дорогу на север лил неумолимый дождь, который дал слабину только на подъезде к городу, но толпу никак не распугал. Ему даже не пришло в голову, что в Эдинбурге разгар Фестиваля[1] и по городу разгуливают орды праздного народа, словно только что объявили о конце войны. Раньше он сталкивался с Эдинбургским фестивалем, только когда случайно включал «Ночное обозрение», где задроты-интеллигенты обсуждали очередную претенциозную постановку экспериментального театра.
В итоге он очутился в грязном эдинбургском центре, на улочке, которая казалась расположенной ниже уровня остального города, в этаком черном ущелье. От дождя булыжная мостовая стала скользкой и склизкой и ехать приходилось осторожно, потому что улица была забита людьми, которые норовили перебежать на другую сторону или сбивались в кучки прямо посреди дороги, – видимо, им никогда не говорили, что дороги – для машин, а для пешеходов есть тротуары. Во всю длину улицы вытянулась очередь – народ стоял, чтобы пробраться в дыру в стене, напоминавшую пробоину от взрыва, под вывеской: «„Фриндж“. Площадка № 164»[2].
У него в бумажнике лежали водительские права на имя Пола Брэдли. «Пол Брэдли» – легко забываемое имя. От настоящего имени – которое он больше не воспринимал как свое – его уже отделяло несколько других личин. Вне работы он часто (но не всегда) представлялся «Рэй»[3]. Просто и со вкусом. Луч света, луч тьмы. Луч солнца, луч мрака. Ему нравилось менять имена, ускользать как песок сквозь пальцы. Взятый напрокат «пежо» подходил идеально – ничего броского и брутального, машина для простого парня. Простого парня вроде Пола Брэдли. Если бы его спросили, чем он занимается, чем занимается Пол Брэдли, он бы ответил: «Да обычная офисная крыса, бумажки перебираю в бухгалтерии. Тоска зеленая».
Он вел машину и одновременно пытался разобраться в карте Эдинбурга, чтобы понять, как выбраться с этой адской улицы, – и тут кто-то выскочил под колеса. Он таких на дух не переносил – молодой, темные волосы, толстые очки в черной оправе, двухдневная щетина, в зубах сигарета, – в Лондоне они ошивались сотнями, все косили под французских экзистенциалистов-шестидесятников. Он мог бы поспорить, что никто из них в жизни не открывал книги по философии. Сам-то он прочел изрядно философов – Платона, Канта, Гегеля, – даже подумывал получить как-нибудь степень.
Он дал по тормозам, и очкарик не пострадал, только чуть подпрыгнул, как тореадор, уворачивающийся от быка. Парень был в ярости – размахивал сигаретой, орал и показывал ему средний палец. Неприятный тип, никаких манер, – интересно, его родители гордятся плодами своего труда? Он терпеть не мог курение – отвратительная привычка – и терпеть не мог типов, которые показывают тебе палец и орут: «А вот это видал!» – брызгая слюной из грязных, прокуренных ртов.
Он почувствовал глухой удар, примерно такой же силы, как если темной ночью сбить барсука или лису, только удар пришелся сзади, подтолкнув его вперед. Тем лучше, что парень в очках отплясал свой пасодобль и убрался с дороги, иначе его раздавило бы в лепешку. Он посмотрел в зеркало заднего вида. Голубая «хонда-сивик», вылезает водитель, настоящий бугай, глыбы мышц, как у штангиста, – такие сгодятся для спортзала, но на деле пользы от них никакой, они не помогут протянуть три месяца в джунглях или в пустыне. Он и дня бы не протянул в отличие от Рэя. На бугае были уродливые водительские перчатки из черной кожи, с отверстиями на костяшках. Сзади в машине сидела собака, здоровенный ротвейлер, именно такого пса обычно и представляешь с подобным типом. Прямо-таки ходячее клише. Собака заходилась от бешенства, забрызгивая окно слюнями, и скребла когтями по стеклу. Она не особенно его беспокоила. Он умел убивать собак. Рэй вышел из машины и направился к заднему бамперу, чтобы осмотреть повреждения. Водитель «хонды» заорал:
– Ты, мудак тупой, ты соображаешь, чё сделал?
Англичанин. Рэй пытался придумать, что бы сказать, дабы избежать стычки и успокоить этого типа, – тот производил впечатление пароварки, которая вот-вот взорвется, которая хочет взорваться, подпрыгивая, словно выведенный из строя боксер-тяжеловес. Рэй принял нейтральную позу, придал нейтральное выражение лицу, но тут толпа дружно ахнула от ужаса, и он увидел в руке у верзилы ниоткуда взявшуюся бейсбольную биту и подумал: «Черт!»
Это была его последняя мысль на некоторое время. Когда через несколько секунд к нему вернулась способность думать, он валялся на земле, держась за разбитую голову. До него донесся звон стекла – ублюдок обрабатывал окна в его машине. Он попытался – безуспешно – подняться на ноги, но ему удалось лишь встать на колени, будто для молитвы, а бугай уже шагал к нему с занесенной битой, взвешивая ее в руке и собираясь пробить хоумран ему по черепу. Рэй, защищаясь, поднял руку, отчего голова закружилась еще сильнее, и, падая обратно на булыжную мостовую, подумал: «Боже, неужто конец?» Он сдался, на самом деле сдался – прежде с ним такого никогда не бывало, – но тут какой-то человек выступил из толпы, размахнулся и швырнул чем-то квадратным и черным в типа из «хонды», зацепив его за плечо и сбив с ног.
Он снова отключился на несколько секунд, а когда пришел в себя, рядом с ним на корточках сидели две женщины-полицейских, одна из которых говорила: «Просто дышите, сэр», – а другая вызывала по рации «скорую».
Впервые в жизни он обрадовался полиции.
2
Мартин никогда не делал ничего подобного. Он даже мух дома не бил, а терпеливо преследовал и ловил между стаканом и тарелкой, а потом отпускал на волю. Кроткие наследуют землю[4]. Ему было пятьдесят лет, и за всю жизнь он не совершил ни одного акта насилия над другим живым существом, хотя иногда думал, что это скорее из трусости, чем из пацифизма.
Он стоял в очереди и ждал, что кто-нибудь вмешается в ситуацию, но толпа уподобилась зрителю, случайно попавшему на особо жестокую постановку, и не собиралась портить себе развлечение. Да и сам Мартин поначалу подумал, что это очередное представление, не слишком удачная импровизация, цель которой – шокировать или доказать нашу невосприимчивость к шоку, потому что мы уже давно живем в мировом медиасообществе, сделавшем нас пассивными наблюдателями насилия (и так далее). В таком вот ключе мыслила отстраненная, рассудочная часть его мозга. С другой стороны, примитивная его часть думала: «Твою ж мать, какой ужас, пожалуйста, кто-нибудь, прогоните этого головореза». Он не удивился, услышав у себя в голове отцовский голос («А ну соберись, Мартин»). Тот уже много лет как умер, но Мартин до сих пор часто слышал его натренированный на плацу командирский рык. Когда парень из «хонды» покончил со стеклами серебристого «пежо» и направился к его водителю, потрясая битой и готовясь нанести последний, сокрушительный удар, Мартин понял, что лежащий на земле человек сейчас умрет, что сумасшедший с бейсбольной битой убьет его у всех на глазах, если никто ничего не сделает, и инстинктивно, без единой мысли – потому что если бы он подумал, то мог бы этого и не сделать, – он спустил с плеча портфель и размахнулся им, точно метательным молотом, целясь в голову обезумевшего водителя «хонды».
В голову он не попал, что было неудивительно, – он всегда мазал мимо цели, а если в него летел мяч – пригибался, но в портфеле был ноутбук, и его твердый, тяжелый край ударил водителя «хонды» в плечо и сбил с ног.
Ближе к настоящему месту преступления Мартин оказывался лишь однажды – на экскурсии Общества писателей по полицейскому участку Сент-Леонардса[5]. Кроме него, в их группе были только женщины. «Вы у нас за весь сильный пол», – сказала ему одна дамочка, и он почувствовал в вежливом смехе остальных неприкрытое разочарование, словно самое малое, что он мог бы сделать в роли представителя сильного пола, – поменьше походить на женщину.
Им предложили кофе с печеньем, шоколадным с шоколадной прослойкой, и розовыми вафельными сэндвичами – впечатляющий выбор, и «главный полицейский» развлекал их беседой в новом конференц-зале, будто специально устроенном для подобных экскурсий. Потом им показали другие помещения, дежурную часть и пещероподобную комнату, где сидели за компьютерами люди в штатском (как в «NCIS»[6]), – бегло взглянув на «писателей», они решили, что те не стоят внимания, и отвернулись обратно к мониторам.
Они постояли в шеренге, как подозреваемые на опознании, у одной из дам взяли отпечатки пальцев, а потом их заперли – ненадолго – в камере, где все ерзали и хихикали, чтобы притупить чувство клаустрофобии. Мартин тогда подумал, что слово «хихикать», вообще-то, применимо исключительно к женщинам. Женщины хихикают, мужчины – просто смеются. Он забеспокоился, что сам иногда подхихикивает. В конце экскурсии их ждало – точно для них разыгранное – волнующее зрелище: отряд полицейских облачился в защитное снаряжение, чтобы вывести из камеры «трудного» заключенного.
Экскурсия имела мало отношения к книгам, которые Мартин писал под псевдонимом Алекс Блейк. Это были старомодные, сентиментальные детективы, объединенные одной героиней – Ниной Райли, полной энтузиазма девицей, унаследовавшей от дядюшки детективное агентство. Действие происходило в сороковые годы, сразу после войны. Эта историческая эпоха с ее монохромной скудностью и затаенным разочарованием, пришедшим на смену героизму, особенно привлекала Мартина. Вена «Третьего человека», лондонские графства «Короткой встречи»[7]. Каково это было – поднять знамя в битве за правое дело, испытать столько благородных чувств (да, пропаганды хватало, но в изнанке-то была правда), избавиться от бремени индивидуализма? Оказаться на грани краха и поражения и выстоять? И думать: «Ну и что теперь?» Конечно, Нина Райли ничего подобного не испытывала, ей было всего двадцать два, и войну она пересидела в швейцарском пансионе для девочек. И она была книжным персонажем.
Нина Райли всегда была девчонкой-сорванцом, но лесбийских наклонностей не проявляла и постоянно становилась объектом ухаживаний самых разнообразных мужчин, с которыми держалась в высшей степени целомудренно. («Словно, – написал ему „благодарный читатель“, – классическая институтка выросла и стала детективом».) Нина жила в географически неопределенной версии Шотландии, где были и море, и горы, и холмистые вересковые пустоши и откуда она могла быстро добраться до любого крупного шотландского города (а если нужно, то и английского, зато в Уэльсе она не бывала – Мартин подумывал исправить этот недочет) на своем спортивном «бристоле» с откидным верхом. Первая книга о Нине Райли была задумана как поклон ушедшему времени и забытому жанру. «Пастиш, если хотите, – нервно сказал он, когда в издательстве его познакомили с редактором. – Ироничная дань уважения». Мартин был немало удивлен, что его решили печатать. Он писал книгу для собственного развлечения – и вот он уже сидит в безликом лондонском офисе, оправдываясь за эту ерундистику перед молодой женщиной, которой было явно трудно на нем сосредоточиться.
– Как бы там ни было, – заявила она, сделав заметное усилие, чтобы взглянуть на него, – для меня это книга, которую можно продать. Своего рода шарада с убийством. Люди обожают ностальгировать, прошлое – как наркотик. Сколько книг планируется в цикле?
– В цикле?
– Привет.
Мартин обернулся и увидел мужчину, с отработанной небрежностью прислонившегося к дверному косяку. Он был старше Мартина, но одет как молодой парень.
– Привет, – ответила редакторша, глядя на него с самым пристальным вниманием. Их скупой обмен репликами содержал в себе чуть ли не больше подтекста, чем мог вместить. – Нил Уинтерс, наш директор, – сказала она с гордой улыбкой. – Нил, это Мартин Кэннинг. Он написал замечательную книгу.
– Шикарно, – прокомментировал Нил Уинтерс и пожал Мартину руку. Ладонь у него была влажная и мягкая, как дохлая морская тварь на пляже. – Первую из многих, надеюсь.
Через две недели Нила Уинтерса перевели в верхний эшелон головного европейского офиса, и Мартин никогда больше его не видел, но все равно считал, что именно то рукопожатие стало переломным моментом, изменившим его жизнь.
Мартин недавно продал права на телевизионную экранизацию книг о Нине Райли.
– Как будто в теплую ванну залезаешь. Самое то для вечернего воскресного эфира, – сказал продюсер с Би-би-си.
Прозвучало как оскорбление, и, безусловно, это оно и было.
В своем двумерном вымышленном пространстве Нина Райли успела раскрыть три убийства, кражу драгоценностей и ограбление банка, вернуть владельцу скаковую лошадь и предотвратить похищение малолетнего принца Чарльза из Балморала[8], а в шестой раз выйдя на публику, практически в одиночку спасла от грабителей сокровища шотландской короны. Седьмой роман, «Араукария», переизданный в мягкой обложке, сейчас стоял на витринах «3 по цене 2» в каждом книжном. По общему мнению, он получился «мрачнее» («Блейковский нуар наконец стал более зрелым», – написал читатель на «Амазоне». В каждом живет критик), но его агент Мелани утверждала, что книги продаются все так же «бойко».
– Не видать конца и края, – сказала она.
Благодаря ирландскому акценту Мелани все, что бы она ни говорила, звучало приятно, даже если приятным не было.
На частый вопрос, почему он стал писателем, Мартин обычно отвечал, что раз уж он проводит бо́льшую часть времени в своем воображении, то почему бы не получать за это деньги. Он говорил это весело, но без хихиканья, и люди улыбались, словно он удачно пошутил. Они не понимали, что это правда: он жил у себя в голове. Но не в интеллектуальном или философском смысле – его духовная жизнь была весьма заурядна. Он не знал, у всех ли так бывает, проводят ли другие люди время в грезах об улучшенной версии «сегодня». Воображаемая жизнь была редкой темой для разговоров, разве что речь заходила о каком-нибудь высоком искусстве китсианского толка. Никто не сознавался, представляет ли себя в шезлонге на лужайке, под безоблачным летним небом, в предвкушении старомодного послеобеденного чаепития, поданного уютной женщиной со зрелой грудью и в безупречно чистом фартуке, которая говорила: «Давайте-ка доедайте, голубочки мои», потому что именно так, слегка по-диккенсовски, в воображении Мартина выражались уютные женщины со зрелой грудью.
Мир у него в голове был несравненно лучше того, что лежал за ее пределами. Булочки, домашний черносмородиновый джем, топленые сливки. Небесную синеву над головой резали ласточки, маневрируя и пикируя, как пилоты в Битве за Британию[9]. Звук ударов битой по крикетному мячу вдалеке. Запах горячего, крепкого чая и свежескошенной травы. Все это несравненно предпочтительнее типа в ужасном припадке гнева и с бейсбольной битой, не правда ли?
Мартин тащил с собой ноутбук, потому что хоть он и стоял в очереди на дневную комедийную постановку, но на самом деле направлялся (весьма неспешно) в «офис». «Офис» Мартин совсем недавно снял в отремонтированном многоквартирном доме в Марчмонте. Когда-то там был продуктовый магазин, но с некоторых пор это безликое, ничем не примечательное пространство – стены из гипсокартона, ламинатные полы, широкополосный интернет и галогенное освещение – занимало архитектурное бюро, ИТ-консультанты и теперь вот – Мартин. Он снял «офис» в тщетной надежде, что, если каждый день будет уходить из дому, чтобы писать, и соблюдать нормальный рабочий график, как другие люди, это поможет ему преодолеть летаргию, охватившую книгу, над которой он сейчас работал («Смерть на Черном острове»). Но «офис» существовал для него исключительно в кавычках, он был вымышленным понятием, а не местом, где действительно можно чего-то достичь, – и Мартин подозревал, что это плохой знак.
«Смерть на Черном острове» была точно заколдована – сколько бы он ни писал, книга не двигалась с места.
– Нужно изменить название, а то похоже на очередной выпуск «Тинтина»[10], – сказала Мелани.
До того как восемь лет назад он начал печататься, Мартин преподавал историю религии, и по какой-то причине Мелани – на ранней стадии их знакомства – вбила себе в голову (и так этого оттуда и не выбросила), что Мартин когда-то был монахом. Он так и не понял, как она пришла к такому заключению. У него и впрямь имелась преждевременная тонзура из редеющих на макушке волос, но, помимо этого, в его внешности вроде бы не было ничего монашеского. Сколько он ни пытался вывести Мелани из заблуждения, она по-прежнему считала монашеский опыт самым интересным фактом его биографии. Мелани поделилась этой дезинформацией с его издателем, который, в свою очередь, поделился ею со всем миром. Она попала в официальные документы, в газеты и в интернет, и не важно, сколько раз Мартин повторял журналистам: «Нет, на самом деле я никогда не был монахом, это ошибка», они продолжали строить на этом интервью: «Блейк испытывает неловкость при упоминании о его церковном прошлом». Или: «Алекс Блейк отказался от своего раннего религиозного призвания, но в нем все равно осталось что-то монашеское». И так далее в том же духе.
«Смерть на Черном острове» казалась Мартину еще более банальной и шаблонной, чем его прежние книги, из тех, что читаешь перед сном или на пляже, в больнице, поезде или самолете и тут же забываешь. С тех пор как он придумал Нину Райли, он писал по книге в год и просто-напросто выдохся. Они брели, едва переставляя ноги, автор и его блеклое творение, застряв в одной колее. Что, если им так и не удастся избавиться друг от друга и ему придется вечно писать о Нининых бессмысленных эскападах? Он превратится в старика, а ей по-прежнему будет двадцать два, и он выжмет всю жизнь до капли из них обоих.
– Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, – заявила Мелани, – это называется «разрабатывать золотую жилу», Мартин.
Или «выдаивать денежную корову досуха» – так сказал бы кто-нибудь другой, кому не полагались пятнадцать агентских процентов. Он подумывал, не пора ли сменить псевдоним или, еще лучше, воспользоваться своим собственным именем и написать что-нибудь другое, что-нибудь осмысленное и стоящее.
Отец Мартина был кадровым военным, старшиной роты, но сам Мартин избрал в жизни подчеркнуто невоинственный путь. Они с братом Кристофером учились в маленькой англиканской школе-интернате, где сыновья военных жили в спартанских условиях, лишь немногим лучше, чем в работном доме. Покинув это царство холодного душа и бега по пересеченной местности («Мы превращаем мальчиков в мужчин»), Мартин поступил в заурядный университет, где получил не менее заурядную степень по религиоведению, потому что это был единственный предмет, по которому он хорошо сдал экзамены, – спасибо неуклонной принудительной долбежке Библии, избавлявшей юношей в интернате от опасного свободного времени.
После университета он решил получить дополнительное педагогическое образование, чтобы дать себе время подумать, чем он «на самом деле» хотел бы заняться. Вообще-то, он не собирался становиться учителем, и уж конечно не учителем религиоведения, но так или иначе обнаружил, что к двадцати двум годам совершил в жизни полный круг и очутился в маленьком частном интернате в Озерном крае, где преподавал историю религии мальчишкам, провалившим вступительные экзамены в школы получше и интересовавшимся, судя по всему, исключительно регби и мастурбацией.
Хотя Мартин и считал, что родился «человеком средних лет», он был всего на четыре года старше самых старших своих учеников, и то, что он чему-то их учит, особенно религии, казалось смехотворным. Конечно, ученики не видели в нем молодого человека, для них он был нудным «старпером». Жестокие, грубые мальчишки с неплохими шансами вырасти в жестоких, грубых мужиков. По представлению Мартина, их готовили к тому, чтобы заполнить скамьи рядовых членов палаты общин от партии тори, и он считал своим долгом познакомить их с понятием нравственности, пока не стало слишком поздно, хотя, к сожалению, для большинства из этих ребят «поздно» уже наступило. Сам Мартин был атеистом, но допускал, что однажды обретет веру – пелена вдруг спадет, и сердце его откроется, – хотя, скорее всего, он обречен на вечный путь по дороге в Дамаск, дороге самой исхоженной.
Мартин старался, насколько позволяла программа, игнорировать христианство, делая основной упор на этику, сравнительную историю религий, философию, социологию (в общем, на все, кроме христианства). Если у какого-нибудь фашиствующего родителя, регбиста-англиканца, возникали претензии, он заявлял, что это его вклад в «развитие понимания и духовности». Он тратил уйму времени, рассказывая своим ученикам об основах буддизма: методом проб и ошибок он обнаружил, что это самый действенный способ влезть к ним в мозги.
Он думал: «Попреподаю немного, а потом поеду путешествовать, или выучусь на кого-нибудь другого, или найду работу поинтереснее, и начнется новая жизнь», но жизнь текла по-прежнему, и он чувствовал, нить ее разматывается в никуда и становится все тоньше, и сознавал, что если ничего не сделает, то останется там навсегда, с каждым годом становясь все старше своих учеников, пока не выйдет на пенсию и не умрет, проведя почти всю жизнь в интернате. Он знал, что должен действовать сам, он не из тех, с кем все просто случается. Его жизнь проживалась на нейтральной передаче: он никогда не ломал ни руки, ни ноги, его никогда не жалила пчела, он не бывал близок ни к любви, ни к смерти. Никогда не стремился к величию и получил в награду скромное существование.
Вот-вот стукнет сорок. Он был пассажиром экспресса, летящего навстречу смерти, – ему всегда служили утешением несколько лихорадочные метафоры, – когда записался на литературные курсы в рамках образовательной программы для сельской местности. Занятия проходили в сельском клубе, их вела сомнительной квалификации дама по имени Дороти, которая приезжала из Кендала. На счету Дороти была пара рассказов, опубликованных в каком-то северном литературном журнале, публичные чтения и семинары («книги в работе»), а также не имевшая успеха пьеса о женщинах в жизни Мильтона («Женщины Мильтона»), поставленная на эдинбургском «Фриндже». От одного упоминания об Эдинбурге Мартина охватила острая ностальгия по городу, которого он практически не знал. Его мать была уроженкой шотландской столицы, и он провел там три первых года своей жизни, когда его отец служил в Замке[11]. Однажды, подумал он, пока Дороти тараторила про форму и содержание и необходимость «найти собственный голос», – однажды он вернется в Эдинбург и будет там жить.
– И читать! – воскликнула она, широко раскинув руки, отчего ее необъятная бархатная накидка разошлась в стороны крыльями летучей мыши. – Читать все, что когда-либо было написано.
По классу прокатился мятежный ропоток – они пришли сюда учиться писать (по крайней мере некоторые из них), а не читать Дороти просто кипела энтузиазмом. Она красила губы красной помадой, носила длинные юбки и яркие шарфы и шали, которые закалывала большими оловянными или серебряными брошками, ботильоны на каблуке, черные чулки с ромбами и забавные шляпы из мятого бархата. Так было в начале осеннего семестра, пока Озерный край щеголял своим кричащим убранством, но, когда на смену пришла грязно-серая зимняя сырость, Дороти облачилась в менее театральные резиновые сапоги и флисовую куртку. В ее поведении театра тоже поубавилось. В начале семестра она часто упоминала своего «коллегу», писателя, который преподавал где-то литературу, но с приближением Рождества перестала о нем говорить, и красная помада сменилась грустно-бежевой, под тон ее кожи.
Они тоже обманули ее надежды, разношерстная кучка пенсионеров, фермерских жен и тех, кто хотел изменить свою жизнь, пока не стало слишком поздно. «Никогда не бывает слишком поздно!» – заявляла она с пылом проповедника, но большинство из них понимали, что иногда – бывает. В группе был один хмурый, довольно высокомерный тип, писавший – в хьюзовской манере[12] – о хищных птицах и мертвых овцах на склонах гор. Мартин решил, что он по сельскохозяйственной части – фермер там или егерь, – но тот оказался уволенным по сокращению геологом-нефтяником, который перебрался на Озера и замаскировался под местного. Была девушка, по виду студентка, которая презирала всех по-настоящему. Она красилась черной помадой (резковатый контраст с бежевыми губами Дороти) и писала о собственной смерти и о том, как ее кончина повлияет на окружающих. Еще была пара милых дамочек из Женского института[13] – те, казалось, вовсе ничего не хотели сочинять.
Дороти побуждала их изливать свои тревоги и страхи в исповедальных автобиографических эссе, терапевтических текстах о детстве, мечтах, депрессиях. Вместо этого они писали о погоде, отпусках, животных. Хмурый тип написал о сексе, и все как один вперили глаза в пол, пока он читал вслух, только Дороти слушала с вежливым интересом, склонив набок голову и растянув губы в поощрительной улыбке.
– Ладно, – сдалась она, – вот вам домашнее задание. Напишите о том, как ходили в поликлинику или лежали в больнице.
Мартин недоумевал, когда же они примутся за художественную прозу, но педагог в нем откликнулся на слова «домашнее задание», и он добросовестно его выполнил.
Дамы из Женского института разразились сентиментальными эссе о том, как навещали в больнице стариков и детей.
– Прелестно, – сказала Дороти.
Хмурый тип в кровавых деталях описал операцию по удалению аппендикса.
– Энергично, – отметила Дороти.
Несчастная девица написала, как попала в больницу в Барроу-ин-Фёрнессе после попытки вскрыть себе вены.
– Жаль, не задалась попытка, – буркнула одна из фермерских жен, сидевшая рядом с Мартином.
Сам Мартин загремел в больницу один раз в жизни, в четырнадцать, – в свое время он обнаружил, что каждый новый год отрочества сулит новый ад. По пути домой из города он проезжал мимо парка аттракционов. Отец тогда служил в Германии, и Мартин с братом Кристофером проводили там летние каникулы, отдыхая от интернатской муштры. Тот факт, что парк аттракционов немецкий, делал его в глазах Мартина еще более ужасным местом. Он не знал, куда делся после обеда Кристофер, – наверное, играл в крикет с ребятами с базы. Раньше Мартин видел парк только вечером, когда огни, запахи и крики сливались в жутковатое видение, которое с удовольствием написал бы Босх. При дневном свете там было не так страшно, и у него в голове, по (печальному) обыкновению, раздался зычный отцовский голос: «Посмотри страху в лицо, сын!» Поэтому он заплатил за вход и принялся с осторожностью обходить аттракционы, потому что боялся он на самом деле не атмосферы – он боялся кататься. Когда он был помладше, его тошнило даже от качелей во дворе.
Он выскреб из кармана мелочь и купил в киоске Kartoffelpuffer. Его познания в немецком были скудными, но в Kartoffel он не сомневался. Оладушек оказался жирным и почему-то сладким и осел в желудке свинцовой тяжестью, так что отцовский голос выбрал крайне неудачное время для появления – как раз когда Мартин проходил мимо огромного раскачивающегося корабля. Он не знал, как такой аттракцион называется у немцев, но по-английски это был «Пиратский корабль».
«Пиратский корабль» взмывал вверх и падал, вычерчивая в небе огромную, невероятную параболу, по той же траектории летели вопли его пассажиров. Одна мысль о нем, не говоря об осязаемой реальности перед глазами, отзывалась у Мартина в груди чистым ужасом, потому он швырнул остатки Kartoffelpuffer в урну, купил билет и поднялся на борт.
Из гражданской Krankenhaus его забирал отец. В больницу Мартина отвезли после того, как нашли на полу «Пиратского корабля» ослабевшим и почти без сознания. Это не был какой-то невроз, и о трусости речь не шла, просто оказалось, что у него повышенная чувствительность к перегрузке. Врач рассмеялся и сказал на безупречном английском: «Мой тебе совет, не записывайся в летчики-истребители».
Отец прошел мимо больничной койки, не узнав его. Мартин ему помахал, но руки сына, слабо трепыхающейся над одеялом, тот не видел в упор. В конце концов кто-то из медсестер указал ему на нужную койку. Отец был в форме и смотрелся в больничной палате неуместно. Он навис над Мартином и произнес: «Педрила долбаный. Возьми себя в руки».
– Некоторые вещи не имеют никакого отношения к слабости характера. С чем-то человек не способен справиться просто в силу своей конституции, – закончил Мартин. – Но это было в другой стране, в другой жизни.
– Очень хорошо, – сказала Дороти.
– Пресновато, – заявил хмурый тип.
– Вся моя жизнь пока что была пресновата, – сказал Мартин.
На последнее в семестре занятие Дороти принесла несколько бутылок вина, крекер «Ритц» и кусок красного чеддера. Бумажные стаканчики и тарелки они позаимствовали на клубной кухне. Дороти подняла стакан и изрекла: «Ну что, мы выжили», – странный тост. «Будем надеяться, – продолжала она, – что весной мы все встретимся снова». То ли дело было в неотвратимо грядущем Рождестве, то ли в развешенных по клубу шариках и гирляндах из фольги, а может, и впрямь в непривычной мысли о выживании, но их накрыло волной особенно праздничного настроения. Даже хмурый тип и суицидальная девица поддались общему веселью. Из рюкзаков и сумок появились еще бутылки вина – ученики не знали, будет ли вечеринка, но подготовились.
На следующее утро Мартин проснулся в Кендале, в постели Дороти, – эта неожиданность явилась результатом взаимодействия всех факторов, но главным образом дело было в вине.
Дороти была бледная, под глазами мешки. Она натянула на себя одеяло со словами: «Не смотри на меня, я похожа на пугало». Выглядела она действительно неважно, но Мартин никогда бы ей этого не сказал. Ему захотелось спросить, сколько ей лет, но он подумал, что это прозвучит еще хуже.
Потом, за дорогим ужином в отеле с видом на озеро Уиндермир – Мартин был уверен, что они оба это заслужили, пережив больше, чем просто литературный курс, – она подняла бокал отличного кремнистого шабли:
– Знаешь, Мартин, ты – единственный из всего класса, кому удается так составлять слова, чтобы блевать не тянуло, прости за безличный глагол. Тебе нужно стать писателем.
Мартин ждал, что водитель «хонды» поднимется и начнет рыскать в толпе в поисках обидчика, метнувшего снаряд. Он попытался раствориться в очереди, притвориться, что не существует. Закрыл глаза. Он делал так в школе, когда его задирали, цепляясь за древнюю, отчаянную магию: они не тронут тебя, если ты их не видишь. Он представил, как водитель «хонды» направляется в его сторону с высоко поднятой бейсбольной битой, готовой выписать смертоносную дугу.
К своему изумлению, открыв глаза, он увидел, что водитель «хонды» садится в машину. Когда тот покатил прочь, несколько человек в толпе медленно захлопали. Мартин не был уверен, выражали они порицание водителю «хонды» или разочарование тем, что он не довел дело до конца. Публика, в общем, попалась придирчивая.
Мартин опустился на колени и спросил у водителя «пежо»: «Вы как, в порядке?» – но тут его вежливо, но твердо оттерли в сторону две женщины в полицейской форме, взявшие происшествие под контроль.
3
Глория не видела, что там случилось. К тому времени как слух пересчитал все позвонки очереди, его словно пропустили через «испорченный телефон»: «Кого-то убили». «Небось кто-то попытался пролезть без очереди», – уверенным тоном заявила она стоявшей рядом трещотке Пэм. Глория проявляла в очередях стоическое спокойствие, и ее раздражали те, кто вертелся и жаловался, как будто эта нетерпеливость в какой-то мере отражала их личные качества. Очереди – как жизнь, прикусываешь язык и тянешь лямку. Какая жалость, что она родилась слишком поздно и не застала Вторую мировую, – она обладала именно той несгибаемостью духа, которая позволяла выстоять в военное время. В современном мире, по мнению Глории, стоицизм как добродетель сильно потерял в цене.
Она вполне понимала, почему кому-то могло захотеться убить наглеца. Дай ей волю, она бы, недолго думая, казнила уже целую толпу народа – например, тех, кто мусорит на улице; люди точно бы подумали дважды, прежде чем бросать фантик себе под ноги, если бы за это вздергивали на ближайшем фонарном столбе. Когда-то Глория была противницей смертной казни, в годы так быстро пролетевшей учебы в университете она даже ходила на демонстрацию против казней в какой-то далекой стране, которую не смогла бы найти на карте, – но теперь ее чувства приобрели совсем другое направление.
Глория любила правила, правила – это хорошо. Ей нравились правила, гласившие, что нельзя превышать скорость и парковаться на двойных желтых линиях, правила, запрещавшие бросать мусор и разрисовывать здания. Ей опротивело слушать, как люди жалуются на камеры контроля скорости и инспекторов дорожного движения, – можно подумать, правила не одинаковы для всех. Когда она была моложе, она мечтала о сексе и любви, о том, чтобы разводить кур или пчел, быть выше ростом, бегать по полям с черно-белой бордер-колли. Теперь она грезила о том, как станет привратницей, будет держать в руках судьбоносный список и вычеркивать из него имена умерших, одних впуская, другим давая от ворот поворот. Все те, кто паркуется в автобусных карманах или газует по зебре на красный свет, горько пожалеют об этом, когда Глория уставится на них поверх очков и призовет к ответу.
Глория не считала Пэм подругой, просто они были так давно знакомы, что она уже отказалась от попыток избавиться от нее. Пэм была женой Мёрдо Миллера, ближайшего друга мужа Глории. Грэм с Мёрдо ходили в одну школу в Эдинбурге, дорогое образование придало светский лоск их, в общем-то неотесанным, натурам. Теперь оба были намного богаче своих однокашников, – по словам Мёрдо, этот факт «говорил сам за себя». Глория полагала, что это не говорило ни о чем, кроме, возможно, того, что они оказались более жадными и безжалостными, чем их одноклассники. Сын строителя («Жилье от Хэттера»), Грэм начинал карьеру, таская носилки с кирпичами на одной из небольших отцовских строек. Теперь он был застройщиком с многомиллионными доходами. Мёрдо был сыном владельца маленькой охранной фирмы («Охранные услуги Хейвена») и начинал вышибалой в пабе. Теперь он заправлял крупным охранным бизнесом: клубы, пабы, футбольные матчи, концерты. У Грэма с Мёрдо было много общих деловых интересов, самых разнообразных, имевших мало отношения к строительству или охране и требовавших встреч на Джерси, Кайманах, Виргинских островах. Грэм запустил пальцы в такое количество пирогов, что ему уже давно не хватало пальцев. «Бизнес рождает бизнес, – объяснял он Глории, – деньги делают деньги». Богатые богатеют, бедные беднеют.
И Грэм, и Мёрдо жили, как того требовала респектабельность: слишком большие дома, машины, которые они каждый год меняли на новые, жены, которых они не меняли. Они носили ослепительно-белые рубашки и туфли ручной работы, у обоих была больная печень и безмятежная совесть, но под своими стареющими шкурами они оставались варварами.
– Я тебе говорила, что мы переделали ванную на первом этаже? – спросила Пэм. – Ручная роспись по трафарету. Сперва я сомневалась, но теперь мне очень даже нравится.
– Гм, – ответила Глория. – Потрясающе.
Идея посетить дневную радиопостановку («„Фриндж“. Комедийное шоу») принадлежала Пэм, и Глория составила ей компанию в надежде, что по крайней мере один из комиков окажется смешным, хотя иллюзий она не питала. В отличие от иных эдинбуржцев, которые сравнивали ежегодное пришествие Фестиваля с эпидемией чумы, Глории нравилась его атмосфера, и она с удовольствием ходила на спектакль-другой или концерт в Квинс-холле. Насчет комедии она не была так уверена.
– Как дела у Грэма? – поинтересовалась Пэм.
– Ну как, – замялась Глория, – Грэм есть Грэм.
Такова правда, Грэм был Грэмом, и Глория не могла бы сказать о муже ни больше ни меньше.
– Там полицейская машина, – заметила Пэм, встав на цыпочки, чтобы было лучше видно. – На земле кто-то лежит. Вроде мертвый. – Ее голос задрожал от волнения.
В последнее время Глория много размышляла о смерти. В начале года умерла ее старшая сестра, а несколько недель назад она получила открытку от старой университетской подруги, извещавшую, что одна их сокурсница недавно скончалась от рака. Сообщение: «На прошлой неделе умерла Джилл. Первая пошла!» – показалось ей чересчур бойким. Глории было пятьдесят девять; интересно, кто «пойдет» последним, думала она, и можно ли считать это соревнованием.
– Полицейские – женщины, – радостно прощебетала Пэм.
Сквозь толпу осторожно протиснулась «скорая». Очередь существенно подтянулась, и теперь им было видно патрульную машину. Одна из полицейских кричала собравшимся, чтобы не заходили в здание, а оставались на месте, потому что нужны показания свидетелей «происшествия». Толпа, глухая к ее воззваниям, продолжала медленно просачиваться в здание.
Глория выросла на севере страны. Ларри, ее отец, человек брюзгливый, но серьезный, продавал страховые полисы, обивая пороги тех, кто не мог позволить себе страховку. Сейчас, наверное, уже никто таким не занимается. Собственное прошлое казалось Глории антикварной редкостью, виртуальным пространством, воссозданным в музее будущего. Когда отец бывал дома, а не таскал свой ветхий портфель от одного негостеприимного порога к другому, он заваливался в кресло у камина и глотал детективы, неспешно потягивая пиво из полпинтовой стеклянной кружки. Ее мать, Тельма, работала на полставки в местной аптеке. На работе она носила белый халат до колена, компенсируя его медицинскую природу крупными позолоченными серьгами с жемчугом. Она заявляла, что по роду службы посвящена в интимные секреты всех и каждого, но, по наблюдению юной Глории, мать целыми днями торговала ортопедическими стельками и ватой и отрывалась только на Рождество, украшая витрину мишурой и подарочными наборами от «Ярдли»[14].
Родители Глории вели однообразную, вялую жизнь, которую вряд ли могли скрасить позолоченные серьги с жемчугом и детективные романы. Глория считала, что ее жизнь будет совершенно другой – что на нее снизойдет слава (как и предполагало ее имя), что она будет сиять изнутри и снаружи и прочертит пламенный след, подобно комете. Но увы!
Берил и Джок, родители Грэма, не многим отличались от родителей Глории: у них было больше денег и они дальше продвинулись по социальной лестнице, но они так же мало ждали от жизни. Они жили в симпатичном «эдинбургском бунгало» в Корсторфине, где у Джока была относительно небольшая строительная компания, приносившая хороший доход. Сам Грэм посвятил год изучению премудростей гражданского строительства в Нейпире[15] («идиотская трата времени»), а затем начал работать с отцом. Не прошло и десяти лет, как он стал председателем совета директоров целой империи – «Жилье от Хэттера. Реальные дома для реальных людей». Этот слоган много лет назад придумала сама Глория и теперь очень об этом жалела.
Грэм с Глорией поженились в Эдинбурге, а не в ее родном городе (в Эдинбурге она училась), и ее родители приехали на свадьбу, купив дешевые обратные билеты на тот же день, и уехали сразу же после того, как молодые разрезали торт. Мать Грэма готовила этот торт на Рождество и наспех переделала в свадебный. Берил всегда пекла рождественский торт в сентябре, заворачивала в белые тканевые салфетки и оставляла «доходить» в кладовой, каждую неделю осторожно разворачивая и окропляя крестильным бренди. К Рождеству белые салфетки приобретали оттенок красного дерева. Берил переживала насчет торта, поскольку до его «рождения» было еще далеко (они поженились в конце октября), но собрала волю в кулак и украсила его марципаном и королевской глазурью, как обычно, а на почетное место снеговика водрузила пластмассовых жениха с невестой, застывших в неубедительном вальсе. Все считали, что Глория беременна (это было не так), мол, с чего бы иначе Грэму на ней жениться.
Возможно, родителей смутило их решение пожениться в муниципалитете. «Но мы же с тобой не христиане, Глория», – сказал Грэм, и был прав. Сам он – воинствующий атеист, Глория, на четверть еврейка из Лидса, на четверть ирландская католичка, воспитанная в Западном Йоркшире в баптистской вере, – пассивный агностик, хотя когда два года назад она удаляла шишку на стопе в Мюррейфилде, то в больничной анкете, за неимением лучшего, в графе «вероисповедание» написала «Шотландская церковь»[16]. Если она и представляла себе Бога, то в виде некой абстрактной сущности, что ошивалась у нее за левым плечом, как надоедливый попугай.
Давным-давно Глория сидела за барной стойкой в пабе на мосту Георга IV в Эдинбурге, на ней (каким бы невероятным это сейчас ни казалось) была вызывающая мини-юбка, она вдумчиво курила «Эмбасси», пила джин с апельсиновым соком и надеялась, что хороша собой, а вокруг бушевала горячая студенческая дискуссия о марксизме. Тим, ее тогдашний парень, – долговязый юноша, носивший афро еще до того, как афро вошли в моду и у белых, и у черных, – кричал больше всех и принимался размахивать руками всякий раз, когда произносил «товарный обмен» или «норма прибавочной стоимости», пока Глория потягивала свой коктейль и кивала с умным видом, надеясь, что никому не придет в голову потребовать от нее участия в разговоре, потому что она не имела ни малейшего понятия, о чем речь. Она была на втором курсе, изучала историю, но относилась к предмету довольно равнодушно, пренебрегая политикой (Абротской декларацией и Клятвой в зале для игры в мяч[17]) в пользу романтики (Роб Рой, Мария-Антуанетта) и не особенно нравясь преподавателям.
Фамилию Тима она уже не помнила, в памяти осталось только великолепное облако его волос, словно головка отцветшего одуванчика. Тим заявил собравшимся, что теперь они все – рабочий класс. Глория нахмурилась, ей не хотелось быть рабочим классом, но окружающие согласно забормотали – хотя все до единого были отпрысками врачей, адвокатов или бизнесменов, – и тут громкий голос произнес: «Дерьмо это все. Без капитализма вас бы всех здесь не было, капитализм спас человечество». Это был Грэм.
Он был в дубленке, какие носили торговцы подержанными автомобилями, и пил пиво в одиночку в углу бара. Он казался взрослым мужчиной, хотя ему не исполнилось и двадцати пяти – что тоже не возраст, теперь понимала Глория. А потом он допил пиво, повернулся к ней и сказал: «Ты идешь?» – и она соскользнула с табурета и последовала за ним как собачонка, потому что он был таким властным и привлекательным по сравнению с тем, чья голова похожа на одуванчик.
И вот всему этому подходил конец. Вчера в головной офис «Жилья от Хэттера» на Квинсферри-роуд нанес неожиданный, но вежливый визит отдел по борьбе с мошенничеством, и Грэм опасался, что они вот-вот заберутся в самые неприбранные закоулки его бизнеса. Он вернулся домой поздно, совершенно убитый, опрокинул двойной «Макаллан», даже не почувствовав вкуса, плюхнулся на диван и слепо уставился в телевизор. Глория поджарила ему баранью отбивную с оставшейся от обеда картошкой и спросила: «Они что, нашли твою черную бухгалтерию?» – и он мрачно рассмеялся: «Им никогда до меня не добраться, Глория», но впервые за те тридцать девять лет, что Глория его знала, в его голосе не было уверенности. Они сели ему на хвост, и он это знал.
Во всем было виновато то поле. Он купил участок в лесопарковой зоне без разрешения на застройку. Земля досталась ему задешево – в конце концов, без разрешения на строительство это всего лишь поле, – но потом оп! – и шести месяцев не прошло, как разрешение было получено, и теперь на северо-восточной окраине города строился уродливый район из «семейных домов» о двух, трех и четырех спальнях.
Всего-то и потребовался увесистый куш кое-кому в департаменте – Грэм проворачивал подобные сделки сотни раз, «подмазывая шестерни», по его выражению. Для Грэма это был пустяк, его грязные дела простирались далеко за пределы зеленого поля на городской окраине. Но больших людей часто губят именно пустяки.
Как только «скорая» с водителем «пежо» скрылась из виду, полицейские начали опрашивать толпу. «Будем надеяться, что получим что-нибудь с камер наблюдения», – сказала одна из них, указывая на камеру, которой Глория не заметила, высоко на стене. Глории нравилось, что все и везде находятся под наблюдением. В прошлом году Грэм установил у них в доме новую суперсовременную охранную систему – камеры, инфракрасные датчики, кнопки тревоги и бог знает что еще. Глория обожала этих маленьких роботов-помощников, неусыпно охранявших ее сад. Когда-то за людьми следило Божье око, теперь – объективы камер.
– С ним была собака. – Пэм нервно взъерошила абрикосового оттенка волосы.
– Собаку помнят все, – вздохнула офицер. – У меня есть несколько очень подробных описаний собаки, а вот с водителем «хонды» – кто во что горазд: «смуглый», «светлокожий», «высокий», «маленький», «тощий», «толстый», «слегка за двадцать», «под пятьдесят». Никто даже не записал номер его машины, уж это-то можно было догадаться сделать.
– Да, – согласилась Глория. – Можно было бы догадаться.
На радиопостановку Би-би-си они уже опоздали. Пэм была в восторге оттого, что вместо комедии их развлекла драма.
– А в четверг у меня Книжный фестиваль, – сказала она. – Ты уверена, что не хочешь пойти?
Пэм была фанаткой какого-то детективщика, который участвовал в чтениях на Книжном фестивале. Глория к детективам относилась без энтузиазма. Они высосали жизнь из ее отца, и потом, разве в мире и без того мало преступлений? Зачем их еще и выдумывать?
– Это просто способ убежать от действительности, – защищаясь, сказала Пэм.
Глория считала, что, если тебе нужно убежать от действительности, садись в машину и кати прочь. Любимым романом Глории неизменно оставалась «Анна из Зеленых Мезонинов»[18], в юности книга олицетворяла для нее пусть и идеальный, но по-прежнему осуществимый способ бытия.
– Можем посидеть где-нибудь и попить чайку, – предложила Пэм, но Глория отказалась, сославшись на «дела дома». – Какие еще дела? – спросила Пэм.
– Просто дела, – ответила Глория.
Она участвовала в аукционе на «Ибэе» на пару борзых из стаффордширского фарфора. Лот закрывался через два часа, и она хотела успеть домой вовремя.
– Какая ты секретница, Глория.
– Вовсе нет.
4
Белую площадку неожиданно озарили яркие вспышки, отчего окружающий мрак показался еще чернее. С разных сторон вышли шесть человек. Они двигались быстро, пересекаясь друг с другом, как солдаты, выполняющие сложные построения на плацу. Один остановился и принялся размахивать руками и вращать плечами, словно готовясь к энергичным физическим упражнениям. Все шестеро затараторили всякую чушь. «Необыкновенный Нью-Йорк, необыкновенный Нью-Йорк, необыкновенный Нью-Йорк», – произнес мужчина, и женщина ответила: «Резиновый младенец с розовым леденцом, резиновый младенец с розовым леденцом», попутно выделывая что-то похожее на тайцзи. Мужчина, размахивавший руками, теперь обращался к пустоте, тараторя на одном дыхании: «Не спится вам. Так мышь заснула б вряд ли, коль ей пришлось бы ночевать в кошачьем ухе. Коль у младенца зубки режутся, он спит тревожно. Но вас тревога сильнее гложет»[19]. Бредущая, как сомнамбула, женщина резко остановилась, выдохнув: «Пушистые щеночки шебуршатся, пушистые щеночки шебуршатся». Они напоминали обитателей старинного сумасшедшего дома.
Из темноты в квадрат света шагнул мужчина, хлопнул в ладоши и заявил:
– Отлично, если все разогрелись, может, попробуем в костюмах?
Джексон подумал, не пора ли заявить о своем присутствии. Актеры – «труппа» – все утро занимались техническим прогоном. После обеда у них была запланирована генеральная репетиция, и Джексон надеялся, что в перерыв ему удастся пообедать с Джулией, но актеры уже нарядились в коричнево-серые рубахи, напоминавшие мешки для картошки. От их вида у него упало сердце. Театром для Джексона – хотя он никогда не признался бы в этом никому из них – была хорошая пантомима, желательно в компании восторженного ребенка.
Актеры приехали вчера, отрепетировав в Лондоне три недели кряду, и прошлым вечером в пабе Джексон наконец с ними познакомился. Они все пришли в экстаз – одна женщина, старше Джексона, запрыгала на месте как маленькая, а другая (их имена он уже позабыл) театрально упала перед ним на колени, воздев руки в молитве, и воскликнула: «Спаситель наш!» Джексон съежился от неловкости, он понятия не имел, как обращаться с экзальтированными персонами, в их присутствии он чувствовал себя слишком здравомыслящим и взрослым. Джулия стояла в сторонке (редкий случай) и приняла его неловкость к сведению, подмигнув ему – вроде бы распутно, хотя он не был уверен. Недавно (хватит увиливать) он признался себе, что нуждается в очках. Начало конца, отныне жизнь идет под уклон.
Джексон вошел в жизнь этой маленькой антрепризной труппы из Лондона, когда в последний момент они лишились финансирования и их выступление на эдинбургском «Фриндже» оказалось под угрозой срыва. Вовсе не из любви к театру, а потому, что Джулия обхаживала и улещивала его со своей обычной и совершенно излишней чрезмерностью, хотя ей достаточно было бы просто попросить. Это была первая настоящая роль, которую ей предложили за долгое время, он даже начинал спрашивать себя (не ее, боже упаси), почему она называет себя актрисой, если практически не играет. Когда Джулия решила, что потеряет роль из-за недостатка средств на постановку, она впала в столь несвойственное ей глубокое уныние, что Джексон счел себя обязанным ее поддержать.
Пьеса «Поиски экватора в Гренландии» была переведена с чешского (или словацкого, Джексон не вслушивался в детали) и являлась произведением экзистенциалистского, абстракционистского и совершенно невнятного толка. В ней не было ничего ни про экватор, ни про Гренландию (ни про поиски, если уж на то пошло). Джулия взяла с собой сценарий во Францию и заставила Джексона его прочесть. Она смотрела, как он читает, и каждые десять минут спрашивала: «Ну как тебе?» – будто он что-то понимал в театре. А это было не так.
– Вроде… ничего, – промямлил он.
– Так мне соглашаться?
– Боже, конечно! – выпалил он чересчур поспешно.
Прокручивая тот разговор в памяти, он понял, что она и не помышляла отказываться от роли, и спросил себя, не знала ли она с самого начала, что со средствами на постановку будет туго, и поэтому хотела, чтобы он чувствовал себя причастным? У нее вовсе не было привычки манипулировать людьми, скорее наоборот, но иногда она проявляла удивительную предусмотрительность.
– А если у нас будет аншлаг, ты вернешь свои деньги, – ободрила она, когда он предложил помочь. – И может, даже с прибылью.
«Размечталась», – подумал Джексон, но вслух ничего не сказал.
«Наш ангел-спаситель» – так Тобиас, режиссер, назвал его прошлым вечером, сжав в двусмысленных объятиях. Тобиас был голубее неба. Джексон ничего не имел против геев, ему просто хотелось, чтобы они не выпячивали так свою ориентацию, особенно когда знакомятся с ним – вот так удача! – в благопристойном и старомодном шотландском пабе, куда ходят настоящие мужики. «Спаситель», «ангел» – столько религиозных словечек от людей, которые никакого отношения к религии не имели. Джексон не видел в себе ничего ангелоподобного. Он обычный парень. Парень, который богаче их.
Джулия заметила его и подозвала жестом. Она раскраснелась, левое веко у нее дергалось – все симптомы того, что она на полном взводе. С полустертой помадой, замотанная в рубище, она была совсем на себя не похожа. Джексон понял, что утро у нее не заладилось. Тем не менее она улыбнулась и крепко его обняла (что ни говори, Джулия – настоящий боец сценического фронта), и он прижал ее к себе, ощутив на лице ее влажное, частое дыхание. Помещение, где временно обосновался их театр, находилось в подвале, в самом брюхе векового здания, изрезанного сырыми каменными коридорами, разбегавшимися во всех направлениях, и Джексон беспокоился, как бы Джулию здесь не настигла чахотка.
– Значит, с обедом не получится?
Она покачала головой:
– Мы даже не закончили толком технический прогон. Будем работать без обеда. Что делал утром?
– Гулял, зашел в один музей и в камеру-обскуру. Посмотрел могилу Францисканского Бобби…[20]
– Ох.
Джулия сразу погрустнела. При упоминании о собаке, любой собаке, ее всегда захлестывали эмоции. Если речь шла о мертвом псе, эмоциональный градус сильно подскакивал. Ну а мертвый и верный пес – это уже было выше ее сил.
– Я засвидетельствовал ему твое почтение, – сказал Джексон. – Еще я посмотрел новое здание парламента.
– И как оно?
– Даже не знаю. Новое. Странное. – Он видел, что она его не слушает. – Мне остаться?
Она запаниковала:
– Я не хочу, чтобы ты увидел спектакль раньше допремьерного показа для прессы. Он еще сыроват.
Джулия всегда высказывалась о работе с оптимизмом, так что «сыроват» следовало понимать как «ни к черту». Оба не подали виду. Вокруг глаз у Джулии по явилась сеточка морщин, два года назад их, кажется, не было. Она встала на цыпочки, чтобы ему было удобнее ее поцеловать, и сказала:
– Отпускаю тебя на волю. Иди веселись.
Джексон целомудренно поцеловал ее в лоб. Вчера вечером, после паба, он предвкушал, что они с Джулией займутся яростным сексом, едва переступив порог съемной квартиры в Марчмонте, которую нашли для нее организаторы Фестиваля. Новые места всегда подстегивали в ней желание. Но она сказала:
– Милый, если я не усну прямо сейчас, то просто умру.
Это было непохоже на Джулию, Джулия всегда хотела секса.
Судя по липким следам скотча на стене и унитазу, который не подавал признаков белизны, пока Джексон не вылил туда две бутылки чистящего средства, раньше в этой квартире жили студенты. Джулия не чистила унитазов, она вообще не занималась хозяйством, во всяком случае такое создавалось впечатление. «Жизнь слишком коротка», – говорила она. Временами Джексону казалось, что жизнь слишком длинна. Он предлагал оплатить что-нибудь получше, подороже, пусть даже отель на весь срок, но Джулии идея не понравилась.
– Все остальные будут жить по-спартански, а я – купаться в роскоши? По-моему, это неправильно, милый, как считаешь? Актерская солидарность и все такое.
Проснувшись этим утром, он обнаружил, что ее сторона кровати холодна и гладка, словно Джулия не ворочалась рядом с ним всю ночь напролет. Он чувствовал, что марчмонтская квартира никак не отмечена ее присутствием: она не принимала ванну, не дышала, не читала – делать что-либо из этого тихо она не умела. Сердце у него чуть сжалось от грусти. Он попытался вспомнить, когда в последний раз Джулия просыпалась раньше его. Выходило, что ни разу. Джексон не любил перемены, ему нравилось думать, что все может оставаться по-прежнему. Перемены подкрадывались исподтишка, подползали к тебе, как ведущий в «Море волнуется раз». Изо дня в день они с Джулией будто бы и не менялись, но, если подумать, два года назад они были совсем другими людьми. Тогда они цеплялись друг за друга благодарно и жадно, как спасшиеся после кораблекрушения или цунами. Теперь же они просто останки, болтающиеся в океане последствий. Или остатки? Он всегда забывал, в чем разница.
– Погоди-ка, у меня для тебя кое-что есть. – Джулия покопалась в сумке и вытащила расписание «Лотианских автобусных линий».
– Расписание автобусов? – удивился он.
– Ну да, расписание автобусов. Чтобы ты мог ездить по городу. Вот, возьми мой проездной.
Джексон не привык ездить на автобусах. Он считал, что автобусы – для стариков, детей и неимущих.
– Я знаю, что такое расписание автобусов, – ответил он и тут же спохватился, что вышло довольно грубо. – Спасибо, но я, скорее всего, пойду посмотреть Замок.
– И одним могучим рывком он вырвался на свободу, – донеслось вслед.
Пробираясь по лабиринту коридоров, Джексон почти ожидал увидеть сталактиты и сталагмиты («Сталактиты с потолка, сталагмиты из земли», – неожиданно пробубнила у него в голове географичка). Подвал был высечен в скале: заплесневелые стены, тусклое освещение – от этого подземелья у Джексона по спине забегали мурашки. Он подумал об отце, как тот каждый вечер спускался в шахту.
Все здание казалось изъеденным какой-то болезнью. Джексон подозревал, что уже надышался чумными бациллами. А случись пожар, никто же не выберется отсюда живым. Пожалуй, хорошо, что пару лет назад неподалеку был большой пожар, – чуму всегда выжигали огнем. Он спросил сонную девушку в кассе, есть ли у них сертификат пожаробезопасности и нельзя ли на него взглянуть. Девица вылупила глаза, словно у Джексона только что отросла вторая голова.
Джексон во всем любил порядок. Дома, во Франции, он хранил папку с аккуратной надписью «КОГДА Я УМРУ» и всей информацией, какая только могла понадобиться, чтобы привести в порядок его дела: имя и адрес его бухгалтера и адвоката, доверенность на того же адвоката (на случай, если сам он впадет в маразм), завещание, страховой полис, данные о банковских счетах… Он надежно прикрыл все тылы, все разложил по полочкам, потому что в душе по-прежнему оставался солдатом. Джексону было сорок семь, и он не жаловался на здоровье, но знал многих, кто умер задолго до планируемого срока, и у него не было причин считать, что сам он избежит подобной участи. Что-то нам подвластно, а что-то – нет. Документы, по общему мнению, относились к первой категории.
Бывший солдат, бывший полицейский, а теперь и бывший частный детектив. Кругом бывший, если не считать Джулии. Он продал свое детективное агентство и стремительно, внезапно оставил трудовое поприще, унаследовав состояние от одной из своих клиенток, старухи по имени Бинки Рейн. Деньги были серьезные – два миллиона фунтов стерлингов, – более чем достаточно, чтобы открыть счет для дочери и купить дом во Франции, у подножия Пиренеев, с ручьем, в котором водится форель, с фруктовым садом и лугом, укомплектованным парой осликов. Его дочери Марли уже десять, в таком возрасте к осликам обычно проявляют больше интереса, чем к родителям. Французская жизнь всегда была его мечтой, а теперь стала реальностью. Удивительно, насколько вторая отличалась от первой.
Два миллиона – не так уж много, сказала Джулия. Едва хватит на квартиру в Лондоне или Нью-Йорке. «„Лирджет“ потянет миллионов на двадцать пять, – прощебетала она, – да и приличная яхта в наши дни стоит не меньше пяти». Джулия вечно была на мели, но вела себя как женщина при деньгах («В том-то и фокус, милый»). Насколько ему было известно, она не то что не бывала на этих пятимиллионных яхтах – она и близко-то их не видела. У Джексона, напротив, деньги имелись, но вел он себя как бедняк. Носил все ту же потрепанную кожаную куртку, все те же надежные ботинки «Магнум Стелз». По-прежнему был плохо подстрижен и пессимистичен. «Все остальные будут жить по-спартански, а я – купаться в роскоши? По-моему, это неправильно, милый, как считаешь?» Вполне согласен.
«Боже, если подойти с умом, можно спустить два миллиона за день», – сказала Джулия. Она, конечно же, была права. Эти два миллиона свалились на него как выигрыш в лотерею («бедняцкие деньги», как их называла Джулия). Настоящие деньги – это деньги старые, их нельзя истратить, как ни пытайся. Они передаются из поколения в поколение и прирастают. Уходят корнями в огораживания[21], раннее участие в промышленной революции и покупку рабов для обработки собственных плантаций сахарного тростника. Именно люди с настоящими деньгами всем и заправляют.
– И мы их ненавидим, – заявила Джулия. – Они – враги социалистического будущего. Которое вот-вот наступит, правда, милый? И останется с нами навсегда, аминь. Боже упаси нас от какой-нибудь адамитской утопии, ведь тогда придется жить настоящей жизнью, а не жаловаться на нее.
Джексон с сомнением посмотрел на нее. Он не был уверен, что знает, кто такие адамиты, но уточнять не собирался. Не так давно он научился читать Джулию как раскрытую книгу, теперь же порой совсем ее не понимал.
– Смирись, Джексон, – сказала она. – Рабы получили свободу и бродят по земле, скупая акции на высокорисковых азиатских рынках.
Забавно, иногда она говорила в точности как его жена. Та тоже любила поспорить. «Я спорю только с теми, кто мне нравится, – говорила Джулия. – Это значит, что я тебе доверяю». Джексон, если на то пошло, спорил только с теми, кто ему не нравился. С бывшей женой, напомнил он себе. Муж – еще один его бывший статус. Они развелись, она снова вышла замуж и ждала ребенка от нового супруга, но он по-прежнему думал о ней – чисто формально, уже без эмоций – как о своей жене. Может, это в нем говорил католик.
А Джулия ошибалась. Рабы, все как один, подсели на реалити-шоу, новый опиум для народа. Он и сам их иногда смотрел – во Франции у него было широкополосное телевидение, – поражаясь людскому невежеству и безумию. Порой он включал телевизор и ему казалось, что он живет в ужасном будущем, согласия на которое не давал.
Джексон продирался сквозь длинную очередь, завязавшуюся узлом у выхода. Давали какую-то комедию. Он невольно взглянул на афишу с фотографией человека, строившего юродивую мину. «РИЧАРД МОУТ – КОМИЧЕСКАЯ ВИАГРА ДЛЯ МОЗГОВ». Джексон долго не мог понять, над чем тут смеяться. «В мое время, – подумал он, – комедии были смешными». «В мое время» – так говорят старики, чье время уже давно позади.
Вырвавшись на тусклый дневной свет, он оказался в ловушке между древними многоквартирными домами, которые таращились друг на друга с противоположных сторон улицы, делая ее похожей на туннель, где царила вечная ночь. Если бы не толпы народа, эту улицу легко можно было принять за съемочную площадку какой-нибудь экранизации Диккенса. Спутать с прошлым.
По словам Джулии, помещение было неплохое, хотя они и досадовали, что «не попали в „Траверс“». «Но и это очень неплохо, – уверяла она. – В центре, людей полно». Насчет людей Джулия была права, народ валом валил, прямо «полчища», как сказал бы его отец. Отец Джексона был шахтером, уроженцем Файфа, и он вряд ли стал бы тратить время на дорогую и процветающую столицу. Слишком пафосно. «Пафосно» – словечко Джулии. В лексиконе Джексона было полно чужих слов, в основном французских, потому что теперь там было его «постоянное местожительство», что вовсе не означало «дом».
Если не считать того, что его зачали в Эршире (если верить отцу), где родители проводили отпуск, Джексон прежде не бывал в Шотландии и никогда всерьез не думал туда поехать. Теперь этот факт вдруг показался ему странным (и полным психологического подтекста). Выйдя вчера из поезда на вокзале Уэверли, Джексон ожидал, что отцовские шотландские гены дадут о себе знать. Он думал, что, возможно, почувствует эмоциональную связь с неведомым прошлым, начнет узнавать лица прохожих, что свернет за угол или поднимется по ступеням – и там его ждет озарение. Но Эдинбург показался ему более чужим, чем Париж.
Протискиваясь сквозь толпу, он пытался сообразить, в какой стороне Замок. Древняя, птичья часть его мозга, благодаря которой он обычно прекрасно ориентировался, похоже, по приезде в Эдинбург взяла отпуск, скорее всего, потому, что его низвели до пешехода («низвели» – вполне уместное слово, взглянем правде в лицо, пешеходы – создания низшего порядка). Он не мог разобраться в эдинбургской топографии без контакта с компасом, то есть с рулем. Для Джексона машина была продолжением мысли. Переезжая во Францию, он покинул свою старую любовь «БМВ» и теперь владел новеньким «мерседесом» за сто пятьдесят тысяч евро, запрятанным в сарай.
Конечно, сейчас у него в кармане был проездной на автобус. Он не понимал, как можно обходиться без машины. «Ходить пешком», – говорила Джулия. Джулия мало ходила пешком, она ездила на метро или на велосипеде. Джексон не мог представить себе ничего опаснее, чем раскатывать по Лондону на велосипеде. («Ты всегда так переживал по пустякам, – спросила она, – или только после встречи со мной начал?»)
Бесшабашность Джулии не знала пределов – потому ли, что ей не приходила в голову мысль о смерти, или потому, что ей было наплевать? Если не считать единственной сестры, все родные Джулии умерли. Вероятно, это и было причиной ее беспечного отношения к собственному существованию. («Мы все когда-нибудь умрем». Да, но не прямо сейчас.)
– Признайся, Джексон, без машины ты чувствуешь себя кастратом, – изрекла Джулия в поезде Лондон – Эдинбург.
«Кастрат» – вполне в ее духе, старомодно и театрально.
– Ничего подобного, – возразил он. – Я чувствую, что никуда не могу добраться.
– Ты добираешься кое-куда прямо сейчас.
Они как раз проезжали Морпет. «Вперед, в другие страны», – сказал он, когда они сели в поезд, а теперь, через несколько часов, в своей типичной манере ломать логику разговора, Джулия вдруг заявила сердито:
– Что еще за «другие страны»? Шотландия – часть Британской империи.
– Знаю, я учился в школе. Просто, по-моему, это глупо: Эдинбург – столица ничем не хуже Лондона, и земли к северу от Англии исторически всегда были отдельным государством.
– Ей-богу, – примирительно сказала Джулия, – я и понятия не имела, что тебя это так заденет.
Джулия ошибалась, «кастратом» его делало вовсе не отсутствие машины. Виноваты были деньги. Настоящие мужики зарабатывают на жизнь потом и кровью. Роют носом землю, как в прямом смысле, так и в переносном. А не проводят дни, закачивая в айпод грустное кантри и угощая яблоками французских осликов.
Он вышел из театра как раз вовремя, чтобы увидеть, как серебристый «пежо» поцеловался с «хондой-сивик» (вот уж действительно машина для неудачников). Из «хонды» вылез парень, брызжа слюной от ярости, – без особых на то причин, ему даже бампер не помяли. Джексон заметил акцент – англичанин, как и он сам. Чужаки на чужбине. На водителе «хонды» были водительские перчатки. Джексон никогда не понимал, зачем они вообще нужны. Водитель «пежо» не отличался крупными габаритами, но на вид был жилистый и крепкий, из тех, что могут о себе позаботиться, однако его осанка и жесты выражали готовность решить все полюбовно – это навело Джексона на мысль, что тот привык иметь дело с опасностью, в армии или полиции. Он почувствовал прилив симпатии к водителю «пежо».
Водитель «хонды», напротив, не на шутку распсиховался, и, когда он вдруг вытащил бейсбольную биту, Джексон понял, что она была у него в руках, уже когда тот вылезал из машины. «Преднамеренные тяжкие телесные повреждения», – подумал в нем полицейский. Здесь это наверняка называется по-другому, здесь небось все называется по-другому. На заднем сиденье «хонды» была собака, Джексон слышал ее раскатистый, басовитый лай и видел, как она таранит рылом стекло, явно мечтая выбраться и прикончить парня из «пежо». Правду говорят, что владельцы собак похожи на своих питомцев. Джулия до сих пор оплакивала своего друга детства, вертлявого терьера Плута. И вот пожалуйста, она сама вылитый вертлявый терьер.
При виде бейсбольной биты в Джексоне вдруг заговорил старый инстинкт. Он начал быстро выбираться из толпы, привстав на цыпочки, готовый к любому повороту событий, но не успел он подобраться поближе, как кто-то из очереди метнул в водителя «хонды» портфель, застав громилу врасплох. Джексон остановился. Он не хотел вмешиваться без необходимости. Тип из «хонды» поднялся и уехал, на несколько минут разминувшись с полицейской машиной. От приближающегося воя сирены у Джексона быстрее забилось сердце. Во французской глубинке полицейскую сирену не услышишь. Из машины вышли две женщины-полицейских, обе молоденькие, одна симпатичнее другой; флуоресцентные желтые куртки и массивные пояса придавали им внушительности.
Парень, швырнувший портфель, сидел на обочине с таким видом, будто вот-вот потеряет сознание. Джексон заговорил с ним:
– Вы в порядке? Попробуйте опустить голову между ногами.
Предложение требовало акробатических навыков и имело явный сексуальный подтекст, но владелец портфеля попытался сделать как велено.
– Вам чем-то помочь? – Джексон присел рядом на корточки. – Как вас зовут?
Парень покачал головой, словно понятия не имел. Он был бледен как мел.
– Меня зовут Джексон Броуди, – сказал Джексон. – Я когда-то был полицейским. – Джексона внезапно пробрала дрожь. Вот и все, вся его жизнь уместилась в двух фразах: «Меня зовут Джексон Броуди. Я когда-то был полицейским». – Вам помочь?
– Спасибо, я в порядке, – выдавил из себя мужчина. – Простите. Мартин Кэннинг, – добавил он.
– Передо мной-то что извиняться, вы же не меня отправили в нокдаун.
Ему не стоило этого говорить. Мужчину охватил ужас.
– Я не нападал на него. Я пытался помочь ему. – Он указал на водителя «пежо», по-прежнему лежавшего посреди улицы, но теперь в окружении бригады «скорой».
– Знаю-знаю. Я видел. Послушайте, я дам вам номер своего мобильного. Если понадобится свидетель, если возникнут проблемы с полицией или тем типом из «хонды» – звоните. Но я уверен, что проблем не будет. Не волнуйтесь.
Джексон записал свой номер на обороте фестивальной рекламки, завалявшейся в кармане, и протянул ее мужчине. Потом поднялся, отметив про себя, как скрипнули суставы. Он хотел поскорее уйти. Ему не нравилось находиться на месте преступления и видеть, как всем заправляют девочки-полицейские едва старше его дочери, – он ощущал себя древним старцем. Он был здесь лишним. Его вдруг укололо желание получить свой жетон обратно.
Джексон запомнил номер «хонды», но полицейским его не сказал. «Наверняка кто-нибудь еще записал. Вокруг и без меня хватает свидетелей», – решил он. На самом деле ему не хотелось увязнуть в бюрократической волоките. Раз он не главный, нечего ему тут делать. В конце концов, он просто шел мимо.
5
Арчи с Хэмишем придумали план. Они были прямо как актеры, как будто снимались в кино. Они вошли в магазин поодиночке, с интервалом в несколько минут, потому что, если в магазин одновременно входило больше одного подростка, у продавцов начинался острый приступ паранойи. (Бред. Сколько тысяч раз Арчи с Хэмишем заходили вместе и не совершали преступления!) Они бродили по разным углам магазина, потом Арчи исподтишка звонил Хэмишу, а тот отвечал на звонок и закатывал истерику прямо перед продавцом – иногда просто выплескивал злость на «собеседника»: «Что за долбаная хрень? Ты, ублюдок хренов, даже не смей…» – что-то в этом роде, а иногда добавлял трагическую нотку – подразумевалось, что звонивший сообщает ему о несчастье с кем-то из близких. Можно было нести любую ахинею, главное – завладеть вниманием продавца. «О боже, только не моя сестренка! О господи, пожалуйста, нет!» Иногда Хэмиш совсем чуток переигрывал.
Все это время Арчи продолжал притворяться, что рассматривает товары. Но вообще-то, он их воровал. Ха-ха! Для такого дела нужен маленький магазин: продавцов поменьше и нет сигнализации на двери, которая срабатывает на магнитные бирки и подобное дерьмо. Конечно, если в магазине нет сигнализации, значит, там нет ничего стоящего (они воровали не ради процесса, окститесь, – воруешь, когда чего-то хочешь). Иногда на звонок отвечал Арчи, а Хэмиш тырил, но, хоть Арчи и не любил это признавать, актер из него был паршивый.
Был первый день нового триместра, большая перемена, и Арчи еще не успел разобраться, делает ли их школьная форма более или менее безобидными в глазах продавцов. Это была форма «хорошей школы» – его мать солгала насчет своего места жительства, подсунув адрес подруги, чтобы сын попал в школу Гиллеспи[22]. И после этого она заявляет, что врать нехорошо! Она все время врет. А что получил Арчи? Только две долгие поездки на автобусе каждый день.
Разгар Фестиваля, практически еще середина лета, по городу слоняются толпы сраных иностранцев и туристов – все в отпуске, развлекаются, а у них уже начался учебный год. «Этого достаточно, чтобы толкнуть пацана на преступление, не правда ли, Арчи?» – спросил Хэмиш. У него была странная манера выражаться. Поначалу Арчи заподозрил его в манерности, но потом решил, что это просто аристократические замашки. Хэмиша исключили из Феттса[23], он пришел в класс Арчи только год назад. Он был со странностями, но Арчи списывал это на его богатство.
Магазинчик в Грассмаркете, торгующий экипировкой для сноубордистов, – просто находка. Прелесть. И всего одна продавщица – размалеванная стервозина. Ему захотелось «сделать это» с ней, чтобы преподать ей урок. Ему пока не доводилось «делать это» ни с одной девчонкой, но он думал об этом девяносто процентов времени, когда бодрствовал, и сто – когда спал.
Он позвонил Хэмишу и сбросил, и Хэмиш принялся отрабатывать свой драматический номер: «Мама, ты о чем? Какая больница? Но ведь утром с папой все было в порядке» – и так далее, пока Арчи засовывал в сумку квиксилверовскую футболку. Может, Хэмиш был недостаточно убедителен, может, размалеванная стервозина оказалась не такой уж тормознутой, но вдруг они оба рванули за дверь и помчались, как, вашу мать, спринтеры. Арчи думал, что у него вот-вот случится сердечный приступ. Он остановился и согнулся пополам, пытаясь восстановить дыхание. Хэмиш тоже затормозил и врезался в него сзади. Он уписывался со смеху.
– Сонная корова, даже из магазина поленилась выпереться. – Он огляделся по сторонам. – Что здесь происходит?
– Фиг знает.
– Драка, – произнес Хэмиш, триумфально вытянув руку в небо. – Ура!
Арчи увидел бейсбольную биту, увидел сжавшегося на дороге парня. Повернулся к Хэмишу и сказал:
– Клёво.
6
Одна из полицейских спросила: «Вы поедете с ним в больницу?» Похоже, она решила, что он друг пострадавшего, и, поскольку других друзей у того рядом не оказалось, Мартин с сознанием долга полез в «скорую». Поступай с другими так, как хочешь, чтобы они поступали с тобой.
Только когда они наконец доехали до новой Королевской больницы на окраине города, он понял, что при нем нет сумки. Мартин помнил, как портфель тяжело прогромыхал по мокрым булыжникам, шлепнувшись на мостовую, но, что случилось потом, понятия не имел. Никакой катастрофы, все данные были предусмотрительно скопированы на крошечный лиловый кусок пластика – карту памяти «Сони» у него в бумажнике, и еще одна дополнительная копия лежала в столе в «офисе». Он представил, как человек, подобравший его ноутбук, открывает папку «Мои документы», читает его книгу, находит ее полным дерьмом, декламирует отрывки друзьям и они все уписываются со смеху, – почему-то человек, подобравший его ноутбук, должен был непременно «уписываться со смеху», а не просто смеяться. И уж точно не хихикать. Свободный от предрассудков среднего класса, не такой жалкий («Ты – просто старая баба», – не раз говорил ему отец), как Мартин, этот человек решил бы, что и жизнь Мартина, и его книги достойны одних насмешек. «Что-то случилось, Берти, – прошептала Нина, балансируя у него на плечах, чтобы получше разглядеть лорда Карстерса в засаженной пальмами оранжерее замка Данрот». Берти – семнадцатилетний помощник Нины Райли, которого она вытащила из трясины браконьерства.
В ноутбуке была и переписка («Большое спасибо за ваше письмо. Очень рад, что вам нравятся книги о Нине Райли. С наилучшими пожеланиями, Алекс Блейк»). Возможно, уписавшись со смеху, незнакомцы найдут его адрес и вернут ноутбук. А может, наведаются к нему в гости и обчистят дом сверху донизу. А может, компьютер переехала машина и загадочная материнская плата уже раздавлена, а жидкокристаллический экран искорежен.
Водитель «пежо» был в полном сознании и ясной памяти. На виске у него вздулась устрашающего вида шишка, словно под кожу запихали яйцо.
– Мой добрый самаритянин, – сказал он женщине-парамедику, кивнув на Мартина. – Спас мне жизнь.
– В самом деле? – Медсестра не знала, верить ли подобной гиперболе.
Водителя «пежо» закутали, как младенца, в большое белое хлопчатобумажное одеяло. С трудом высвободив руку, он потянулся к Мартину.
– Пол Брэдли, – произнес он.
Мартин потряс его руку:
– Мартин Кэннинг.
Он постарался не сдавливать руку водителя «пежо» слишком сильно, чтобы не сделать ему больно, но потом забеспокоился, что рукопожатие оказалось слишком вялым. Когда речь заходила о мужском знакомстве, отец Мартина, Гарри, был непреклонен («Тоже мне Мэри-Эллен Дряблые Ручонки – жми руку по-мужски»). Мартин зря беспокоился – рука у Пола Брэдли оказалась на удивление маленькой и гладкой, а пожатие – жестким и механическим, как у автомата.
Мартин не прикасался к другому человеку уже несколько месяцев, разве что случайно: взял сдачу у кассирши в супермаркете, подержал блевавшего Ричарда Моута над унитазом, когда тот перепил на вечеринке. Неделю назад он помог пожилой женщине сесть в автобус и удивился, как его тронуло прикосновение ее невесомой пергаментной руки.
– Вам бы самому прилечь не мешало, – сказал Пол Брэдли. – На вас лица нет.
– Правда? – Он немедленно почувствовал слабость.
– Неприятное, похоже, было происшествие, – вставила парамедик.
«Происшествие» – так назвала полицейская эту вспышку дорожной агрессии. «Нам нужно будет вас опросить как свидетеля происшествия, сэр». Милое нейтральное слово, вполне может означать «увлекательное приключение». Может, так ему и описывать собственную передрягу: «Да, ну так вот, в России со мной приключилось досадное происшествие…»?
Регистраторша в приемном покое спросила данные водителя «пежо», и Мартин понял, что забыл его имя. Пострадавшего укатили дальше, а сестра посмотрела на Мартина учительским взглядом и сказала:
– Вы не могли бы выяснить? И узнайте его адрес и кто ближайшие родственники.
Отправившись на поиски водителя «пежо», Мартин обнаружил его в отгороженном занавесками пространстве, где ему измеряли давление.
– Извините, – прошептал Мартин, – мне нужны его данные.
Водитель «пежо» попытался сесть, но медсестра мягко толкнула его обратно.
– Приятель, возьми у меня в куртке бумажник, – сказал водитель «пежо», поверженный навзничь.
В углу на металлическом стуле висела черная кожаная куртка. Мартин осторожно залез во внутренний карман и достал бумажник. Было что-то странно интимное в том, чтобы лазить по чужим карманам, словно он воровал от нужды. Куртка была из дорогой, мягкой кожи. «Ягненок», – догадался Мартин и подавил в себе желание надеть ее и ощутить себя в чужой шкуре. Он помахал сестре бумажником, мол, нашел, что искал, и больше ничего не замышляет, и она мило ему улыбнулась.
– Присмотреть за вашей сумкой? – спросил он у водителя «пежо»; сумка – портплед – приехала вместе с ними на «скорой».
– Спасибо, – ответил тот, и Мартин решил, что согласие получено; почти пустой на вид портплед оказался удивительно тяжелым.
Регистраторша тщательно изучила содержимое бумажника. Полу Брэдли было тридцать семь лет, он жил в Северном Лондоне. В бумажнике оказались водительские права, пачка двадцатифунтовых банкнот и квитанция из «Эйвис» на прокат «пежо». И ничего больше – ни кредитных карт, ни фотографий, ни клочков бумаги с записанными наспех телефонами, ни чеков, ни билетных корешков. Ни намека на ближайших родственников. Мартин предложил на эту роль себя, и регистраторша возразила: «Вы даже не знали, как его зовут», но все же написала на бланке: «Мартин Кэннинг».
– Пресвитерианец? – спросила она, на что Мартин ответил:
– Он англичанин. Напишите лучше «англиканец».
Интересно, какая официальная церковь в Уэльсе? Он понятия не имел.
Больница больше напоминала вокзал или аэропорт, место остановок и пересадок, а не пункт назначения. Там было кафе и магазин, скорее даже небольшой супермаркет. Ничто не указывало на то, что где-то здесь есть больные.
Он уселся ждать в приемном покое. Надо уж довести дело до конца. Пролистал от корки до корки «Старинные дома» и «Хелло!», оба трехлетней давности. Ему вспомнилось, как он где-то читал, что гепатит С может долго жить вне человеческого тела. Вирус можно подхватить, просто дотронувшись до чего-нибудь – дверной ручки, чашки, журнала. Эти журналы старше самой больницы. Должно быть, их сложили в коробку и перевезли сюда из старого здания на Лористон-плейс. Мартин был там как-то в отделении скорой помощи, когда мать ошпарила руку, в кои-то веки удосужившись его навестить. Это единственное, что ей запомнилось, – не поездка в Хоуптаун-хаус, где они наслаждались пейзажем и пили чай, не обед в «Помпадуре» в отеле «Каледонский», не посещение Холирудского дворца – только как она облилась кипятком из чайника. «Из твоего чайника», – подчеркнула она, будто Мартин нес прямую ответственность за температуру кипения воды.
Тамошнее приемное отделение – грязь, старые, провонявшие мочой стулья – было как из Третьего мира. Мать увели в смотровую, за бледно-зеленые шторы в засохших пятнах крови. Теперь в старой больнице, помимо всего прочего, еще и квартиры. Странно, что кому-то хочется жить там, где раньше люди умирали и мучились от боли или изнемогали от скуки в очередях поликлиники. Сам Мартин жил в викторианском особняке в Мёрчистоне, и на месте его дома, скорее всего, раньше было поле. Жить там, где раньше было поле, а не морг или операционная, как-то поприятней. Хотя сейчас всем на это плевать – охота за жильем в Эдинбурге перебивает все остальные инстинкты. На прошлой неделе в газетах писали про купленный за сто тысяч фунтов гараж. Мартин решил, что в нем наверняка собираются жить.
Он купил свой дом три года назад. После переезда в Эдинбург, подписав первый контракт с издательством, он снял маленькую квартирку неподалеку от Ферри-роуд и начал копить на что-нибудь получше. Им владело то же безумие, что и остальными охотниками за недвижимостью, – он кропотливо изучал объявления о продаже и со спринтерской скоростью метался на просмотры домов по вечерам в четверг и днем в воскресенье.
В дом в Мёрчистоне он влюбился, едва переступив порог. В каждой комнате ему мерещились тайны и тени, за витражными окнами угасал туманный октябрьский день. «Роскошно», – подумал он. В его воображении тут же ожили картины прошлого, послышался смех старомодно одетых детей: на мальчиках – школьные картузы в полоску, на девочках – платья с оборками и белые носочки по щиколотку. Они секретничали, обдумывая веселые проказы перед камином в детской. В доме кипела жизнь: горничная прилежно мыла и драила – никакой тебе классовой ненависти, – а иногда подстрекала детей к новым шалостям и сама принимала в них участие. Еще были садовник и кухарка, которая готовила старомодные блюда (копченая селедка, бланманже, картофельные запеканки с мясом). И за всем этим надзирала чета любящих родителей, снисходительных и добродушных, – впрочем, когда проказы заходили слишком далеко, они делались суровы и строги. Отец каждый день ездил на работу в город, где занимался чем-то таинственным в своей «конторе», а матушка собирала подруг на партию-другую бридж и писала письма. Случались и мрачные времена: однажды отца по ошибке объявили преступником или даже шпионом и семью ввергло в нужду (матушка справилась со всем просто великолепно), но потом правда восторжествовала и все вернулось на круги своя.
– Я его покупаю, – заявил он агентше, которая показывала ему дом.
– Как и те десять человек, которые оставили заявки до вас.
Она не поняла, что это «Я его покупаю» не просто озвучивало намерение купить объект недвижимости – осмотреть, поторговаться и заплатить, – то был крик души, не знавшей домашнего очага. После детства, проведенного в переездах из одного военного городка в другой, отрочества в интернате и преподавательского коттеджа в школьном кампусе в Озерном крае, Мартин жаждал обрести собственный дом. Как-то в университете сокурсник подсунул ему тест на словесные ассоциации для своей работы по психологии, и, дойдя до слова «дом», Мартин будто споткнулся о пустоту – оно не вызвало в нем никаких чувств.
Когда Гарри, его отец, вышел в отставку, мать попыталась убедить мужа вернуться в ее родной Эдинбург, в чем потерпела жестокую неудачу, и вместо этого они переехали в Истборн. Оказалось (ничего удивительного), что Гарри совершенно непригоден к штатской жизни, к оседлому существованию в добротном доме ленточной застройки, с тремя спальнями, отделанном изнутри светлым деревом, на тихой улочке в пяти минутах от Ла-Манша. Море оставляло его равнодушным, он каждое утро совершал короткую прогулку вдоль берега, но не для удовольствия, а чтобы поддерживать форму. Все, и особенно жена, вздохнули с облегчением, когда спустя три года после отставки он скончался от сердечного приступа, повздорив с соседом из-за того, что тот припарковал машину у них перед домом.
– Он никак не мог взять в толк, что дорога – общая, – объясняла мать Мартину с Кристофером на похоронах, словно в этом крылась причина его смерти.
У матери не хватило духу уехать из Истборна – она всегда была слабохарактерной, – но и Мартина, и Кристофера тянуло обратно в Шотландию (точно угря или лосося на нересте), и оба поселились от матери как можно дальше.
Кристофер был сметчиком и жил не по средствам в Шотландских границах[24] с женой Шиной (невротичкой и стервой) и двумя на удивление милыми детьми-подростками. Географически братьев разделяло небольшое расстояние, но они почти не виделись. С Кристофером было непросто, в его манере общения с миром виделось что-то неестественное и надуманное, – казалось, он копирует окружающих, надеясь стать для них приятнее и подлиннее, что ли. Мартин уже давно оставил надежду стать как все.
Ни Мартин, ни Кристофер не считали Истборн «домом», матери не хватало индивидуальности, чтобы создать домашний уют. Они говорили друг другу: «Когда собираешься в домину?» – словно само здание обладало натурой посильнее, чем их мать; и притом оно было совершенно безликим – каждые пару лет его перекрашивали в тот же невнятный светло-коричневый цвет, но вскоре стены вновь обретали свой обычный, никотиново-желтый оттенок. Мать была заядлой курильщицей, пожалуй, он мог бы назвать это ее основной чертой. Мартин представлял себе ад как бесконечное дождливое воскресенье в материнском доме: январь, вечные четыре пополудни на часах и запах рагу из говяжьей рульки в непроветриваемой кухне. Табачный дым, жидкий чай, сводящая челюсти приторность глазированных пирожных. В видеомагнитофоне – кассета с «Чисто английскими убийствами».
Мать уже превратилась в трясущуюся старуху, но умирать пока не собиралась. Кристофер, едва сводивший концы с концами, жаловался, что таким манером она вполне может его пережить и, мол, не унаследовать ему половину истборнского дома, по которой плачет его банковский счет.
Мартин навестил мать вскоре после того, как впервые попал в списки бестселлеров, и показал ей «Пятьдесят лучших книг недели» в «Букселлере»: «Алекс Блейк – это я, литературный псевдоним». Он засмеялся, а она вздохнула: «Ох, Мартин», – мол, надо ж быть таким невероятным занудой. Покупая дом в Мёрчистоне, он, возможно, и не был уверен, как сделать так, чтобы просто дом превратился в «домашний очаг», но он точно знал, как делать не нужно.
Кристофер заезжал к Мартину всего один раз, сразу после покупки дома. Встреча вышла неприятная, в основном из-за Шины, настоящей змеи подколодной.
– На хрена тебе такой огромный дом, Мартин? – спросил Кристофер. – Ты ведь живешь один.
– Может, женюсь, заведу детей, – защищаясь, ответил тот, на что Шина тут же гоготнула:
– Это ты-то?
Наверху была маленькая комната с окнами в сад, Мартин наметил ее под кабинет. Ему казалось, что в такой комнате он мог бы написать что-нибудь сильное, с характером, не избитые банальности о Нине Райли, а роман, каждая страница которого была бы пронизана творческой полемикой страсти и разума, – произведение, способное изменить жизнь. Увы, ничего подобного не произошло, более того, стоило ему купить этот дом, как вся жизнь, которую Мартин в нем ощущал, испарилась. Теперь, когда он переступал порог, у него появлялось чувство, что здесь вообще никто никогда не жил, даже он сам. Никаких веселых шалостей. «Веселый» – Мартину всегда нравилось это слово. Если бы у него были дети, он обязательно назвал бы их именами, излучающими веселье, – Санни и Мерри, например. Имя создает человека. Есть что-то особенное в именах, вдохновленных религией: Пейшенс, Грейс, Честити, Фейт[25]. Лучше пусть тебя зовут в честь добродетели, нежели довольствоваться безликим «Мартин». Джексон Броуди – вот хорошее имя. Случившееся не выбило его из колеи («Когда-то я был полицейским»), тогда как сам Мартин переволновался до тошноты. То было не приятное волнение, не участие в веселых шалостях, но участие в «происшествии».
В университете он одно время встречался с девушкой по имени Шторм (что бы про него ни думали, у него были подружки). Этот опыт – именно опыт, а не отношения – и привел его к убеждению, что люди соответствуют своим именам. Если сравнивать, то «Мартин» звучало довольно вяло, а вот «Алекс Блейк» – определенно источало энергию. Издатели сочли настоящие имя и фамилию Мартина недостаточно «пробивными». Псевдоним Алекс Блейк выбрали после долгих дискуссий, к которым Мартина особенно не допускали. «Твердое, серьезное имя, – заявила редактор, – для баланса». Для баланса чего с чем, она не уточнила.
Он случайно пнул портплед Пола Брэдли и вместо ожидаемой мягкости одежды почувствовал внутри что-то твердое и неподатливое. Интересно, что носит с собой человек, сохраняющий завидную выдержку даже после удара по голове? Откуда он взялся? Куда ехал? Пол Брэдли не производил впечатления фестивального туриста, у него в городе явно были дела поважнее.
Мартин посмотрел на запястье и вспомнил, что утром так и не нашел свои часы. Он подозревал, что их «одолжил» Ричард Моут. Он все время что-нибудь одалживал, явно считая, что если гостишь в доме, значит, можешь смело распоряжаться всеми вещами хозяина. Гость то и дело прибирал к рукам Мартиновы книги, рубашки, айпод («Ну и дерьмо ты слушаешь, Мартин»). Он даже нашел запасные ключи от машины и, похоже, решил, что может пользоваться ею когда вздумается.
Часы были «Ролекс», модель «Яхт-мастер», – Мартин купил их, чтобы отметить издание своей первой книги. От такого мотовства у него разыгрались угрызения совести, и он счел своим долгом пожертвовать аналогичную сумму на благотворительность, дабы усмирить совесть. Фонд помощи нуждающимся в протезах поставлял искусственные конечности жертвам противопехотных мин. Где-то на невообразимо далеких задворках цивилизации за эти деньги можно было купить сотню рук и ног. Конечно, если бы он не купил «Ролекс», то смог бы купить две сотни рук и ног, поэтому, вместо того чтобы рассосаться, его вина удвоилась. По сравнению с домом в Мёрчистоне часы – просто дешевка. На стоимость дома он, пожалуй, мог бы снабдить искусственными конечностями всех инвалидов в мире. Часы он продолжал носить, несмотря на то что они ежедневно напоминали ему о том происшествии в России. В этом было его наказание – не забывать никогда.
Скорее всего, Ричард Моут уже отыграл свое шоу и засел в каком-нибудь баре, чтобы пить и общаться с народом – налаживать связи. В этот вечер Би-би-си записывало специальный выпуск – выступления сразу нескольких комиков. Собственное шоу Ричарда начиналось в десять. «Комедия всегда происходит ночью», – объяснил он Мартину, и тому это утверждение показалось довольно забавным, о чем он Ричарду и сказал. «Ага», – лаконично и очень по-лондонски отозвался Ричард. Он был эстрадным юмористом, но отнюдь не весельчаком и за две недели знакомства ни разу не рассмешил Мартина, во всяком случае умышленно. Возможно, он берег себя для десятичасового шоу. Дни его славы пришлись на восьмидесятые, благодарное время для политических острот. После того как Тэтчер попросили вон, звезда Ричарда Моута покатилась к закату, хотя так и не закатилась достаточно далеко, чтобы он мог устроить себе торжественное возвращение. Моут держался на плаву за счет «альтернативных» викторин, ток-шоу и даже кое-каких (плохо сыгранных) ролей в театре.
В общем, Мартин решил, что уж лучше читать старые, засиженные микробами журналы в больнице и ждать новостей о незнакомце, чем социализироваться в каком-нибудь баре на пару с Ричардом Моутом.
Ричард был другом друга одного знакомого. Он возник пару месяцев назад, сообщил, что «дает шоу на „Фриндже“», и спросил, не сдаст ли Мартин ему комнату. Мартин молча проклял всю цепочку друзей за то, что раздают его номер телефона кому попало. Ему всегда было трудно сказать «нет». Несколько лет назад Мартин отчаянно пытался закончить книгу, но его постоянно отвлекали посетители – вереница туристов из Порлока (так он о них думал)[26], и он завел привычку держать в прихожей плащ и пустой дипломат, чтобы, как только прозвенит звонок, набросить плащ, подхватить дипломат и сказать: «Простите, как раз собирался выходить».
Он тогда только переехал в Эдинбург из Озерного края и пытался завести новые знакомства, начать с чистого листа насыщенную общением жизнь, мечтая, что сказанное за глаза: «Это старый пердун Кэннинг» – превратится в: «Мартин Кэннинг, приятно познакомиться. Я? О, я писатель. Детективы пишу. Последний называется „Горский танец“. Стал бестселлером, да. Где черпаю идеи? Ах, даже не знаю, у меня всегда было живое воображение, желание творить. Знаете, как это бывает». Но в действительности вместо общения его жизнь насытилась всевозможными типами, с которыми он не желал иметь ничего общего, и ему потребовалось несколько месяцев (в особо трудных случаях – лет), чтобы от них отвязаться. Похоже, ни у одного из этих нежеланных знакомцев не было занятия лучше, чем навещать Мартина в любое время дня и ночи. Один из них – по имени Брайан Лигат – отличался особенным постоянством.
Брайан был неудачником лет сорока, в анамнезе – неопубликованная рукопись и горькая обида на всех литературных агентов Британии, ни один из которых так и не разглядел в нем гения. Мартин видел несколько писем, сочиненных Брайаном в ответ на многочисленные отказы. Они содержали фразы типа «Тупая, тупая, тупая, заносчивая английская стерва» и «Я знаю, где ты живешь, жопа безграмотная» и пугали Мартина своим безумием. Брайан показывал ему свою рукопись, «величайший шедевр» под названием «Водитель последнего автобуса». «Гм, – вежливо буркнул Мартин, возвращая текст Брайану, – весьма необычно. Писать ты умеешь, вне всяких сомнений». И это была правда, писать Брайан действительно умел – мог взять ручку с бирюзовыми чернилами и заполнить страницу крупным, петлявым почерком, хаотично разбросав глаголы по предложениям, в которых каждый знак препинания кричал о сумасшествии автора. Но Брайан знал, где живет Мартин, так что лучше было поостеречься.
В тот день, услышав звонок, Мартин накинул плащ, подхватил дипломат и рывком открыл дверь. На пороге стоял Брайан, с надеждой во взоре переминаясь с ноги на ногу.
– Брайан! – приветствовал он гостя с деланой веселостью. – Какой сюрприз. Извини, но я как раз собрался выходить.
– Куда идешь?
– Опаздываю на поезд.
– Я провожу тебя на вокзал, – бодро предложил Брайан.
– Да не стоит.
– Мне не трудно.
Так они вместе отправились в Ньюкасл, сев в половине двенадцатого на поезд до Лондона. В Ньюкасле Мартин выбрал в центре первое попавшееся офисное здание и со словами: «Ну, я пошел» – нырнул в лифт. Он оказался на восьмом этаже в офисе торговцев таймшерами, где с облегчением побеседовал о покупке роскошной виллы во Флориде, «в непосредственной близости от поля для гольфа и других мест отдыха». Уходя, он взял неподписанные бумаги с собой, «чтобы просмотреть на досуге», и выбросил их в ближайшую урну. Разумеется, Брайан ждал его в фойе. «Как прошло?» – радушно поинтересовался он, увидев Мартина. Они вместе вернулись в Эдинбург пятичасовым поездом, и как-то так получилось, что на вокзале Уэверли Брайан уселся с ним в такси. Мартин думал, что бы сказать, но на ум не шло ничего, кроме «Свали из моей жизни навсегда, больной придурок», и, когда он расплачивался за такси, Брайан был уже на полпути к его порогу со словами: «Я поставлю чайник? Хотел обсудить с тобой свой роман. Подумываю переписать его в настоящем времени».
Годом позже Брайан Лигат разбился насмерть в Солсберийских скалах. Прыгнул он вниз или упал (или его столкнули), осталось невыясненным. Услышав о гибели Брайана, Мартин почувствовал в равной мере облегчение и вину. Нужно было бы как-то помочь этому увязшему в иллюзиях типу, но Мартин выдавливал из себя только: «Ты потрясающе используешь просторечия».
Поэтому, оказавшись перед фактом, он не смог отказать Ричарду Моуту. На вопрос: «Так сколько мне это будет стоить?» – Мартин тут же возразил: «Даже не думайте, я ничего с вас не возьму». В подарок Ричард вручил ему DVD со своим последним турне, через несколько дней купил бутылку вина, бо́льшую часть которой выпил сам, а в качестве помощи по дому один раз загрузил посудомоечную машину, попытавшись превратить эту рутинную задачу в комический скетч. Когда Ричард вышел из кухни, Мартину пришлось уложить всю посуду заново. Еще он пожарил себе дорогой стейк, забрызгав всю плиту жиром. Остальное время гость питался в ресторанах.
Два дня назад, в день премьеры (которой Мартину удалось избежать), Ричард пригласил его на карри с «народом», приехавшим на шоу из Лондона. Мартин предложил пойти в «Калпну» на площади Святого Патрика, потому что был вегетарианцем («В общем, не ем то, у чего есть лицо»), но в итоге они оказались в отчаянно плотоядном месте, которое порекомендовал Ричарду «народ» из Лондона. Когда принесли счет, Мартин неожиданно для себя настоял на том, чтобы заплатить за всех. «Спасибо огромное, Мартин, – поблагодарил один из лондонцев, – хотя, вообще-то, я мог списать это на представительские расходы».
– У вас здесь не курят, да? – поинтересовался Ричард через десять минут после приезда, и Мартину пришлось выбирать между личиной гостеприимного хозяина и желанием обнаружить свою ненависть ко всему, связанному с сигаретами.
– Ну… – протянул он, и Ричард тут же добавил:
– Разумеется, я буду курить только у себя в комнате. Чтобы не заставлять вас дышать отвратительным канцерогенным дымом.
Но каждое утро, спускаясь в гостиную, Мартин обнаруживал гору окурков на блюдце или тарелке (а один раз и в супнице), позаимствованных из веджвудского сервиза, который Мартин купил, переехав в этот дом.
Возвращался Ричард очень поздно и, спасибо ему, не вылезал из постели до полудня. А потом повисал на телефоне. У него был новый видеофон, которым Мартин вежливо восхитился («Стильная штука, правда?» – согласился Ричард), хотя про себя подумал, что аппарат чудной и довольно громоздкий – напоминает коммуникатор из «Звездного пути». Для звонка Ричард скачал мелодию из «Робин Гуда», старого сериала пятидесятых годов, – ее глупое металлическое треньканье медленно сводило Мартина с ума. В качестве антидота он скачал в собственный телефон пение птиц и был приятно удивлен тем, насколько естественно оно звучит.
Оглянувшись, Мартин увидел на стене в приемном покое часы: они показывали половину второго. По его ощущениям, было намного больше, день потерял форму, исказился под обрушившимся грузом реальности.
Шоу Ричарда Моута удостоилось язвительной рецензии в «Скотсмене», там сообщалось, помимо прочего, что «юмор Ричарда Моута уже давно трещит по швам от банальностей. Он шьет и порет все тот же материал, что и десять лет назад. Мир ушел вперед, а Ричард Моут отстал». Мартину даже читать это было неловко. Он не мог признаться Ричарду, что видел статью, потому что тогда переживать за ее отвратительный тон пришлось бы им обоим. Он сам успел наесться плохих рецензий и знал, в какой ужас они способны ввергнуть.
– Никогда не читаю рецензии, – угрюмо высказался Ричард после премьеры.
Мартин ему не поверил. Все читают отзывы о своей работе. Уже несколько лет прошло с тех пор, как Ричард «засветился на Фестивале», и какие бы чувства он ни испытывал когда-нибудь к Эдинбургу (в начале карьеры он имел здесь оглушительный успех), они успели выродиться в неприязнь.
– Понимаешь, это отличный город, – заявил он одному из лондонского «народа» на плотоядной оргии в вызывающем клаустрофобию, битком набитом индийском ресторане. – Куда ни глянь – красота, но у него нет либидо. Очевидно, в этом виноват Нокс[27].
Мартина покоробила фамильярность, с которой Ричард упомянул Нокса. Ему захотелось сказать: «Да, Нокс был угрюмым, скаредным пуританином и ублюдком, но он был нашим угрюмым, скаредным пуританином и ублюдком, а не вашим».
– Именно! – поддакнул другой лондонец.
На нем были узкие очки в массивной черной оправе, и курил он еще больше, чем Ричард. Мартин, носивший очки с восьми лет, предпочитал легкие модели без оправы, стремясь скрыть свой дефект зрения, а не делать его частью имиджа.
– Нет либидо – в точку, Ричард. – Мужчина с очками в черной оправе ткнул сигаретой в воздух, дабы подчеркнуть свое согласие. – Эдинбург – он такой и есть.
Мартину хотелось защитить свой родной город, но он не мог придумать как. Да, правда, либидо у Эдинбурга нет, но кто захотел бы жить в городе, у которого оно есть?
– Барселона! – выкрикнул другой приятель Ричарда через стол (они неслабо надрались и расшумелись), и тип в старомодных, но стильных очках рявкнул в ответ:
– Рио-де-Жанейро!
И они все принялись выкрикивать названия городов («Марсель! Нью-Йорк!»), пока не добрались до Амстердама и не затеяли спор, собственное у голландской столицы либидо или в ней «просто эксплуатируется, продается и покупается либидо разных людей».
– Секс, капитализм, – вяло вмешался Ричард, – в чем разница?
Мартин ожидал шутки, но напрасно. Он лично считал, что между этими понятиями большая разница, но потом вспомнил, как раздевался перед Ириной в том отвратительном гостиничном номере с видом на Неву и шуршащими вдоль плинтусов тараканами. «Отличная обивка. Для комфорта, а не для скорости»[28], – пошутил он, сжавшись от смущения. «Da?» – отозвалась она и услужливо рассмеялась, очевидно не поняв ни слова. При одном воспоминании об этом он согнулся пополам, будто его ударил под дых невидимый кулак.
– Девочки, – вдруг заявил еще один, – нужно снять девочек.
Остальные поддержали эту идею с пугающим энтузиазмом.
– Стриптиз! – Ричард прыснул, как подросток.
– Прости, Мартин, – сказал другой. – Извини, что мы так выпячиваем свою гетеросексуальность.
– Вы думаете, что я гей? – удивился Мартин.
Все повернулись к нему, словно он впервые сказал что-то интересное.
– В этом нет ничего такого, Мартин, – сказал Ричард. – Все мы геи.
Мартин поспорил бы с этим смехотворным заявлением, но он только что обнаружил, что жует кусок курятины из своего «овощного бирьяни». Он незаметно вытащил мясо изо рта и положил на край тарелки. Хрящеватые останки бедной замученной птицы, которую накачивали гормонами, антибиотиками и водой где-то в далекой стране. Он почти готов был ее оплакать.
– Мартин, все в порядке, – сказал Ричард Моут и похлопал его по спине. – Здесь все свои.
Ричард сообщил, что оставил ему в кассе билет на радиошоу (не спросив, хочет ли он, собственно, туда пойти), но, когда Мартин обратился к безразличной девице за стойкой, та спросила у второй безразличной девицы: «Ты видела пригласительные на имя Ричарда Моута?» Вторая девица состроила гримасу и оглянулась по сторонам, а первая снова уставилась в монитор.
Мартин поймал себя на том, что рассматривает афишу – снимок кривляющегося Ричарда крупным планом. И подпись: «КОМИЧЕСКАЯ ВИАГРА ДЛЯ МОЗГОВ». Мартин подумал, что звучит скорее отталкивающе, нежели завлекательно.
Никаких дальнейших действий от барышень не последовало, и тогда Мартин указал на хлипкую деревянную «голубятню» для корреспонденции на задней стене: под каждой ячейкой была приклеена скотчем бумажка с именем, в ячейке «Ричард Моут» лежал белый конверт. Вторая безразличная девица прочитала имя на конверте. «Мартин Кэннинг?» – подозрительно спросила она и, не дожидаясь подтверждения, протянула ему конверт. Он проверил билеты и нашел на одном из них наспех накарябанное послание: «Твоя машина перед „Макбетом“ на Лит-уок, привет, Р.».
– Я могу войти? – спросил он, и первая девица, не отрывая взгляда от монитора, ответила:
– Нет, вы должны встать в очередь.
– Спасибо.
Он так и не удостоился их внимания, точно был невидимкой.
И он встал в очередь. А потом из «хонды» вылез громила с бейсбольной битой.
7
Джексон пробирался по Королевской Миле через пестрящую шотландской клеткой толпу, пока не очутился у Замка, вздымавшегося на вершине вулканической скалы, подобно катарской твердыне. Купив билет, он пошел по эспланаде мимо высоченных подмостков для Эдинбургского парада военных оркестров. Джулия завидовала, что «на этих барабанщиков настоящий аншлаг» и билеты «на вес золота», впрочем, не успели они приехать в Эдинбург, как незнакомец на улице (назвавшийся волынщиком, хотя никакой волынки при нем не было) вручил ей контрамарки на парад. Она попыталась впихнуть их Джексону, но тот не мог представить себе ничего хуже, чем торчать два часа в сырой летней тьме, наблюдая претенциозный спектакль, который не имеет ничего общего с военной действительностью.
– Не думай о них как о военных, – сказала Джулия. – Это же просто театр. Волынки и барабаны, – зачитала она из программки, выданной самозваным волынщиком, – и шоу армейских мотоциклистов-каскадеров. Горские танцы? О, посмотри, даже танцы русских казаков. Здорово, правда?
– Нет.
Джексон не верил, что пьеса Джулии соберет хоть какую-то кассу, что найдутся желающие отдать настоящие деньги за то, чтобы увидеть «Поиски экватора в Гренландии».
Замок производил жуткое впечатление: снизу он казался прямо декорацией к шотландским легендам, но внутри этих грозных стен веяло холодной сыростью и обреченностью. (Отцу там наверняка нравилось.) Замок казался не столько воплощением инженерного замысла, сколько органическим образованием из тесаного камня и шероховатого черного базальта, махиной с кровавой историей. Джексон купил путеводитель, но аудиогида брать не стал – он терпеть не мог этот монотонный женский (всегда женский) голос, срыгивающий полупереваренную информацию. Вроде голоса в его спутниковом навигаторе («Джейн»). Он пробовал другие голоса, но ни один не подошел: французский был слишком сексуален, американский – слишком американист, что же касается итальянского… Даже если бы Джексон знал язык, он едва ли доверился бы указаниям итальянца. Потому он всегда возвращался к спокойным, но настоятельным интонациям Джейн, женщины, которая была уверена в своей правоте. Все равно что ехать с женой. С бывшей женой.
Он вспомнил, что взял у Джулии фотоаппарат, и сделал несколько снимков с крепостного вала. Джулия никогда не снимала пейзажи – в фотографиях без людей нет смысла, говорила она, – поэтому он попросил группу японских туристов щелкнуть его рядом с Часовой пушкой. Японцы пришли в страшный восторг и, прежде чем последовать, словно стайка мальков, за своим гидом, втиснулись в кадр вместе с Джексоном.
Джулия всегда широко улыбалась в камеру, как будто счастлива по уши. Некоторым это дано, некоторым – нет. Сам Джексон на фотографиях обычно выглядел хмуро. А может, и не только на фотографиях. Джулия как-то сказала ему, что в его манере держаться «есть что-то угрожающее»; такое восприятие собственной персоны его встревожило. Для снимка с японцами он постарался напустить на себя благодушный вид. На секунду ему стало завидно. Приятно, наверное, быть частью группы. Большинство считало его нелюдимом, но он подозревал, что комфортнее всего ощущал себя, когда принадлежал системе: сперва армии, затем – полиции. По мнению Джексона, значимость индивидуального начала была сильно завышена.
Он нашел столик в открытом кафе и заказал чай и лимонный кекс с маком. Из-за маковых зернышек казалось, что кекс засижен насекомыми, и Джексон едва к нему притронулся. Джулия считала, что прогулка не прогулка, если не завершить ее чаем с пирожными. Он знал про Джулию все. Он мог бы участвовать в одной из этих викторин «Мистер и миссис» и ответить на все вопросы о том, что она любит и что нет. Сумела бы она ответить на вопросы о нем? Он этого искренне не знал.
В ожидании залпа Часовой пушки толпа возбужденно зашуршала. Если верить рассказам, эдинбуржцы были слишком скупы, чтобы раскошелиться на двенадцать залпов в полдень, поэтому ограничились одним в час дня. Интересно, это правда? Неужели шотландцы и впрямь такие скупердяи? Сам наполовину шотландец (хоть он этого и не чувствовал), Джексон считал, что не жалел денег, даже когда у него их не было. Теперь, когда деньги появились, он старался делиться своим богатством направо и налево – бриллиантовые серьги для Джулии, стадо коров для африканской деревушки. Сейчас благотворительностью можно заниматься через интернет – это не сложнее, чем копаться на виртуальных полках Tesco.com, добавляя в «корзину» коз и кур, словно пачки сахара или консервированную фасоль.
Джексон сознавал, что с того самого момента, как унаследовал эти деньги, он искал способ снять их бремя со своей совести, – в нем говорил пуританин, негромко твердивший: что не выстрадано, то тебе и не нужно. Что его восхищало в Джулии, так это ее полный и безоговорочный гедонизм. И нельзя сказать, что на долю Джулии не выпало страданий, горя она хлебнула не меньше, чем Джексон. У них обоих убили сестер, оба росли без матери, старший брат Джексона и старшая сестра Джулии – оба покончили с собой. Одно несчастье на другом. О таком обычно не говорят, признаваться посторонним в душевном разладе – сомнительная затея. Ему нравилось, что в семейном прошлом Джулии наворочено даже больше, чем в его собственном. Они были парой невообразимых сирот.
Джексон стоял бок о бок с Джулией в полицейском морге, взирая на хрупкие, точно птичьи, косточки ее давно пропавшей сестры Оливии. Подобные вещи надолго погружают душу в тень, и Джексон боялся, что сблизило их с Джулией не что иное, как схожее понимание потери. Он подозревал, что это не слишком здоровая основа для отношений, но, возможно, разделенное горе связывает прочнее, нежели, к примеру, взаимная любовь к лыжам, или тайской кухне, или другим вещам, на которых пары строят свою жизнь?
– Пара? – задумчиво повторила Джулия, когда он завел разговор на эту тему. – Значит, ты так о нас думаешь?
– А ты разве нет? – обеспокоенно спросил он, и она рассмеялась:
– Конечно, – и тряхнула головой, отчего собранные на макушке кудри запрыгали, как пружинки.
Он хорошо знал этот жест, почти всегда означавший, что Джулия кривит душой.
– Ты не считаешь нас парой?
– Я думаю о нас как о тебе и обо мне, – сказала Джулия. – Двое людей, а не половинки целого.
Одна из черт Джулии, которые нравились Джексону, – это ее независимость, одна из черт Джулии, которые ему не нравились, – это ее независимость. В Лондоне у нее была своя жизнь, Джексон приезжал к ней в гости, она наведывалась к нему в Пиренеи, где они разжигали огромные камины с каменной кладкой, и пили много вина, и много занимались сексом, и мечтали о том, чтобы завести пиренейскую овчарку (Джулия мечтала). Иногда они ездили в Париж – оба его обожали, – но потом она всегда возвращалась в Лондон. «Я для тебя все равно что курортный роман», – пожаловался как-то Джексон, на что Джулия ответила: «А разве это не здо́рово?»
В апреле, на ее день рожденья, Джексон отвез Джулию в Венецию, в отель «Чиприани», хотя потом оба пришли к выводу, что целая неделя не просто в Венеции, а еще и в «Чиприани» – немного перебор. Джулия сказала, что это как найти лучший на свете торт и не есть ничего больше, пока «не начнет тошнить от того самого лакомства, коим ты так грезил». Джексон подумал, уж не цитата ли это из какой-нибудь пьесы, – она часто говорила цитатами, и он почти никогда не узнавал их.
– Начнем с того, что я не люблю сладкое, – довольно сердито заметил он.
– Да и жизнь, в общем, не коробка шоколадных конфет! – откликнулась она.
Эту фразу он узнал. Джексон терпеть не мог этот фильм[29]. Они тогда плыли на вапоретто по Большому каналу, и Джексон щелкнул ее на фоне церкви Санта-Мария делла Салюте. В Венеции все напоминало сценические декорации. Джулия была в своей стихии.
В ее день рожденья Джексон заказал вечернюю экскурсию на гондоле – как и каждый второй турист в Венеции.
– Он ведь не будет петь, правда? – прошептала Джулия, когда они устраивались на обитом красным бархатом сиденье.
– Надеюсь, что нет. По-моему, за пение нужно доплачивать.
Гондольер в полосатой фуфайке и соломенном канотье был ходячим клише из путеводителя. Джексону вспомнилось катание на плоскодонках в Кембридже. Кембридж – там он жил в доденежные времена, там выросла Джулия, там сейчас росла его дочь. Раньше он не считал Кембридж домом, домом была (как ни странно) армия или мрачный город, где прошло его детство, где в его воспоминаниях, да, пожалуй, и в реальности, всегда шел дождь. Сейчас, оглядываясь в прошлое (вот насмешка судьбы), он понимал, что, видимо, Кембридж и был его настоящим домом, где он чувствовал себя в безопасности, где у него была крыша над головой, жена и ребенок. Тоже своего рода система. До и после – вот как он думал о своей жизни. До и после наследства.
Петь гондольер не стал, и вся затея оказалась не такой уж и пошлой. Ночью Венеция была еще великолепнее, фонари отражались в черной воде мягким блеском драгоценных камней, а за каждым поворотом канала возникало что-нибудь неожиданное и чудесное. Настроение у Джексона становилось все более поэтическим, но тут Джулия прошипела ему в ухо: «Только не вздумай сделать мне предложение». У него и в мыслях не было ничего подобного, но эти ее слова – и интонация, та же, с которой она высказала опасение насчет поющего гондольера, – вызвали в нем раздражение. Это почему ему нельзя сделать ей предложение? Что в этом такого ужасного? Понимая, что обстановка не располагает к спорам (Венеция, день рожденья, гондола и т. д.), он все же не удержался и перешел в оборону:
– Значит, ты бы за меня не вышла?
– Так ты делаешь мне предложение?
– Нет. Просто спрашиваю: ты бы мне отказала?
– Конечно. – (Они попали в «пробку» на канале, протискиваясь мимо гондолы с грузом американцев на борту.) – Джексон, смотри на вещи здраво. Ни ты, ни я не подходим для брака.
– Я – подхожу, – возразил он, – а ты никогда не была замужем, откуда тебе знать?
– Это не довод.
Джулия отвернулась и принялась демонстративно рассматривать окна проплывающих мимо палаццо. Гондольеру наконец удалось обойти американцев, и гондолу сильно качнуло.
– Так что ты думаешь о наших отношениях? – не отставал он, зная, что совершает ошибку. – Будем изредка встречаться, когда тебе приспичит, трахаться до одури, а через несколько лет тебе это надоест, и прости-прощай? Ты так себе это представляешь? Джулия, побойся Бога, – в его голосе прорезался сарказм, – ты еще ни с кем так долго не встречалась. Какой у тебя был рекорд до меня – неделя?
– А ты, я вижу, всерьез озаботился этим вопросом.
– Конечно. А ты что, нет?
– По крайней мере, я не делаю мрачных прогнозов. – Джулия смягчилась. – Дорогой, ты правда думаешь, что если мы поженимся, то не сможем друг другу надоесть?
– Нет, но дело не в этом.
– Именно в этом. Джексон, хватит брюзжать, ты портишь такой прекрасный вечер.
Но вечер был уже испорчен.
Джексон не был уверен, что хочет жениться на Джулии, но его беспокоило столь яростное неприятие этой идеи. Он знал, что, если снова поднять тему отношений, не избежать крупного скандала, и эта мысль на удивление сильно его задевала.
Над городом громыхнула Часовая пушка, туристы, как и полагается, вздрогнули и рассмеялись. Обычай давно не имел никакого отношения к отсчету времени и явно отдавал театром – шоу для япошек и янки. Ничего общего с грохотом настоящей артиллерии. Настоящие снаряды либо загадочно трещат и хлопают вдалеке, либо взрываются так близко, что у тебя лопаются барабанные перепонки.
Он осмотрел здание в глубине Замка, где находился Шотландский национальный военный мемориал. Внутри оказалось на удивление красиво – в стиле движения искусств и ремесел[30], просветила его Джулия. Огромные красные книги были заполнены бесчисленными именами павших. Он знал, что где-то в их недрах есть имена троих его двоюродных дедов (они были братьями, какое несчастье для матери), но не стал их искать. Шотландцы мотались по миру, сколачивая Британскую империю, а потом умирали за нее. Его отец не воевал во Второй мировой: шахтеры освобождались от воинской повинности. «Как будто послабление какое, – усмехался тот, – пахать под землей по две смены». В шестнадцать, закончив школу, Джексон решил наниматься на шахту, но отец заявил, что не для того всю жизнь надрывался «в этой вонючей дыре», чтобы сын пошел по его стопам. Тогда Джексон записался в армию, в Йоркширский полк, потому что именно Йоркшир был его домом, а не это продуваемое всеми ветрами царство серого камня. Его брат Фрэнсис работал в шахте сварщиком, и отец не имел ничего против. Но к тому времени, как Джексону исполнилось шестнадцать, Фрэнсис был уже мертв, и Джексон оставался у отца единственным из троих детей, что, вероятно, добавляло ему ценности, хоть старый хрен никогда этого и не показывал.
Шеренги мертвецов, таблички с именами солдат, женщин, моряков торгового флота оставили Джексона равнодушным (смерть – обычное дело). Даже строки из Биньона: «На закате солнца и утром / Мы будем помнить их»[31] – на мемориале женским вспомогательным службам тронули его меньше обычного. Волнение в нем пробудило нечто иное – маленький барельеф, высеченный в полутора футах от пола, с изображением клетки с канарейками и стайки мышей. И подпись – «Друзьям проходчиков». Он сморгнул слезы, поперхнулся и громко покашлял, чтобы скрыть нахлынувшие эмоции. Джулия бы тут же бухнулась на колени и принялась гладить камень, точно зверюшку. Может, даже поцеловала бы. Надо бы привести ее сюда после премьеры спектакля. Ей понравится.
Выйдя наружу, он постоял во дворе и сфотографировал здание мемориала, заранее зная, что, когда он покажет фотографию Джулии, на ней не окажется ничего примечательного.
Этот фотоаппарат он подарил Джулии на Рождество – симпатичный увесистый цифровой «Кэнон», напоминавший Джексону военное снаряжение. На карте памяти сохранились их венецианские фотографии, и он пролистал маленькие цветные картинки, похожие на масляные миниатюры, пока пил чай в кафе Замка. Голубое весеннее небо всю ту неделю оставалось безоблачным, и снимки на дисплее казались крошечными декорациями кисти Каналетто с подрисованными Джулией и Джексоном. Вместе они были только на двух фотографиях: одну сделал услужливый турист-немец на мосту Риальто, а вторую сам Джексон с помощью автоспуска – они с Джулией сидят на гигантской кровати в номере «Чиприани» и чокаются бокалами с шампанским. Это было перед прогулкой на гондоле.
Джулия была очень фотогенична и включала сияние своей ярко накрашенной улыбки на полную мощность для каждого кадра. Улыбка у нее замечательная. Джексон вздохнул, расплатился за чай с кексом, добавив щедрые чаевые, и покинул Замок.
То́лпы, подобно раскаленной лаве, что некогда сформировала местный ландшафт, текли по Королевской Миле, огибая препятствия – статую Дэвида Юма[32], мима, волынщика, студенческие театральные труппы, людей, раздающих рекламки (их было просто тьма), еще одного волынщика, глотателя огня, жонглера факелами, женщину в наряде Марии Стюарт, мужчину в наряде Шерлока Холмса. Еще одного волынщика. Город был определенно en fête[33]. Было странно думать, что где-то, в какой-нибудь малоизвестной стране, сейчас идет война. Но где-нибудь всегда идет война. Война – в человеческой природе. В свое время она кормила, одевала и содержала Джексона, вряд ли ему стоило жаловаться. (Хотя кому-то другому стоило наверняка.)
Он спустился к Холирудскому дворцу, купил бумажный кулек картошки фри и пошел обратно по Королевской Миле. Еще один день без происшествий, подумал Джексон. И это хорошо, напомнил он себе. Как там в китайском проклятии? «Чтоб тебе жить в интересные времена». И все же могло бы быть немного поинтереснее. Ему вспомнились мужики из «хонды» и «пежо», вот для них день прошел интересно. Он почувствовал укол совести за то, что пренебрег гражданским долгом и не сообщил номер «хонды». Он и сейчас мог выдать его без запинки, у него всегда была хорошая память на цифры при полном отсутствии склонности к математике – курьезная мозговая аномалия.
Должно быть, он сходил за местного – кто-то из толпы, швед или норвежец, спросил у него дорогу, и Джексон ответил:
– Извините, я здесь чужой.
Так ведь обычно не говорят? «Чужой». Правильнее было бы сказать «приезжий». Чужой – все равно что чужак, то есть угроза.
– Турист, – поправился он, – я тоже турист.
8
Глория открыла парадную дверь и оказалась лицом к лицу с очередной парочкой женщин-полицейских. Они были как две капли воды похожи на тех, что она видела накануне, словно их достали из одной коробки.
– Миссис Хэттер? – спросила одна из них, заранее состроив мину, подобающую плохим новостям. – Миссис Глория Хэттер?
Грэм не сидел, как думала Глория, на экстренном совещании со своими бухгалтерами на Шарлотт-сквер. Он лежал в отделении скорой помощи Королевской больницы, сраженный сердечным приступом в номере отеля «Апекс» в компании некой Джоджо. Глория подумала, что так могли бы звать клоуна, но оказалось, что имя принадлежит девушке по вызову, иначе говоря – шлюхе.
– Называйте вещи своими именами, – вздохнула Глория.
Полицейские («Я – констебль Клэр Депонио, а это констебль Джемма Нэш») были похожи на подростков, нарядившихся в полицейскую форму для костюмированной вечеринки.
– Можно было просто позвонить.
Глория приготовила чай, и они уселись на ее обитый персиковым дамастом диван в персиковой гостиной, аккуратно разместив чашки с блюдцами ройял-долтоновского фарфора на коленях, и принялись вежливо клевать домашнее песочное печенье. Глория не сомневалась, что у них есть дела поважнее, но они явно были благодарны за передышку.
– Хоть какое-то разнообразие, – заявила одна из них (Клэр).
Джемма сообщила, что они заняты по горло, потому что вспышка «летнего гриппа» «посшибала» офицеров лотианской полиции, «как кегли».
– У вас красивый дом, – со знанием дела заметила Клэр.
Глория обвела взглядом персиковую гостиную, пытаясь увидеть комнату чужими глазами. Интересно, чего ей будет не хватать, если она всего этого лишится? Муркрофтского фарфора? Китайских ковров? Стаффордширских статуэток? Она обожала свою коллекцию стаффордширских статуэток. Она не будет скучать по картине над камином – полотну девятнадцатого века на охотничью тему, изображавшему объятого ужасом оленя в окружении стаи обезумевших гончих, – Мёрдо Миллер подарил ее Грэму на шестидесятилетие. И она точно сможет обойтись без той уродливой штуковины – награды «Шотландскому бизнесмену года», занимающей почетное место на каминной полке рядом со свадебной фотографией Грэма и Глории – единственной, как оказалось, фотографией, оставшейся у них со свадьбы. Глория была уверена, что, случись пожар и возникни у Грэма необходимость выбирать между свадебной фотографией и наградой «Шотландскому бизнесмену», он спасет неказистое плексигласовое изваяние. Более того, если ему придется выбирать между своей наградой и Глорией, он наверняка предпочтет спасти награду.
Констебль Клэр взяла свадебную фотографию и спросила, сочувственно наклонив голову, как будто Грэм уже окончательно списан со счетов:
– Это ваш муж?
Глория спросила себя, не странно ли, что она попивает чай из хрупкой долтоновской чашки, вместо того чтобы нестись сломя голову в отделение скорой помощи, как подобает верной супруге. Упрямый факт участия во всем этом Джоджо явно поколебал ее преданность долгу. Омрачил ликование по поводу вдруг ставшей такой возможной смерти Грэма.
Глория забрала фотографию у Клэр и внимательно посмотрела на снимок:
– Это было тридцать девять лет назад.
– Вам полагается медаль за долгую службу, – откликнулась Джемма, а Клэр сказала:
– Извините, что выражаюсь, но это чертовски долгий срок. Очень жаль, что все случилось именно так, ну, как его нашли и вообще. Вам, должно быть, неприятно.
– Все они мудаки, – пробормотала дурнушка Джемма.
Тяжелая серебряная рамка свадебной фотографии не могла скрыть того, что снимал непрофессионал. Она пожелтела от времени и напоминала любительский снимок, сделанный несколько криворуким родственником (как оно и было). Глория не могла понять отсутствия инициативы со стороны родителей, как ее, так и Грэмовых, запечатлеть тот день на пленке как положено.
Она жалела, что у нее не было настоящей белой свадьбы со всеми прилагающимися атрибутами, потому что тогда, пожелай Глория вспомнить прошлое, она смогла бы открыть большой, в белом кожаном переплете альбом с фотографиями, подтверждающими, что когда-то у нее была семья, которая заботилась о ней больше, чем ей в то время казалось, и все в этом альбоме навсегда остались бы красивыми. А главным персонажем была бы сама Глория – сияющая и тоненькая, не подозревающая, что жизнь уже ускользает из-под ног. Глорию очень удивило, что Грэма нашли в «Апексе», это совсем не в его стиле.
Вообще-то, свадьба у них была скорее коричневой. Грэм надел модный костюм цвета «негритянской кожи», как его беспечно называли, когда Глория была маленькой. На Глории было меховое манто из грассмаркетовской комиссионки, в стиле сороковых, сшитое из канадского бобра в ту пору, когда никто не задумывался над тем, хорошо ли это – носить мех. Хотя теперь Глория больше не носила шкур животных поверх своей собственной, манто на фотографии не вызывало у нее чувства протеста – те бобры уже давно упокоились с миром, прожив у себя в Канаде счастливую и беззаботную довоенную жизнь.
Если бы у Глории был белый альбом в кожаном переплете, ее мать, отец и старшая сестра – все были бы на его страницах. И конечно же, Джилл, та, что «первая пошла!», – она приехала на свадьбу с компанией школьных друзей и пила ночь напролет, когда все уже легли спать. Брата Глории, Джонатана, на фотографиях бы не было, потому что он умер в восемнадцать лет. Глории тогда было только четырнадцать, и она по-детски надеялась, что однажды он вернется. Теперь, когда она стала старше и понимала, что он ушел навсегда, она скучала по брату больше, чем сразу после его смерти.
Глядя, как девушки-полицейские садятся в патрульную машину, Глория подумала о Грэме в номере отеля, как он лежит на двуспальной кровати со шпоновым изголовьем, щелкает каналами телевизора, поглощает стейк с жареной картошкой и жалким подобием салата, уговаривает полбутылки красного сухого и ждет, когда придет женщина, чтобы заняться с ним профессиональным сексом. Сколько раз он предавал ее таким мерзким способом, пока она сидела дома в компании широкоэкранного телевизора «Авант» от «Банг-энд-Олуфсен»! Догадывалась ли она в глубине души о чем-то подобном? Наивность не оправдывает глупость.
Глория случайно опустила взгляд и заметила, что на ней свободный кашемировый кардиган из универмага «Дженнерс», песочного цвета, с медными пуговицами, который подходил только под одно определение – унылый. Так одевалась бы ее мать, будь у той побольше денег. Этот теткинский кашемир подтверждал то, что Глория подозревала уже давно: она шагнула из молодости в старость, ухитрившись упустить все то хорошее, что есть в промежутке.
Знакомое чувство. У Глории часто возникало ощущение, что ее жизнь – анфилада комнат, и стоит перейти в следующую, как выясняется, что все остальные ее уже покинули. Она родилась всего через год после войны, наложившей серьезный отпечаток на их домашний быт. Отец вспоминал, как воевал «вместе с Монти»[34], словно они бились плечом к плечу, а мать трудилась в тылу, героически занимаясь огородом и курами. Глория выросла с чувством, что упустила нечто исключительно важное, то, что никогда больше не повторится (так, разумеется, и было), и что ее жизнь из-за этого обречена быть блеклой. Примерно то же она чувствовала по отношению к шестидесятым. Ее юность пришлась на пору затишья между двумя революционными эпохами. К тому времени, как свингующие шестидесятые набрали обороты, Глория была уже замужем и выводила маркером на магнитной доске списки покупок.
Если бы она могла повернуть время вспять, то не слезла бы с табурета у стойки в пабе на мосту Георга IV и не пошла бы за Грэмом. Она бы получила диплом, переехала в Лондон, носила бы высокие каблуки и элегантные деловые костюмы (сохранила бы фигуру), напивалась бы по выходным и занималась сексом со столькими мужчинами, что и имен бы их не помнила, не говоря уже о лицах. Она посмотрела на часы: аукцион на «Ибэе» закрылся. Интересно, перебили ли ее ставку на стаффордширских борзых? Даже на краю могилы Грэм умудряется все портить.
По дороге к новой больнице, находившейся в Маленькой Франции, Глория прокручивала в уме предстоящий разговор с Грэмом. Джемма с Клэр предупредили ее, что он без сознания, но Глория почему-то не думала, что это помешает ему говорить. Грэм всегда говорил – это была его отличительная черта, поэтому, созерцая мужа в отделении скорой, подключенного к куче мигающих и пищащих мониторов, она ждала, что сейчас он откроет глаза и выдаст что-нибудь из своего репертуара («Глория, где тебя носило, мать твою?»). Его безмолвность и неподвижность ее озадачили.
Консультант объяснил Глории, что у Грэма была «перегрузка» и остановка сердца. Его «система» довольно долго не «заводилась», в результате чего сейчас он находится в коме, и неясно, выйдет ли из нее.
– По нашим подсчетам, – заявил консультант, – один из ста мужчин умирает во время полового акта. Пульс мужчины во время секса с женой составляет девяносто ударов в минуту. С любовницей – подскакивает до ста шестидесяти.
– А с девицей по вызову?
– Небось просто зашкаливает, – жизнерадостно ответил консультант. – Конечно, его удалось бы оживить быстрее, если б он не был связан.
– Связан?
– Девушка, что была с ним, пыталась его реанимировать, весьма находчивая особа.
– Связан?
Глория обнаружила весьма находчивую особу с клоунским именем Джоджо в приемной. Выяснилось, что ее зовут Татьяна.
– Я Глория, – сказала Глория.
– Привет, Глория, – откликнулась Татьяна, растягивая звуки, отчего приветствие прозвучало слегка зловеще, как у злодейки из фильмов о Джеймсе Бонде.
– Его жена, – пояснила Глория на всякий случай.
– Знаю. Грэм о вас рассказывает.
Глория попыталась представить, в какой момент взаимодействия Грэма с девицей по вызову речь могла зайти о ней. До, после, во время?
– Нет, не во время, – сказала Татьяна. – В процессе он не может говорить. – Она выразительно подняла брови в ответ на немой вопрос Глории. – Кляп.
– Кляп? – пробормотала Глория за чашкой кофе со слойкой в больничном кафетерии. Она впервые оказалась в новой больнице и несколько растерялась от ее сходства с торговым центром.
– Глушит крики, – как ни в чем не бывало объяснила Татьяна, разматывая булочку-улитку с изюмом и аккуратно отправляя кусочек в рот (манера, напомнившая Глории белок у нее в саду).
Глория нахмурилась, пытаясь представить, как можно быть привязанным к кровати в номере «Апекса». Никак? У кроватей ведь нет столбиков.
– А что он говорит? – спросила она. – Когда у него во рту нет кляпа.
Татьяна пожала плечами:
– Да всякое.
– Откуда вы? – спросила Глория.
– Из Толлкросса, – ответила Татьяна.
– Нет, вообще откуда? – уточнила Глория, и девушка сверкнула на нее своими зелеными кошачьими глазами.
– Из России, я русская.
На мгновение Глории почудились бескрайние березовые рощи и незнакомые прокуренные кофейни, хотя эта девушка, скорее всего, жила в бетонной многоэтажке в каком-нибудь до ужаса мрачном пригороде.
На ней были джинсы и спортивная майка, наряд явно нерабочий.
– Нет, конечно, – подтвердила она, – костюм здесь. – И показала содержимое большой сумки.
Глория успела заметить пряжки, что-то кожаное и подобие корсета, который на долю секунды заставил ее вспомнить бледно-розовое боди на шнуровке, которое носила ее мать.
– Ему нравится подчиняться, – зевнула Татьяна. – Влиятельные мужики все такие. Что Грэм, что его друзья. Идыоты.
Его друзья?
– О боже!
Она подумала о Мёрдо, муже Пэм. Пэм раскатывала по городу на своей новенькой «Ауди-А8» – в бриджклуб, в спортклуб, на чай в «Плезир-дю-шоколя». А Мёрдо в это время чем занимался? Страшно даже подумать.
Она вздохнула. Значит, вот чего Грэм хотел на самом деле – не «Уиндзмур» и не «Кантри-кэжуалз», не унылые медные пуговицы, а чтобы женщина, которая ему в дочери годится, связывала его, как индейку? Странно, как то, чего совсем не ожидал, в итоге совершенно тебя не удивляет.
Глория заметила крошечные золотые распятия в ушах Татьяны. Неужто она религиозна? Русские перестали быть коммунистами и ударились в религию? О таких вещах не принято спрашивать. Только не в Британии. Когда они были в отпуске на Маврикии, водитель, который вез их из аэропорта в отель, спросил у Глории: «Вы молитесь?» – с бухты-барахты, и пяти минут не прошло, как он посадил их в машину и забросил чемоданы в багажник. «Иногда», – ответила она. Это была неправда, но разочаровывать его своей безбожностью Глории не хотелось.
Глория никогда не понимала, зачем носить орудие пытки и казни в качестве украшения. С таким же успехом можно нацепить на себя петлю висельника или гильотину. По крайней мере, распятия у Татьяны в ушах были простые, без корчащихся в смертных муках близнецов-Иисусов. Неужели эти крестики не отпугивают клиентов? Евреи, мусульмане, атеисты, вампиры – каково им?
Татьяна вдруг разговорилась. Ее отец был «великим клоуном». (Возможно, этим и объяснялся ее псевдоним.) На Западе, сообщила она, к клоунам относятся как к «балаганным дурачкам», а в России они – «артисты экзистенциального жанра». С ней вдруг случился приступ славянской меланхолии. Она предложила Глории жвачку, та отказалась.
– То есть несмешные? – уточнила Глория, забирая из банкомата в больничном коридоре пятьсот фунтов.
Вот уже полгода она каждый день снимала по пять сотен. Деньги она держала в черном мешке для мусора в своем шкафу. Уже набралось семьдесят две тысячи двадцатифунтовыми банкнотами. Они занимали удивительно мало места. Интересно, сколько занял бы миллион? Глория любила наличные: их можно было потрогать и они всегда соответствовали номиналу. Грэм тоже любил наличные. Он любил наличные даже слишком – огромные суммы отмывались через счета «Жилья от Хэттера», выходя на свет чистенькими, как свежеотбеленное белье. Грэм давно отказался от старомодного способа – прачечных и соляриев, – в отличие от его друга Мёрдо. Пэм, похоже, пребывала в блаженном неведении о том, что любимый ею кашемир от «Джин Мьюр» и «Бэллентайн» покупался на грязные денежки. Незнание – не оправдание.
Глория поделилась уловом из банкомата с Татьяной. В конце концов, они обе, каждая по-своему, заработали деньги Грэма. В семидесятых женщины устраивали марши с плакатами «Зарплату за домашний труд». Зарплата за секс – еще более здравая идея. Убираться все равно нужно, нравится тебе это или нет, а вот секс – дело добровольное.
– Ну нет, сексом я с ними не занимаюсь, – заявила Татьяна, расхохотавшись, словно ничего смешнее в жизни не слышала. – Я не идыотка, Глория.
– Но вы же берете деньги?
– Конечно. Это бизнес. Все вокруг – бизнес. – Татьяна подкрепила свои слова универсальным жестом, потерев большой палец об указательный.
– Так за что же именно вам платят?
– Я их шлепаю по заднице. Связываю. Бью. Отдаю им приказы, заставляю делать всякие вещи.
– Какие?
– Сами знаете.
– Нет. Даже представить не могу.
– Лизать мои сапоги, ползать по полу, есть по-собачьи.
– Значит, ничего полезного, как пылесосить, например?
Кто бы знал! Все эти годы Глория могла бы шлепать Грэма по заднице и заставлять есть по-собачьи – и получать за это деньги!
– В России я работала в банке, – мрачно сказала Татьяна, как будто опаснее места для работы не придумаешь. – В России я голодала.
Глория заметила, что у Татьяны очень живая мимика, и подумала, что это ей досталось от отца-клоуна.
В обмен на деньги Татьяна извлекла из недр своего лифчика маленькую розовую визитку и написала на обороте номер мобильного и «спросить Джоджо». Она протянула визитку Глории. На лицевой стороне черными буквами было написано: «Услуги – Сделаем Все, Что Пожелаете!» Восклицательный знак наводил на мысль, что «Услуги» предоставляют аниматоров и воздушные шарики для детских утренников. И клоунов, подумала Глория. Она точно где-то уже видела этот логотип. Разве «Услуги» – не агентство по уборке? Глория не раз замечала их розовые фургончики у себя в квартале, а Пэм обращалась к ним, когда у ее домработницы в прошлом году случилось опущение мочевого пузыря. Глория всегда сама занималась уборкой, ей нравилось убираться. Так она убивала время с пользой.
– Ну да. – Татьяна пожала плечами. – Они занимаются и уборкой тоже, если клиент пожелает.
Мрачный акцент Татьяны придал слову «уборка» новый, парадоксальный смысл, точно это какое-то непристойное (если не жуткое) занятие.
Визитка еще хранила тепло Татьяниной груди, и Глории вспомнилось, как она собирала яйца из-под кур, которых мать держала в саду, хотя война давно закончилась и нужды в домашней птице уже не было. Татьяна запихала деньги в лифчик. Глория тоже часто прятала ценности под броню своего белья, полагая, что даже самый наглый грабитель едва ли осмелится взять штурмом бастионы ее постклимактерического «Триумфа» модели «Дорин», размера 95ЕЕ.
Они вместе направились к выходу из торгового центра/больницы, по дороге Глория купила в магазине пинту молока, почтовых марок и журнал. Она бы не удивилась, если бы где-то на больничных задворках оказалась мойка машин.
Вход-выход представлял собой огромный шлюз в передней части здания – люди сновали туда-сюда, разговаривали по телефону в ожидании такси и лифтов, отдыхали от рождения, или смерти, или иных мирских забот, которые их сюда привели. Пара пациентов в больничных халатах и тапочках хмуро глядели на внешний мир сквозь забрызганные дождем окна. По другую сторону стекла курильщики так же хмуро пялились внутрь.
После парниковой атмосферы больницы снаружи казалось холодно. Татьяна поежилась, и Глория предложила ей зеленый короткий макинтош. Превращавший Глорию в клон любой женщины средних лет, на Татьяне плащ смотрелся вполне стильно. Она выплюнула жвачку и закурила, одновременно тараторя по-русски в мобильник. Глория ощутила невольное восхищение. Татьяна была куда интереснее ее собственной дочери.
– Для вас это сюрприз, – сказала ей Татьяна, закончив телефонный разговор.
– Пожалуй, – согласилась Глория, – так и есть. Я всегда представляла, что он отправится на тот свет с поля для гольфа. Конечно, он еще не совсем нас покинул.
Татьяна похлопала ее по плечу:
– Не волнуйтесь, Глория. Скоро покинет.
– Думаете?
Татьяна уставилась вдаль, словно прорицательница.
– Поверьте. – Она снова поежилась, но уже, казалось, не от холода, и сказала: – А сейчас мне пора. – Она выскользнула из макинтоша элегантным, даже слегка театральным движением, и Глория предположила, что девушка когда-то занималась балетом, но Татьяна покачала головой и, возвращая плащ, бросила: – Трапеция.
В последний раз Глория видела Татьяну, когда та садилась в машину с тонированными стеклами, бесшумно подъехавшую к обочине. На секунду Глории показалось, что это машина Грэма, но потом она вспомнила, где сейчас Грэм.
9
Медсестра с милой улыбкой нашла Мартина в зале ожидания. Она присела рядом, и на секунду Мартин подумал, что сейчас она скажет: «Пол Брэдли умер». Раз так получилось, что он за него вроде как в ответе, ему, выходит, придется заниматься похоронами?
– Мы его еще немного подержим, – сказала она. – Ждем, когда вернется доктор, а потом его, скорее всего, выпишут.
– Выпишут? – Мартин был изумлен, он помнил Пола Брэдли в «скорой», закутанного в окровавленный кокон из детского одеяла. Он считал, что тот по-прежнему борется с забытьем.
– Рана головы поверхностная, перелома нет. Он вполне может вернуться домой, если вы присмотрите за ним до утра. Мы обычно ставим такое условие, если пациенты теряли сознание, не важно, надолго или нет.
Она продолжала ему улыбаться, и он выдавил:
– Хорошо. Ладно. Конечно. Спасибо…?
– Сара.
– Сара. Спасибо, Сара.
Она казалась совсем молоденькой и хрупкой, сама опрятность, светлые волосы были гладко зачесаны и стянуты в узел, как у балерины.
– Он сказал, вы – герой.
– Это чересчур.
Сара улыбнулась, и он не понял, чему именно. Она склонила голову набок, прямо воробушек.
– Вы мне кого-то напоминаете.
– Правда?
Он знал, что у него незапоминающееся лицо. Он был незапоминающимся человеком, очное знакомство с которым неизменно разочаровывало.
«Ой, вы такого маленького роста! – заявила одна женщина во время „часа вопросов“ после публичных чтений в прошлом году. – Разве нет?» Она повернулась к остальной аудитории за подтверждением этого факта, которое последовало незамедлительно, – все закивали и заулыбались ему, точно он только что превратился из мужчины в мальчишку. В нем было пять футов восемь дюймов, далеко не карлик.
Может, он писал, как коротышка? А как пишут коротышки? На обложках его книг никогда не было фотографии автора, – вероятно, издатели сомневались, что она увеличит продажи.
– Вовсе нет, – заявила Мелани, – это чтобы напустить на тебя таинственность.
Перед выходом последней книги они вдруг передумали и отправили к нему известного фотографа, чтобы та уловила «атмосферу». («Сделай его посексуальнее» – так на самом деле звучало напутствие фотографу в электронном сообщении, которое по ошибке переправили Мартину. По крайней мере, он надеялся, что по ошибке.) Фотограф предложила пойти к пруду в Блэкфорде, собираясь сделать депрессивные черно-белые снимки под зимними деревьями. «Подумайте о чем-нибудь очень грустном», – наставляла она, пока матери с маленькими детьми, пришедшие, чтобы покормить уток и лебедей, с нескрываемым любопытством их разглядывали. Мартин не мог взгрустнуть на заказ, печаль возникала в нем спонтанно, при воздействии определенных зрительных образов: мертвые котята в рекламных роликах Королевского общества по предотвращению жестокого обращения с животными, кадры старой хроники с горами очков и чемоданов, концерт для виолончели № 2 Гайдна. Сентиментальное, ужасающее и возвышенное – все это с равным успехом выжимало из него слезу.
– О чем-нибудь из вашей собственной жизни, – уговаривала его известный фотограф. – Например, каково вам было, когда вы оставили сан? Наверняка очень непросто.
И тут Мартин, в порыве несвойственного ему неповиновения, заявил:
– Не буду.
– Слишком сложно, да? – закивала фотограф с деланым сочувствием.
В результате она сняла его в образе галантного серийного убийцы из пригорода, и книга вышла, как обычно, без фотографии на обложке.
– Мартин, тебе надо добавить присутствия, – сказала ему Мелани. – Это моя работа – говорить тебе такие вещи, – добавила она.
Он нахмурился и переспросил:
– Правда?
Противоположность присутствия – отсутствие. Незапоминающийся человек с незапоминающимся именем. Скорее отсутствие в мире, чем присутствие.
– Нет, серьезно, – настаивала Сара, – я уверена, что где-то вас видела. Чем вы занимаетесь?
– Я писатель.
Он тут же пожалел, что сказал это. Во-первых, звучало как-то хвастливо (хотя само ремесло не давало ни малейшего повода для высокомерия). А во-вторых, разговор всегда заходил в тупик, следуя по накатанной колее: «Правда? Вы писатель? Что пишете? – Романы. – Какие романы? – Детективные. – Правда? Где вы черпаете идеи?» Последний вопрос для Мартина был наполнен нейробиологическим и экзистенциальным смыслом, и ответ на него лежал далеко за пределами его компетенции, но тем не менее ему постоянно его задавали. «Даже не знаю, – он научился отвечать мутно, – практически везде». («Мартин, ты слишком много думаешь, – говорил его акупунктурист китаец Мин Чен, – но не о хороших вещах».)
– Правда? – спросила Сара.
Ее чистое личико напряглось, очевидно, девушка пыталась представить, каково это – быть «писателем». Люди почему-то считают эту профессию гламурной, хотя Мартин никак не мог понять, что гламурного в том, чтобы день за днем сидеть в комнате наедине с собой и пытаться не сойти с ума.
– Сентиментальные детективы, – сказал Мартин, – без ужасов и крови. Вроде как если скрестить мисс Марпл с доктором Финлеем[35], – добавил он, сознавая, что почему-то оправдывается. Интересно, слышала ли она хоть об одном из этих персонажей? Скорее всего, нет. – Главную героиню зовут Нина Райли, – покорно продолжал он. – Она унаследовала детективное агентство от дядюшки. – Как глупо звучит. Совершенно по-идиотски.
В приемную вошли все те же полицейские. Увидев Мартина, первая воскликнула:
– Вот вы где! Нам нужно взять у вас показания. Мы вас обыскались.
– Я все время был здесь, – ответил Мартин.
– Спорим, вы не угадаете, чем он занимается? – обратилась к полицейским Сара.
Обе женщины уставились на него с серьезным видом. Наконец вторая сказала:
– Не знаю. Сдаемся.
– Он – писатель! – ликующе заявила Сара.
– Не может быть, – отозвалась первая.
Вторая изумленно покачала головой:
– Мне всегда было интересно узнать про писателей. Где вы берете идеи?
Мартин отправился прогуляться по больнице, взяв с собой сумку Пола Брэдли. Он уже практически с ней сроднился. Зашел в магазин, посмотрел на газеты. Пошел в кафе и выпил чашку чая, зачерпнув в кармане горсть мелочи. Интересно, можно ли жить в больнице, оставаясь незамеченным? Здесь есть все необходимое: еда, тепло, туалетные комнаты, кровати, чтиво. Кто-то оставил на столике «Скотсмен». Он начал лениво разгадывать кроссворд Дерека Аллена. «Первый шотландец на связи». Четыре буквы. «Белл».
Сидя за чаем, он вдруг различил в гомоне кафе иностранный акцент – говорила женщина. Русская. Но, оглядевшись по сторонам, не смог ее вычислить. Русская женщина в Королевской больнице – это неспроста, она объявилась, чтобы наказать его, предать правосудию. Может, у него галлюцинации. Он попытался сконцентрироваться на черно-белых квадратиках. Мартин не был силен в кроссвордах. «Лина и Берта видели, как рушилась стена». Шесть букв. Больше всего ему нравились анаграммы. Только и надо, что переставить буквы. «Берлин».
«Идыот» – он точно слышал, как невидимая русская девушка произнесла это слово. В Санкт-Петербурге есть кафе «Идиот». Мартин был там с Ириной и ел борщ, по цвету точь-в-точь как пиджак, который ему приходилось носить в школу. Для человека, находившегося в постоянном единоборстве с безнравственной и равнодушной вселенной, Достоевский изрядно времени проводил в кафе, ибо каждый второй кабак Петербурга причислял его к списку былых завсегдатаев. «Джаспер, Карл и Артур отправились в столицу». Восемь букв. «Джакарта». Он снял очки и потер переносицу.
Он купил турпакет – из тех, что рекламируют в колонках путешествий в субботних газетах. «Чудо северного сияния – пятидневный круиз вдоль побережья Норвегии», «Волшебная Прага», «Прекрасный Бордо – дегустация вин для начинающих», «Осень на озере Комо». Безопасный способ путешествовать (для труса), все уже организовано, от тебя требуется лишь появиться в аэропорту с паспортом. Для среднего класса, среднего возраста, Средней Англии. И Средней Шотландии, конечно. Прячемся в стадо туристов.
В прошлом году рекламировали тур «Магия России – пять ночей в Санкт-Петербурге». Мартин всегда хотел побывать в этом городе. Городе Петра Великого, Достоевского и Дягилева, прибежище зрелого Чайковского и юного Набокова. Штурм Зимнего дворца, Ленин на Финляндском вокзале, Седьмая симфония Шостаковича в прямом радиоэфире в августе 1942-го, в разгар блокады, – невероятно, что один город может быть настолько отмечен историей. (Почему в университете он не выбрал историю вместо религии? В истории больше страсти, в человеческих поступках – больше духовной истины, нежели в религии.) Как бы ему хотелось написать роман о Петербурге, настоящий роман – без Нины Райли. Как ни крути, в конце сороковых Нине было бы затруднительно попасть в Санкт-Петербург, точнее, в Ленинград. Хотя она могла бы тайно перебраться из Швеции в Финляндию, а потом нелегально перейти границу или пересечь Финский залив (с лодкой она управляться умела).
Мартин, как водится, легко обзавелся нежеланным попутчиком – тот приклеился к нему в зале отлета и больше уже не отходил ни на шаг. Бакалейщик на пенсии из Сайренсестера, не успев представиться, заявил Мартину, что у него последняя стадия рака и поездка в Петербург – один из пунктов списка «успеть до смерти».
Если верить брошюре, им предстояло жить в «одном из лучших туристических отелей города», и Мартин сразу решил, что «туристический отель» в переводе с русского означает безликую бетонную многоэтажку советской постройки, с бесконечными одинаковыми коридорами и отвратительной кормежкой. В путеводителе, который он изучал перед отъездом, были фотографии интерьеров «Астории» и Гранд-отеля «Европа», благоухавших роскошью добольшевистского декаданса. В его же отеле номера больше походили на коробки для обуви. Однако даже этот коробочный номер оказался с подселением. В первую же ночь, встав в туалет, Мартин едва не раздавил пасущегося на прикроватном коврике таракана. Кроме того, в отеле шла стройка, казалось, что его сносят и отстраивают одновременно. По лесам сновали мужчины и женщины – защитного снаряжения на рабочих он не заметил. Все тонким слоем покрывала бетонная пыль. Номер был на седьмом этаже. Когда в первое утро Мартин открыл шторы, он обнаружил за окном двух женщин средних лет – на головах у них были косынки, а в руках – инструменты.
Убогость номера скрашивал вид из окна – простор Невы в обрамлении Зимнего дворца – классический вид, подобно Венеции со стороны лагуны. Прямо напротив стояла на якоре «Аврора». «„Аврора!“ – воскликнул он за завтраком, обращаясь к умирающему бакалейщику. – Она дала залп, послуживший сигналом к началу революции», – добавил Мартин, поймав пустой взгляд бакалейщика.
Весь первый день они ходили по церквям, покорно следуя за своим гидом Марией в Казанский собор, Исаакиевский собор, Спас на Крови, собор Святых Петра и Павла («Здесь похоронены наши цари», – гордо объявила Мария, словно коммунизма никогда и в помине не было).
– Вам тут небось нравится, – сказал бакалейщик; они остановились пообедать в месте, напомнившем Мартину школьную столовую, с той лишь разницей, что здесь явно поощрялось курение. – Вы ведь человек религиозный и все такое.
– Нет, – возразил Мартин уже не в первый раз, – я преподаю историю религии. Это не значит, что я религиозен.
– Значит, учите тому, во что сами не верите? – спросил умирающий бакалейщик с неожиданной агрессивностью.
Перед лицом смерти он обрел высокие моральные устои. А может, они всегда у него были.
– Нет, да нет, – сказал Мартин.
Дискуссию осложняло то, что он притворялся учителем, хотя уже семь лет не переступал школьного порога. Ему не хотелось рассказывать, что он писатель, и все пять дней ходить с этим клеймом, заранее зная, какие вопросы ему будут задавать, и понимая, что спрятаться некуда. В самолете один парень из их группы, сидевший через проход от Мартина, читал «Заповедного оленя» – второй роман из цикла о Нине Райли. Мартина так и подмывало невзначай поинтересоваться, нравится ли ему книга, но возможный ответ – скорее «Дерьмо полное», а не «Отличная книга, рекомендую!» – пугал его.
Мартин бросил отстаивать свою нерелигиозность перед бакалейщиком, потому что тот как-никак умирал и, возможно, вера – единственное, что держало его на плаву, – вера и список оставшихся дел. Идея со списком Мартину не нравилась, ведь когда из него будет вычеркнут последний пункт, останется только умереть. Или, может, смерть и есть последний пункт.
Возвращаясь с обеда по каналу, вьющемуся в переулке, к очередной церкви, они прошли мимо деревянного рекламного щита на тротуаре, гласившего: «Петербургские невесты – зайдите познакомиться». Кое-кто хихикнул, а бакалейщик, вознамерившийся одолевать Мартина до самой таки смерти, заявил: «Знаем мы этих невест».
«Ритор любит мед, но ест лобстера». Восемь букв. «Термидор».
Мартин почувствовал укол совести. Он заходил на такие сайты в интернете. Подумывал о том, чтобы купить невесту (потому что – от правды не скроешься – он не мог заполучить ее даром). Поначалу он надеялся, что успех добавит ему привлекательности в глазах женщин, что он сможет позаимствовать харизму у своего альтер эго, интересного мужчины Алекса Блейка. Но ничего не произошло. Определенно, он носил на себе печать неприкасаемых. Он был из тех, кто на вечеринках моет бокалы на кухне. «Мартин, ты как будто бесполый», – сказала одна девушка, наверняка считая, что очень ему помогла.
Если бы существовал сайт, предлагающий «старомодных британских невест (но не таких, как ваша мать)», Мартин наверняка на нем зарегистрировался бы, но такого сайта не было, поэтому сначала он посмотрел невест из Таиланда («миниатюрные, сексуальные, внимательные, любящие, покладистые»), но сама идея показалась ему липкой. Несколько месяцев назад в «Джон-Льюисе»[36] ему повстречалась подобная пара: отталкивающего вида толстяк средних лет с повисшей у него на руке крошечной юной красавицей, которая улыбалась ему, словно божеству. Окружающие глазели на них и сразу всё понимали. Она была точно как те девушки в интернете – маленькая и беззащитная, совсем ребенок. Его затошнило, как если бы он наткнулся на порносайт. Мартин бы скорее умер, чем стал смотреть порно в Сети, – во-первых, он боялся, что эти сайты отслеживает полиция, и стоит ему кликнуть на «горячих телок» или «заходи-кончай», как тут же примчатся копы, высадят дверь и арестуют его. Он испытывал такой же ужас при мысли о том, чтобы купить прессу с верхней полки в журнальном киоске. Он знал (такая уж карма), что, положи он журнал на прилавок, кассирша (это обязательно будет женщина) гаркнет менеджеру: «Почем у нас „Большие титьки“?» А закажи он что-нибудь этакое по почте, компромат выпадет из упаковки, не успев перейти из рук почтальона в его собственные, и, конечно же, в этот момент мимо пройдут викарий, старушка и ребенок. «Гуннов нет, но есть писатель». Восемь букв. «Воннегут».
Русские невесты в интернете не были похожи на девочек и не производили впечатления особенно покладистых. Людмилы, Светланы и Лены казались взрослыми женщинами, которые знают, что делают (торгуют собой – от правды не скроешься). Их разнообразные достоинства и таланты потрясали воображение, они любили диско и классику, гуляли по музеям и паркам, читали газеты и романы, следили за фигурой и знали иностранные языки, работали бухгалтерами и экономистами, были «серьезными», «добрыми», «целеустремленными» и «элегантными» и искали «порядочного мужчину», «интересного собеседника» и «романтика». С трудом верилось, что за этими впечатляющими резюме стоят настоящие, живые женщины, а не просто обитательницы виртуального пространства, – но вот же они, эти Людмилы, Светланы и Лены или им подобные, за большой деревянной дверью на (немного жутковатых) улицах Петербурга. От этой мысли у него внутри все затрепетало от ужаса. Он узнал это чувство: то было не желание, то был соблазн. Он мог получить желаемое, купить себе жену. Разумеется, он не думал, что они действительно сидят, как овцы в загоне, за этими облезлыми стенами. Но они были близко. В этом городе. Они ждали.
У Мартина был свой женский идеал. Не Нина Райли и не покупная жена, мечтающая об экономическом благополучии и новом паспорте. Нет, его идеальная женщина была родом из прошлого – этакая добрая английская женушка, молодая вдова, потерявшая мужа – летчика-истребителя – в Битве за Британию и теперь храбро преодолевавшая невзгоды, в одиночку воспитывая сына. «Милый, папочка умер, он был красивым и храбрым, и он сражался, чтобы жить для тебя, но ему пришлось нас покинуть». Этот серьезный мальчик по имени Питер или Дэвид носил серые рубашки с цветными вязаными безрукавками. У него были напомаженные волосы и ободранные коленки, и больше всего на свете ему нравилось по вечерам собирать с Мартином модели самолетов. («Как раз на таком папа летал, да?») Мартин охотно уступал первенство в их сердце пилоту «спитфайра» (Роли или Джиму), ласточкой взмывавшему в голубые английские небеса. Мартин знал, что эта женщина благодарна ему за то, что он помог ей склеить разбитую жизнь, и никогда его не бросит.
Иногда ее звали Марта, изредка – Эбигейл (в воображаемой жизни легко изменить личность), но, как правило, она обходилась без имени. Дать ей имя означало сделать ее реальной. И одновременно признать, что ее существование невозможно.
Женщин лучше не выпускать из собственного воображения. Когда они вырываются оттуда в хаос реального мира, они становятся вспыльчивыми, враждебными и донельзя пугающими. Из-за них случаются происшествия. Его вдруг затошнило. «Ждет подсудимого, который и после вынесения приговора окажется в подвешенном состоянии». Пять букв.
10
Джексон сел в 41-й автобус на Маунд-плейс и подумал: ладно, если она хочет, чтобы он катался на автобусе, пусть так и будет. Длинный маршрут 41-го заканчивался в Крэмонде. Он знал только гимн «Крэмонд». Или то был «Краймонд»? В мире столько всего, чего он не знает. «Господь – пастырь мой». Неужели? Что-то не похоже.
На автобусной остановке с ним заговорила пожилая женщина:
– В Крэмонде очень красиво, можно сходить на остров. Вам наверняка понравится.
Он ей поверил. Многолетний опыт приучил Джексона к тому, что пожилые женщины обычно говорят правду.
Он сел на втором этаже, спереди, и на мгновение снова почувствовал себя ребенком – вспомнил, как любил сидеть наверху вместе со старшей сестрой. В те времена верхний этаж отводился курильщикам. И жизнь была до боли проста. Он часто думал о покойной сестре, но обычно это был отдельный образ (фантазия о сестре). Ему редко являлись четкие картины прошедших событий, и от этого нежданного воспоминания о том, как он сидел рядом с Нив в автобусе – запах ее фиалковой туалетной воды, шуршание ее нижней юбки, ее рука рядом с его рукой, – сердце сжалось в комок.
Старушка оказалась права, в Крэмонде действительно было очень красиво. Этот пригород Эдинбурга больше напоминал деревеньку. Джексон прошелся мимо дорогих домов, красивой старой церкви, спустился к гавани, где лениво плавали лебеди. Дух кофе и жареного, доносившийся из кухни «Крэмондской таверны», смешивался с соленым запахом дельты. Он думал, до острова придется добираться на пароме, но оказалось, что туда легко можно дойти пешком по короткой каменистой дороге. Не нужно было сверяться с таблицей приливов, чтобы понять, что море отступает, обнажая каменный хребет. В воздухе еще висела сырость после утреннего дождя, но неожиданно и очень кстати выглянуло солнце, заиграв на свежевымытом песке и гальке. В камнях деловито копались чайки и цапли всех видов и расцветок. Как сказала бы Джулия, для него прогулка на свежем воздухе – то, что доктор прописал. Нужно проветрить голову, избавиться от лежалых мыслей, найти прежнего Джексона, который куда-то запропастился. И он зашагал к острову.
Навстречу ему бодро шла пара опрятных пенсионеров в ветровках «Питер Сторм», с биноклями на шеях. Их веселое «Добрый день!» звоном отдалось у него в ушах. «Скоро прилив!» – энергично добавила женщина. Джексон согласно кивнул.
Наблюдатели за птицами. Как же их называют? Дергуны. Бог знает почему. Что за развлечение – наблюдать за птицами? Нет, милые создания, конечно, но наблюдать за ними – все равно что отслеживать номера проходящих поездов. Джексону была чужда аутическая, мужская (по большей части) страсть к коллекционированию и рассматриванию.
Едва он добрался до острова, солнце скрылось, отчего окружающая атмосфера сделалась странно гнетущей. Изредка ему попадались остатки военных укреплений – уродливые куски бетона, придававшие пейзажу унылую безысходность. Над головой, угрожающе крича, носились чайки, защищая свою территорию. Остров оказался намного меньше, чем он ожидал. Джексон обошел его минут за десять. На пути ему никто не встретился, чему он был даже рад. Только чудики могли бы слоняться по такому месту. Себя он чудиком, понятно, не считал. Хотя вокруг не было ни души, у него было странное чувство – которому совсем не хотелось доверять, особенно при дневном свете, – что за ним наблюдают. Легкий приступ паранойи, ничего больше. Джексон не собирался ей потакать, но, когда над морем появилось распухшее багровое облако, неумолимо приближающееся к заливу Ферт-оф-Форт, он с облегчением воспринял это как знак, что пора возвращаться.
Он посмотрел на часы. Четыре. На планете Джулия время пить чай. Ему вспомнился теплый, ленивый вечер прошлого лета, проведенный в грантчестерском «Фруктовом саду», когда, напившись чаю, они с Джулией растянулись в шезлонгах под деревьями. Они навещали сестру Джулии, по-прежнему жившую в Кембридже; встреча вышла короткой и неловкой, и Амелия отказалась с ними «чаёвничать». Словечко Джулии. В ее лексиконе была «тьма-тьмущая» старомодных выражений – «мировой», «опаньки», «божечки», – явившихся как будто из довоенного девичьего ежегодника, а не из собственного прошлого Джулии. Для Джексона слова имели строго утилитарную функцию, они помогали добраться в нужное место и объяснить что и как. Для Джулии каждое слово обладало непостижимой эмоциональной нагрузкой.
Естественно, «послеполуденный чай» было одним из любимейших выражений Джулии. («Эти слова хороши и по отдельности, но вместе им просто цены нет».) Обычно оно сопровождалось шлейфом из цветистых определений вроде «восхитительный», «вкуснейший» и «божественный».
Также она была неравнодушна к «выпечке с пылу с жару», «осеннему равноденствию» и «угольно-черному» (загадка). Она говорила, что есть слова, заставляющие ее «мурлыкать от удовольствия»: «ром», «вульгарный», «blanchisserie»[37], «фортель», «коварный», «сокровище», «дивертисмент». Отдельные поэтические строки: «Кораллом стали кости в нем»[38] и «Они утекли – те, кто раньше искал моей дружбы»[39] – приводили ее в сентиментальный экстаз. Заслышав «Аллилуйя» из «Мессии» Генделя, она принималась всхлипывать; «Лесси, вернись» (весь фильм, от первой минуты до финальных титров) вызывал такую же реакцию. Джексон вздохнул. Джексон Броуди – вечный победитель шоу «Мистер и миссис».
В кармане пчелой зажужжал телефон. Джексон всмотрелся в экран – все равно нечего делать, надо бы сходить проверить зрение. Сообщение от Джулии: «Как ты там? приглос на р моута вечером в нашей кассе! Чмоки Джулия хххххххххххх». Джексон понятия не имел, что она имела в виду, но при мысли о том, как она набирала все эти х-поцелуи, почувствовал прилив нежности.
Он уже собирался возвращаться, но тут взгляд зацепился за что-то лежащее на камнях, у бетонных развалин поста наблюдения. На секунду ему показалось, что это просто куча тряпья, он надеялся, что это куча тряпья, но всего через один пропущенный удар сердца Джексон понял, что это вынесенное на берег приливом тело. Останки или остатки?
