Читать онлайн Едва слышный гул. Введение в философию звука бесплатно
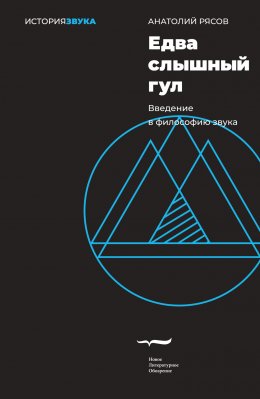
Открытие новых кафедр давно превратилось в рутину, и потому есть что-то подозрительное в самой идее создания дисциплины, призванной «дополнить» более экзотическими разделами длинную традицию, скрепляющую звенья философии техники, философии искусства, философии языка. Впрочем, не меньшее сомнение вызывают и стремления четко обозначить пределы интересов философии, раз и навсегда определив ее предмет и ограничив ее «место» университетской кафедрой. Точкой отсчета для этого разговора стало желание разобраться, почему звукозапись и философия движутся если не противоположными, то как минимум параллельными путями. Дело не в том, что звукоинженеры, как правило, не видят смысла в чтении философских текстов, и даже не в том, что философы почти не уделяли внимания размышлениям о сущности звучащего. Сомнительна прежде всего сама ситуация, в которой проблемы звука обособились и оказались ограничены сферами науки и искусства, а еще чаще и вовсе не покидают территории техники. Что же может означать вслушивание в звук из пространства философии?
§ 1
УВЕРТЮРА. НЕЯСНОСТЬ МУЗЫКИ
Как правило, от музыки не ждут изобразительности. Сегодня мало кому придет в голову критиковать Мессиана за невнятное иллюстрирование природной стихии или утверждать, что Вивальди преуспел в этом больше. Почему человек, далекий от размышлений о проблемах искусствознания, способен считать неумелыми работы Поллока, но при этом может если не восторгаться атональными музыкальными экспериментами, то по крайней мере осмотрительно признавать мастерство исполнения?
Проблему можно обозначить и точнее. В обществе, воспринимающем музыку как составляющую комфорта, несомненно, может присутствовать неприятие всего, что нарушает уютный покой, – особенно это касается агрессивно-авангардных композиторских опытов. Но если музыка и способна нервировать, причем порой даже сильнее, чем полотна абстрактных экспрессионистов, то едва ли подобное раздражение будет вызвано несовершенством мимесиса, несоответствием изображаемому явлению. Музыка приводит в гнев или восторг по каким-то другим причинам. Ее реже путают с зеркалом, отражающим повседневный опыт.
Мелодия может походить на пение птиц, а гармония – вряд ли. Подражание грому или кошачьему мяуканью, конечно, встречается в музыкальных произведениях, но едва ли подобные экзерсисы могут претендовать на определяющую роль. Поиск культурологических аспектов нельзя назвать непродуктивным, но тем не менее в музыке всегда остается «неучтенный» пласт, в принципе не подходящий под определение систематизируемой информации. Рискну предположить, что в музыке сила, противостоящая легкомысленному копированию, допускается из‐за того, что музыкальная стихия с самого начала представила себя как нечто абстрактное и непонятное. Возможно, главная особенность этих звуков и пауз заключается в том, что им никогда не нужно было доказывать правомерность собственной неясности. Музыка не повествует о слышимом, а делает его слышимым. Она не пытается объяснять саму себя, для этого музыке придется выйти за свои пределы. Звучащие ноты – не разъяснение, а предъявление неясности. В этой смутности как будто бы есть что-то различимое, но мы не способны до конца понять, sense перед нами или nonsense и в какой пропорции они смешаны. В музыке присутствует безумие, а один из архетипов этой связи – поющая Офелия.
Конечно, музыка способна выражать некий смысл, но расплывчатость этого выражения заранее имела здесь больше оправданий, чем в живописи и литературе. Куда чаще на первый план выходила именно неформулируемость выражаемого. Нужно признать, что музыка – крайне неудобная и ненадежная форма коммуникации. Так, например, в маркетинге мелодия может низводиться до уровня доступного сообщения, но не так-то просто создать рекламный ролик, состоящий исключительно из музыки и полностью лишенный визуальной и текстовой составляющих.
Скорее всего, тысячелетия назад принципы теории «чистого искусства» проще всего было бы донести до музыкантов. Или же это иллюзия – и музыка всегда была пронизана информационными кодами в той же степени, что и другие виды искусства? Споры на эту тему затихали и возобновлялись в течение столетий. Но так или иначе, сам факт, что звук – даже в эпоху клише – сумел отстоять право на абстракцию, достоин изумления. Впрочем, может быть, объяснять это стоит не только особенностью художественной формы, но и стечением обстоятельств. Культура, превозносящая орнаментальную мозаику и с недоверием взирающая на музыкальные формы, будет отнюдь не более экзотической. Пример подобной традиции – ортодоксальный ислам. Неодобрение музыкальных форм веками соседствовало у мусульман с богатейшей традицией каллиграфии, орнаментов и мозаик. Но удивительно, что первейшая из ассоциаций с этой религией не имеет отношения к визуальному: ислам немыслим без распевов муэдзина.
Итак, автономность, абстрактность музыки позволяет говорить о том, что она способна ничему не подражать, ничего не изображать, не иллюстрировать ничего знакомого из повседневной жизни. Атеист и верующий могут слушать Баха с одинаковой завороженностью. Толком не понимая, что́ сообщает нам музыка, мы способны реагировать на нее благоговением, волнением, напряжением, негодованием, слезами. Часто даже нельзя понять, радостна она или печальна – то ли насыщена эмоциями, то ли их лишена. Что это за странность, в которой восприятие достигает наивысшей степени интенсивности и сталкивается с чрезмерностью бытия? Природу этих противоречий непросто разъяснить, она слишком темна и безымянна. Более того, она в принципе не нуждается в строгой определенности содержания.
Конечно, музыку можно свести к фону и вообще не ставить вопроса о ее смысле. В кино работа композитора часто превращается в подобного рода звуковые обои. Но для того, чтобы действительно ее услышать, недостаточно просто соблюдать дистанцию, традиционно отделяющую зрителя от художественного объекта. Чтобы внимать музыке, надо поддаться ей, уступить. Или даже в нее нужно сорваться. Вслушиваясь, мы проваливаемся в область ускользания смысла – вопреки рациональности европейской музыкальной традиции, логика и нонсенс здесь начинают беспрепятственно перетекать друг в друга, как жидкости в сообщающихся сосудах. От этого не застрахованы даже математически выверенные партитуры «Мессии» Генделя, в которых звуковысотность порой зависит от смысла произносимых слов. Жесткие законы серийной техники вовсе не диктуют восприятие сочинений Веберна как недвусмысленной информации – даже для тех, кто в совершенстве эти методы освоил. Мелодия все равно не соглашается на роль понятного сообщения и продолжает сохранять в себе горизонт неопределенности. И этот просто звук – до всяких аналогий и ассоциаций, как правило, теряющийся за обсуждением мастерства исполнителей или содержания либретто, – и впрямь способен вызывать у человека не меньшую тревогу, чем цвет, остающийся просто цветом. Он так же сильно действует на нервную систему, минуя все идеи и содержания. В этом «просто» исчезает вся пропасть между музыкой и живописью.
Когда Ален Бадью называет музыку «наивысшей концентрацией звука»1, с этим определением не хочется спорить. Парадоксальным образом мы способны приблизиться к просто звуку (цвету) прежде всего через сложные, насыщенные прибавочными смыслами системы: музыку и живопись. Уже сам частотный диапазон музыки демонстрирует невероятную мощь звука. Частотная характеристика звуковых мониторов чаще становится ясной не через воспроизведение шума, а благодаря прослушиванию музыкальной фонограммы: симфонический оркестр дает нам звуковую палитру поразительной широты. Но только ли поэтому музыка кажется стоящей ближе к звуковой истине, чем, например, телефонный звонок или скрежет сверла? Отчего вой полицейской сирены в сравнении с симфоническими поэмами Вареза ощущается как нечто более примитивное – вроде рекламного слогана, попавшегося на глаза сразу после прочтения стихотворения Целана? Или, может быть, музыка слишком уводит в сторону от более ранних звуков, еще теснее связанных с бытием, – например, плеска волн или гула ветра? Или, наоборот, позволяет лучше понять и расслышать их?
Так или иначе, здесь, как в экстатических культах и радениях, способно исчезать то, что имеет отношение к обмену информацией. В этих «просто» таится что-то неясное, безрассудное, но при этом выражающее глубочайшую сущность мира. Рушатся замки смысла, казавшиеся неприступными, все срывается в смутную, изменчивую пропасть, издавна привлекавшую внимание философов. Если представить, что кто-нибудь настаивает на необходимости дать определение философии в одной фразе, то я рискнул бы ответить так: это мышление, которое имеет дело с миром, еще не наделенным ясными значениями.
ГЛАВА I
Звук и технический миф: краткая история
Сегодня звук принято считать делом специалистов. Настоящее право говорить о нем имеют профессионалы, сидящие за необъятными консолями, внешний вид которых напоминает навигационные системы космических кораблей. Уже само количество кнопок, фейдеров и индикаторов должно свидетельствовать о сакральности экспертных знаний. Возможно, именно техника – главнейший барьер, мешающий философии и звукозаписи различить территорию, на которой пересекаются их интересы. Горы цифрового и аналогового оборудования с каждым днем громоздятся все выше, утверждая неминуемость не-встречи звукозаписи и философии, препятствуя взаимопереводимости их языков. Суждение о проблемах звука, если оно не принадлежит физику или инженеру, кажется дилетантством, а философия представляется областью мысли, предельно далекой от профессионального интереса акустиков и звукоинженеров. Разговоры звукорежиссеров, как правило, сводятся исключительно к теме оборудования: обсуждению новых микрофонов, приборов обработки звука, компьютерных программ и плагинов. Молодым инженерам все сложнее начать работу в студиях, потому что технологии с каждым десятилетием видоизменяются заметно быстрее, чем на этапе появления первых звукозаписывающих устройств. «История техники» больше не кажется экзотической образовательной дисциплиной. Начальным этапом в карьере звукорежиссера чаще всего оказывается должность техника студии, занятого подключением приборов, которые обеспечивают занятость более квалифицированных инженеров. Но при этом слово «философия», как ни странно, нередко произносится инженерами и даже фигурирует в технических описаниях в значении «общих принципов работы устройства» или «звукорежиссерских методик»: философия аналогового пульта, философия цифрового сведе́ния, философия записи при помощи наложений и т. п.
В свою очередь, темпы развития звуковых технологий обуславливают неизбежность отставания их концептуального осмысления. Погружение в тонкости работы машин нередко кажется необязательным для анализа глобальных изменений в мышлении. Способы использования оборудования, как правило, представляются куда более важной темой, чем принципы его устройства – словно бы философ заранее обречен руководствоваться точкой зрения пользователя, а не разработчика. В результате не просто усиливается антагонизм между технофобией и технофилией, не только возрастает взаимопренебрежение философского и технологического дискурсов, но и становится все менее различимой связь между эпистемологией, научной методологией и развитием техники. Инженерам кажется, что философия давно перестала оказывать влияние на их разработки, уступив место научной мысли. Равным образом узкоспециализированные технические вопросы нередко кажутся философам лишь проявлениями формализованного разума. Образуется несколько странная структура, в которой мир машин способен эволюционировать без комплексного осознания собственного развития, а рефлексия о технике протекает без изучения особенностей ее устройства. Сфера звукозаписи стала лишь одним из характерных проявлений этого необъятного процесса.
§ 2
ПРОГРЕСС КАК СТАГНАЦИЯ
Сегодня мир звука не просто изобилует, но перенасыщен техникой. Лишь на то, чтобы на микроавтобусе объехать территорию крупной выставки звукового оборудования (например, Musikmesse или ISE), понадобится не менее пятнадцати минут, а беглый осмотр двух-трех павильонов займет несколько часов. И есть все основания полагать, что число производимых устройств будет расти. Отдельный этаж для MIDI-контроллеров еще недавно мог бы показаться безумием, но скоро, вполне возможно, количества моделей будет достаточно для открытия отдельной выставки. Сверкающее оборудование, не имеющее, по словам продавцов, никаких недостатков, пробуждает в покупателях почти сексуальную страсть: прикоснуться, вступить в контакт, обладать. Правда, уже через несколько лет те же самые разработчики, скорее всего, посоветуют заменить приобретенные приборы на новые, но лишь потому, что они «еще лучше». Казалось бы, эта система постоянно отменяет саму себя, но именно это перечеркивание собственных основ и оказывается гарантией выживания. Одни пользователи не приобретают новую версию той или иной программы, потому что скоро выйдет еще более новая, другие же, наоборот, хотят как можно дольше использовать старую систему, ведь тогда при установке обновления, возможно, удастся избежать встречи с очередной неполадкой; но и те и другие в любом случае вовлечены в конкурентную погоню за технической фата-морганой и ни в коей мере не снижают темпа этой эстафеты. Обязательной составляющей этого процесса является и жесткая социальная дифференциация: круг счастливчиков, которые могут позволить себе владеть новинкой, должен быть предельно узким в сравнении с тысячами рядовых пользователей, озабоченных накоплением средств на ее приобретение. На первый взгляд, такого рода потребительская отсрочка и прокрастинация угрожают расшатыванием системы производства, ведь вынужденная экономия и постоянное запаздывание в отношении «самого современного» фактически отменяют момент наслаждения инновацией. Но в действительности мираж новейшего жизненно необходим техническому мифу, а отсрочка и нехватка лишь подстегивают желание приобретения (пусть и не желаемого идеала, но по крайней мере чего-то напоминающего недостижимый эталон).
За сумасшедшими темпами производства нужно поспевать, и необходимость соответствовать изменчивым технологическим стандартам становится куда более важной, чем осмысление сущности прогресса. В зависимость от стремительного развития технологий попадает и то, что с их помощью производится. Электронные звуки обнаружили свойство устаревать вместе с оборудованием, на котором они создаются: у родившихся в конце XX века электронные эксперименты Штокхаузена могут вызвать ассоциацию вовсе не с модернистским искусством, а с саундтреком дешевой компьютерной игры. С появлением цифровых технологий за новыми версиями программ и плагинов приходится следить с помощью уведомлений, иначе придется проводить на сайтах производителей едва ли не все свободное время.
В области техники нет никаких горизонтов: производство устроено таким образом, что оно всегда будет требовать нового производства. Этот процесс необратим, и даже его насильственная остановка, вероятно, будет больше напоминать прерывание. А поскольку оборудование – это то, что может продаваться в больших количествах, специализированные издания становятся неотличимы от рекламных проспектов. И если в «аналоговую эру» количество студийных приборов обработки звука все же имело свой предел, то с появлением плагинов оно достигло абсурдной стадии: чтобы на примере одной дорожки попытаться сравнить особенности всех эквалайзеров или ревербераторов, имеющихся в распоряжении цифровой аудиостанции, может понадобиться несколько недель. Здесь почти невозможно избежать аналогии с безграничным движением капитала, подробно проанализированным Марксом, однако нужно заметить, что эта параллель не обязательна: существует и внутренняя, сугубо техническая необходимость в такого рода разрастании. Более того, в этом случае не техника может быть воспринята как средство распространения капитала, а напротив – капитал как своеобразный технический эффект.
На это безграничное производство, призванное подтверждать нескончаемые успехи прогресса, можно взглянуть как на главное свидетельство его стагнации. В бесконечном процессе накопления информации и расширения эрудиции что-то начинает безвозвратно теряться. Так чтение легко может превратиться в блуждание по гиперссылкам, из‐за которого многие стали предпочитать короткие тексты длинным. Быстрый и легкий доступ к большому количеству информации нередко способствует не ее усвоению, а столь же поспешному забвению. Техника – это механизм, изменяющий мышление. Зачастую многообразие приборов, вроде бы призванное облегчить работу, может если не парализовать ее, то как минимум поспособствовать увязанию в корректировке мелких деталей. Шкала спидометров расширяется, а водители проводят все больше времени в пробках. Звукорежиссеры посвящают недели исправлению фальшиво записанных нот, напоминая фотографов, снимающих с расчетом на последующую компьютерную доработку изображений. Цифровой способ производства зачастую требует все большего разделения труда, и постепенно тюнинг вокала превращается в отдельную специальность. Впрочем, и эти особенности техники были замечены еще век назад: «увеличение числа машин вовсе не дает желаемой безопасности и не экономит труд, о чем знает каждый фермер»2, – писал Эрнст Юнгер. Но при этом даже очевидная недостижимость состояния обеспеченности и покоя не снижает пафоса риторики о машинах-помощниках, снижающих трудозатраты и повышающих контроль над временем. «Против всякого ожидания компьютер не сокращает промежуточные этапы, он умножает их количество»3, – к такому выводу пришел Умберто Эко, вспоминая, что прежде рукопись невозможно было отдавать в набор бесконечное количество раз, а теперь писателю постоянно угрожает вечная правка мелких нюансов и отдаление от восприятия романа как целого. Подобные наблюдения актуальны и для процесса микширования: навык пересведения композиции с нуля, вполне естественный для работавших на аналоговых пультах, противоречит основному принципу работы на компьютере – бесконечной корректировке начатых проектов. Загружать те же самые файлы в новую сессию, чтобы начать все заново, – это чем‐то напоминает ночной кошмар звукорежиссера, проклятие Сизифа в цифровую эру. Увы, рост объема информации далеко не всегда стимулирует качество принятия решений. Желание просчитать каждую звуковую деталь угрожает лишить смысла весь процесс сведе́ния, – так, едва ли получится продвинуться в глубь леса, если измерять рулеткой расстояние между каждой парой стволов, прежде чем пройти среди них.
Меньшее количество оборудования в небольших студиях отнюдь не означает, что они находятся дальше от подчинения технике. Наоборот, логичный эволюционный путь звукорежиссера от четырехканального микшерного пульта к огромным студийным консолям нередко застывает на середине и погрязает в мелочах. Чем крупнее студия, тем шире предлагаемый ею взгляд на звукозапись. Оркестровые залы еще сохраняют воспоминание о том, что одна из главнейших особенностей выбора того или иного микрофона – жесткая необходимость отказа от десятков других. Это умение отказаться от ненужной техники порой куда более значительно, чем возможность бесконечно перебирать оборудование. Падение популярности крупных студий стало не столько следствием повышения качества домашней звукозаписи, сколько свидетельством «восстания масс» в производстве музыки. В эпоху, когда каждый считает, что дома можно достичь того же результата, что и в студии, планка качества автоматически оказывается заниженной. Постепенно даже музыканты перестают слышать разницу между форматами MP3 и WAV, и то, что почти никому нет дела до разницы в звучании, приводит к любопытным парадоксам. Эксперименты с убыстрением и замедлением звуковых файлов проводятся на материале фонограмм, сжатых с потерей качества, – так, словно возникающие при этом артефакты вроде жужжания в высокочастотной составляющей – дело совершенно не важное. Часто мы в принципе не отдаем себе отчета в том, что именно техника определяет то, что мы слышим.
Другой пример: мастеринг – едва ли не единственная стадия работы с музыкальным целым, а не с его частями, – многие считают самым незначительным этапом работы над альбомом. Этот финальный шаг кажется вполне осуществимым в домашних условиях – достаточно доверить процесс онлайн-алгоритму или выбрать пресет «Мастеринг» на виртуальном компрессоре: это постоянное использование готовых предустановок также ознаменовало новый этап в истории звукозаписи. Для многих музыкантов вообще не стоит дилемма между тратой денег на работу в студии или на покупку нового процессора эффектов – последнее кажется более предпочтительным и полезным. Поэтому логика продаж профессионального оборудования уже не отличается от распространения гаджетов. Рынок всевозможных педалей и процессоров все больше напоминает индустрию развлечений.
По словам известного акустика Филипа Ньюэлла,
в мире, где господствует маркетинг, акустически правильные помещения не выглядят достаточно «привлекательными» даже для значительной части звукоинженеров и клиентов студий. Их куда больше заботит новое оборудование и программное обеспечение4.
Приобретая новейшее программное обеспечение, владельцы так называемых домашних студий порой мало задумываются не только о качестве конвертации, но даже о частотной характеристике звуковых мониторов, на которых они сводят материал. Фундаментальный выбор, определяемый предпочтением той или иной технологии, фактически заслонен обустройством деталей. Занимаясь звукозаписью, едва ли удастся понять, что такое звукозапись.
Неотъемлемой особенностью цифрового многообразия чаще всего становится стандартизация: закрепление шаблонов, а не их преодоление. Информация не преобразуется в понимание, а безграничные возможности сводятся к набору однотипных меню. Человек, по каким-то смутным причинам загрузивший в свой планшет тысячи книг, в итоге легко может замещать чтение компьютерными играми, а слушая iPod, отдает предпочтение не альбомам, а отдельным хитам. Стандартизируются и рецепты создания звуковых образов: многие аранжировщики, толком не имевшие опыта работы в студии, всерьез уверены, что MIDI-синтезаторы давно вытеснили симфонические оркестры, а спорить с этим могут лишь чудаковатые пенсионеры. Сегодня при наличии денежных ресурсов любой желающий может обратиться к опытному продюсеру и исполнить поп-хит: все, что ему будет нужно, – это попасть в ноты уже записанного и звучащего в наушниках чужого голоса, и даже самую чудовищную фальшь можно будет исправить.
В ситуации главенства техники разговор о звуке обречен начинаться с середины. Звук здесь требуется поскорее «запустить в работу». Важно уметь разбираться в способах функционирования тембров в необъятных просторах технической вселенной – больше нет времени исследовать, что такое звучание. Нас призывают погрузиться в мир микрофонов и плагинов, как если бы с теорией звука все было уже заранее ясно. Инженеры обмениваются друг с другом опытом студийной работы, давно не пытаясь понять, что именно понимает под звуком тот, кто делится опытом. «Что такое звук?» – этот вопрос представляется исчерпывающе решаемым отсылкой к учебникам по физике. Сегодня главным минусом звукорежиссерского образования принято считать недостаток практических занятий в области звукозаписи, отсутствие профессиональных студий при вузах – переизбыток теории при явной нехватке реального опыта. Чаще всего это продиктовано недостатком финансирования и отсутствием современных дорогостоящих микрофонов, компрессоров, конвертеров. Никому не придет в голову удивляться непопулярности философии в звукорежиссерской среде. Преподавание философии здесь заранее оказывается перед необходимостью оправдываться в том, чем этот предмет может быть полезен в реальной звукорежиссерской практике: эта дисциплина должна предъявить себя как удобный набор инструментов – в противном случае она покажется залежалым товаром. Отсюда поспешное объявление старого инструментария не отвечающим вызову современности и восторженное чтение руководств по эксплуатации новых гаджетов. С какого-то момента под теорией начали понимать что-то вроде запоздалого описания практики – едва ли не вспомогательное средство производства. Но как именно складывалось это представление?
§ 3
ТЕХНОЛОГИЯ КАК ИРРАЦИОНАЛЬНОСТЬ
Философия техники многовариантна. Жильбер Симондон концептуализировал технику как явление, уходящее корнями в глубокую древность, возникающее из магической фазы эволюции вместе с религией. Представлению о технике как проявлении взаимоотношений с миром противоположно ее восприятие в качестве инструмента – системы средств, поглощающих цели. Георг Зиммель утверждал, что, прилагая все свои усилия к тому, чтобы поддерживать машину в работе, человек быстро начал забывать, ради чего он ею обзавелся. Иными словами, из сподручного орудия техника способна превращаться в условие существования общества. В каком-то смысле оба этих взгляда отражены в работах Эрнста Юнгера, рассматривающего мир машин как гештальт, тотальную мобилизацию – среду наподобие языковой. Но онтологизация не лишает технику тревожной двойственности, она по-прежнему предстает то как пространство жизни, то как орудие труда. Мартин Хайдеггер видел корни этого раздвоения в расколе значения древнегреческого τέχνη, объединявшего искусство и ремесленное мастерство. Утрата этого единства приводит к дальнейшему вытеснению значений. Еще в середине XX века Хайдеггер смог легко спрогнозировать последующие процессы:
То, что нам сейчас известно как техника фильмов и телевидения, транспорта, особенно воздушного, средств информации, медицинская и пищевая промышленность, является, вероятно, лишь жалким началом. Грядущие перевороты трудно предвидеть. Между тем технический прогресс будет идти вперед все быстрее и быстрее и его ничем нельзя остановить. Во всех сферах своего бытия человек будет окружен все более плотно силами техники5.
В какой же момент произошло резкое отделение машинной техники от техне? Ханс Фрайер определил уникальный характер западноевропейской технической революции как желание «учесть всю имеющуюся в наличии латентную энергию – леса и водоемы, уголь, нефть, газ, наконец, атомные системы, – установить над ней плановый контроль и перевести ее в свет, тепло, движение»6. Техника выступила главным средством науки для систематизации мира, но одновременно – новым способом восприятия: возможностью смотреть на Вселенную как на нечто поддающееся подсчету. Конечно же, и звук не стал исключением: «всякое движение воздуха, которое соответствует сложной звуковой массе, может быть, по закону Ома, разложено на сумму простых маятникообразных колебаний»7, – писал Герман фон Гельмгольц. В этой системе координат путь вперед – это всегда продвижение к более тонким измерениям, более точным расчетам, более эффективным инструментам, которые оказываются в распоряжении профильных специалистов.
Нужно вспомнить о том, что впервые подобный взгляд на мир в полную силу заявил о себе после публикации работ Рене Декарта – с тех пор человек был возведен в статус субъекта, характер бытия природы определен как предметность, а стремление просчитывать и контролировать природные процессы быстро начало превращаться в желание стать «как бы господами и владетелями природы»8. Определяющие реальность слова науки начали складываться в язык власти. Антропоцентричная модель господства над природой родилась не в Новое время, но, по словам Хайдеггера, именно картезианская философия ознаменовала «тот первый решительный шаг, который сделал метафизически возможными новоевропейскую машинную технику и с ней – новый мир и его человечество»9. Прежде чем наука могла начать свое полноценное существование, должна была появиться вера в то, что перед субъектом простирается сплошь вычисляемая и измеримая действительность, подчиненная логике причинно-следственных связей. Первичной в науке выступает вовсе не реальность объективных законов и не эмпирические показатели, а незыблемость теоретической оптики. Сквозь теорию ученый смотрит на мир как на систему информативных данных, которые можно использовать на благо человечества. И уже сам этот взгляд представляет собой главнейший инструментарий для решения будущих исследовательских проблем.
Эти идеи отнюдь не утратили актуальности: книги Стивена Хокинга пронизаны желанием абсолютного познания порядка Вселенной через единую теорию. Закон каузальности не перестает сохранять свою незыблемую силу даже в ядерной физике, а само наличие модели неизбежно преображает проект природы из онтологического в инструментальный. Это представление о мире как о системе поддающихся расчету сил предопределило взаимозависимость науки и техники (хрестоматийный пример – невозможность существования астрономических теорий Галилея до создания телескопа). Но одновременно именно техника оказывает решающее воздействие на результат эксперимента и допускает вероятность ошибочных выводов. Вернер Гейзенберг доказал, что акт наблюдения является внешним вмешательством, способным сказаться на ходе и характере процесса. С появлением первых вычислительных машин изменяется и сама практика: она сплетается в единый предмет с теорией. В конце XX века прежнее разделение даже было объявлено безосновательным, и в исследовательском дискурсе появился новый термин – технонаука.
Итак, наука как накопление верифицируемого знания, как выстраивание системы, позволяющей различать значимые и периферийные составляющие, как жестко определенная цепь логических, концептуальных и методологических предписаний одновременно означает взгляд на мир через теорию и технику. Они определяют, что́ может считаться наблюдаемым, но, возможно, именно по этой причине наука из способа познания мира постепенно начинает превращаться в нечто призванное обслуживать комфорт человека. Мир поддается расчету и потому может приносить прибыль. В свою очередь, неизбежным следствием научно-технического прогресса оказывается исчерпание природных ресурсов: охрана природы становится логичным продолжением технического проекта, знаменующим угрозу исчезновения флоры и фауны, последнюю надежду на их сохранение, продиктованную прежде всего заботой человека о своих потребностях. Примечательно, что эта охрана природы не выходит за горизонт технического: чаще всего она лишь предполагает переход от радикально угрожающих окружающей среде технологий к так называемым экологическим (что, в свою очередь, предполагает увеличение добычи других полезных ископаемых, в частности редких металлов, извлечение и переработка которых связана с серьезной угрозой окружающей среде). Обратной стороной охраны окружающей среды оказывается тот факт, что, «по данным Китайского общества редкоземов, в результате обрабатывающего процесса на 1 тонну редкоземельных элементов приходится 75 000 литров кислых сточных вод и 1 тонна радиоактивных отходов»10. То есть экологические технологии зачастую выступают продолжением проекта уничтожения природы.
При этом научно-технический проект не ограничивался рационализацией природы и быстро выявил потенциал для реализации в социально-политической сфере. Все бо́льшую популярность получали не только представления о человеческом теле как о разновидности машины, но и идеи о распространении стандартов рациональных решений на жизнь общества. Формируется новый тип управления: так называемое господство субъекта над природой закономерно поставило под вопрос и природу субъекта – отныне она тоже должна была вписаться в инструментальную модель. Рождается коллективный субъект. Последствия превращения научно-технического проекта в просветительский наиболее наглядно были зафиксированы философами франкфуртской школы: упорядочивание социальных процессов продемонстрировало «регрессию Просвещения к идеологии»11
