Читать онлайн Поздний сталинизм: Эстетика политики. Том 2 бесплатно
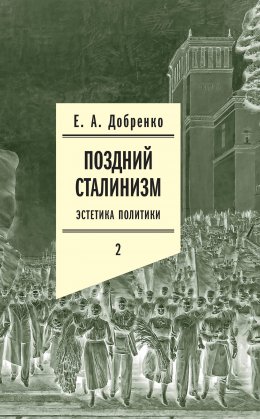
Глава седьмая
Лингвистический реализм: Власть грамматики и грамматика власти
– Иван Дмитриевич, а чего это, говорят, у нас опять вредители завелись?
– Какие вредители?
– Академики какие-то. Русский язык, говорят, вроде хотели изничтожить…
– Язык? – страшно удивился Аркадий Яковлев. – Это как язык?
– Да, да, – живо подтвердил Игнатий Баев, – я тоже слышал. Сам Иосиф Виссарионович, говорят, им мозги вправлял. В газете «Правда»…
– Ну вот, – вздохнул старый караульщик, – заживем. В прошлом году какие-то космолиты заграничным капиталистам продали, в этом году – академики… Я не знаю, куда у нас и смотрят-то. Как их, сволочей, извести-то не могут…
Так в романе Федора Абрамова «Пути-перепутья», рассказывающем о жизни послевоенной северной деревни, разговаривают подвыпившие мужики с председателем колхоза, который учит их сознательности[1]. После разговора на повышенных тонах («Заткнись со своей сознательностью! Сознательность… Я сознательностью твоей коров зимой кормить буду, да?») и зашел разговор о… лингвистике. Председатель колхоза разговора не поддержал, поскольку труды товарища Сталина по языку появились как раз в сенокос и не был он готов к такому ответственному разговору. Однако райком за обсуждение взялся всерьез, созвав районное совещание по этому вопросу. Сорок семь верст без передышки проскакал верхом председатель, двух коней сменил, чтобы поспеть в районный клуб к началу, но и партийное начальство мало что могло сказать по существу дела:
Подрезов (секретарь райкома. – Е. Д.) словами не играл. И на вопрос, какие же выводы из трудов товарища Сталина по языку нужно сделать практикам, скажем, им, председателям колхозов, ответил прямо: «Вкалывать». И добавил самокритично, нисколько не щадя себя: «Ну а насчет всех этих премудростей с языком я и сам не очень разбираюсь».
Единственным разобравшимся оказался инструктор райкома партпропагандист Ганичев. Он-то и разъяснил суть дела:
Да, задал задачку Иосиф Виссарионович. Я попервости, когда в «Правде» все эти академики в кавычках стали печататься, трухнул маленько. Думаю, все, капут мне – уходить надо. Ни черта не понимаю. А вот когда Иосиф Виссарионович выступил, все ясно стало! Нечего и понимать этих так называемых академиков. Оказывается, вся эта писанина ихняя – лженаука, сплошное затемнение мозгов… Сволочи у нас много развелось, везде палки в колеса суют… Даже в естествознании вылазку сделали, против самого Лысенко пошли…[2]
Эпоха «затемнения мозгов» (в буквальном смысле: «так называемые академики» были обвинены в отрыве языка от мышления) завершилась летом 1950 года, когда Сталин принял личное участие в им самим инспирированной дискуссии по вопросам языкознания в «Правде». Он разрушил «новое учение о языке» академика Марра, доминировавшее в советской лингвистике в 1930–1940‐е годы, возвестив о приходе «сталинского учения о языке».
Коллизии, связанные с лингвистической дискуссией, эпицентром которой были учение Марра и «труды товарища Сталина по вопросам языкознания», вызвали значительный исследовательский интерес. Прежде всего, сам Марр как радикальный мыслитель-парадоксалист, темпераментный полемист и личность ярко своеобразная сыграл столь решающую роль в развитии советской лингвистики, что без него ее история попросту невозможна, подобно тому как невозможна, к примеру, история советской литературы без Горького. Масштаб влияния подобной харизматической фигуры на развитие языкознания был огромным. Неудивительно поэтому, что Марр оказался в эпицентре интереса историков-лингвистов[3] и историков науки[4], но лишь изредка – историков культуры[5]. Однако даже и в этих редких случаях обращения к Марру и марризму вне сугубо историко-лингвистической проблематики в центре внимания исследователей оказывалось своеобразие самой теории и личности Марра в контексте ранней советской культурной мифологии, а не ее позднейшие широкие политико-идеологические импликации. Так, разгром марризма рассматривается вне контекста советской политической культуры, советской культурной истории и эволюции советского политико-идеологического проекта. Между тем культурно-идеологический аспект событий в советской лингвистике начала 1950‐х годов был не менее своеобразен и исторически важен, чем самое марровское учение. «Сталинское учение о языке», уступая марровскому в парадоксальности и радикализме, несомненно, превосходило его в своей политико-идеологической значимости: не появись сталинских «трудов по вопросам языкознания», концепция Марра продолжала бы оставаться вполне маргинальной (и к тому же интенсивно линяющей) доктриной вполне маргинальной научной дисциплины. Сталин придал ей политическую остроту, идеологический вес и социальную акустику.
Звуковой строй революции и алфавит сталинизма: От речи к письму
Когда-то Николай Яковлевич Марр сказал о науке: «„Разрушать труднее, чем создавать“ – это лишь частичное отражение правды. К непокрытой правде будем ближе, если скажем: „разрушать не только трудно, но нет никаких сил“»[6].
Это было сказано в минуту сомненья, в редкую минуту упадка сил, в минуту горького осознания пределов своих возможностей человеком, знавшим, о чем говорит. И все же Марр интересен не столько как разрушитель, сколько как трагическая личность трагической эпохи. От других авторов мегатеорий в постреволюционной России типа Трофима Лысенко или Ольги Лепешинской он отличался не только тем, что был человеком образованным и честным, но и тем, что выстроил лингвистическую теорию, ставшую отражением и терапией его очень личных травм. В революционной культуре идеи, которые отстаивал Марр, были социально созвучны многим, поскольку в 1920‐х – начале 1930‐х годов многие страдали теми же травмами. В 1950 году, когда Сталин обрушил на марризм свой гнев, это была уже другая страна. Травмы 1920‐х ее уже не занимали – она страдала от совсем других комплексов.
Сын восьмидесятилетнего шотландца и молодой грузинки, которые не имели общего языка, Николай Марр, появился на свет с врожденной травмой – перманентным кризисом идентичности. Заразившись еще в гимназии националистическими идеями (известно, что здесь он редактировал рукописную гимназическую газету, в которой печатал зажигательные стихи и призывал «взяться за оружие», чтобы освободить родную Грузию от русских захватчиков), он страдал от известной периферийности своей родины в большой империи, а переезд в столицу (куда он отправился учиться как кавказский стипендиат) и занятия кавказоведением в Санкт-Петербургском университете лишь способствовали развитию комплекса провинциала и усилению националистических настроений.
Пока это были лишь личные комплексы и детские травмы. Уход в археологию, занятия историей и материальной культурой Кавказа, в которых Марр достиг неоспоримых успехов, в подтексте имел все те же поиски «знатных родственников» для родного грузинского языка[7]. Так родилась вначале идея грузинско-армянского родства, а затем и яфетическая теория, сводившаяся к утверждению родства и первородности всей «кавказской культуры». Несомненно, подоплека «яфетодологических исследований» Марра была изначально идеологической, как и сама логика ее развития: если «создание Марром «яфетической теории» в лингвистике было продиктовано тем, что в силу ряда жизненных и политических обстоятельств он эволюционировал от грузинского национализма к идеологии «кавказского единства», то «могло ли мировоззрение Марра, всегда находившегося в гуще событий, чуткого ко всем тенденциям общественной и политической жизни, застыть на этом, остаться неизменным в бурные послереволюционные годы? Разумеется нет, и превращение «яфетической теории» в «новое учение о языке» свидетельствует о переходе Н. Я. Марра от «общекавказского» патриотизма к новой идеологии – «марксистскому интернационализму»[8].
Но дело, как представляется, не только в мировоззрении и социально-политической чуткости Марра. Скорее, с изменением идеологических вех, наступившим в советскую эпоху, ущемленное чувство национального достоинства выходца с окраин находит выход в «новом учении о языке» – глобальной концепции языкового развития – потребность в грузинском национализме и даже в общекавказском патриотизме отпала (другой его соотечественник, Сталин, минет и эту ступень, превратившись в русского националиста, и тем самым радикально разрешит проблему своей национальной маргинальности). В середине 1920‐х годов, единодушно утверждают его биографы, «идеологическая основа концепции Марра претерпела радикальные изменения ‹…› когда Марр, изжив националистические настроения, характерные для интеллигенции колониальных и полуколониальных стран Востока, пришел к созданию «нового учения о языке», основанного на «пролетарском интернационализме»[9].
Таким образом, в основе научной эволюции Марра изначально лежали сугубо идеологические факторы, подпиткой которых была личная травма: в конечном счете основой его лингвистических теорий были прежде всего кризис идентичности и жажда самоутверждения, питаемая «второразрядностью» происхождения (как личного, так и национального). Дополнительными факторами – опять-таки сугубо личными – были усилившиеся с возрастом мегаломания, буйная фантазия и безапелляционность суждений. O «грандиозном, бурном и беспредельном темпераменте» Марра говорили многие его современники. Его называли «вечным гейзером ‹…› вулканом, действовавшим в едином огне и сотрясавшим все вокруг»[10], писали о его экспансивности, о том, что синтез у него всегда преобладал над анализом, а обобщения – над фактами, и при активности творческого центра Марр не обладал центром торможения[11], говорили о его «необыкновенно развитой фантазии» и невероятном честолюбии[12].
O честолюбии и самомнении Марра ходили легенды. В докладе «Яфетидология в Ленинградском университете» в 1930 году он на двух смежных страницах трижды упоминает о своей общепризнанной гениальности:
По одной легенде, создатель яфетической теории гениален, во всяком случае он обладает исключительной способностью без труда овладевать любым языком, знает их неисчислимое количество, знает особенно хорошо все кавказские языки, лучше, чем кто-либо, как никто…
В Ленинграде и в Москве выступают с докладом о том, что утверждения гениального ученого очень интересны, но простым смертным недоступны…
В развитии яфетидологии моя личность, пусть действительно гениальная ‹…› абсолютно ни при чем[13].
Очевидно, однако, что речь в данном случае идет не столько о гениальности, сколько о психическом расстройстве, которое, в сочетании с неадекватным поведением, и стимулировало столь карикатурные формы честолюбия. И опять же, толчком к столь печальному повороту событий послужили прежде всего обстоятельства личной жизни Марра: в 1917–1918 годах гибнут в пути бесценные материалы его любимого Анийского музея (археологические находки и исследования по истории древней Армении лежали в основе его высокой научной репутации), во время Гражданской войны гибнет его младший сын – красный курсант.
Чем дальше, тем больше о безумии Марра начинают говорить его современники. Вначале говорили о «безумии» применительно к его завиральным мегаидеям (широко известно высказывание Трубецкого в письме Якобсону), затем многие из близких к Марру людей признали, что в начале 1930‐х годов Марр действительно заболел. Биографы единодушны: «Бессомненно, что с годами его научная деятельность приобретала все более очевидный патологический характер, чего, следуя установившейся инерции, старались не замечать или как-то обходить»[14], «многие фразы из сочинений Марра, особенно последних лет жизни, похожи на бред сумасшедшего»[15]. К началу 1930‐х годов можно говорить об «определенно проявившихся признаках умственного расстройства»[16]. Я. Васильков основывает этот вывод на свидетельствах 1932–1933 годов. Вот что вспоминает И. М. Дьяконов, слушавший Марра в 1933 году:
Марр, черноглазый, седой, но не до белизны, со всклокоченными волосами и маленькой седоватой, клином, бородкой, бегал по эстраде актового зала, возбужденно и даже ожесточенно говоря что-то мало связное, причем пенсне, зацепленное за ухо, падало на длинном шнурке и раскачивалось у его колен. Он яростно клеймил и почти проклинал буржуазную лингвистическую науку, а заодно и своих учеников – за то, что они не могли угнаться за его развитием и повторяли зады, оставленные им уже более двух недель тому назад. Фразы его были запутаны, к подлежащему не всегда относилось соответствующее сказуемое. Понять было ничего невозможно. Мне было странно, что кому-нибудь могло быть не ясно, что он – сумасшедший.
Еще будучи на «ямфаке», мой брат Миша как-то подошел к Марру и спросил его, почему первичных языковых элементов именно четыре.
– Па-та-му-что не пять! – резко ответил Марр. И это действительно был главный резон[17].
Французский синолог Поль Пеллио на докладе Марра в 1932 году сказал лаконично: Mais c’est fou! («Но это – безумие!»). И в этом, замечает Я. Васильков, не было уже никакой метафоры[18]. Подводя итог рассмотрению многочисленных свидетельств такого рода, В. Алпатов констатирует: «Ненормальность Марра в последнее десятилетие его жизни не вызывает сомнений»[19].
Все это лишь обостряло характерный для Марра научный авантюризм, безапелляционность и бездоказательность суждений, что при отсутствии серьезной лингвистической подготовки делало его лингвистические построения все более радикальными и все менее связанными с фактами развития языка. Гордыня самоучки смешивалась здесь с мегаломанией, безумие – с гениальными проблесками лингвистической интуиции, а властолюбие – с безоглядной готовностью помогать людям. Этот симбиоз был в одинаковой мере продуктом личных качеств Марра и эпохи, в которой он жил и работал.
Марр был фигурой во многих смыслах неординарной. Один из ведущих филологов и археологов, кавказоведов и востоковедов, он стал единственным членом Российской Императорской академии, кто вступил в большевистскую партию. Это было тем более неожиданно, что Марр не только не участвовал в революционном движении, но занимался до революции цензурой армянских книг, был связан с церковными кругами (был даже старостой грузинской церкви), а в 1905 году блокировался с правыми профессорами и считался всецело благонадежным.
Между тем Марр принял революцию и активно включился в «научно-организационную работу». Революционная стихия оказалась близка его энергичной натуре. Так что неудивительно, что вскоре он оказался членом всевозможных культурных и научных комиссий и коллегий. Лингвистом Марр не был, хотя именно лингвистика стала сферой приложения его парадоксальных идей. Его «новое учение о языке» воспринималось многими коллегами как нечто радикально новое, но малопонятное. Окрыленный первыми успехами, Марр едет «покорять Европу», мечтает о мировой науке о языке, основанной на его «новом учении», о создании международного института. Однако его яфетическая теория принята западными коллегами не была. Обозленный на западную лингвистику, он порывает с ней, обвиняя ее в «буржуазности» и «империализме». Именно личная травма непризнания – ущемленное самолюбие становится причиной углубления кризиса. В 1923–1924 годах происходит особенно резкий перелом – настолько сильный, что сменился не только стиль письма (именно с этого времени Марр начинает писать невнятно и интеллектуально неопрятно, а позже – и вовсе развязно), но даже почерк.
Теперь весь его интерес и вся энергия сконцентрированы на Советской России. Начинается интенсивная марксизация его мегаидей. Кризисный период 1923–1924 годов ознаменовался работами, в которых Марр декларирует, что индоевропейская языковая семья – это миф, что никакого праязыка не существовало, но изначально было множество языков, которые связаны не с нациями, а с классовой борьбой, «орудием» которой они являются, а после мировой революции сольются в мировой язык. Он заявляет, что все языки произошли из «диффузных выкриков» первобытных людей и в их основе было четыре тотемических первоэлемента: сал, бер, йон, рош, которые Марр находил в любом слове любого языка. Все это уже не подлежало доказательству: «Некоторые вещи доказывать нет надобности, их можно показывать. Так, видишь, например, что элементы существуют. Вопрос не в том, как они возникли. Наблюдение показало, что есть всего 4 элемента. Почему, не знаю»[20].
С другой стороны, будучи одним из немногих крупных ученых, сотрудничавших с новой властью (член Петросовета и Председатель Центрального совета научных работников), Марр пользовался поддержкой многих видных большевистских идеологов, партийных деятелей, связанных с наукой и культурой. Так, ведущий марксистский историк и функционер Михаил Покровский утверждал, что «если бы Энгельс еще жил между нами, теорией Марра занимался бы теперь каждый комвузовец, потому что она вошла бы в железный инвентарь марксистского понимания истории человеческой культуры»[21], один из руководителей Комакадемии Владимир Фриче писал, что на «диалектических построениях Марра лежит явный отблеск коммунистического идеала», а нарком просвещения Анатолий Луначарский называл его «величайшим филологом нашего Союза» и «самым великим из ныне живущих в мире филологов»[22], ему благоволили Николай Бухарин и Евгений Преображенский. Благодаря поддержке Покровского, Марр вошел в Общество историков-марксистов. В том же году он возглавил подсекцию материалистической лингвистики в Комакадемии, ранее не занимавшейся языкознанием. Все это подталкивало Марра к еще большему сближению с марксизмом.
В 1930 году Марр произносит приветственное слово XVI съезду ВКП(б) от имени Всесоюзной ассоциации работников науки и техники. Его слушает Сталин. Сразу же после съезда Марр получает партбилет и орден Ленина. В 1931 году избирается членом ВЦИК. Статус Марра на глазах меняется. Критиковать его становится опасно, и все, кто отстаивал иные направления в науке, объявляются теперь идеалистами, враждебными контрабандистами, вредителями в науке, социал-фашистами и троцкистами. Музыка революции на глазах застывает, фонетика революции затвердевает в алфавите сталинизма. Эпоха живой речи сменяется эпохой мертвого письма. И хотя Марр интересовался «живыми» бесписьменными языками, его речь сама превращается застывшую догму.
Превращение Марра в вождя агрессивной секты (а подобные секты формировались в это время и в других сферах – от литературоведения до философии, истории и биологии) могло, конечно, состояться лишь в специфических условиях рубежа 1930‐х годов, когда происходило формирование идеологического каркаса сталинизма: нужна была политическая востребованность построений Марра, переводившего лингвистику на марксистский сленг и дававшего идеологическое обоснование новому и активному «языковому строительству»; институциональная незавершенность нового научного и культурного поля, которая позволяла Марру, окунувшемуся в «дело научной организации» и «культурного строительства», институционально обустраивать создаваемое «учение»; ситуация смены состава научной среды, которая производила в огромном количестве новые «научные кадры» особого рода идеологических опричников, которые роились вокруг фигур, подобных Марру (такие, как Сергей Быковский, Валериан Аптекарь, Иосиф Кусикьян, Георгий Сердюченко, Федот Филин и мн. др.). И вновь немалую роль сыграл здесь личный фактор – Марр был одним из очень немногих членов Российской Императорской академии незнатного происхождения, фактически – интеллигентом в первом поколении, что не могло не ущемлять его обостренного самолюбия и не отражаться на его социальном поведении (прежде всего, речь идет о неразборчивости в средствах для достижения целей).
Марр, конечно, не был «пролеткультовцем», как назовет его позже Сталин. Классово-идеологические обоснования своим лингвистическим новациям он начал подыскивать вначале в качестве защиты, а затем попросту эксплуатировал, покрывая былым авторитетом свой «марксизм в языкознании» и борясь за продвижение собственных идей. Его окружение было скорее рапповским – это были не столько пролеткультовцы, сколько «оппортунисты в науке»[23] и циничные политиканы. Эпоха первой пятилетки, в отличие от эпохи нэпа, времени сосуществования различных направлений как в искусстве, так и в науке, была эпохой консолидации: везде утверждается власть одного направления – остальные объявляются немарксистскими, идеалистическими, буржуазными, вредными и т. д. Обычно в центре оказывался крупный ученый, вокруг которого – молодые, рвущиеся к признанию и власти выходцы из социальных низов, авантюристы и невежды.
Однако вокруг Марра группируются и искренне преданные ему очень талантливые люди, которым он импонировал своей революционностью и неортодоксальностью мышления. Причем не только в Петербурге, но и на окраинах. На периферии и в национальных республиках в эпоху активного национально-культурного строительства популярность Марра во многом определялась интернационализмом его концепций. Но было здесь и другое. Сама ситуация, когда столь заслуженный и известный ученый проявляет живой интерес к провинции и «местным кадрам» из национальных республик и «вытягивает» в столицы представителей коренных национальностей, не могла не привлекать к Марру все новых и новых адептов – в том числе персонажей типа Аптекаря или Быковского, Филина или Сердюченко, о которых точно писала позже оставшаяся верной Марру Ольга Фрейденберг: «такие вот парни, как Аптекарь, неучи, приходили из деревень или местечек, нахватывались партийных лозунгов, марксистских схем, газетных фразеологий и чувствовали себя вождями и диктаторами. Они со спокойной совестью поучали ученых и были искренне убеждены, что для правильной систематизации знаний („методологии“) не нужны самые знания»[24] (эта характеристика вполне относима не только к Аптекарю, но и к Сталину, который начал свой «великий языковедческий труд» со слов: «Я не языковед…»).
На протяжении последнего десятилетия своей жизни Марр оказался внутри трагического круга: чем глубже травма, требующая самореализации, чем сильнее очевидная с годами мегаломания, чем больше энергии к экспансии в науке, тем активнее Марр на социальном поприще, заседая в самых немыслимых комитетах (вплоть до Комиссии по борьбе с хулиганством), тем сильнее жажда расширения своей научной империи за счет создания все новых институций, привлечения все новых адептов, все большая радикализация лингвистических идей, что, в свою очередь, еще ближе связывает Марра с новым режимом, к которому он охотно пошел на службу, видя в нем гаранта для реализации своих непомерных амбиций в науке.
После смерти Марра сравнивали с Коперником и Дарвином. Между тем даже беглый взгляд на эволюцию и характер его идей убеждает в том, что Марр был прежде всего страстным и нетерпимым идеологом, принесшим свой огромный талант и действительные достижения в археологии и истории на алтарь политической идеологии. Чтение Марра убеждает еще и в том, что успешным идеологом он стал не только благодаря харизме, но и благодаря тому, что он был не столько филологом, сколько писателем.
Склоняя марксизм: Словообразование путем идеологического скрещения
Что привлекало к Марру все новых сторонников, что делало его учение столь популярным, так это созвучие его поведения и теорий самому пафосу революционной культуры с ее масштабностью, космизмом, радикализмом, антизападничеством, иконоборчеством, интернационализмом, волюнтаризмом, популизмом и антиакадемизмом. Но именно то, что делало Марра поистине революционным мыслителем, одновременно лишало его учение научности: его теория, будучи революционной во всех отношениях, противоречила общим законам не только языкового развития, но и элементарной логики, она оперировала фактами вне контекста и интерпретировала их противоречиво, она была оторвана от реальности и вместо объяснения языковой картины создавала параллельный мир, она не имела обоснования своих фундаментальных положений и т. д. Это была скорее парадоксальная гипотеза, чем научное знание.
Катерина Кларк назвала марризм «прометеистской лингвистикой» и писала об иррациональности этого «лингвистического прометеизма»[25]. И хотя, находясь в конфликте с логикой и языковой историей, теория Марра не имела под собой никаких рациональных оснований, она, подобно агробиологии Лысенко, была основана на своем собственном – романтическом, волюнтаристском рационализме. Основанием этой рациональности является воля. Идеологическим обоснованием – знаменитый тезис Маркса о том, что задача философии состоит не в объяснении, но в переделке мира. Средством и сферой реализации – фантазии, сублимирующие желания и травмы в идеологически насыщенный литературный текст.
Марр мыслил литературно – не столько логически, сколько образно, метафорами. Создавая свою теорию, он действовал как художник par excellence. В особенности это видно в его головокружительных семантических интерпретациях, в которых связывались немыслимые вещи и обнаруживались невероятные связи. Например, Марр мог объяснять образование отвлеченных понятий через возникновение… мельницы:
Только с установлением космического, в первую очередь астрального мировоззрения с главенством одного из пары великих светил, раньше «Луны», затем «Солнца», получается возможность созидания отвлеченных понятий… В материальном базисе предпосылкой является «мельница» (водяная мельница, в первую очередь), чему, однако, предшествует искусственное непрерывное использование водяной силы накачиванием текучей жидкости, без колеса, жолобом…[26]
Как и в большинстве подобных интерпретаций, которыми пестрят его работы, Марр выступает как чистый мифолог. Лишь на первый взгляд кажется, что он говорит о языке. На самом деле реальным материалом его семантических экзерсисов являются вымышленные им категории первобытного мифологического (вначале тотемического, а затем – космогонического) мышления. Его домыслы о преисторических эпохах не имели под собой практически никакой почвы и были пришитым к пуговице костюмом из фантазий и досужих вымыслов, говоря словами Владимира Звегинцева – «нагромождением одной произвольности на другую»[27].
Семантический подход Марра, который Виктор Жирмунский назовет «кустарным, технически беспомощным „сравнительно-грамматическим“ этимологизированием»[28], а Сталин – «гаданием на кофейной гуще», был научно несостоятельным потому, что интерпретации Марром значений слов, на которых он основывал свои мегатеории языкового развития, были вполне художественным актом.
Сдвиги настолько мощны, – писал Марр в статье «Язык и мышление», – настолько громадны по создающимся за сдвигами изменениям, что новые поколения кажутся пришедшими из другого мира сравнительно с теми прежними, от которых они произошли: на двух берегах пропасти, образующейся между ними, два противоположных предмета и, казалось бы, противоположных понятия, обозначаются одним словом. Одно и то же слово на одной стороне, покинутой стороне, значит ‘голова’ да ‘начало’, а на новой завоеванной, разумеется, борьбой в процессе развития производства и производственных отношений, значит ‘хвост’, ‘конец’; на одной стороне слово ‘огонь’, на другой ‘вода’, на одной стороне ‘день’, ‘белый’, на другой – ‘ночь’, ‘черный’, на одной стороне ‘верх’, на другой – ‘низ’. Мир при таких сдвигах переворачивается верхом вниз или, вернее сказать, низом вверх, сбиваясь в пути с одного направления или изменения на другое[29].
Язык на глазах превращался в склад метафор, семантические метаморфозы делали его настоящей заумной поэзией, что, конечно, не удивительно: в конце концов, Марр и сам язык понимал как сугубо творческий феномен. Его теория единого глоттогонического (то есть языкотворческого) процесса предполагала, что языку свойственно то же творческое начало, что вообще природно человеку. Будучи стихийно-творческим процессом, язык подчинялся законам революционного развития. С другой стороны, он рассматривался Марром как своего рода палимпсест, постоянно меняющаяся мозаика: «Цельных образований языков нет. Язык скрещен, соткан из нитей, каждая из коих – вклад особой производственно-социальной группировки, особого социального слоя, и общие слова ряда языков, целой группы, целой так называемой семьи – вклад одного позднейшего слоя, позднейшей социальной группировки»[30]. Язык в этой проекции оказывается своеобразной голограммой.
Борис Серебренников, один из самых отчаянных критиков марризма, писал:
Оперируя мифическими «элементами», Н. Я. Марр считал, что он «увязывает» различные факты языка с историей развития мышления, материальной культуры и общества. В действительности эта «увязка» представляла самый дикий произвол, какой только можно себе представить ‹…› «Четырехэлементный анализ» Н. Я. Марра – это шедевр антиисторизма в языкознании[31].
Верная с научно-лингвистической точки зрения, подобная критика не брала в расчет того обстоятельства, что Марр, занявшись языкознанием, подходил к языковому материалу и языковой истории не как ученый, но как авангардный художник («некоторые вещи доказывать нет надобности, их можно показывать»), находя в них настоящее поле чудес для своих мегафантазий, которые с лингвистической точки зрения были в лучшем случае «сумбурной теорией, попирающей самые элементарные научные принципы»[32], в худшем – «чудовищной элементной абракадаброй»[33].
Этим объяснялось то, что критики Марра называли «неудержимым галопом на яфетических конях по Евразии и Африке»[34], и то, что Марр и его ученики настойчиво стремились освободить лингвистику от сугубо «формального анализа изучаемых языков», утверждая, что «языкознание должно обогатиться свидетельствами материальной жизни человеческого общества в ее материальных и духовных выявлениях»[35].
Лишь отчасти все это объяснялось отсутствием у главного советского лингвиста собственно лингвистического образования, тем, что, как писал Виктор Жирмунский, «не имея лингвистической школы и строгого метода, Н. Я. Марр пошел тем же в сущности кустарным путем изолированных сопоставлений отдельных слов, иногда – грамматических форм, вырванных из исторического контекста языковой системы, с которых он начал еще на школьной скамье»[36]. Лингвистика была скучна Марру. Терминатор по призванию, языковед поневоле, он не просто не знал общего языкознания, но тяготился собственно лингвистикой, не владел специфически лингвистическим дискурсом. Историк, археолог, несостоявшийся исторический романист, фантаст, темпераментный сочинитель и популяризатор утопических проектов, волею судеб Марр оказался во главе науки, сути которой никогда не понимал, но в которой видел лишь поприще для самоутверждения.
В еще большей степени это относится к его наследнику Ивану Мещанинову, не обладавшему ни харизмой, ни даром воображения, ни энергетикой своего учителя. Как заметил в этой связи Владимир Алпатов, «оперирование элементами – чистое шаманство, но талантливый шаман не мог передать никому свое умение»[37]. Мещанинов не только не прослушал теоретических языковедческих курсов, но вовсе не был филологом – юрист по образованию, археолог и историк по призванию и опыту, он не был, подобно Марру, радикалом, но это нельзя рассматривать как его достоинство, поскольку радикализм – едва ли не самое интересное в марризме. Без него Марр не состоялся бы как революционный и оригинальный мыслитель. Походил Мещанинов на Марра, пожалуй, лишь в том, что оба хотели перестроить лингвистику под сферу своих интересов и вместо «грамматического формализма» насадить в ней «идеологический семантизм». В идеале – оба хотели превратить ее в… свою родную археологию. Вот что писали они о задачах деятельности археолога: «Археолог должен учесть семантику вещи, то есть ее назначение в общественной среде, с учетом ее простых и сложных потребностей, и должен учесть изменения функций предмета и смену предметов, обслуживающих ту же функцию. Другими словами, ему надлежит заняться построением семантических рядов»[38]. Иначе говоря, он должен стать… «лингвистом», подобно Марру и Мещанинову.
Не удивительно, что под пером Марра лингвистика окончательно погружалась в мифологию, туманные прелогические фантазии, неверифицируемые, а просто вымышленные «доисторические закономерности развития» и становилась мистифицированной паранаукой (как заметил А. Чикобава, «в сумерках доистории легче утверждать вещи, которым вряд ли кто поверит при дневном свете истории»[39]), обильно сдобренной легитимирующими ссылками на марксизм «материалистической мистикой»[40].
В литературе о Марре немало сказано о том, что его интересы были слишком разносторонни. Можно, однако, утверждать, что кем бы ни был Марр – лингвистом, этнографом, антропологом, филологом, археологом или историком культуры (на сей счет существуют разные мнения), прежде всего он был художником, мифотворцем и идеологом. Как проницательно заметил Я. Васильков, привлекать к нему могли не только пафос интернационализма, революционность, смелость, с которой он низвергал авторитеты, не только космизм его построений, но и сама форма его статей и выступлений, которая воспринималась как новаторская:
Чтение работ Марра наводит на мысль, что он вряд ли отчетливо понимал различие в принципах научного – и художественного, поэтического творчества. Подобно поэту, он не считал нужным подтверждать свои интуитивные прозрения анализом фактов и логической аргументацией. Возможно, какая-то часть современников и воспринимала его работы как своего рода «научную поэзию». Сам Марр сознавал близость своего метода поэтической игре созвучиями и через голову враждебной ему академической науки апеллировал иногда к представителям поэтического авангарда[41].
И действительно, множеством нитей марровское творчество связано с футуризмом, «самовитым словом» и даже с экспериментами в раннем кинематографе[42].
Когда речь заходит о сочинительстве и языкотворчестве, то понимать это следует вполне буквально: Марр придумывал «прошлое» через картины первобытного мышления, которое он «фиксировал» в языке. Последний был также плодом его воображения: Марр говорит о
состоянии языка, следовательно, мышления, когда не было еще полноты выражения мысли, не выражалось действие, т. е. не было глагола, сказуемого, более того – не было субъекта, по схоластической грамматике так наз. подлежащего. Какая же могла быть мысль при отсутствии действия-сказуемого, глагола и субъекта-подлежащего? Очень просто: действие было, но не в высказывании, во фразе, а в производстве, и субъект был, но не во фразе, а в обществе, но ни это действие, ни этот субъект не выявлялись в речении самостоятельно, не выявлялись ручной речью вне производства и производственных отношений: довольствовались указанием на орудие производства как на действие (трудовой процесс, впоследствии в предложении сказуемое), самостоятельно глагол (часть речи), и на трудящийся коллектив как на субъект (впоследствии в предложении подлежащее, часть речи – существительное). А что же выражалось в речении, тогда лишь ручном? Объект, но не по четкому представлению нашего мышления, как «дополнение», а как комплекс цели, задачи и продукции (предмета потребления)[43].
Перед нами – процесс языкотворчества. Язык создается на глазах вместе с ментальной картой доисторического прошлого, когда человек еще не вполне выделился из животного мира. Вся конструкция – чистый плод фантазии. Она – продукт радикального, поистине революционного творчества, уже окрашенного в цвета марксистской социологии (коллективный субъект, орудие производства, производственные отношения, предмет потребления и т. д.).
Марр и с революцией сошелся, как настоящий авангардный художник (в том даже смысле, что, как и у последнего, в основе его творчества была лишь неуемная жажда самоутверждения), прикрепив к желтой блузе своих эксцентрических теорий красный бант. В результате «космическое» мировоззрение сделалось «космическо-общественным»[44], «магические действа» – «труд-магическим процессом» и «коллективным трудовым процессом, имевшим магическо-производственное значение»[45], «культовые термины» – «производственно-культовыми»[46], «тотем» – «хозяином-владельцем», а «палеонтологический метод» – «идеологическим палеонтолого-социологическим методом»[47]. В этом смысле Марр был типичным попутчиком.
Разумеется, перекрашивание прежних фантазий под марксизм и перестройка яфетической теории в «новое учение о языке» не были для Марра простой лишь терминологической заменой прежних категорий. Он открыл в марксизме не только рациональные и идеологические основания и категориальные опоры, но и мощный утопический футуристический пласт, который был им решительно опрокинут в прошлое. Не случайно столь надежным союзником Марра стал Михаил Покровский, руководствовавшийся пониманием истории как политики, опрокинутой в прошлое. Но если Покровский оперировал соответственно отобранными и препарированными историческими фактами, то Марр эти «факты» просто придумывал. Его языковая история и доисторическая социология – практически чистый плод воображения.
Преисторические фантазии Марра о том, на каком уровне находились яфетиды в неолитической культуре и какой вклад они внесли в развитие металлургии, торговли, ремесел, искусства и т. д. во времена, когда «индоевропейцы обитали где-то на далеком севере Европы. Греки и римляне, в которых раньше видели созидателей древней европейской культуры, еще и не появились на свете», имели своей целью доказать превосходство этого существующего лишь в фантазии Марра народа и питались его неуемным желанием утвердить историческую роль кавказских народов в мировой истории:
В какой части круга своего распространения выработали яфетиды впервые универсальный тип высшей культуры тогдашнего человечества, в восточной ли части, в пределах Междуречья, или в западной, это еще предстоит исследовать. Но уже установлено, что яфетическая семья, яфетическая письменная среда создавала и развивала первые основы современной цивилизации, что смешение с яфетидами сообщило культурное благородство европейской расе, скрещение с ними произвело греков и римлян, рано вышедших на мировую арену гражданственности, так же, как и в последующие времена исторически известных романцев и германцев[48].
Здесь прошлое Марра-археолога сыграло с ним злую шутку. Сама специфика дисциплины предполагает баланс реализма и фантазии – достраивание культуры из обломков и воспроизведение костюма по сохранившейся пуговице предполагает взвешенность и холодную голову – последнее, чем обладал Марр. Но хотя кажется, что фантазия несла его неудержимо в чистую литературу, она подчинялась вполне определенным идеологическим задачам. В данном случае они сводились к доказательству превосходства предков кавказцев над предками европейцев. Задача, как всегда, очень личная для Марра, решаемая в характерной для него манере, когда желаемое и выдуманное выдается за реальность, не нуждающуюся в силу своей очевидности в верификации (детали, конечно, «еще предстоит исследовать», но главное «уже установлено»).
Здесь очевидна идеологическая заданность всякого рассуждения подобного рода – туман исторического мифа опускается всякий раз для того, чтобы скрыть расистский смысл рассуждений о выдуманном прошлом. То обстоятельство, что в основе яфетической теории заложен очевидный принцип отбора наиболее туманных предпосылок и наименее доказуемых «фактов» (загадочные древнейшие цивилизации Двуречья и Египта, на Востоке Европы – скифы и кимерийцы, на Западе – доиндоевропейские жители Германии и этруски, сюда же включены языки, не имеющие никаких связей с другими языками – готтентотский или пиктский, – словом, все, о чем практически ничего не известно и что требует отстраивания усилием фантазии ab initio), заставляет предположить, что она стала продуктом отнюдь не научного знания, но художественного достраивания «реальности» – политико-эстетической процедуры по легитимации определенных идеологических установок.
Марра интересовало тотемическое диффузное мышление и в особенности дописьменная, живая речь, еще неформализованный язык. Именно из критики письма возникал у него интерес к бесписьменным культурам, открывавший новые области этнолингвистических исследований, что имело прямые политические импликации: советская лингвистика на рубеже 1930‐х годов была вовлечена в процесс т. наз. «национально-культурного строительства» в республиках и на окраинах страны. Ясно, что тот, кто находил свою нишу в этой «живой языковой работе», мог рассчитывать на официальную поддержку[49]. К тому же Марр подчеркивал значение языков этнических меньшинств, что соответствовало интернационалистской риторике 1920‐х – начала 1930‐х годов, когда в республиках рос уровень национального самосознания и национальной культуры, а многие языки впервые обретали алфавит и письменность.
Марр описывал удивительный мир «дологического состояния мысли», «построенный не на базе готовых конкретных понятий, а переплетающихся друг с другом образов»[50], «когда люди мыслили мифологически, мыслили т. наз. „дологическим“ мышлением, собственно они еще не мыслили, а мифологически воспринимали…»[51]. Речь идет о «периоде, когда один и тот же предмет мыслился как источник добра и зла, когда время и место не различались, когда время не учитывалось в факте и т. д. и т. д. и соответственно не только не было и не могло быть звуковых слов для предметов, не существовавших еще в осознании, не было синтаксиса, учитывающего последовательность фактов в их естественной причинной увязке…»[52] Марр называл это время эпохой прелогического мышления – мышления «ручного», «диффузного», «дологического», «мифологического», «магического», «образного», «поэтического». Он писал о «доистории». Но это было не столько предысторическое, сколько предэпическое время, время хаоса – настолько же родственное революции, насколько чуждое эпическому историческому самоощущению сталинизма (в этом, кстати, видится мне одна из причин того, что Сталин обрушился на Марра: они были, если так можно выразиться, писателями разных направлений и стилей, один – романтик и модернист, другой – реалист и традиционалист).
Воссоздать этот мир по плечу только художнику. Но Марр полагал, что с литературой может соперничать его «яфетическая палеонтология», которая «дает воочию узреть потрясающее зияние времен между эпохами, когда творилась человеческая речь, – эпохами длительными, как геологические периоды, и эпохами, когда уже начался исторический период жизни человеческого рода с его столетиями и годами, протяжениями короткими, как мгновения человеческого века»[53]. «Романтика больших чисел» (Жирмунский)[54] пьянила – описываемый Марром период «сумерек доистории» был «бесконечно длинным»[55] – он продолжался «десятки тысячелетий»[56]. В другом месте Марр говорит о «двадцатках тысячелетий»[57], о «продолжительности, как теперь выясняется, не нескольких, а многих (свыше дюжины) сотен тысяч лет»[58]. На этом фоне история с ее веками и даже тысячелетиями – лишь капля в море человеческого развития, ведь «человечество творило еще раньше, в продолжение многих сотен тысяч лет, миллиона три»[59]. Дальше все это уходит в туманный мир чуть ли не зоологии, оттуда – в биологию, затем – в геологию, и наконец – в космогонические фантазии. В принципе эти построения связаны с верифицируемым знанием не более, чем фантазии Джона Толкиена или Рона Хаббарда. Марр имел, конечно, других литературных предшественников.
В предисловии к русскому изданию «Первобытного мышления» Леви-Брюля (1930) Марр не просто восхвалял эту книгу как «настольную книгу для каждого научно мыслящего лингвиста»[60], но утверждал поэтическую основу дологического мышления – называл его «действительным творчеством речи, первотворчеством»[61]. Фактически, как заметил Жирмунский, это был возврат к XVIII веку, к гердеровской трактовке поэзии как «родного языка человечества». Концепция чувственно-конкретного, образного, певучего и ритмического языка первобытных народов как языка свободного, подлинно творческого, поэтического в отличие от языка рассудка, отвлеченной логики, абстрагирования, прозы у культурных народов доминировала в романтическом языкознании начала XIX века[62]. Концепция эта имела корни и в России. Так, в лингвистической поэтике Потебни поэзия и проза понимались как две последовательные стадии познания действительности – образного и научного, логического.
При этом для романтического языкознания, – замечал Жирмунский, – стадией подлинного языкотворчества является лишь начальная, доисторическая, «поэтическая» стадия, когда одновременно творятся миф, поэзия и язык и создается основной корневой лексический материал языка, тогда как последующие исторические периоды языка характеризуются лишь упорядочением этого творческого богатства, а то и деградацией[63].
Так мы оказываемся перед двумя мощными контрмифами – романтическим мифом чистоты и свежести мифического прошлого и модернистским мифом чистоты и свежести технологического общества будущего. Грани между мифическим прошлым и светлым (но тоже вымышленным) будущим у Марра нет. Он сливает их в единый синтезирующий миф конгениальности первобытного человека: «Первые, общественно слабо организованные люди – гениальные творцы в образах, великие поэты, но совсем неважные эрудиты-ученые. С плодами их творчества человечество не расстается в своем новом творчестве: на них, как на сокрытой базе, воздвигает, или из них, как готового материала, лепит новые формы»[64]; романтическая утрата поэзии восполняется модернистским пафосом нового формотворчества.
С другой стороны, мощный эстетический компонент, присущий марровской концепции возникновения языка, делал ее едва ли не в большей степени эстетической, чем научной. Основываясь на теории народно-обрядового синкретизма А. Н. Веселовского, Марр утверждал, что язык родился в синкретической хоровой песне-пляске, бывшей частью магического обряда – «труд-магического действа», «труд-магического процесса», а искусство было изначально тотально-целостным, поскольку «пляска, пение, музыка первоначально не представляли трех отдельных искусств, а входили нераздельно в состав одного искусства»[65]. Само это искусство, утверждал «основоположник материалистического языкознания», родилось из обряда, истоки которого, в свою очередь, лежат «в магических действиях, необходимых для успеха производства и сопровождавших тот или иной коллективный трудовой процесс»[66]. Здесь-то и оказывалось, что «магическое действо „разрешилось“ порождением не трех искусств, а четырех – пляски, музыки, пения и зачатков или элементов звуковой речи, в первоначальном состоянии диффузно или смешанно представленных в одном искусстве»[67]. Это и был тот изначальный Gesamtkunstwerk, из которого все искусства (включая язык!) родились и в лоно которого все они в конце концов стремились после тысячелетий развития (неудивительно, что как продукт искусства язык и определялся Марром в качестве надстройки).
Но и тут эта романтическая концепция оказывалась вплетенной в ткань модернистского дискурса, поскольку обрядовое действо описывалось не в качестве выражения некоей расовой или национальной стихии, но в классовых категориях – «народный обрядовый хор» оказался в плену «хранителей культового языка». Видимо, ощутив несовместимость марксистского логоцентризма с этими мистическими, лишенными всякой доказуемости вымыслами, Сталин и назвал эти построения «труд-магической тарабарщиной».
«Этнографический романтизм»[68] Марра был своеобразной компенсацией его классовости. Противопоставление им бесписьменных («народных») и письменных («классовых») языков интересно еще и как образец трансформации логоцентрических построений в сугубо мифологическую картину развития. Мифогенный потенциал марксистской схемы проявился в марризме сполна. В марровских фантазиях поражает профетизм. Радикализм Марра оказывается антиформалистическим и, по сути, антилингвистическим. Сливая язык и мышление, Марр настаивал на том, что звуковая речь – лишь эпизод в истории развития мысли, поскольку на протяжении многих тысячелетий мысль была «линейной, беззвуковой». Лишая звуковую речь экзистенциональной содержательности, превращая ее в историческую категорию, Марр тем самым допускал безъязыковое существование мысли, то есть оголенную мысль, лишенную самой языковой субстанции. Каждый раз именно на этих высоких нотах мысль Марра обретала профетическое измерение:
Язык (звуковой), – заявлял Марр, – стал ныне уже сдавать свои функции новейшим изобретениям, побеждающим безоговорочно пространство, а мышление идет в гору от неиспользованных его накоплений в прошлом и новых стяжаний и имеет сменить и заменить полностью язык. Будущий язык – мышление, растущее в свободной от природной материи технике. Перед ним не устоять никакому языку, даже звуковому, все-таки связанному с нормами природы[69].
Удивительно звучат эти слова в эпоху расцвета компьютерных технологий, мобильной связи и создания виртуальной реальности (еще более занятно, что это была единственная прямая цитата из Марра в языковедческом трактате Сталина, и именно эти слова вождь назвал «труд-магической тарабарщиной»).
Другой ключевой аспект – сравнительный. Потрясающая легкость, с какой Марр сравнивал все со всем, разрывая привычные связи, так сказать остраняя языки, выдает в нем радикального авангардного мыслителя, настоящего модернистского художника. Находя близость между доисторическими и современными, письменными и бесписьменными, родственными и неродственными языками, Марр создавал настоящую темпорально-спатиальную феерию – он сравнивал чувашей с шумерами, черемисов с сарматами, сарматов с сербами[70]; шумеров, египтян и греков – с юкагирами[71]; «особую, исключительную связь» он обнаруживал у чувашского языка с грузинским, баскским, армянским и шумерским[72], с «яфетическими и яфетидоидными языками Афревразии – Берберии, Пиренеев, Кавказа, Памира» – «можно сказать, всего мира»[73]. Он находил полезным изучать грузинский язык в сравнении с французским[74], утверждал, что удмуртский язык имеет важное значение для «более утонченной дешифровки» переднеазиатской клинописи[75], и сокрушался о том, «как мы могли изучать кавказские языки, особенно армянский, без мордовского, и обратно»[76]. Примеры можно множить и множить[77]. Весь этот каскад – наглядная демонстрация гетерогенности и полиморфности марровской концепции, развивавшейся не по законам гармонических сочетаний, но дисгармонично, «сумбурно», полистилистически – совершенно авангардно. Будучи мегаломаном и мысля тотально (как он любил говорить, «в мировом масштабе»), он бросал краски на холст возводимого им учения небрежно и бессистемно, не заботясь о стилевой стройности.
Неудивительно, что скачок из преисторического прошлого в постисторическое будущее совершался им легко и стремительно. Так, подправляя марксистскую схему и делая ее последовательно классовой, Марр утверждал, что язык вначале был прелогическим и ручным, а те, кто начал овладевать звуковой речью, оказались в таком же привилегированном положении, как и те, кто позже умел писать в странах повсеместной безграмотности (так язык превратился в орудие классового угнетения). Здесь стоит выделить три элемента, которые Марр сводил вместе – тип языка (ручной/звуковой), классовый аспект и, наконец, связь языка с мышлением (прелогический/логический). На этом единстве Марр и строил картину ожидаемой мировой языковой (второй – после звуковой) революции:
Диалектико-материалистическое мышление переросло линейную речь, с трудом умещается в звуковую, и, перерастая звуковую, готовится к лепке, созиданию на конечных достижениях ручного и звукового языка, нового и единого языка, где высшая красота сольется с высшим развитием ума. Где? Товарищи, только в коммунистическом бесклассовом обществе[78].
Как можно видеть, язык у Марра выполняет ту же роль, что и государство в марксизме – подобно государству, он отомрет, а вселенская битва между языком и мышлением завершится «сокрушением языка», когда воссияет «будущее единство четкого мышления и четкого производства»[79]. В грядущем коммунистическом обществе красота и разум сольются: со смертью классового общества диалектико-материалистическое мышление преодолевает прежние формы – в новом типе языка окончательно снимается разрыв между мышлением и речью. Характерен мощный эстетической компонент, привносимый Марром: красоты этой раньше быть просто не могло. Она, подобно самой истории, начинается только в коммунистическом бесклассовом обществе. Такое языкознание могло бы быть у персонажей Андрея Платонова…
Сведение Марром различных языковых семей и групп к схеме исторически сменяющих друг друга этапов языкового развития фактически воспроизводило марксистскую схему: марксистская теория смены способов производства также строилась на историзации типологических феноменов (знаменитая пятичленка: первобытный коммунизм – рабовладение – феодализм – капитализм – социализм/коммунизм); на нее активно опирался Лысенко, определяя биологические виды в качестве «этапов» и «ступенек постепенного исторического развития органического мира»[80].
Экстраполировав отнюдь не безупречную с точки зрения исторической обоснованности марксистскую схему на язык, Марр соединил в своем учении классификацию с генезисом, заявив, что типология по сути является историей. Его радикальная «стадиальная (генеалогическая) классификация» есть одновременно и история (стадиальность) и типология (классификация) языков. В этом Марр был близок Лысенко. Связь эта была очевидна и его наследникам, которые спустя пятнадцать лет после смерти Марра полагали, что если биология отдана в руки автора стадиальной теории развития растений, то лингвистика должна находиться во власти адептов стадиальной теории развития языков. Если санкционирована первая, то должна быть санкционирована и вторая. Занятно, что в ходе многочасовых разговоров с Чикобавой Сталин возвращался к Лысенко, по крайней мере трижды повторив, что «Лысенко жить никому не дает»[81]. Историки спорят о том, действительно ли Сталин был настроен столь критично по отношению к Лысенко. Между тем интерес представляет сам факт обсуждения этой фигуры в контексте разговора о Марре. Можно предположить, что Сталин усматривал прямую связь между двумя стадиальными теориями.
И действительно, Марр противопоставлял генетическому родству языковых групп и теории праязыка идею скрещивания языков. Причем в его исполнении она звучала совершенно по-лысенковски: «В самом возникновении и естественно дальнейшем творческом развитии языков основную роль играет скрещение»[82]. Или: «Скрещение не аномалия, но нормальный путь, объясняющий происхождение видов и даже так наз. генетического родства»[83]. Если забыть, что речь идет о языках, можно подумать, что это говорит Лысенко о биологических видах. Вообще, связь лингвистического учения Марра с биологией прослеживается отчетливо. Это видно не только в использовании Марром в качестве ключевого понятия «палеонтология», но и в постоянном и активном использовании таких понятий, как «гибридизация», «метисация», «реликтовые типы», «размножение языков», «разновидности языков», «мутации» и, наконец, «скрещение языков», как понимал его Марр: «простой по составу, то есть «нескрещенный» язык, как слабое существо в борьбе за жизнь, обрекался бы на гибель»[84]. Это были уже не аналогии и не метафоры. Марр мыслил в тех же категориях, что и идеологи «мичуринской биологии». Но в понятиях этой активистской романтической биологии мыслили тогда многие. В своем языковедческом трактате Сталин даст расширенное определение марксизма как революционной науки – науки политических преобразований, науки не объяснения, но изменения мира. Как пояснял Георгий Александров, это наука о том, «как изменять законы жизни, как надо сбрасывать одряхлевший, старый мир капитализма и строить новый – молодой и здоровый, крепкий и растущий мир социализма, коммунизма»[85]. Марксизм может быть понят поэтому как социальная наука жизни, своего рода социальная биология.
Поскольку для Лысенко развитие растения – продукт взаимодействия со средой, мутации, приспособления к среде, а не наследственности и действия генотипа,
задача ученого, – замечает Константин Богданов, – состоит в том, чтобы направить эту мутацию в нужное русло – создать условия, в которых растение само улучшит свою природу. ‹…› В мире растений, если понимать этот мир как целое, развитие тотально и бесконечно. В нем – так же, как и в языке, – «все содержится во всем», поэтому «все» может быть сведено ко «всему»: языки Грузии к языкам Северной Америки, яблони к сливам[86].
Борис Гаспаров поставил теорию Марра в еще более широкий философский контекст, где
теория Марра, с ее яростной и не лишенной проницательности критикой сравнительного языкознания, выступала как одно из проявлений романтико-революционного духа, противостоящих позитивистской науке «викторианского века». ‹…› Сама марксистская идеологическая основа метода Марра, к которой яфетидология стала апеллировать со все большей настойчивостью в 1920‐е годы, вытекала из «динамической» интерпретации марксизма, столь популярной в то время в различных интеллектуальных кругах, – интерпретации, подчеркивавшей те аспекты концепции Маркса, которые сближали марксизм с левым гегельянством, то есть с традицией немецкой классической философии[87].
Обратил внимание Гаспаров и на связь Лысенко (а через него и Марра) с языковой концепцией Бахтина:
Полемика Лысенко с «формалистической генетикой» поразительно, пункт за пунктом, сходна с аргументами, выдвигавшимися М. М. Бахтиным и его последователями В. Н. Волошиновым и П. Н. Медведевым в конце 1920‐х годов в полемике со структурной (соссюрианской) лингвистикой и формалистической концепцией литературы и литературной эволюции ‹…› Параллели между этой филологической дискуссией и биологической полемикой несомненны. Иногда кажется, что споры с «формальным методом» в литературе и биологии находятся в отношениях метафорической парафразы. В самом деле, заменив «биологический организм» на «литературное произведение», «природную среду» – на «социальное окружение», «гены» – на «приемы», «эволюцию видов» – на «литературную эволюцию» (или наоборот), мы придем к двум почти взаимозаменяемым парадигмам представлений о природе «органических» явлений, характере их образования и путях их развития во времени[88].
Критика Марром позитивистской лингвистики (а с ним и бахтинская философия языка) не только была связана с неоламаркистской биологией Лысенко через общую для них «„бергсонианскую“ структуру мышления, сторонники которой пытались в первой трети столетия (как в биологии, так и в филологии и эстетике) выработать альтернативу тому, что они рассматривали как новую (авангардную) версию позитивистского, „механического“ подхода, на который изначально и был обращен критической пафос Бергсона»[89], но и прямо формировала самую метафорику Марра.
Несомненно, что последний утверждал «органический» (в противовес «формальному») подход к языку. Отсюда – интерес к происхождению и истории языка и критика «формальной грамматики», в которой Марр видел продукт средневековой схоластики, идеализма и формализма. Для человека, который находил отражение классовых отношений, отношений господства и подчинения в подчинении предиката подлежащему, в степенях сравнения прилагательных (так, низшая степень сравнения означала низшее сословие, средняя – среднее сословие, а превосходная – высшее сословие), грамматика не могла не представляться мертвой дисциплиной («Итак, долой грамматику? Зачем? Заменить изучением динамики языка, его стройки»[90]). Старая грамматика определялась им как «материальная грамматика»[91], что заставляет вспомнить о «материальной эстетике», против которой в 1920‐е годы выступал широкий фронт – от РАППа и «Перевала» до Бахтина. Можно предположить, однако, что романтическое «органическое» историзирование было компенсацией за отказ от рационалистической языковой классификации, третируемой как «фикция» и «миф».
С другой стороны, замена «механической» парадигмы «органической», столь очевидно заявившая о себе в литературе[92], вела к торжеству романтической истории. В частности, к постоянному акцентированию в ней момента «творческого» взаимодействия со средой как у Лысенко, так и у Марра. В обоих случаях результатом было создание параллельной реальности и отказ от «объяснения» мира во имя его «изменения» – расширение художественного фантазирования сопровождалось радикальной интерпретацией марксизма.
В этом смысле можно говорить о том, что сталинская культура оказалась не просто наследницей, но наиболее радикальной реализацией модернистского политико-эстетического проекта. Как замечает по этому поводу Б. Гаспаров,
время «индустриального» строительства нового мира и нового человека, основанного на обдуманной и научно обоснованной селекции «правильных» компонентов, прошло. Человека больше не рассматривали как винтик в машине; в нем скорее предполагали клетку организма. Человек и его труд больше не воспринимаются как деталь, которая либо подходит работающему механизму, либо отвергается; напротив, он постоянно востребован, он остается в состоянии непрерывного творческого усилия органически «врасти» в непрерывно изменяющийся новый мир. Либо он преуспеет в своем органическом возрождении, либо – на какой-то стадии процесса – будет отвергнут организмом, однако оба результата, будучи проявлениями непрерывного функционирования и развития организма, имеют положительное значение. Процесс не допускает исключений – не потому, что он «универсален», а потому что органически всеохватен. Усилия нового человека под стать усилиям лысенковского растения, старающегося переделать себя по более полезному образцу, или марровского языка, приспосабливающегося к вечно новым экономическим и идеологическим проблемам; путь к «жизни» поэта-акмеиста в воронежской ссылке напоминает путь крестьянина в колхоз. Безличный рационализм и бескомпромиссный детерминизм утопии 1920‐х годов проложили путь коллективности и всеохватной целостности утопии 1930‐х[93].
Метод философской интерпретации рассматриваемых научных концепций помогает понять связь между ними, но не позволяет ответить на вопрос о том, почему спустя два года после санкционированной Сталиным окончательной победы Лысенко вождь лично участвовал в разгроме научной империи Марра. Ответы следует искать, как представляется, не только на эстетическом (литературном) и философском уровнях, но и на уровне политической идеологии, частью которой эти учения были.
Споры вокруг Марра как в начале 1930‐х, так и в начале 1950‐х годов вращались вокруг его «марксизма». Провозглашенное настоящим воплощением марксизма в языкознании на рубеже 1930‐х годов его «новое учение о языке» было низвергнуто с марксистского пьедестала главным идеологическим судией в 1950 году. Сталин заявил, что «Марр много кричал о марксизме, но он не был марксистом» и назвал его «вульгаризатором». Так обычно называли марксистов в постклассовую эпоху сталинской державности. И хотя самое понятие «марксистский» имело совершенно разное наполнение в Советской России в 1920‐е и в 1950‐е годы, если видеть в марксизме определенную концептуальную и категориальную раму и сравнить подобные же аппликации в философии, истории, литературоведении, искусствознании, правоведении и мн. других дисциплинах в 1920‐е – начале 1930‐х годов, если поставить лингвистические дискуссии эпохи формирования «нового учения о языке» в контекст дискуссий на других культурных и научных «фронтах», в широкий контекст идеологических споров тех лет, можно определенно утверждать: Марр был одним из представителей именно «марксистского языкознания» (подобно Покровскому в истории, Крыленко и Пашуканису в правоведении, Переверзеву и Фриче в литературоведении и т. д.). То обстоятельство, что это учение было фантастическим, непоследовательным или научно непродуктивным, а его адепты обвиняли друг друга в «социал-фашистской контрабанде», конечно, не делает его «антимарксистским».
Марр широко использовал категории марксистской социологии не только в своих исторических фантазиях, но и в собственно языковых. Поскольку «от преломления сдвигов в базисе намечаемых социально-экономических преобразований возникают системы в оформлении соответственного мышления, системы языков на подлежащих стадиях»[94], «не только понятия, выраженные словами, но и сами слова и их формы, их фактический облик, – полагал Марр, – вытекают из общественного строя, его надстроечных миров, и через них из экономики, хозяйственной жизни»[95]. Так, к «строю общественности тех далеких творческих эпох»[96] он относил рождение грамматических категорий: «Так же увязана своим образованием с конкретным уже производственно-социальным процессом и соответственным мировоззрением такая также отвлеченная грамматическая категория, как основной объективный падеж»[97], «Прямые и косвенные падежи – ведь это „падежи“ пассивные и активные, т. е. собственно социально расцениваемые величины, поскольку на предшествующей ступени стадиального развития это две различные категории коллектива»[98].
Марр не мог смириться с деидеологизацией грамматики, с формальной природой грамматических категорий.
Части речи, вообще грамматические категории, – негодовал он, – еще более отрешены от жизни, чем все надстроечные общественные ценности ‹…› Грамматические части речи отрешены от какой бы то ни было материальной действительности, как в корне схематические абстракции и, естественно, ни в одной живой душе не вызывают массово ничего, кроме равнодушия, именно потому, что явления изучаются исключительно формально, в полном разрыве с общественно-творческими факторами, создавшими речь[99].
Он искал «одушевления» схоластической грамматики, избавления от «равнодушия» формальной науки, непосредственного отражения в генезисе грамматических категорий социальных процессов. Так, категория рода для Марра объявлялась «лишь отражением форм общественного строя»[100]: «род мужской и женский, равно и члены определительные и неопределенные характеризовали не слова, которые снабжаются соответствующими признаками… а общественные категории, к которым они относились или были сопричастны, – различные классы общества»[101]. «Степени сравнения, – согласно Марру, – социального происхождения. Они надстройки классового, сословного строя»[102]. «Прилагательные, распределенные по трем степеням сравнения, являются, – по Марру, – принадлежащими природно трем соответственно социально расположенным различным сословиям, выработавшимся из трех племен, тотемными названиями которых по принадлежности являлось каждое из подлежащих прилагательных»[103].
«При таком непонимании действительной сущности грамматических категорий, – замечал Н. Поспелов, – Марр должен был видеть в теоретической грамматике только досадную „обузу“ для своих семантико-палеонтологических изысканий и наполнять грамматические категории любым более или менее подходящим идеологическим содержанием»[104]. Но не только обузу: грамматика превращалась в настоящий склад политических метафор. И здесь – одна из причин краха марризма: формальная, деидеологизированная грамматика идеологически и политически куда полезнее неподконтрольной семантической марровской грамматики, оперировавшей не столько языковыми реалиями, сколько политико-идеологическими метафорами. Первая была продуктом исчисления и нормализации, тогда как вторая вообще не поддавалась цензурированию.
Марр возводил к классам не только грамматические категории, но абсолютно все уровни языка, вплоть до фонетики. Так, он полагал, что благодаря его элементному анализу «открылась материальная база речевой надстройки и с нею возможность идеологического по стадиям разъяснения (палеонтология речи) не только слов, но и морфологии, более того – фонетики, как генетически социальных явлений, в конечном счете – отражений законов производства и производственных отношений»[105]. В другом месте он утверждал, что «идеологические смены определяют звуковые изменения»[106]. Все эти связки (звуки/идеология, падеж/классовая структура и т. д.) требовали особого отвлеченного дискурса. Он и был выработан Марром на основе отождествления языка с мировоззрением и – прямо с производством. Так, в статье «Язык и мышление» Марр заявил, что «синтаксис, строй – это само производство, трудовой процесс, и лишь с ‹…› обращением в надстройку материального базиса, производства и производственных отношений, т. е. выработкой разлученного с базисом тотема, получился синтаксический строй речи, того же производства, только в осознании»[107]. Иначе говоря, синтаксис – это самое производство, которое с превращением в надстройку стало языком, но хотя и абстрагировалось, сохранило в себе все черты производства. В подобных метафорах Марр подходит к чистому производственничеству, а от его «классовой грамматики» лишь шаг к «классовости» математики или к «пролетарской геометрии» Богданова). В приложении марксистских категорий к истории языка Марр пошел до конца.
Эти категории идеально отвечали марровской интернационалистской концепции (а именно в ней находили выход его травмы). Из домена национальной идентичности язык становился вненациональным феноменом и проводником классовости. Марр полагал, что «не существует национального, общенационального языка, а есть классовый язык, и языки одного и того же класса различных стран, при идентичности социальной структуры, выявляют больше типологического сродства друг с другом, чем языки различных классов одной и той же страны, одной и той же нации»[108]. Национальный язык был объявлен фикцией, подлинной реальностью становились только классовые языки. Это была последовательно интернационалистская (хотя и далекая от реальности) концепция языка.
Это и был «марксизм в языкознании», по-настоящему «марксистский подход к языку». Сталинизм же основывался на традиционной национальной модели. Апеллируя к национальному языку и лишая его классового ореола, Сталин реконструировал концепцию «народа» и нации, в определении которых язык играл ключевую роль (стоит помнить, что в сталинском определении нации язык стоит на первом месте как важнейший признак нации). Поэтому Сталин писал об «общенародной позиции» языка, о том, что язык служит не классам, но нации в целом. Столкновение этих двух концепций было лишь делом времени.
Марровская классовость стала удобной мишенью в постклассовую эпоху. Особое негодование Сталина вызвало обнаружение Марром классовой дифференциации уже в палеолите и утверждение наличия классов в первобытном обществе. По Марру выходило, что бесклассового языка вообще никогда не существовало, что язык зародился как акт магии, а сами маги были первым эксплуататорским классом, что с выделением человеческого коллектива из мира животных появляется классовый язык (как источник господства): «Нельзя не только молчать, но и нерешительно говорить о том, что внеклассового языка доселе не было, язык был классовый с момента его возникновения, с момента возникновения звукового языка, это был язык класса, завладевшего всеми орудиями производства тех эпох, в том числе и магиею – производством»[109].
Иначе говоря, согласно Марру, классовое общество существовало в эпоху позднего палеолита, а не возникло в эпоху разложения родового строя (здесь Марр вступал в открытую полемику с Энгельсом). И если Сталин встал на защиту Энгельса (которого не любил и сам открыто критиковал), то потому лишь, что отсюда следовали важные политические импликации: согласно официальной советской доктрине, коммунизм был своего рода возвращением к первозданности – к социальной справедливости «первобытного коммунизма». Теперь же оказывалось, что никакого первобытного коммунизма вообще не было, что уже первобытное общество было классово. Иначе говоря, что общество вообще не может быть неклассовым (по крайней мере, исторически классовость и социальность родились одновременно), что классовость (а соответственно, и «эксплуатация человека человеком») заложена в самой человеческой природе. Распадался важнейший аргумент марксизма о том, что бесклассовое общество естественно, тогда как эксплуататорское – продукт искажения человеческой природы. Теперь оказывалось, что говорить надо не об искажении, но о реализации этой природы. В этом случае критика марксизма направлена не по адресу: претензии надо предъявлять не «эксплуататорскому обществу», но самой человеческой природе. Так последовательный марксизм вступал в противоречие с политической целесообразностью и тем самым становился идеологической обузой. Дело, таким образом, не в том, был ли марризм «марксизмом в языкознании» (несомненно, был), но в том, что в постреволюционных культурах исходные принципы отступают перед сугубо политическими приоритетами. И в этом смысле марризм должен быть понят как феномен политической идеологии.
Именно в этом качестве он сохранял преобладание негативного содержания над позитивной программой. Марр выступал прежде всего против индоевропеистики, традиционного понимания природы языка и языкового развития. Большая часть выступлений как самого Марра, так и в особенности его идеологических опричников, состояла из критики «лженауки». Причем «наука» и «лженаука» конструировались самими марристами по зеркальному принципу. Примечательно не только то, что «позитивная программа» была негативным отражением постулатов отвергаемой «лженауки», но и то, что, отстраивая новую реальность, критики «лженауки» вынуждены были заново отстраивать связи между реальностью и новой языковой картиной создаваемого ими мира – чем глубже шла критика, тем больше вздорных объяснений языковой реальности приходилось выдумывать Марру. Так, если согласно традиционным представлениям язык связан с национальной культурой, то по Марру он представляет собой идеологическую надстройку и имеет классовую природу; если традиционная индоевропеистика рассматривала историю языка в контексте внутренней языковой эволюции, то Марр выдвинул идею стадиального развития языков и утверждал, что с переходом общества от одной общественно-экономической формации к другой происходит переход языка в новое качество (через языковые революции, скачки и т. п. взрывные процессы); если согласно принятым взглядам единый праязык постепенно распался на отдельные, хотя и генетически родственные языки, то Марр утверждал, что языковое развитие шло в обратном направлении – от множества к единству.
Это влекло за собой необходимость пересмотреть целый ряд производных положений. Например, объяснить появление разных языков. Марр утверждал, что они возникали независимо друг от друга, так что языки, считавшиеся безусловно родственными (даже диалекты одного и того же языка), таковыми на самом деле не являются – они не только не родственны, но и изначально были самостоятельно возникшими языками. Очевидные сходства языков объявлялись продуктом скрещения (разные языки в результате взаимодействия образовывали новый язык – наследник обоих предков). Отбросив теорию праязыка, Марр оказался перед необходимостью заполнить образовавшееся зияние. Так возникла идея, согласно которой все языки мира возникли из четырех элементов, а задача языковеда сводится к «языковой палеонтологии», то есть к поиску этих элементов в глубинах истории всех языков.
Поскольку теории подобного рода отстраивались не в результате анализа материала и не были продуктом позитивного знания, но изначально создавались как контртеории, они рассыпались при столкновении с реальным языковым материалом, что требовало их постоянных увязок с реальностью. Однако негативизм марристской схемы (подобно лысенковской агробиологии, теории живого вещества Лепешинской и т. п.) имел в качестве образца самую марксистскую доктрину, в которой, как известно, слабость позитивной программы компенсировалась интенсивностью критики капитализма.
Можно, таким образом, говорить о полной нерелевантности позитивного содержания этих теорий, поскольку их функция сводится не к производству позитивного знания или к практическому применению, но к замене реальности и производству идеологических конструктов, которые заполняют пустоты «научного марксистско-ленинского мировоззрения». «С каждой новой исторической победой рабочего класса организующая, мобилизующая и преобразующая сила его научного мировоззрения – марксизма-ленинизма – еще более возрастает»[110]. Причина этого роста – в особом характере советской науки: если «преимущества капитализма» обнаруживаются в экономике (наука важна здесь постольку, поскольку стимулирует промышленный рост и эффективность производства, что в свою очередь ведет к росту уровня жизни и дальнейшему росту производства), то «преимущества социализма» доказываются прежде всего теоретически, «научно», через «единственно верное марксистско-ленинское учение», которое само является основой любой науки – от лингвистики до химии.
Поэтому статус высказываний Сталина о языкознании оказывается заведомо выше любого позитивного знания и любой мыслимой эффективности. Если в случае с лингвистикой Сталин выступает против марристской абсурдной схемы и доказывает правоту традиционного языкознания, то в случае с Лысенко он, наоборот, санкционирует разгром науки и насаждение абсурдной лысенковской агробиологии. В обоих случаях вождь оказывается прав, что указывает на нерелевантность самого содержания сталинской позиции. Не будет поэтому ошибкой утверждать, что в целом советская наука не была «под пятой идеологии» и не «страдала от идеологического диктата», но сама была политической идеологией, особой формой идеологического дискурса.
Речь при этом не идет о некоем слиянии науки с идеологией. Такое слияние вообще вряд ли возможно, поскольку обе практики – идеологическая и научная – имеют разную природу и стремятся к противоположным результатам. Первая является, по известному определению, «ложным сознанием», вторая, наоборот, – продуктом стремления к рациональности, объективности и истинности. Если в идеологии видеть «интеллектуальное орудие, с помощью которого социальная группа захватывает или удерживает свои привилегии в обществе»[111], то надо признать, что советская наука, нисколько не являясь рациональной или объективной (напротив, она нередко была откровенно абсурдной), выполняла те же функции в своем социальном поле. При этом она вовсе не являлась «квазинаукой», как утверждает Виктор Леглер (в этом случае квазинауками в той или иной мере пришлось бы признать практически все советские научные дисциплины). Она являлась собственно идеологией. Это подтверждает и приведенный Леглером пример с биологией: «Идеология, предназначенная обосновать абсолютную власть вождя и партийной номенклатуры, ведет речь о пролетариате, диалектике, первичности материи, переходной фазе, пяти признаках, семи функциях и т. д. Сходным образом рассуждения о Менделе, хромосомах, яровизации, видах и злаках означали, что власть в биологии должна принадлежать Лысенко и его соратникам»[112]. Ни по природе, ни по функциям эта наука не отличается от идеологии (советская наука была такой же идеологией, какой было, к примеру, советское искусство: лысенковская агробиология лишь дискурсивно отличается от колхозной поэмы, а марристское «новое учение о языке» – от производственного романа).
В этом качестве она была сугубо политически инструментальна. В ней убедительно и эффективно то, что политически целесообразно. Поэтому она с такой легкостью сбивается на актуальные политические сюжеты. Будучи идеологией, советская наука была экспансивна (как механизмы создания параллельной реальности, идеологии всегда стремятся уничтожить реальность, которая угрожает создаваемой ими картине мира, поэтому экспансия является естественной формой их существования – чем большая площадь реальности идеологически преобразована, тем выше шансы на выживание данной идеологии). Именно с этим связано то, что «сталинское учение о языке» в течение трех лет распространялось на все общественные и гуманитарные науки, в каждой из которых находилось что перестроить «в свете трудов товарища Сталина» (то же можно сказать и о биологии).
Будучи идеологией, советская наука характеризовалась, как мы видели, негативизмом (вся ее история была историей борьбы со «лженаукой»). В этом она апеллировала к идеологическому прототексту сталинизма – «Краткому курсу» истории ВКП(б), повествовавшему о победе большевистской идеологии в перманентной борьбе с врагами.
Ленин и Сталин подчеркивали, что новая, социалистическая культура строится в обстановке ожесточенной классовой борьбы, следовательно, в напряженной борьбе с буржуазной культурой. Большевистской партии, Ленину и Сталину пришлось выдержать упорную борьбу с троцкистами, бухаринцами, буржуазными националистами и прочими врагами партии и народа, стремившимися реставрировать капитализм в СССР. В философии и политической экономии шла борьба с механистами и идеалистами, в литературе и искусстве вели свою предательскую работу под флагом болтовни о «пролетарской культуре» «пролеткультовцы», «рапповцы», мейерхольдовцы, в исторической науке проводилась борьба с вульгарно-социологическими воззрениями «школы» Покровского и т. д. Как выяснилось впоследствии, все или почти все пропагандисты буржуазных воззрений в философии, политической экономии, исторической науке, литературе и искусстве являлись активными и сознательными врагами советской власти и вместе с другими врагами народа стремились реставрировать капиталистический строй в СССР[113].
Теперь к этому перечню поверженных революционных кумиров добавились Марр и его наследники.
Наследие и наследники: Морфология взрыва
Ситуация, сложившаяся в советской лингвистике в 1948–1950 годах, абсолютно ничем не отличалась от ситуации, сложившейся в биологии после августовской сессии 1948 года ВАСХНИЛ или в литературе после январской 1949 года статьи в «Правде», в которой разоблачалась «антипатриотическая группа театральных критиков» и которая давала старт борьбе с космополитами. Те же многодневные собрания, разоблачения, шельмование, кликушество, тот же тип актантов (в биологии – Лысенко и Презент, в литературе – Софронов, Суров, Бубеннов, в языкознании – Сердюченко и Филин). Кампании пересекались, лозунги менялись, атмосфера погрома сохранялась.
Ситуации эти в разных областях науки и культуры описывались неоднократно. Изредка предпринимались и попытки их сопоставления. В первом случае обычно подчеркивалась их уникальность (поскольку они каждый раз рассматривались историками соответствующих дисциплин). Так, Владимир Алпатов подробно описал все перипетии лингвистической кампании, но, замкнув свое рассмотрение внутри дисциплины, не вышел к анализу особой идеологической культуры эпохи позднего сталинизма[114].
Во втором случае, напротив, подчеркивалась схожесть кампаний, но без должного учета их специфики в каждой области. Если Алпатов (как и большинство историков) исходил из того, что действия Филина и Сердюченко оркестровались сверху, то А. Кожевников, исследовавший дискуссии в советской науке в 1940‐е годы в комплексе, напротив, утверждает, что все акции шли снизу и исход кампаний каждый раз был непредсказуем[115]. Если ситуация в лингвистике и подтверждает подобный ревизионистский подход, то в том только смысле, что поведение инициаторов (вполне, кстати, предсказуемое) действительно привело к непредсказуемым как для них самих, так и для их противников последствиям (Филин и Сердюченко, конечно, не предполагали, какой идеологический обвал вызовут их действия). Но эту «непредсказуемость» не стоит преувеличивать, как это делает Кожевников: как только лингвистика оказалась в поле зрения Сталина (в результате действий самих марристов!), исход кампании был предсказуем и для него самого предрешен, а значит ничего «стихийного» произойти здесь уже не могло.
Итак, каждый раз кампании имели свою идеологическую задачу, свой эпицентр и свою динамику. Лингвистическая ситуация была уникальна как по содержанию, так и структурно.
В концептуальном плане лингвистическая кампания в целом (до лета 1950 года – погромные проработочные акции, затем дискуссия и выступление Сталина в «Правде», а после того – «разгром марризма») двигалась как бы в противоположном известному направлении. Вместо разгрома продуктивного художественного или научного течения (как было в музыке или биологии) и победы персонажей типа Захарова и Коваля (в музыке), Лысенко и Презента (в биологии), Софронова и Грибачева (в литературе), в языкознании, наоборот, утверждается победа традиционной лингвистики и с позором изгоняются Сердюченко и Филин. Машина продемонстрировала способность действовать в прямо противоположных направлениях (что позволило позже даже говорить о том, что в лингвистике оттепель началась еще при жизни Сталина и была инициирована им самим; лингвистическая дискуссия может рассматриваться как своего рода ложка меда в бочке дегтя).
Уникальность лингвистической кампании состояла в том, что импульс к подобным акциям всегда подавался сверху (и исходил лично от Сталина) и, имея отклик в «низах», кампания опиралась на одну из групп в данном искусстве или научной дисциплине, способную возглавить эту дисциплину и обеспечить победу «партийной линии». В этом случае все произошло иначе: групповая борьба привела к непредвиденным последствиям – от неосторожного обращения с идеологическим огнем произошел взрыв, который смел всю предшествовавшую научную парадигму и разрушил институциональный каркас целой дисциплины, просуществовавший два десятка лет.
Эту уникальность мы и попытаемся понять.
Идеологические постановления ЦК 1946 года привели к резкой активизации в среде литераторов. Уже в 1947 году началась последовательная критика лингвистического аполитизма в «Литературной газете» – вначале в связи с тем, что в диалектические карты не были включены новые советские слова, типа МТС и трактор (в статье публициста Александра Марьямова[116]), а спустя всего месяц в разгромной статье Бориса Агапова и Корнелия Зелинского «Нет, это не русский язык!», направленной против книги Виктора Виноградова «Русский язык»[117]. Обвинения звучали теперь уже определенно политические: «раболепие перед иностранщиной», «лженаучная объективность», «аполитичность и безыдейность». Книга была названа «пустопорожней, вредной чепухой», ей отказано было в праве считаться «русской книгой о русском языке». Трудно представить себе, чтобы очеркист Марьямов, который писал о зажиточной колхозной жизни, сам вдруг занялся чтением «Известий Академии наук», чтобы бывшие конструктивисты Агапов, специализировавшийся на очерках о новаторах производства, и Зелинский, писавший о многонациональной советской поэзии, вдруг засели за чтение специальной лингвистической книги объемом почти в 800 страниц.
Несомненно, кампания была нацелена на центр антимарризма – филологический факультет МГУ, деканом которого был академик Виноградов, самый высокопоставленный антимаррист. И хотя ученый совет факультета выступил в поддержку коллеги, «Литературная газета» обвинила факультет в «застое, рутине и косности»[118]. Там же было опубликовано письмо русистов во главе с Виноградовым в защиту Рубена Аванесова и В. Н. Сидорова, которые критиковались в статье Марьямова.
В качестве «модератора» выступил Г. Сердюченко, который высказался примирительно о книге Виноградова (хотя и обвинил ее в «объективизме, отсутствии марксистской методологии и излишне заботливом отношении к трудам различных буржуазных ученых»), но расширил круг критикуемых (теперь под огнем оказались авторы языковедческих учебников видные лингвисты Александр Реформатский, Розалия Шор и Николай Чемоданов). На этом кампания в Литгазете затихла (весь следующий год литературоведы были заняты борьбой с компаративистикой и «веселовщиной»[119]). Можно сказать, что первые атаки на антимарристов со стороны «Литературной газеты» были лишь пробой сил марровской группы. Виноградов угрожал статусу Мещанинова как новый академик-лингвист и возможный лидер антимарровской оппозиции, поэтому тот не мог не поддержать рвавшихся в бой опричников Сердюченко и Филина. То обстоятельство, что полем брани стала «Литературная газета», лишь подчеркивает групповой характер кампании. Дело в том, что еще в начале 1930‐х годов Филин был тесно связан с РАППом, а главным редактором «Литературной газеты» стал в 1946 году один из главных функционеров РАППа Владимир Ермилов. Это явное свидетельство того, что кампания на этом этапе была сугубо групповой, а не оркестровалась из ЦК, была инициирована «снизу» и лишь имела поддержку наверху, поскольку вписывалась в общий ход кампаний такого рода.
1948 год проходит под знаком нарастания чисток в лингвистике. Причем, действуя по логике превентивной защиты, именно марровская группа инициирует атаки. В июне Сердюченко обрушивается на редакцию «Известий Академии наук» за отсутствие борьбы с преклонением перед западной лингвистикой, безыдейность и публикацию «формалистических материалов»[120]. В тот же день в другом докладе он громит за «аполитичность» и «низкопоклонство» Реформатского, Виноградова, Жирмунского, Шишмарева[121]. В том же месяце в ходе диалектологического совещания Филин заявил о том, что советская диалектология принципиально отлична от западной[122]. И все же пока эти выступления носят характер своеобразных «загибов». Они не поддерживаются аудиторией, а Сердюченко и Филин похожи лишь на новых «неистовых ревнителей», агрессивно наскакивающих на своих научных оппонентов. Пока что не хватало идущей сверху энергии.
И только после августовской сессии ВАСХНИЛ 1948 года в марристские паруса подул, наконец, попутный ветер идеологической кампании. Ее курировали заведующий Отделом науки ЦК Юрий Жданов и ученый секретарь АН СССР Александр Топчиев. Кампания эта шла по накатанной колее – как в философии и истории, в правоведении и лингвистике. Она строилась (как и предшествующие кампании – в литературе и философии, театре и музыке) на трех главных принципах: 1) экстраполяция общих положений на конкретную область науки/искусства; 2) создание напряжения между полюсами (формализм/народность, аполитичность/идейность, агробиология/генетика, марризм/индоевропеистика и т. д.) с обязательной персонализацией; 3) очищение от идеологической (западной) скверны.
Именно по этому сценарию развивались и события на «лингвистическом фронте» в течение последующих двух лет. Полагаясь на поддержку сверху, Сердюченко и Филин резко активизировали атаки на антиммарристский лагерь (попутно формируя его, подобно тому как за год до того формировалось «формалистическое направление в музыке»). Очевидно, что давление на Мещанинова стало непомерным и он сдался, о чем свидетельствовало прошедшее 22 октября 1948 года совместное открытое заседание ученого совета Института языка и мышления имени Н. Я. Марра и Ленинградского отделения Института русского языка АН СССР, специально посвященное результатам дискуссии в биологии.
Здесь выступили Мещанинов и Филин. В самих названиях основного доклада Мещанинова «О положении в лингвистической науке» и 40-летнего Филина «О двух направлениях в языкознании» был прямой параллелизм с названиями основных документов августовской сессии ВАСХНИЛ. Мещанинов занялся прямым переводом доклада Лысенко на биологической сессии на язык лингвистики: «Теоретические изыскания, непосредственно связанные у нас с интересами практики, выдвигают такие же вопросы в исследованиях ученых разных специальностей, а не только одних биологов». К числу таких общих тем Мещанинов отнес «такие затронутые на сессии биологов темы, как проблемы наследственности, как учение о качественных изменениях в историческом ходе развития явлений общественного порядка и вытекающие отсюда положения о стадийном или стадиальном движении с выяснением решающей в нем роли социального фактора».
В качестве примера Мещанинов привел учение о наследственности,
об изначальном и неизменчивом наследственном веществе. Такое же «наследственное вещество» выступает в учении Гумбольдта о «духе народа» ‹…› Они ложатся в основу расовой теории в языкознании, еще окончательно не изжитой в работах зарубежного языковедения и получившей в фашистской Германии широкое применение. Утверждение Вейсмана о невозможности управлять наследственностью организмов путем соответствующего изменения условий жизни этих организмов находит себе отклики даже в основных положениях господствующей по сей день зарубежной лингвистической школы, наименовавшей себя «социологической» ‹…› В этом отношении даже не нападки на Н. Я. Марра, а одно лишь игнорирование его работ дает вредные последствия, оставляя исследователя в плену чуждых советскому языкознанию концепций[123].
Филин пошел по пути персональной критики и поиска виновных: «Среди языковедов нашей страны пока нет методологического единства, среди них, как и у представителей биологии, имеются два направления, несовместимые друг с другом и борющиеся между собою», одно из которых представлено учением «основоположника материалистического языкознания» Марра, а другое – идеалистическая индоевропеистика. Филин обнаружил не простое «игнорирование» Марра, о котором говорил Мещанинов, но настоящий заговор в лингвистике: «На деле многие языковеды в нашей стране вели и ведут тайную или явную борьбу с новым учением Н. Я. Марра». Кляня «самоуспокоенность, притупление критического отношения к своим противникам» и рисуя картину настоящей методологической битвы на лингвистическом фронте с указанием имен Виноградова, Реформатского, Булаховского, Бубриха, Галкиной-Федорук, Поспелова, Аванесова, Якубинского и других, Филин напомнил, что не далее как в 1947 году «благодаря содействию советской общественности (прежде всего выступлениям „Литературной газеты“) представители нового учения о языке впервые после смерти Н. Я. Марра дали организованный отпор наступлению лингвистической реакции»[124], и заявил, что «неразоружившиеся индоевропеисты»[125] выступают не просто против Марра, но по сути против советской власти, ибо «в политическом отношении учение Н. Я. Марра, рожденное советским строем, является ‹…› составной и органической частью идеологии социалистического общества»[126].
Тут же был выявлен злокозненный заговор, «блок». Как утверждал один из выступавших в прениях Валентин Аврорин, «блок „поклонников заграничных талантов“ „свил свое гнездо“ в Московском институте русского языка АН СССР, в Московском университете. Нашей ближайшей и неотложной задачей является идейный разгром этого блока»[127]. В Москве разоблачениями занимался Сердюченко, после чего начались «оргвыводы» (закрытие кафедры сравнительно-исторического языкознания в МГУ, уход с поста декана филологического факультета МГУ Виноградова, изменения вузовских программ Министерством высшего образования – отказ от многих учебников, введение курса «нового учения о языке» по брошюрам Сердюченко и т. д.).
Начало 1949 года ознаменовалось открытием нового фронта – кампании борьбы с космополитами. Теперь Сердюченко сравнивает Марра не с Коперником, но с Павловым и Мичуриным, и доказывает, что Марр был связан с традициями русской науки, был патриотом, выступал против космополитизма и боролся с буржуазной наукой. Список врагов между тем расширяется таким образом, что в него попадают и многие видные марристы вплоть до самого Мещанинова. В дело включается «советская общественность» («Литературная газета» печатает погромные статьи Сердюченко) и «партийная печать» («Правда» обрушивается с резкой критикой на книгу Льва Зиндера, орган Агитпропа ЦК газета «Культура и жизнь» печатает разгромную редакционную статью «За передовое советское языкознание», полную политических обвинений[128]).
Антикосмополитическая кампания дала второе дыхание борцам за чистоту советской лингвистики. Сравнительное изучение языков теперь признается абсолютно вредным. Оно допускается только в исключительных случаях. Обращение к европейским языкам и вовсе вышло из научной моды. Автор грамматики чукотского языка Петр Скорик даже предложил ограничить изучение языков только языками народов СССР, а иностранные языки «должны привлекаться во вторую очередь. Этого требует наш патриотический долг»[129]. Сердюченко между тем продолжал выявлять космополитов, каковых в языкознании было найти нетрудно (достаточно было ссылок на материал западноевропейских языков или «буржуазных ученых»). Поток статей, докладов, брошюр, проработочных сессий, карательных акций в различных институциях по всей стране – от академических до вузовских – приобретает характер цунами[130].
К 1950 году, как ни парадоксально (в свете последующих обвинений в отсутствии критики и самокритики в языкознании), в советской лингвистике практически не осталось зон и лиц, свободных от критики, – включая наследника Марра и главного советского языковеда, лауреата двух Сталинских премий и Героя Социалистического Труда Мещанинова, теории которого обвиняли в антимарризме и который не мог не нести персональной ответственности за положение в советской лингвистике, официально признанное неудовлетворительным. Поэтому Мещанинов в ходе перманентных проработок воздерживался от прямых нападок и обвинений, концентрируясь на общих положениях, тогда как Сердюченко и Филин выполняли черновую работу.
Под вопросом оказывается как раз поведение последних. Мнение о том, что они «выполняли указания сверху», прочно утвердившееся в литературе о Марре[131], не вполне соответствуют характеру сталинской академической культуры. И в развернувшейся в 1948 году кампании в музыке, где в подобных же ролях выступали Коваль и Захаров, и в протекавшей параллельно в литературе антикосмополитической кампании, где подобные функции выполняли Софронов и Бубеннов, в самой подлежащей идеологическому очищению среде существует огромная тяга к сведению давних счетов, на разных полюсах замороженных в 1930‐е годы конфликтов. Тут обычно скрещиваются идеологические, научные и карьерные интересы различных лиц и групп. «Указания сверху» действуют только при условии поддержки «снизу».
Несомненно, что в советском языкознании «блок» действительно существовал, но состоял он как раз из Сердюченко, Филина, Мещанинова и ряда других лиц, рассчитывавших на определенные выгоды от установления монополии в лингвистике и опасавшихся за судьбу «нового учения», которое чем дальше, тем сильнее линяло и теряло свою идеологическую привлекательность «в новых условиях». Насколько самостоятельно действовала эта группа, облеченная к тому же значительной институциональной поддержкой, остается вопросом. Вряд ли те или иные конкретные мероприятия и выступления кем-то «сверху» (будь то Юрий Жданов или Топчиев) оркестровались, вряд ли прямые «указания сверху» вообще имели место. Напротив, инициатива исходила именно «снизу», от самих марристов.
А. Кожевников, апеллируя к новым архивным материалам, пишет по этому поводу:
В сообществе лингвистов быстро устанавливается «порядок» и стремительно вырабатывается консенсус, но окончательно зафиксировать его могло бы проведенное по всем правилам политическое мероприятие. Начиная с июля 1949 г., соответствующие предложения и информация о ведущейся борьбе с идеализмом в языкознании несколько раз направлялась в ЦК от имени Академии наук. Агитпроп был готов поддержать инициативу ученых и провести у себя небольшое совещание языковедов с докладами С. П. Толстова, Ф. П. Филина и Г. П. Сердюченко «с целью завершения работы по рассмотрению положения в советском языковедении и внесения в ЦК ВКП(б) предложений по улучшению научной работы в этой области». Однако в январе 1950 г. секретариат ЦК ответил, что достаточно организовать совещание при Академии наук, иначе говоря, – неполитическое мероприятие[132].
К этому стоит добавить поток жалоб в ЦК от антимарристов с обвинениями Сердюченко и Филина в нетерпимости и некомпетентности. На одной из таких жалоб (из Академии педагогических наук) секретарь ЦК Михаил Суслов написал резолюцию: «нельзя решать научные вопросы в административном порядке», «организовать дискуссию»[133]. Как можно видеть, если попытки манипуляции и имели место, то шли они не сверху, но, наоборот, снизу: сами марристы – организаторы кампании хотели вовлечь высшие инстанции в борьбу на своей стороне.
Итак, в 1948–1950 годах в языкознании шла одна из вполне рутинных кампаний, которые катились по стране с удивительной регулярностью начиная с 1946 года[134]. Конкретные исполнители действовали не за страх, а за совесть – в результате чисток они получали посты, влияние, власть. Но посты, влияние и власть требовали, в свою очередь, определенных номенклатурных качеств; умение вести себя наступательно-агрессивно и беспринципно, склонность к демагогии и политиканству были важными, но не единственными качествами, требуемыми от претендентов на монополию. Нужны были еще качества политиков – чувство меры, чувство (если не чутье!) опасности, умение не «перегибать палку» и постоянная готовность к самым неожиданным поворотам и исходу борьбы. Этих последних у марристов как раз и не было.
Сравнение Сталиным марровцев с рапповцами было настоящей фрейдистской оговоркой, поскольку ситуация 1950 года (выступление Сталина в «Правде») зеркально повторяет ситуацию 1932 года (постановление ЦК о разгоне РАППа). Ничто не предвещало неожиданного конца. Распоясавшиеся рапповцы уже чувствовали себя настоящими хозяевами в литературе, в течение ряда лет прибирая к рукам все литературные группы, а полная поддержка ЦК, «Правды» и лично Сталина совсем лишили их чувства опасности и меры. И когда неожиданно грянуло апрельское постановление ЦК, наступило состояние шока как для палачей, так и для жертв. Игру с РАППом Сталин вел лично, но ведь и роль литературы в ту эпоху несопоставима с ролью лингвистики в 1950 году. Тогда «игра кота с мышью» велась долго, но и ставки были велики – речь шла о завоевании культурных элит в период узурпации власти. Здесь же ставок не было вовсе. В том, между прочим, и состояла разница между 1930‐ми и 1950‐ми годами, что у Сталина не было актуальных политических задач (борьбы за власть или даже удержание власти), поскольку уже не было даже вымышленных (как в 1930‐е годы) вызовов его власти.
Пароксизмы 1930‐х годов остались в прошлом. Наступила эпоха нормализации и стабильности. Если начало 1930‐х годов было эпохой активного идеологического словотворчества, когда из сталинского кабинета выпархивал «меньшевиствующий идеализм» (1930) или «социалистический реализм» (1932), то после войны эпоха неологизмов осталась в прошлом, а высшей похвалой лингвистическим открытиям вождя были ссылки на победы «здравого смысла» над, надо полагать, революционными фантазиями. Академик И. И. Толстой писал о работах Сталина по их выходе, что они – «отрезвляющий голос разума, спокойное научное слово, сила которого лежит в его несокрушимой логике и ясности мысли, сталинской мысли»[135], выступление вождя – это выступление «в защиту здравого смысла»[136]. В этом отношении послевоенная эпоха может быть названа эпохой «чистого» сталинизма. Закончив с внутренней борьбой в 1937‐м и внешней – в 1945‐м, власть занималась демонстрацией власти. Идеальное сталинское государство демонстрировало свое эпическое величие, символом чего был вождь – мыслитель и корифей наук, занявшийся вопросами языкознания.
Здесь мы подходим к истокам лингвистической дискуссии.
Согласно наиболее авторитетному исследователю марризма Алпатову, это была одна из многих дискуссий (он упоминает философскую, биологическую и павловскую дискуссии):
Форма дискуссии имела совсем не дискуссионное содержание. Цель заключалась в подавлении всякой свободы в той или иной области науки, в установлении здесь монополии одного, признаваемого единственным марксистским направления ‹…› Предоставлявшаяся инакомыслящим возможность высказаться только облегчала их травлю, давала основание придираться к тем или иным формулировкам, трактуемым как угодно, заявлять о существовании сплоченной антимарксистской группы. В лингвистике некоторым аналогом такой дискуссии была так называемая поливановская дискуссия 1929 года ‹…›.
Однако ситуация в языкознании в мае 1950 г. была не такой, как в генетике в июле 1948 г. или в физиологии той же весной 1950 г. Там перед дискуссией исход борьбы не был окончательно ясен, каждое из направлений стремилось перетянуть чашу весов на свою сторону, тем более что Т. Д. Лысенко имел среди руководства страны не только сторонников, но и противников ‹…› Для марристов такой способ борьбы был явно излишним. Они уже добились преобладания в языкознании. Победа казалась полной. Противники либо сдавались, либо начали изгоняться из науки[137].
Однако ситуации 1929 и 1950 годов при внешнем сходстве (тут дискуссии и там дискуссии, тут чистки и там чистки, тут кампании и репрессии и там кампании и репрессии) сильно различаются. Дискуссии 1930‐х имели целью не столько монополию тех или иных лиц, сколько уничтожение истинных, а чаще мнимых противников режима или смену идеологического вектора. Послевоенные дискуссии решали совсем иные задачи (да и инакомыслящим здесь слова никто не давал). Чаще всего здесь была политическая подоплека, связанная с борьбой различных групп в Политбюро, и к содержанию споров все это не имело никакого отношения: марксистскими могли быть объявлены генетика и марризм, а оказались – агробиология и индоевропеистика. Просто летом 1948 года Сталину нужно было поддержать Лысенко (как замечает А. Кожевников, «если бы молодой работник ЦК Юрий Жданов не совершил ряд неграмотных действий, у Сталина вряд ли возник бы повод для вмешательства в биологическую дискуссию»[138]), а в 1950‐м – проявить себя в качестве языковеда и попутно решить еще ряд задач.
Языковедческая дискуссия не была похожа на остальные уже тем, что в ней Сталин решил участвовать публично, чего раньше не делал. Поэтому она должна быть понята в контексте ритуала явления вождя массам и партийным элитам, что куда важнее «вопросов языкознания». Что касается упомянутой Алпатовым философской дискуссии, то она вообще не предполагала никакого «исхода», будучи санкционированной Сталиным и проведенной Ждановым с целью ослабления позиций Александрова в ЦК в связи с усилением позиций Жданова и отстранения группы Маленкова – Берии, а также с целью усиления антизападной риторики и «партийности науки».
Биологическую дискуссию также вряд ли можно назвать дискуссией с непредсказуемым исходом. Это был по сути санкционированный Сталиным разгром противников Лысенко – на этот раз в пику Жданову. «Марристы», о которых Алпатов говорит, что они добились полной победы, вообще не представляли собой никакой силы. «Сила» Сердюченко и Филина состояла в слабости Мещанинова и еще большей слабости Виноградова, а также в том, что они следовали в русле кампании до той поры, пока не вмешался Сталин, узревший в ней свой интерес. Но сам факт вмешательства Сталина и говорит о слабости и о фиктивности «победы» марристов. Более того, марристы вели свою кампанию настолько грубо, шумно и политически неуклюже, что в конце концов нажили себе мощных врагов, таких как Арнольд Чикобава, которые и нашли выход на самый верх партийной иерархии. И исход кампании – как всегда – решился вовсе не участниками дискуссий, но Сталиным лично.
Почти два месяца шла дискуссия, и каждый вторник «Правда» помещала статьи, содержащие противоположные точки зрения на Марра, причем при строжайшем балансе – равное количество промарровских, антимарровских и нейтральных. То обстоятельство, что дискуссия в «Правде» развернулась внезапно и что марристы не знали, что вообще происходит (если бы знали, вряд ли Мещанинов, Чемоданов и Филин стали бы защищать Марра и нападать на Чикобаву), говорит о том, что «указания сверху» определенно не работали. Остается предположить, что действовали марристы на свой страх и риск, со все большей самоуверенностью, ведя рискованную игру: достаточно было одного обиженного, сумевшего найти выход в высшие партийные инстанции, чтобы вся кампания оказалась под угрозой (что и произошло). Это и имел в виду Сталин, заявив, что марристы «самовольничали и бесчинствовали». Именно так – само-вольничали и бес-чинствовали (то есть вели себя непристойно, нечинно, не в соответствии с чинами!), зарвались, не поняв главного – победа здесь не за тем, кто прав или неправ, но за тем, кто не самовольничает и знает чины и чинность (несомненно, Сталина возмутило именно самоуправство и то, что поворот в целой науке происходит без его ведома, «за его спиной»). Характерно, что именно здесь гнев Сталина вырывается наружу и впервые в голосе корифея наук начинают звучать знакомые зловещие интонации: «Подобное поведение равносильно вредительству».
Филин и Сердюченко не имели надежной поддержки в ЦК. Иначе говоря, поддержка, оказываемая им на уровне Отдела науки, не была санкционирована Сталиным, тогда как именно сталинское мнение было решающим. Нужно не представлять себе механизма работы аппарата ЦК, чтобы полагать, подобно А. Кожевникову, будто «на практике конечные результаты публичных конфликтов (в науке. – Е. Д.) не были предопределены заранее, а зависели от умений и действий противоборствующих сторон»[139] или «исход разыгрываемого „поединка“ был непредсказуем»[140]. Поскольку Сталин сравнил марристов с рапповцами, здесь будет уместно привести свидетельство одного из ключевых участников событий тех лет. Только что пришедший на работу в аппарат ЦК на должность завсектором художественной литературы Агитпропа ЦК Владимир Кирпотин (апрель 1932) оказался сразу же втянутым в процесс разгона РАППа. Он вспоминал о потоке писем в ЦК от лидеров недавно всемогущей Ассоциации на имя различных секретарей ЦК (так или иначе вовлеченных в процесс принятия идеологических решений) с протестами. Между тем даже всесильные в то время Каганович, Постышев и Стецкий «не посмели обратиться к генсеку». «Позже я убедился, – пишет Кирпотин, – снизу вверх можно было обращаться сколько угодно, но если вопрос не доходил до Сталина, никакого ответа не следовало, каким бы срочным он ни казался»[141].
Ситуация в языкознании развивалась своим чередом, поскольку никто не ожидал сталинского вмешательства в столь экзотическую сферу. Поэтому когда весной 1949 года первый секретарь ЦК компартии Грузии Кандид Чарквиани предложил Арнольду Чикобаве написать доклад о марровской теории стадиального развития языков, а затем смог донести «вопрос» до Сталина, Сталин спустя год вызвал к себе Чикобаву, решив поддержать противников Марра и инициировал дискуссию, результаты которой, хотя и не были известны самим участникам, ему были известны с самого начала.
Марксист и вопросы языкознания: Идеологический синтаксис сталинизма
«Труд товарища Сталина» «Марксизм и вопросы языкознания» представляет собой 50-страничную брошюру. В нее вошли занявшая полосу «Правды» статья в ходе дискуссии (20 июня 1950) и четыре коротких письма – ответа читателям (один – 4 июля и еще три – 2 августа). В течение последующих трех лет сталинский текст цитировался и комментировался бесконечное количество раз. А между тем, как заметил Алпатов, «сама работа Сталина ‹…› мало анализировалась у нас всерьез»[142]. Она если и рассматривалась, то прежде всего историками лингвистики. Между тем уже в 1950 году лингвисты вынуждены были превратиться в философов, занявшись комментированием сталинских рассуждений на общие темы. Само сталинское теоретизирование заставило их рассуждать не столько о языковедении, сколько о базисе, надстройке, классовости и т. п.
Работу Сталина вначале превозносили как образец сталинского научного гения, а затем прочно забыли. Немало написано о причинах написания этого «труда». И ничего – о причинах его забвения. Вряд ли оправданием может служить то, что в сталинской работе нет ни одной оригинальной мысли (а та единственная, что есть, – о том, что русский язык развился из некоего «курско-орловского диалекта», – неверна). Сталинская мысль всегда искала не новизны, но политической целесообразности. Сила этой мысли всякий раз – в ее действенности, а не оригинальности. Причина забвения сталинского «труда» не столько в том, что после смерти Сталина имя его без особой надобности предпочитали не тревожить, а после конца Советского Союза было множество куда более важных поводов обращения к Сталину, чем его относительно безобидные в смысле последствий языковедческие изыскания. Причина не столько в том, что для историков это «о языкознании», тогда как для лингвистов это всего лишь страница истории. Главное в том, что сталинский текст – вовсе не о языке. Иначе говоря, к языкознанию он имеет весьма опосредованное отношение. Это прежде всего метатекст и яркий образец сталинского теоретизирования о «марксизме» с примерами из языкознания, то есть речь идет именно о «марксизме» и лишь попутно – о «вопросах языкознания».
И в самом деле, сталинский «труд» построен на типичном для автора вопросно-ответном принципе, когда вождь сам формулирует вопросы и сам же на них отвечает. Это позволяет Сталину полностью контролировать ход обсуждения. Так, основной текст состоит из четырех самому себе заданных вопросов (от имени некоей «группы товарищей из молодежи»). Первый из них – о базисе и надстройке, второй – о классовости, третий – о том, что же такое язык (если не надстройка и не классовый феномен), но и тут сталинские рассуждения об ассимиляции/подчинении, победе одного языка над другим, внезапных взрывах в языке и революции в нем как условии перехода от старого качества к новому, скорее из области политики, чем лингвистики, и, наконец, четвертый – о роли развернувшейся дискуссии в преодолении кризиса советского языкознания, то есть скорее о работе научных институций, чем о языке.
Сталинские «ответы» также связаны с языком лишь косвенно и сосредоточены на общих положениях, которые лишь прилагаются к языку. Четыре «ответа товарищам» должны, казалось бы, компенсировать этот пробел. И в самом деле, «товарищи» как раз интересуются вопросами языка, но из ответов Сталина вновь вытекает, что главная его задача не языковедческая, а политическая. Так, первое письмо «товарищу Крашенинниковой» построено как ответы на вопросы интервьюера, пытающегося сбалансировать уже заявленную позицию: если Сталин выступает против Марра, его адресат интересуется, есть ли у Марра что-то положительное; если Сталин говорит, что семантика вредна, товарищ Крашенинникова интересуется, есть ли хоть какое-то рациональное начало в семасиологии; если Сталин говорит, что язык – неклассовый феномен, его корреспондент спрашивает, нельзя ли тогда считать классовой хотя бы «сущность выраженных им понятий» и т. д. И каждый раз Сталин как бы «отыгрывает»: да, конечно, у Марра есть много «ценного и поучительного», да, у него есть «талантливо написанные произведения», да, семантика полезна, если ее не абсолютизировать, и т. д. и т. п. Три других ответа посвящены определению марксизма и критике догматизма («Ответ товарищу А. Xолопову»), курьезному вопросу о том, как мыслят глухонемые, если они не владеют языком («Ответ товарищам Д. Белкину и С. Фуреру»), и, наконец, опять же классовости – тому, как трактовать понятие «классовый жаргон» («Ответ товарищу Санжееву»).
Словом, Сталин рассматривает собственно лингвистические сюжеты лишь попутно. Для него языкознание – одна из «общественных наук», в которых он – бесспорный специалист (он так и начинает: «Я не языковед и, конечно, не могу полностью удовлетворить товарищей. Что касается марксизма в языкознании, как и в других общественных науках, то к этому я имею прямое отношение»).
Обращает на себя внимание и почти полная анонимность объектов критики (лишь в конце, когда дело доходит до персональных обвинений, Сталин называет несколько имен). Обычно это некие «товарищи»: «некоторые наши товарищи пришли к выводу, что…», «эти товарищи забывают о том, что…», «думают ли эти товарищи, что…», «ошибка этих товарищей состоит здесь в том, что…», «выходит, что уважаемые товарищи исказили взгляды Ленина», «некоторые наши товарищи поплелись по стопам бундовцев» и т. д. Абсурдная анонимность этих инвектив достигает апогея, когда Сталин в очередном риторическом пассаже задает вопрос: «Признают ли упомянутые товарищи этот марксистский тезис?» (курсив везде мой. – Е. Д.). Между тем «товарищи» все еще не «упомянуты», а само слово «товарищи» использовано в его тексте более сорока раз.
Можно утверждать, что речь не идет о простой стилистической фигуре. Анонимность является определяющей стратегией сталинского текста, пестрящего безличными конструкциями типа: «Ссылаются на Маркса, цитируют одно место из его статьи „Святой Макс“, где сказано, что…», «Ссылаются на Энгельса, цитируют из брошюры „Положение рабочего класса в Англии“ слова Энгельса о том, что…», «Ссылаются на Лафарга», «Ссылаются, наконец, на Сталина. Приводят цитату из Сталина о том, что…», «Говорят, что…» (курсив везде мой. – Е. Д.). Эта анонимность, вообще свойственная сталинским публичным выступлениям, является выражением нарративного напряжения между академизмом и статусностью текста: с одной стороны, политический текст выдается за академический, с другой, сам статус текста не позволяет его автору («корифею наук») вдаваться в подробности и тем более указывать имена (он говорит лишь о Марре, попутно упоминает Мещанинова, а также своих корреспондентов и участников дискуссии, к которым обращается). Не то чтобы Сталин хочет подчеркнуть распространенность ошибок ссылающихся, цитирующих и говорящих «товарищей». Сам его статус не дает ему права на конкретные ссылки: в конце концов, вождь занят не исправлением языковедов, но изречением неких истин, куда более важных, чем не только конкретные лица, но все языкознание вместе взятое.
Специфика сталинского текста не в его содержании, но в форме его презентации: с одной стороны, он являет собой образец товарищеской критики в атмосфере научной дискуссии и партийной демократии, а потому подается намеренно заурядно (этот самый большой по объему за предшествовавшие десять лет сталинский текст печатается со скромной подписью как «один из» поступивших в редакцию), с другой стороны, статус самого высказывания Сталина был таков, что даже короткая бессодержательная приветственная телеграмма или два предложения в ответ на вопрос какого-нибудь корреспондента печатались на первых полосах всех газет страны аршинными буквами с огромным портретом вождя. Здесь же Сталин выступает одновременно как частное лицо (этакий заинтересовавшийся языкознанием гражданин, решивший принять участие в газетной дискуссии), как ученый и как вождь.
Как «частное лицо», он публикует свой текст точно в том же оформлении, что и другие участники дискуссии. Как ученый, он демонстрирует владение материалом и бравирует знанием деталей и специальных терминов. Так, подобно Жданову, рассуждавшему об атональностях в музыке, он говорит о семасиологии, многозначительно замечает, что у Марра есть «отдельные хорошие, талантливо написанные произведения», где он «добросовестно и, нужно сказать, умело исследует отдельные языки» (читатель, разумеется, не знает, что основным источником сталинской лингвистической мудрости являлся учебник по введению в языкознание Д. Н. Кудрявского, выпущенный в 1912 году в Юрьеве (Тарту) и прочитанный вождем за несколько месяцев до написания своего «гениального труда», что об умении Марра исследовать языки рассуждает человек, не овладевший ни одним иностранным языком). Наконец, как вождь, Сталин заявляет: «Если бы я не был убежден в честности товарища Мещанинова и других деятелей языкознания, я бы сказал, что подобное поведение равносильно вредительству» (с подобным заявлением не может выступить ни частное лицо, ни ученый). Это едва ли не единственное место в тексте, где Сталин приподнимает маску.
Цель этого текста сводится к позиционированию ученого в качестве вождя, а достигается путем позиционирования вождя в качестве ученого. Научность является важнейшей легитимирующей опорой власти и проявляется у Сталина прежде всего в соответствующем жаргоне. Так, например, одним из излюбленных словечек в его трактате является слово… «формула» (по частотности – 40 случаев употребления! – оно уступает, пожалуй, лишь слову «товарищи»): «Неужели наши товарищи не знакомы с известной формулой марксистов о том, что ‹…› Согласны ли они с этой марксистской формулой?», «формула о „классовости“ языка есть ошибочная, немарксистская формула», «Русские марксисты пришли к выводу, что формула Энгельса имеет в виду победу социализма во всех странах ‹…› Как видно, мы имеем здесь две различные формулы ‹…› Начетчики и талмудисты могут сказать ‹…› что нужно одну из формул отбросить ‹…› Но марксисты не могут не знать, что начетчики и талмудисты ошибаются, ибо обе эти формулы правильны, но не абсолютно, а каждая для своего времени: формула советских марксистов – для периода победы социализма в одной или нескольких странах, а формула Энгельса – для того периода ‹…› когда создадутся необходимые условия для применения формулы Энгельса», «В своем развитии марксизм не может не обогащаться новым опытом ‹…› отдельные его формулы и выводы не могут не изменяться с течением времени, не могут не заменяться новыми формулами и выводами. ‹…› Марксизм не признает неизменных выводов и формул» (курсив везде мой. – Е. Д.).
Может ли быть что-то «научней» «формул»? Они превращают сталинский текст в совершенную «науку». Речь идет однако не просто о наукообразии сталинской речи. Именно в науке проецируется легитимность власти вождя. В короткой речи Сталина на приеме работников высшей школы 17 мая 1938 года на трех страницах «наука» и ее дериваты встречаются 43 раза:
Наука знает в своем развитии немало мужественных людей, которые умели ломать старое и создавать новое, несмотря ни на какие препятствия. Такие мужи науки, как Галилей, Дарвин и многие другие, общеизвестны. Я хотел бы остановиться на одном из таких корифеев науки, который является вместе с тем величайшим человеком современности. Я имею в виду Ленина, нашего учителя, нашего воспитателя. Вспомните 1917 год. На основании научного анализа общественного развития России, на основании научного анализа международного положения Ленин пришел к выводу, что единственным выходом из положения является победа социализма в России. Это был более чем неожиданный вывод для многих людей науки того времени. Плеханов, один из выдающихся людей науки, с презрением говорил тогда о Ленине, утверждая, что Ленин находится «в бреду». Другие, не менее известные люди науки утверждали, что «Ленин сошел с ума», что его следовало бы упрятать куда-нибудь подальше. Против Ленина были тогда все и всякие люди науки как против человека, разрушающего науку. Но Ленин не убоялся пойти против течения, против косности. И Ленин победил.
Вот вам образец мужа науки, смело ведущего борьбу против устаревшей науки и прокладывающего дорогу для новой науки (курсив везде мой. – Е. Д.).
Оппозиция «людей науки» «мужам науки» (они же – «корифеи науки») позволяет увидеть выстраивание Сталиным (как всегда, через Ленина) собственного образа. В век культа науки и прогресса вождь и корифей науки – практически синонимы. Наука нуждается во власти для своего продвижения; власть (вождь) нуждается в науке для своей легитимности. Укрепление статуса науки становится важнейшей государственной задачей (после войны «ученые стали одной из важнейших, элитных групп советского общества, следуя по рангу за партийно-политической, хозяйственной и военной элитами»[143]). В отличие от стихийного рыночного капитализма, социализм развивается согласно научно установленным законам марксизма-ленинизма, этой, по определению-оксюморону Александрова, «научной идеологии пролетариата»[144]. Научность становится синонимом легитимности политической системы. Для Сталина наука – особое идеологическое поле, в котором он реализует себя в особом стиле рассуждений-указаний. Его мысль всегда политически заострена и действенна. Можно сказать, что, направленная к определенной практической цели, она является образцом «связи теории и практики». Она всегда движется между полюсами и оперирует однозначными категориями (что совсем не делает ее саму однозначной; напротив, как мы увидим, сталинский ригоризм лишь компенсирует полнейший релятивизм его рассуждений[145]). Его текст изобилует такой однозначностью:
Вопрос. Верно ли, что язык есть надстройка над базисом?
Ответ. Нет, неверно.
Вопрос. Верно ли, что язык был всегда и остается классовым ‹…›?
Ответ. Нет, неверно.
Вопрос. Правильно ли поступила «Правда», открыв свободную дискуссию по вопросам языкознания?
Ответ. Правильно поступила.
Сталинский текст буквально пересыпан этими «правильно – неправильно»: «Совершенно правильно, что…», «Совершенно неправильно было бы думать, что…», «Ленин здесь абсолютно прав», «Лафарг был не прав», «Был ли прав Н. Я. Марр, причислив язык к разряду орудий производства? Нет, он был безусловно не прав», «Вы безусловно правильно толкуете мою позицию в вопросе о диалектах» и т. д. Другое излюбленное противопоставление – «верно – неверно»: «Конечно, неверно, что…», «Все это верно», «Это, конечно, неверно». Отсюда – постоянное упоминание чьих-то «ошибок» (это слово и его дериваты всплывают в тексте более двадцати раз): «Смешивать язык с надстройкой – значит допустить серьезную ошибку», «Я думаю, что нет ничего ошибочнее такого вывода», «Наши товарищи допускают здесь по крайней мере две ошибки», «Ошибка наших товарищей состоит здесь в том, что…», «Однако было бы глубоко ошибочно думать, что…», «Конечно, произведения Н. Я. Марра состоят не только из ошибок. Н. Я. Марр допускал грубейшие ошибки» (курсив везде мой. – Е. Д.).
В сущности, те, кто писал, что Сталин создал величайший труд в истории лингвистики, были правы: перед нами действительно научный текст предельной истинности и предельной эффективности. Каждый раз, говоря (неважно по какому поводу) «правильно – неправильно», «верно – неверно», Сталин подтверждает свою абсолютную власть. Именно абсолютной властью и обеспечена его абсолютная истинность. Эта власть утверждается истинностью, а истинность – властью. Их демонстрация составляет двуединый акт. В нем они реализуются. Любое выступление Сталина есть акт демонстрации власти. В конечном счете эти выступления – акты отправления власти.
Как замечает Борис Гройс, Сталин потому так резко отреагировал на тезис о надстроечном характере языка, что был убежден в тотальности языка, тогда как
надстройка не является тотальной – ведь она отличается от базиса, ограничивается им. Если язык есть часть надстройки, это значит, что он также ограничен в своем действии. Эта ограниченность Сталину совсем не нравится. И это понятно: поскольку все экономические процессы в Советском Союзе определялись и контролировались языком, ограничение языка сферой надстройки неизбежно означало бы ограничение руководящей роли Сталина и урезание его властных полномочий, связанных с формированием базиса советского общества[146].
Согласно этому взгляду,
коммунистическая революция представляет собой перевод общества с медиума денег на медиум языка. Она осуществляет подлинный поворот к языку (linguistic turn) на уровне общественной практики. ‹…› Коммунизм есть проект, цель которого – подчинить экономику политике, с тем чтобы предоставить последней суверенную свободу действий. Медиумом экономики являются деньги. Экономика оперирует цифрами. Медиумом политики является язык. Политика оперирует словами – аргументами, программами и резолюциями, а также приказами, запретами, инструкциями и распоряжениями[147].
Обширные рассуждения Сталина о базисе и надстройке поражают каким-то удивительным антропоморфизмом:
Надстройка порождается базисом, – пишет Сталин, – но это вовсе не значит, что она только отражает базис, что она пассивна, нейтральна, безразлично относится к судьбе своего базиса, к судьбе классов, к характеру строя. Наоборот, появившись на свет, она становится величайшей активной силой, активно содействует своему базису оформиться и укрепиться, принимает все меры к тому, чтобы помочь новому строю доконать и ликвидировать старый базис и старые классы.
Иначе и не может быть. Надстройка для того и создается базисом, чтобы она служила ему, чтобы она активно помогала ему оформиться и укрепиться, чтобы она активно боролась за ликвидацию старого, отживающего свой век базиса с его старой надстройкой. Стоит только отказаться от этой ее служебной роли, стоит только перейти надстройке от позиции активной защиты своего базиса на позицию безразличного отношения к нему, на позицию одинакового отношения к классам, чтобы она потеряла свое качество и перестала быть надстройкой[148] (курсив везде мой. – Е. Д.).
Эти олицетворения должны заменить ответ на вопрос о том, каково же место языка в системе отношений базиса и надстройки, если он не относится ни к одному из них. По Сталину, язык настолько тотален, что даже не описывается в обычных марксистских категориях:
Язык нельзя причислить ни к разряду базисов, ни к разряду надстроек. Его нельзя также причислить к разряду «промежуточных» явлений между базисом и надстройкой, так как таких «промежуточных» явлений не существует ‹…› Дает ли это обстоятельство основание для того, чтобы причислить язык к разряду орудий производства? Нет, не дает.
Сфера действия языка безгранична. Он внеисторичен и вечен, как сам народ или нация, поскольку базисы и надстройки сменяются, а язык – нет.
Сталинский текст оставляет куда больше вопросов, чем дает ответов. Например, если язык не надстройка, то что же он такое в системе марксистских координат? Или каким образом надстройка может «отказаться» от защиты собственного базиса, и если она может (даже теоретически!) «потерять свое качество и перестать быть надстройкой», то чем же она тогда станет?
Деньги при капитализме – вот с чем может быть сравним язык при социализме. Из сталинского трактата видно, что, говоря о языке, вождь мыслит его медиально и политэкономически:
Между языком и орудиями производства существует коренная разница. Разница эта состоит в том, что орудия производства производят материальные блага, а язык ничего не производит или «производит» всего лишь слова. Точнее говоря, люди, имеющие орудия производства, могут производить материальные блага, но те же люди, имея язык, но не имея орудий производства, не могут производить материальных благ. Нетрудно понять, что если бы язык мог производить материальные блага, болтуны были бы самыми богатыми людьми в мире.
(Именно это и демонстрирует коммунизм: тот, кто владеет языком, становится всесильным.) В другом случае, когда речь заходит о связи языка и мышления, метонимическая конструкция становится совсем прозрачной: «Будучи непосредственно связан с мышлением, язык регистрирует и закрепляет в словах и в соединении слов в предложениях результаты работы мышления, успехи познавательной работы человека и, таким образом, делает возможным обмен мыслями в человеческом обществе». В этом качестве он выступает в роли медиума, универсального инструмента обмена и всеобщего эквивалента (то есть именно денег).
Работа Сталина о языке – это прежде всего метатекст. По сути, в ней раскрываются механизм презентации вождя и способ сталинского мышления. Выступив против марровского семантизма, Сталин настаивал на приоритете грамматики, которая третировалась марристами как «формализм». Знаток политических игр, Сталин без труда разглядел его природу: «„формализм“ выдуман авторами „нового учения“ для облегчения борьбы со своими противниками в языкознании».
Если что и привлекло Сталина в грамматике, так это то, что она имеет дело с «законами». Он неустанно говорит об этих «законах»: «при скрещивании один из языков обычно выходит победителем ‹…› и продолжает развиваться по внутренним законам своего развития», «скрещивание дает не какой-то новый, третий язык, а сохраняет один из языков ‹…› и дает ему возможность развиваться по внутренним законам своего развития», «русский язык продолжал продвигаться вперед и совершенствоваться по внутренним законам своего развития» и т. д. (курсив везде мой. – Е. Д.).
Эти магические «законы» в своей универсальности восходят к «законам» истории и логики, а западные ученые критикуются за отказ от них: «Одним из наиболее характерных примеров проявлений глубочайшего маразма современной буржуазной науки является отрицание ею как общих, так и особенных закономерностей общественного развития. Буржуазные „ученые“ буквально ополчаются против самого понятия „закон“»[149], – писал главный комментатор сталинских текстов бывший глава Агитпропа ЦК Александров.
Предмет Сталина не язык, но логика, хотя в сталинском «труде» она не упомянута ни разу. В сущности, то, что он описывает как грамматику, является именно логикой:
Отличительная черта грамматики состоит в том, что она дает правила об изменении слов, имея в виду не конкретные слова, а вообще слова без какой-либо конкретности, она дает правила для составления предложений, имея в виду не какие-либо конкретные предложения, скажем, конкретное подлежащее, конкретное сказуемое и т. п., а вообще всякие предложения, безотносительно к конкретной форме того или иного предложения. Следовательно, абстрагируясь от частного и конкретного как в словах, так и в предложениях, грамматика берет то общее, что лежит в основе изменений слов и сочетании слов в предложениях, и строит из него грамматические правила, грамматические законы. Грамматика есть результат длительной абстрагирующей работы человеческого мышления, показатель громадных успехов мышления. В этом отношении грамматика напоминает геометрию, которая дает свои законы, абстрагируясь от конкретных предметов, рассматривая предметы как тела, лишенные конкретности, и определяя отношения между ними не как конкретные отношения таких-то конкретных предметов, а как отношения тел вообще, лишенные всякой конкретности.
Именно так описывается универсальность логических законов.
Для Сталина логика и была универсальным языком. Она заменяла ему историю и, несомненно, была основой его интереса к языку. Поэтому сказанное выше о том, что работа Сталина посвящена вовсе не языку, следует уточнить: даже там, где Сталин касается темы собственно языка, речь он ведет о логике. Универсальность логических законов встретилась здесь с тотальностью языка.
Именно утверждение этой тотальности привело Сталина к отрицанию надстроечного характера языка. Он выделяет четыре признака, отличающих язык от надстройки, и каждый из них – одна из граней тотальности.
Во-первых, базисы и надстройки меняются, а язык – практически нет. Иначе говоря, не следует преувеличивать новизну в языке. Он тотален в своей стабильности, в своей неизменности на фоне социальных перемен.
Во-вторых, базисы и надстройки классовы, а язык – нет. Иначе говоря, не следует преувеличивать значение дифференциации. Здесь язык выступает в роли опоры де-дифференциации, социальной гомогенности и унификации. В своей социальной тотальности и «общенародности» он напоминает партию, которая в тоталитарном государстве тоже становится «общенародной». Подобно партии, язык, говоря словами Сталина, «одинаково обслуживает все общество, все классы общества ‹…› независимо от социального положения». Такова и большевистская партия после принятия Сталинской конституции 1936 года.
В-третьих, надстройки, как и базисы, живут определенную эпоху, определенный отрезок времени, тогда как язык – продукт целого ряда эпох. В этой долговечности просматривается трансисторическая тотальность. Важно то, что неподвластно истории, замене, что заложено в традиции, социально стабильно (надстройки же, напротив, недолговечны).
В-четвертых, язык уникален: в отличие от надстройки, сфера действия которой, согласно Сталину, «узка и ограничена», «язык отражает изменения в производстве сразу и непосредственно, не дожидаясь изменений в базисе. Поэтому сфера действия языка, охватывающего все области деятельности человека, гораздо шире и разностороннее, чем сфера действия надстройки. Более того, она почти безгранична». Язык, таким образом, тотален в своей уникальности и уникален в своей тотальности (Чикобава, главный лингвистический советник Сталина, позже подчеркивал именно эту уникальность: «ранее считалось немыслимым, чтобы в сфере общественных явлений могли существовать факты, не относящиеся ни к базису, ни к надстройке. Товарищ Сталин доказал, что такое общественное явление может существовать, что таким явлением надо признать язык»[150]). Кроме того, надстройка отражает изменения в производстве опосредованно – через экономику и базис, тогда как язык – непосредственно (и не нуждается в институциональном оформлении). Уникальные универсальность и непосредственность – еще одна грань тотальности.
Таким образом, Сталин выстраивает (от обратного) корпус тотального языкознания, которое – через логику – описывает законы тотальной социологии и политики. Сталин и говорит, по сути, о социальных феноменах. Так, он заявляет, что «словарный состав языка получает величайшее значение, когда он поступает в распоряжение грамматики языка». Самое это поступление в распоряжениe (помимо того что раскрывает характерное для Сталина сугубо бюрократическое видение реальности) напоминает о «руководящей роли» партии в обществе. Так что интерпретаторы Сталина с легкостью рассуждали об «организующей роли грамматики в языке»[151]. Грамматика относится к языку так же, как логика к мышлению, а партия и вождь – к обществу. Грамматика – логика – партия/вождь – это инстанции производства законов.
Универсальность и историческая первородность логики определила и неприятие Сталиным навеянных Марру Леви-Брюлем и Кассирером теорий о дологическом мышлении первобытного человека[152]. По сути, Сталин возвращал советскую лингвистику к логическому направлению в грамматике XVII–XVIII веков, сложившемуся в значительной мере под влиянием картезианского рационализма (законы языка являются отражением законов логики, поскольку слово есть знак понятия, а предложение – выражение суждения). До логики язык для Сталина не был языком (мышление для него синонимично логике и потому – языку). Звуковой язык был для него первичным («Звуковой язык, или язык слов, был всегда единственным языком человеческого общества», – заявляет Сталин; причем для подобного утверждения у него есть не больше аргументов, чем было у Марра, когда тот выдумывал свой ручной язык).
Специфика языка, на которую указывал Сталин, заключена в его «грамматическом строе»: «Благодаря грамматике язык получает возможность облечь человеческие мысли в материальную языковую оболочку». Можно сказать, что для Сталина язык – это публичное мышление, мышление вслух. Язык – это логический каркас мысли: «грамматический строй языка, являясь общим для всех классов данной нации, в то же время существенно отличается от грамматического строя языка другой нации, тогда как правильный логический строй мысли является общим для всех классов и наций, населяющих земной шар»[153]. Перефразируя известное определение Сталиным советской культуры, можно сказать, что для Сталина мышление логично по содержанию и национально по форме (то есть по языку). Иначе говоря, язык (и прежде всего грамматика) для него есть национальная форма универсальных законов логики, на которых основано мышление.
Подобно языку, мышление не относится к надстройке; точно так же, подобно грамматике, логика не имеет ни надстроечного, ни классового характера. Из сталинского «учения» вытекало, что «логика выполняет в жизни общества однопорядковую функцию с языком, с которым она связана прямо и непосредственно. Язык является материальной оболочкой человеческих мыслей. Если язык есть орудие общения между людьми, без которого общество существовать не может, то служебная роль логики состоит в том, что она дает формы и законы правильного мышления»[154].
На то, что сталинское «учение о языке» посвящено именно логике, обращали внимание многочисленные его комментаторы: «Грамматика в сталинском ее понимании оказывается научной дисциплиной, приближающейся к логике. Но в отличие от формальной логики как науки о законах правильного мышления грамматика изучает законы построения речи, реализующей мысль»[155]. Грамматика для Сталина – это логика как она проявляет себя в языке, а язык – это материализованная логика: его «формулa» «помогает вскрыть связь грамматического строя языка с логическим строем мышления, дает возможность правильно оценить значение элементарной логики как грамматики языка ‹…› Логика – это грамматика мышления, а грамматика – логика языка»[156]. Таким образом, логика управляет мышлением, как грамматика – речью.
Восстановив в правах одну дисциплину, Сталин должен был реабилитировать и другую. Реабилитация грамматики была естественным результатом происшедшей накануне реабилитации логики и ее возврата в школу (восстановление логики в правах было задумано Сталиным еще в 1941 году, но осуществлено только в 1946‐м, с принятием постановления ЦК о введении преподавания логики и психологии в средней школе. В эпоху господства марризма «грамматика как учебная дисциплина фактически исчезла из средней школы и была заменена пресловутыми „наблюдениями над языком“»[157], тогда как язык и литература занимали более 40 процентов учебного времени).
Еще совсем недавно утверждалось, что формальная логика – это пережиток прошлого, образец схоластики, формализма, идеализма и метафизического мышления, а в изданном в 1940 году «Кратком философском словаре» говорилось, что «законы формальной логики противоположны законам диалектической логики» и что «формальная логика бессодержательна, бедна, абстрактна, ибо устанавливаемые ею законы, категории не соответствуют объективной действительности»[158]. Теперь же изгнанная отовсюду логика вернулась триумфатором. На ее стороне был главный мыслитель страны, лично потребовавший введения преподавания логики в средней и высшей школе.
Комментаторы сталинского текста не замедлили открыть «неразрывную связь» между грамматикой и логикой, между языком и мышлением:
Так же, как словарный состав языка, взятый сам по себе, вне связи с грамматическим строем, не составляет еще самого языка, а является всего лишь строительным материалом для него, так и понятийный состав мышления, взятый вне связи с логическим строем, служит лишь строительным материалом для мышления. Соединение понятий в суждения и умозаключения по правилам и законам логики придает мышлению стройный, последовательный, доказательный характер ‹…› Обладая логической стройностью, наши мысли становятся точными, последовательными, ясными, доказательными, убедительными. Важнейшей стороной нашего мышления следует считать именно его способность делать правильные умозаключения из истинных посылок, умение связывать эти умозаключения в логически стройное доказательство[159].
Доказательством того, что только из логики рождается «истина», являются труды самого Сталина: «Классические образцы конкретной истины представляют собой сталинские определения понятий»[160].
Логика была для Сталина основным инструментом рационализации политики и интерпретации «законов истории». Тут, однако, оказывалось, что никаких законов марксизм не признает (согласно Сталину, он «не признает неизменных выводов и формул, обязательных для всех времен и периодов»). Эта очень важная для Сталина тема развивается в его ответе товарищу Холопову, которого он обвинил в догматизме и начетничестве, поскольку тот обнаружил противоречие между тем, что Сталин говорил раньше, и тем, что говорит теперь. Искусный казуист и политик, Сталин относился к цитатам, декларациям и принципам оппортунистически. Его идеологическая гибкость (то, что сам он клеймил как политический оппортунизм) порождала противоречие: с одной стороны, он был прагматиком, с другой, постоянно отстаивал свою верность принципам выдуманного им самим «марксизма-ленинизма». Без диалектической логики здесь было не обойтись. Она позволяла сочетать противоположные стратегии в отношении к текстам «классиков»: одновременно догматизировать их и не ставить ни во что. Сталин с издевкой пишет о неких «начетчиках» и «талмудистах», которые видят в «формулах» марксизма «догматы», «не вникают в существо дела, цитируют формально, в отрыве от исторических условий». В результате они оказываются «в безвыходном положении». Он осуждает их за то, что те «заучивают тексты выводов и старых формул марксизма, но не понимают их содержания».
Творчество вождя и его абсолютная привилегия состоит в легитимации и идеологическом обосновании политической линии, то есть в фактическом переписывании этих «старых формул». Однако Сталин воздерживается от прямых обвинений талмудистов и догматиков в злых умыслах. За него это делают комментаторы: опасность их «деятельности», объяснял один из главных марксистских талмудистов Александров, состоит в том, что они «выхолащивали из марксизма его живую душу» и «по сути дела, вели линию на ликвидацию языкознания как науки»[161]. Обвиненный за несколько лет до того в извращениях в философии, Александров утверждал, что «вульгаризаторы в философии отрицали активную роль передовой теории, общественного сознания, считая, что сознание только стихийно „следует“ за бытием или совпадает с ним, сливая надстройку с базисом, растворяя ее в базисе и даже в производстве»[162].
Более того, оказывается, что начетчики «подменяли диалектику вымученной схоластикой», «талмудисты и догматики изгоняли революционную душу из диалектики, превращали ее в пустышку, в искусственную схему и отмычку» и тем самым фактически «выступали ликвидаторами диалектического и исторического материализма». Эти преступления на философском фронте ведут к чудовищным последствиям: «вульгаризация марксизма, начетничество и талмудизм ведут к бесперспективности, к превращению людей в деляг и крохоборов (?!), ведут к подчинению советских людей буржуазной идеологии, а в конце концов направлены на ликвидацию марксизма». Так что «политический смысл» деятельности талмудистов, начетчиков и догматиков «состоит в попытках посеять мнение о бесперспективности развития нашей страны по пути к коммунизму»[163], то есть фактически ведет к уголовно наказуемым деяниям.
Историческая коренизация сталинского антидогматизма (в полном соответствии с диалектической логикой) привела к криминализации догматизма:
Педанты, догматики, скрытые, замаскированные враги марксизма и рабочего класса продолжали цепляться за старую формулу марксизма о невозможности победы социализма в одной стране. Они задерживали, тормозили развитие революционного движения рабочего класса, борьбу за социализм. Троцкий, Зиновьев, Каменев – враги ленинизма, платные агенты врага, были в рядах тех, кто, творя подлое дело предательства и измены рабочему классу, цеплялся за устаревшую формулу Энгельса с тем, чтобы задержать развитие социалистической революции, сорвать возможность победы социализма в России[164].
Отсюда был лишь шаг к рассуждениям о «презренной фашистско-троцкистской банде Тито – Ранковича», о «людях типа Трумена и Черчилля», которые «ныне представляют собой обезумевшего хищника, который мечется, неистовствует, безумствует, бросается от одной авантюры к другой, у него горит почва под ногами»[165]. Даже упомянутые мельком пролеткультовцы, к которым Сталин отнес марристов, были не просто исторической отсылкой. Их деятельность квалифицировалось теперь как «измена пролетарской революции, измена социализму. За сверхреволюционными фразами „пролеткультовцев“ скрывалась контрреволюция»[166]. Сталину незачем было идти так далеко.
Его логика как инструмент угрозы была прежде всего диалектичной. По утверждению Михаила Вайскопфа, «диалектика как базисная черта всего индивидуального и поведенческого строя сталинской личности не подлежит никакому сомнению»[167]. Сами же «тексты Сталина о языкознании, – как показывает Гройс, – фактически провозглашают противоречие высшим правилом логики». И далее: «язык может быть тотальным только тогда, когда включает в себя как все возможные утверждения и отрицания, так и все их возможные комбинации, т. е. не только допускает, но и требует логической противоречивости своих высказываний». Политическая программа, основанная на подобной логике, заключает Гройс, «обеспечивает доступ к тотальности политического пространства и позволяет действовать не путем исключения, а путем интеграции»[168].
В этом свете становится ясным, почему марристы последовали за другими пламенными революционерами – от упомянутых Сталиным рапповцев и пролеткультовцев до Покровского: «Выжили только те ‹…› кто понимал, что если определенное утверждение считается правильным, отсюда еще не следует, что другое, противоположное, утверждение неправильно. В отличие от формальной логики или диалектической логики гегелевского типа логика диалектического материализма тотальна»[169]. В ней поэтому легко уживаются поддержка Лысенко с разгромом Марра. Тотальная логика как логика насилия и угрозы «утверждает парадокс как принцип жизни, включающей в себя также смерть, как икону тотальности. Тотальная логика является таковой потому, что она позволяет явиться тотальности во всем ее сияющем блеске, потому что она мыслит и утверждает тотальность всех возможных высказываний одновременно. Тотальная логика есть истинно политическая логика – в равной степени парадоксальная и ортодоксальная»[170].
Если формальная логика исключает парадокс, гегелевская диалектическая логика предлагает историческое преодоление, снятие парадокса, то «тотальная логика – это открытая логика, которая признает и тезис и антитезис и никого не исключает. Диалектический материализм функционировал как исключение исключения. Он признавал любые оппозиции. Он стремился к абсолютной открытости и поэтому исключал все, что не желало быть столь же открытым»[171]. В этом свете сталинское государство
представляло собой государственный аппарат, осуществлявший перевод философского языка в действие ‹…› Речь шла именно о господстве языка, ведь только посредством языка философ мог заставить этот аппарат его слушаться и осуществлять свою деятельность от имени целого. В классических монархиях легитимность власти гарантировалась телом монарха – точнее, происхождением этого тела. Власть фашистского вождя также легитимируется расовым происхождением его тела (в этом смысле фашизм есть демократический вариант монархии). В отличие от них тело коммунистического вождя нерелевантно для его властных полномочий. Легитимность его власти обеспечивается только тем, что он мыслит и говорит более диалектично, то есть более парадоксально и тотально, чем все остальные. Там, где это языковое обеспечение легитимности отсутствует, вождь рано или поздно ее лишается[172].
Дискуссия 1950 года была торжеством этой тотальности и продемонстрировала полную идеологическую обратимость сталинизма: два диаметрально различных направления – марризм и индоевропеистика – в первой и во второй половине одного и того же года трактуются абсолютно противоположным образом. Причем буквально то же, за что в апреле 1950 года официально восхвалялся марризм (научность, марксизм, патриотизм) и поносилась индоевропеистика (ненаучность, идеализм, космополитизм), в июле поменялось местами (теперь марризм был обвинен в ненаучности, идеализме и космополитизме). В подобных условиях разговор об идеологическом содержании того или иного направления в науке становится нерелевантным – любое направление может обрести противоположные характеристики в зависимости от политической конъюнктуры. Сталинская сверхдиалектическая логика означала конец всякого «догматизма» и наступление постдоктринальной эпохи, делавшей нерелевантной победу революционно-романтического левого гегельянства (Лысенко) или его поражение (марризм). В сущности, сам факт вознесения Лысенко и почти одновременного разгрома Марра – убедительная демонстрация сталинского недогматического мышления и политического потенциала его диалектической логики.
Для Сталина антимарристская кампания, так же как и за два года до того поддержка Лысенко, была (как и большинство его решений) сугубо политической акцией. Идеологические аргументы давно служили Сталину лишь инструментальными легитимирующими опорами для тех или иных политических шагов. Его «взгляды» поэтому не имели никакого отношения к тому, какую линию он поддерживал в данный момент. Так, только в 1990‐е годы были опубликованы сталинские пометы, сделанные летом 1948 года на полях доклада, который готовил Лысенко для биологической дискуссии. Напротив утверждения, что всякая наука классовая, Сталин поставил несколько вопросительных знаков и с издевкой спрашивал: «И математика тоже?»[173] Между тем классовую биологию Лысенко он поддержал, «отыгравшись» спустя два года на лингвистике: Филин с Сердюченко дали ему отличную возможность высказаться на сей счет.
Знай они об этой заметке Сталина, сняли бы ли они тезис о классовости науки и языка (ведь математические или физические формулы – это тот же язык)? Филин спустя всего год после выступления Сталина публично отрекся от марризма и своих прежних взглядов[174]. Так же поступило большинство марристов. А ведь они были ничуть не большими оппортунистами, чем Сталин или сам Марр. Если бы для самоутверждения Марру требовалась не классовая, но национально-ориентированная теория, он и не писал бы о классах, как не делал этого до 1923 года. Сложись политические интересы Сталина летом 1950 года иначе, он доказывал бы классовый характер языкознания (как в 1947 году – философии, а в 1948 году – биологии). Сталин мог доказывать (и доказать) в принципе что угодно, если это было политически целесообразно. Подобно тому как Марр, выдумывая предысторию и некий языковой мир, занимался, по сути, терапией собственных комплексов и травм, Сталин посредством поддержки одних направлений в науке и культуре и осуждения других решал сугубо политические проблемы. Политика давно стала для него сублимацией его травматики и потребности в проецировании собственного величия. Идеологические же аргументы служили лишь инструментом легитимации и рационализации этих потребностей – одновременно и способом, и сферой их реализации.
Марр пал поэтому жертвой отнюдь не идеологии, но политики. И если в лысенковщине «революционная наука» была санкционирована, а в языкознании разгромлена, то не в последнюю очередь потому, что Сталин очень часто поднимал тех, кого громил, а затем громил тех, кого поднимал (тому примеры – восстановление статуса Шостаковича и Прокофьева после событий 1948 года или, наоборот, публичное унижение Софронова во время кампании 1949 года). За мнимой непоследовательностью Сталина всегда стояла жесткая политическая логика. Обычно обращают внимание на то влияние, какое оказало дело Лысенко на ситуацию в лингвистике. Но следует видеть и обратное: в разгроме марризма Лысенко без труда мог узреть свою возможную участь. Эта скрытая угроза (чтобы «победители» не зарывались) была типичным сталинским политическим ходом: испуганные «победители» всегда легко управляемы. В сталинском мире никто не должен чувствовать себя абсолютным победителем или в полной безопасности. Здесь никто не застрахован. Победа, как и безопасность, относительны, и в этом – важнейший источник террора.
Несомненно, участие в языковедческой дискуссии позволило Сталину укрепить славу теоретика и свой статус корифея наук. После выхода в свет в 1938 году «Краткого курса» он не выступал с теоретическими работами. И хотя после войны «Краткий курс», который к ноябрю 1949 года издавался 235 раз тиражом 35 875 тысяч экземпляров на 66 языках[175], был официально атрибутирован Сталину и должен был войти отдельным томом в его собрание сочинений (теперь все цитаты из этой книги – а без нее не обходилась практически ни одна работа – приводились только в форме прямой атрибуции этого текста вождю, типа: «Как указывал товарищ Сталин в „Кратком курсе“…»), среди его опубликованных работ уже после войны значатся лишь две публичные речи, несколько приказов министра обороны, приветственных писем и телеграмм да десяток коротких ответов на вопросы иностранных корреспондентов. Публичные (газетные) появления Сталина и до войны были крайне редкими, а после войны и вовсе почти прекратились. Иногда в течение полугода не было ни одного публичного слова, исходящего от вождя. На этом фоне 50-страничная брошюра выглядела настоящим идеологическим извержением и давала пищу на многие годы вперед.
Это тщательно калькулированное явление вождя массам было настолько эффектным, что снимало очевидные вопросы. Например, о том, почему Сталин ополчился против Марра и Мещанинова, которых сам же и вознес? Прежде всего, стоит помнить, что для атак Сталину нужны были только «звезды». Все его идеологические акции направлены на знаковые фигуры в своих областях – будь то Ахматова или Зощенко, Эйзенштейн или Пудовкин, Прокофьев или Шостакович. Специфика лингвистики состояла в том, что во всех предыдущих кампаниях такие фигуры имелись либо на одном полюсе, подобно Ахматовой, Эйзенштейну, Шостаковичу, Орбели, либо на противоположном, типа Лысенко. В лингвистике не было лидеров ни на одном из полюсов: ни запуганные Мещанинов и Виноградов (из‐за своей осторожности), ни неистовствующие Сердюченко и Филин (в силу своего статуса) претендовать на эту роль не могли. Именно это зияние и создавало нишу для личного включения вождя (то же спустя два года повторится в ходе экономической дискуссии).
Сталин обладал обостренным чутьем лицедея и всегда точно рассчитывал эффект от своего публичного включения в общественную жизнь; к числу побочных эффектов следует отнести демонстрацию доступности (вождь отвечает на письма никому не известных товарищей-читателей), системности (премии и почет существуют сами по себе, а мнение вождя само по себе) и объективности (никто не выше критики). В подавляющем большинстве случаев Сталин предпочитал закулисные решения, не только не злоупотребляя своими публичными появлениями, но сделав их с годами все более и более редкими, короткими и загадочными.
Сталинский дискурс, его тотальная логика – оборотная сторона тотальности его власти. Основа ее – тайна. Именно тайная власть тотальна. Сталинская логика лишь на первый взгляд прозрачна. В действительности – она полна мистики. Поэтому вся энергия сталинского текста направлена на демонстрацию прозрачности его суждений.
Главное, что продемонстрировал Сталин своим публичным вмешательством, – это то, что именно он определяет содержание любой науки. Иначе говоря, демонстрация власти становится смыслом и основной функцией власти. «Язык как средство общения людей в обществе одинаково обслуживает все классы общества и проявляет в этом отношении своего рода безразличие к классам, – писал Сталин. – Но люди, отдельные социальные группы, классы далеко не безразличны к языку. Они стараются использовать язык в своих интересах». Сталин был определенно небезразличен. В русской истории вряд ли найдется другой политик, который сумел бы использовать язык в своих интересах с бóльшим успехом.
Сталин-лингвист: Фундаментальный лексикон
К числу основных политико-идеологических целей Сталина, несомненно, относится замена классовой парадигмы на националистическую. Задача эта последовательно решалась им по крайней мере с середины 1930‐х годов. Победа в войне закрепила этот сдвиг. В сущности, именно интересом Сталина к национальным проблемам был вызван его интерес к языку. Уже сами сталинские рассуждения о «большой устойчивости и колоссальной сопротивляемости языка насильственной ассимиляции» очевидным образом вытекали не только из отказа от марровской концепции языкового скрещения – язык здесь фактически является метафорой нации. И утверждения, что «русский язык, с которым скрещивались в ходе исторического развития языки ряда других народов, выходил всегда победителем», что «словарный состав русского языка пополнялся за счет словарного состава других языков, но это не только не ослабило, а, наоборот, обогатило и усилило русский язык» и что, наконец, в результате скрещиваний «национальная самобытность русского языка не испытала ни малейшего ущерба», были не столько лингвистическими, сколько политико-националистическими рассуждениями, где «русский язык» – лишь метафора самого русского народа.
