Читать онлайн Мировые религии. Индуизм, буддизм, конфуцианство, даосизм, иудаизм, христианство, ислам, примитивные религии бесплатно
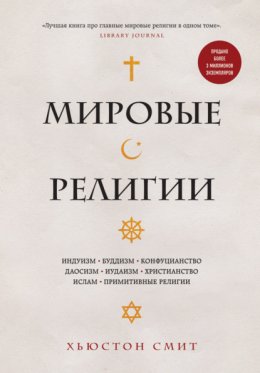
© Сапцина У.В., перевод, 2022
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2022
* * *
Посвящается
Элис Лонгден Смит
и Уэсли Морленду Смиту,
миссионерам, прослужившим в Китае сорок один год
На священный «ляово»[1]взглянув, вспоминаюО взрастивших меня, свой окончивших срок,
Их сполна наградить за щедроты желаю,
Но мой долг неоплатный как небо высок.
* * *
…жизнь религии в целом – важнейшая функция человечества.
Уильям Джеймс
Суть образования – в его религиозности.
Альфред Норт Уайтхед
Нам нужна смелость, равно как и соответствующая наклонность, чтобы обращаться к «традициям мудрости человечества» и извлекать из них выгоду.
Э. Ф. Шумахер
В 1970 году я писал о «посттрадиционном мире». В настоящее время я убежден, что существование какого бы то ни было мира возможно лишь благодаря живым традициям.
Роберт Н. Белла
Вступление
Со дня первого издания этой книги прошло ни много ни мало сорок лет – и сейчас, думая о переиздании, я прихожу в своеобразное расположение духа. Окажись я у пятидесятников на их молитвенном собрании, – несколько таких я посетил в детстве в Миссури и Арканзасе, – я поднялся бы, чтобы свидетельствовать о вере. Все мы знакомы с типичной формой таких свидетельств. Они состоят из трех частей. Часть первая: «Никому еще не случалось пасть ниже, чем мне». Часть вторая: «Но вы только посмотрите на меня теперь!» – произносит некто, видя улыбки, приосанившись, всем видом излучая уверенность и чувство собственного достоинства. А затем следует ударная концовка: «Это не моя заслуга! Все это пришло свыше». Про «свыше» я промолчу, но охотно воспользуюсь случаем, чтобы подтвердить момент «не моей заслуги».
Если бы сент-луисское отделение будущей PBS (Службы общественного вещания) не предложило мне на второй год своего существования подготовить цикл передач, посвященных мировым религиям, я вряд ли когда-нибудь собрался бы написать книгу по этой теме. Я преподавал религиоведение, но на первом месте у меня в планах стояло написание других текстов. Реакция зрительской аудитории на этот цикл передач изменила мои приоритеты. Вот так! Инициатива не моя.
И даже если бы я в конце концов написал книгу по этой теме, она не стала бы именно такой. Скорее, это был бы стандартный учебник с обычным кругом читателей и жизненным циклом, типичным для данного жанра. Так или иначе, первый черновой вариант моей книги был представлен телезрителям, и режиссер передач с тех пор не давал мне о них забыть. Это не аудитория учебного заведения, где у ваших слушателей нет выбора, неустанно напоминал он мне. Стоит вам на тридцать секунд утратить внимание телезрителей, как они переключатся на другой канал, и обратно вы их уже не вернете. Так что излагайте свою точку зрения – на то вы и профессор, чтобы ее излагать. Но сразу же иллюстрируйте ее: примером, примечательным случаем, четверостишием – чем угодно, лишь бы сделать ее доступной пониманию ваших слушателей. Этот совет, в то время воспринятый скорее как приказ, сыграл решающую роль.
Есть множество книг по мировым религиям, каждая из которых по-своему лучше моей. Но если они, в отличие от моей, не собрали аудиторию, то потому, что не выросли из цикла телепередач с режиссерами, наделенными выстраданной мудростью Мейо Саймона. Это чудо, что мы после стольких лет остались близкими друзьями, тем более что в ушах у меня до сих пор звучат его язвительные вердикты в адрес пробных прогонов моих передач. «Что-то меня как-то не впечатляет», – говорил он, и это означало, что все придется переделать. Так что это не моя заслуга.
Если бы не феминистское движение – опять-таки не моя заслуга, несмотря на многозначительные намеки моей жены, – то при переписывании прежнее название этой книги, The Religions of Man, не поменялось бы на более общее с гендерной точки зрения и из него не было бы вычеркнуто уточняющее man («человек/мужчина»). Важным следствием переписывания этой книги оказалась представившаяся мне возможность добавить в текст то, чему я научился за тридцать лет дополнительного преподавания. Особенно меня радует то, что не пришлось сойти в могилу, не успев отстоять право поместить в книгу главу о первобытных религиях.
Если бы руководство издательств Labyrinth Publishing в Лондоне и Harper в Сан-Франциско не решило, что пришло время для книги по искусству великих мировых религий и не предложило мне сократить «Мировые религии» в качестве сопровождающего текста, «Иллюстрированные мировые религии» (The Illustrated World’s Religions) никогда бы не появились на свет. Опять-таки не моя заслуга.
И наконец, если бы не бдительный присмотр, которого удостаивалась эта книга от издательства HarperCollins на каждом шагу своей одиссеи, мне было бы трудно даже вообразить благополучную сорокалетнюю годовщину ее выхода из печати. Недавно я, перебирая старые бумаги, нашел письмо, которое ее первый редактор Вирджиния Хилу написала мне в 1958 году, и решил, что заключительный абзац из этого письма послужит наглядной иллюстрацией вышесказанного:
За лето я перечитала вашу книгу несколько раз. Уверена, в старости вы будете вспоминать ее автора с огромной любовью, восхищением и уважением.
Так я и делаю, твердо помня, что и это «не моя заслуга».
Хьюстон СмитБеркли, КалифорнияДекабрь 1998 года
Предисловие к 50-летию издания
Возможно, я единственный из ныне живущих людей, кто еще помнит имя Вирджинии Хилу, редактора издательства HarperCollins в 50-е годы ХХ века. Помимо всего прочего, она разыскивала обладателей прав на произведения Халиля Джебрана и вела с ними переговоры по поводу права на публикацию этих работ. Полученных отчислений ей хватило, чтобы приобрести особняк с видом на Гудзон, а потом ее внезапно скосил рак.
Незадолго до ее смерти я получил от нее короткое письмо, которое гласило:
Уважаемый Хьюстон,
сегодня днем я дочитала «Религии человека» [название первого издания «Мировых религий»], потом вернулась к началу и прочитала ту же книгу от начала до конца во второй раз. И знаете, Хьюстон, я обнаружила, что просто обязана написать Вам и сообщить следующее:
Когда-нибудь, когда вы состаритесь, вы будете с огромной любовью вспоминать молодого человека, написавшего эту книгу.
Искренне Ваша,
Вирджиния Хилу
Сам бы я ни за что до этого не додумался, но раз Вирджиния заронила мне в голову эту идею, видимо, я действительно отношусь к упомянутому молодому человеку с любовью.
Рассуждая сейчас со стариковских позиций, как и предвидела Вирджиния Хилу, – мне уже пошел девяностый год, – я заметил нечто странное (или, по крайней мере, неожиданное). Линии раздела становятся менее четкими – или, выражаясь иначе, кажется, что эти линии скорее соединяют то, что находится по обе их стороны, вместо того, чтобы разделять. Если применить эту аналогию к новому изданию книги, граница между мной, автором, и ее читателями кажется менее выраженной. Если бы ее первое издание не нашло столько читателей, сколько у нее появилось, нынешнего издания к ее пятидесятилетию не было бы вовсе.
Есть и другая линия – не граница, а скорее мостик: грань между книгой и ее автором. За прошедшие десятилетия ощущение, что я стал автором этой книги, постепенно ослабевало, зато усиливалось другое – будто сама книга сделала меня своим автором. И если для читателей это прозвучит странно, прошу их понять, что я просто констатирую факт, ничего не объясняя и не доказывая.
Это последнее – ощущение, будто книга сама свалилась ко мне в руки, – наполняет меня благодарностью, побуждая обратиться мыслями к святому Иоанну Златоусту. Как гласит предание, он осудил царицу за пренебрежение к нуждам неимущих, и она приговорила его к казни – его должны были волочить за колесницей, пока он не умрет. Народ глубоко чтил святого, люди выстроились вдоль дороги, чтобы в последний раз взглянуть на него. Сообщается, что его последними словами были «спасибо, спасибо за все. Слава Богу за все!»
Они выражают и мои чувства.
Хьюстон СмитБеркли, КалифорнияЯнварь 2009 года
Благодарности
Если эта книга и достигла поставленных целей с точки зрения содержания и охвата, то во многом благодаря помощи моих замечательных друзей.
Студенты Массачусетского технологического института, Сиракузского университета, Университета Хэмлина, Университета штата Калифорния в Сан-Диего и Калифорнийского университета в Беркли объединились со студентами Университета Вашингтона в Сент-Луисе (участвовавшими в подготовке первого издания этой книги), создавая стимулирующую обстановку, в которой замысел обретал форму.
Наиболее близкой к варианту первого издания осталась глава, посвященная индуизму и сохранившая авторитетный отпечаток Свами Сатпракашананда, в то время – духовного руководителя Общества веданты в Сент-Луисе. Профессора К. Р. Сундарараджан и Фрэнк Подгорски проверили слегка измененный черновик для второго издания. Доктор Гурудхарм Сингх Кхальса проверил приложение по сикхизму.
Другие содержательные главы были улучшены с помощью предложений следующих консультантов:
Буддизм – профессор Масао Абэ и доктор Эдвин Бернбаум.
Конфуцианство – профессор Ду Вэймин.
Даосизм – профессора Рей Джордан, Уэлен Лай и Стивен Тейнер.
Ислам – профессора Сейед Хоссейн Наср и Дэниел Петерсон, а также Алан Годлас и Барбара фон Шлегель.
Иудаизм – профессора Ирвинг Гефтер и рабби Арье Вайнман.
Христианство – профессора Маркус Борг и Роберт Шарлеманн, отцы Оуэн Кэрролл и Леонидас Контас, брат Давид Штайндль-Раст.
Первобытные религии – вождь Орен Лайонс из племени онондага, профессора Роберт Белла, Джозеф Браун, Сэм Гилл, Чарльз Лонг и Джилл Рэйтт.
Стивен Митчелл просмотрел книгу в целом взглядом поэта и существенно улучшил ее стиль. Скотт Уиттейкер оказал неоценимую помощь при проверке библиографических ссылок. Джон Лоудон выступил в роли образцового редактора.
Я безмерно признателен всем вышеперечисленным, вместе с тем снимаю с них всякую ответственность за то, как я воспользовался их советами.
И вот еще одна, отдельная категория благодарностей: все, что я говорил о поддержке, оказанной мне при подготовке первого издания, еще более справедливо для второго. Когда авторы благодарят жен за помощь, в воображении обычно возникает образ терпеливой супруги, которая хлопочет по дому и почтительно ходит на цыпочках, не забывая излучать неописуемую ауру восхищения и поддержки. Да, упомянутые добродетели имели место быть, но следовало бы дополнить картину – и описать коллегу, которая с радостью работала над каждой фразой, усердно упрощала ее, мастерски и творчески исправляла, а во втором издании внесла существенный вклад в раздел по буддизму тхеравада. Именно благодаря этим добродетелям «муж ее известен у ворот, когда сидит со старейшинами земли».
I. Отправная точка
Люди, о которых я сейчас пишу, остались для меня лишь воспоминанием – но я начинаю второе издание этой книги с тех же четырех абзацев, которыми открывалось первое.
Эти вступительные строки я записываю в тот день, который широко празднуется в христианском мире как Воскресенье всемирного причастия. Сегодня утром я был в церкви, и проповедь была посвящена христианству как общемировому явлению. Повсюду от мазанок Африки до канадской тундры христиане сегодня встают на колени, принимая дары Святого Причастия. Это зрелище не может не впечатлять.
И все же, пока одна половина моего разума внимала проповеди, другая мысленно обратилась к более обширному сообществу богоискателей. Я думал о йеменских евреях, которых видел полгода назад в их синагоге в Иерусалиме: смуглые мужчины сидели на полу босиком, скрестив ноги, в накинутых на головы молитвенных покрывалах, которые их предки носили в пустыне. Они там и по сей день – собираются группой не менее десяти человек, утром и вечером, и вслух по памяти повторяют Тору, раскачиваясь вперед-назад, как при езде на верблюдах, – следуя порядку, усвоенному подсознательно еще в те века, когда «корабли пустыни» оказались для их предков под запретом, и те взамен придумали эту условность. Архитектор-мусульманин Ялчин, который водил меня по Голубой мечети в Стамбуле, уже завершил месяц поста, Рамадан, начавшийся еще во время нашей встречи; но и он сегодня молится – пять раз простирается по направлению к Мекке. Свами Рамакришна в своем тесном домишке на берегу Ганга, у подножия Гималаев, сегодня не говорит. Для него продолжается обет молчания, которого он, за исключением трех дней в году, придерживается вот уже пять лет. К этому часу У Ну уже занят делегациями, кризисами и заседаниями кабинета, составляющими участь премьер-министра, но ранее утром, с четырех до шести, пока на него не обрушился целый мир, он тоже пребывал наедине с вечностью в уединении буддистского святилища по соседству с его домом в Рангуне. Дай Дзё и Лай Сан, дзэн-буддистские монахи в Киото, опередили его на час. Они на ногах с трех часов утра, и до одиннадцати вечера большую часть времени проведут сидя неподвижно в позе лотоса, с предельной сосредоточенностью пытаясь постичь природу Будды, находящуюся в самом центре их существа.
Какое же это странное братство – богоискатели повсюду на земле, возносящие голоса к Отцу всего сущего всеми способами, какие только можно вообразить! Как воспринимается их звучание свыше? В виде какофонии? Или же эти старания сливаются в причудливую, неземную гармонию? Ведет ли в ней вера, или контрапункт и антифон делятся между партиями там, где нет многоголосого хора?
Узнать это нам не суждено. Все, что мы можем – сосредоточенно, со всей полнотой внимания прислушиваться поочередно к каждому голосу, пока он обращается к божественному.
Это стремление прислушаться определяет цель данной книги. Может возникнуть вопрос, не слишком ли она масштабна, эта цель. Религии, которые мы рассмотрим, охватывают весь мир. Их история простирается на тысячелетия в прошлое, в настоящее время они побуждают к действию больше людей, чем когда-либо прежде. Можно ли должным образом выслушать их в пределах единственной книги?
Да, можно, ведь мы будем слушать вполне определенные мотивы. И перечислить их мы должны уже сейчас, иначе картины, возникающие на этих страницах, окажутся искаженными.
1. Это не учебник по истории религий. Именно этим объясняется скудность имен, дат и примеров воздействия на общество в последующем тексте. Существуют познавательные книги, акцент в которых сделан как раз на такой материал[2]. А эта непомерно распухла бы от цифр и фактов, которые не внесли бы в нее никакого дополнительного вклада. Здесь исторические факты сведены к минимуму, необходимому для пространственно-временной привязки идей, на которых сосредоточена книга. Были предприняты все старания, чтобы скрыть из виду научность – как фундамент, который должен быть прочным, а не как строительные леса, которые заслоняют исследуемые конструкции.
2. Даже в области смысла эта книга не пытается представить всесторонний обзор рассматриваемых религий, поскольку каждая содержит различия слишком многочисленные, чтобы обрисовать их в рамках единственной главы. Достаточно вспомнить христианство. Православные христиане совершают богослужения в богато украшенных соборах, в то время как квакеры считают кощунством даже церковные шпили. Существуют и христианские мистики, и христиане, отрицающие мистицизм. К христианам относятся и свидетели Иеговы, и унитарии. Как же написать удобочитаемую главу о том, что означает христианство для всех христиан?
Ответ, конечно, ясен: это невозможно, отбор неизбежен. Перед автором встает вопрос не о том, выбирать ли среди точек зрения; сколько их представить и какие именно – вот в чем заключаются вопросы. В этой книге ответ на первый вопрос прежде всего практичен; я старался разумным образом отдать должное нескольким взглядам вместо того, чтобы пытаться перечислить их все. Говоря об исламе, я умолчал о суннитах и шиитах и о разделении на традиционалистов и модернистов, и при этом упомянул о разном отношении к суфизму. В буддизме я проследил различия между традициями хинаяны, махаяны и ваджраяны, но обошел вниманием главные школы в рамках махаяны. Число подразделов не превышает трех, чтобы деревья не заслоняли лес. Представим ситуацию следующим образом: если бы вы пытались рассказать о христианстве интеллигентному и заинтересованному, но занятому жителю Таиланда, сколько конфессий вы включили бы в свой рассказ? Трудно было бы игнорировать различия между римским католичеством, греческим православием и протестантизмом, но вы, скорее всего, не стали бы углубляться в подробности, отличающие баптистов от пресвитерианцев.
Если обратиться к вопросу о том, какие именно взгляды представить, в качестве ориентира было выбрано соответствие интересам целевой читательской аудитории. Это соответствие определялось по трем соображениям. Во-первых, учитывался элементарный вопрос численности. Существуют верования, с которыми следует познакомиться каждому – просто потому, что им следуют сотни миллионов человек. Второе соображение – соответствие современному мышлению. Поскольку в конечном итоге польза от этой книги как таковой – в том, что она способна помочь читателю распорядиться собственной жизнью, я отдал приоритет тому, что мы (с оглядкой и вместе с тем с некоторой степенью уверенности) можем считать современными проявлениями этих религий. Третье соображение – универсальность. В каждой религии универсальные законы, общие для всех, сочетаются с частными особенностями. Первые, когда их удается выделить и прояснить, обращаются к самой нашей человеческой сути. Последние, сложная и насыщенная структура обрядов и преданий, с трудом поддаются осмыслению стороннего наблюдателя. Одна из иллюзий рационализма в том и заключается, что универсальным законам религии придается больше значения, нежели питающим их обрядам и церемониям; утверждать такое – все равно что доказывать, будто бы ветки и листья дерева намного важнее корней, из которых все они произрастают. Но для этой книги основные принципы намного существеннее специфики хотя бы потому, что именно работе с первыми из них автор посвятил долгие годы.
Я прочитал книги, наглядно показывающие специфику и контекст: «Билет в третий класс» Хэзер Вуд об Индии, «Китайцы: моя страна и мой народ» Линь Юйтана о Китае, сборник рассказов Шолом-Алейхема (в переводе на английский – The Old Country) о восточноевропейских евреях. Возможно, когда-нибудь кто-нибудь напишет книгу о великих религиях в связи с их социальным окружением. Но я такую книгу прочитаю, а не напишу. Мне известны пределы моих возможностей, я занимаюсь областями, из которых можно извлечь идеи.
3. Данная книга – вовсе не подведенный баланс ее предмета. Имейте это предостережение в виду. Меня коробит при мысли о том, как был бы шокирован читатель, если бы по прочтении главы об индуизме вдруг наткнулся на тот самый индуизм, который Неру назвал «порабощающей религией» – с ее храмом Кали в Калькутте, с проклятием ее кастовой системы, с ее двумя миллионами коров, которых чтят вплоть до превращения в досадную помеху, с ее факирами, предлагающими свое тело в жертву постельным клопам. А если бы читатель очутился на Бали с его кинотеатрами, прозванными «Вишну-Голливудом», или с его книжными магазинами, бойко торгующими комиксами по классической литературе, где индуистские боги и богини с помощью бластеров уничтожают сонмы ужасающих демонов? Я вижу разницу. Я остро чувствую ее между тем, что написал о даосизме, и тем даосизмом, который в детстве окружал меня в Китае, – с его почти полным погружением в предсказания, черную магию и суеверия. Это все равно что контраст между безмолвствующим Христом и Великим инквизитором, или между спокойствием Вифлеема и орущей в универсальных магазинах «Тихой ночью», призванной создавать настроение и способствовать рождественскому шопингу. История религии в целом далеко не радужна, а зачастую груба и неприглядна. Проявления мудрости и милосердия кратковременны, в целом результат сугубо двойствен. Всесторонний, сбалансированный взгляд на религию охватывал бы человеческие жертвоприношения и «козлов отпущения», фанатизм и гонения, крестовые походы христиан и джихады ислама. К нему относились бы охоты на ведьм в Массачусетсе, Обезьяний процесс в Теннесси, поклонение змеям в Озарке. Список можно продолжать до бесконечности.
Так почему же все упомянутое не попало на последующие страницы? Мой ответ настолько прост, что может прозвучать наивно. Эта книга о ценностях. Вероятно, за всю историю человечества плохой музыки было написано не меньше, чем хорошей, но мы ведь не ждем, что в программе музыкального образования обеим будет уделено одинаковое внимание. Мы ценим время, поэтому полагаем, что в такой программе будет представлено наилучшее. Схожей стратегии я придерживался в отношении религии. В одной недавней книге по правоведению ее автор признавался, что писал ее с любовью к закону. Если уж нечто столь обезличенное, как закон, смогло пробудить любовь в одном авторе, не следует удивляться тому, что религия – опять-таки, в своих лучших проявлениях, – пробудила те же чувства в другом. Кто-нибудь, возможно, увлечется попытками определить, чем является религия во всей своей целостности – благословением или проклятием. Такую цель я перед собой не ставил.
После пояснения, в чем заключалась моя цель – мировые религии в их наилучшем проявлении, – позвольте заметить, что это наилучшее я начну рассматривать с того, что к нему не относится. У Линкольна Стеффенса есть притча об одном человеке, который взошел на вершину горы, встал там на цыпочки и ухватил Истину. Сатана, ожидая неприятностей со стороны этого выскочки, отправил проследить за ним одного из своих прихвостней, но когда этот демон с тревогой сообщил, что задуманное человеку удалось – он-таки завладел Истиной, – сатана остался невозмутим. «Не волнуйся, – зевнул он. – Я подобью его узаконить ее».
Этот рассказ помогает отделить то лучшее, что есть в религиях, от того, что в них сомнительно и допускает двойное толкование. Воодушевляющие теологические и метафизические истины мировых религий богодухновенны, что готова доказывать эта книга. Институты же, особенно религиозные институты, – другое дело. Основанные людьми с присущими им слабостями, институты возведены как из пороков, так и из добродетелей. Когда пороки – к примеру, преданность «своей» группе против преданности «чужой», – начинают преобладать, итоги могут оказаться ужасающими вплоть до предположения (как заметил какой-то остряк), что самой крупной ошибкой, какую когда-либо делала религия, было связаться с людьми. Вообще-то это неверно: если чуждаться людей, никакого следа в истории не оставить. Имея выбор – остаться в виде бесплотных возвышенных мудрствований или войти в историю путем узаконивания этих идей, – религия предпочла более мудрый путь.
Эта книга с уважением относится к этому выбору, не прослеживая его истоки: как я уже сказал, она посвящена отнюдь не истории религий. Она во многих отношениях идет более легким курсом и берет у этой истории лучшее – те истины, которые хранятся в религиозных институтах и в свою очередь, эти же институты поддерживают. Если просеять религии на предмет этих истин, они предстают перед нами в ином, более чистом виде, становятся мировыми традициями мудрости. («Где мудрость, которую мы потеряли в знанье? Где знанье, которое мы потеряли в сведеньях?»[3] – Т. С. Элиот). И они приобретают сходство скорее с банками данных, вмещающими очищенную от плевел мудрость человеческого рода. Поскольку данная книга сосредотачивает внимание на этих сокровищницах, ее можно было бы назвать «Мировые традиции великой мудрости».
4. И наконец, это не книга по сравнительному религиоведению. Она не пытается сравнить достоинства религий. Любым сравнениям присущ неприятный оттенок, а самые неприятные из всех – сравнения религий. Так что здесь не высказывается предположений, будто бы одна из религий в чем-то превосходит остальные, или, если уж на то пошло, не имеет такого превосходства. «Никому из ныне живущих, – отмечал Арнольд Тойнби, – не хватит знаний, чтобы с уверенностью назвать одну религию более великой, чем все остальные». Я пытался прояснить лучшее, что есть в каждой вере, показав ее так, как ее воспринимали ее самые впечатляющие приверженцы. Сравнениями читатели могут заняться самостоятельно, если пожелают.
Объясняя, чем эта книга не является, я уже начал было рассказывать о том, что она собой представляет, но позвольте выразиться точнее:
1. Эта книга стремится объять необъятное – целый мир. В каком-то смысле, разумеется, это стремление обречено на провал. Даже вытянутой до предела единственной пары рук недостаточно, да и ноги надо на что-нибудь ставить. Начну с очевидного: книга написана на английском языке, что в некоторой степени служит точкой привязки с самого начала. Далее идут перекрестные ссылки, введенные ради простоты выхода на чужое поле. Здесь есть притчи из Китая, легенды из Индии, парадоксы из Японии, но большинство примеров с Запада: строчка из Шекспира, стих из Библии, установка из психоанализа – цитаты из Элиота и Тойнби в тексте уже попадались. Но если не считать особенностей стиля, эта книга неисправимо западная, рассчитанная на современное западное мышление. Таково мышление автора, в данном вопросе у него не было выбора, однако следует принять этот факт с пониманием, что книга получилась бы другой, будь она написана дзэн-буддистом, мусульманином-суфием или польским евреем.
Следовательно, у этой книги есть дом – дом, двери которого распахиваются свободно, база, откуда можно пускаться в путешествия и возвращаться обратно, только чтобы вновь двинуться дорогой исследований и воображения, – а может, и совершить настоящее странствие. Если возможна ностальгия по миру, даже по тем местам, где никогда не был и, скорее всего, никогда не побываешь, эта книга – порождение именно такого чувства.
Мы живем в потрясающем столетии. Не буду сейчас упоминать о невероятных открытиях науки и тонкой, как лезвие бритвы, грани между обреченностью и исполнением желаний, к которой они нас толкают, и лучше поговорю о том, как по-новому теперь взаимодействуют народы мира. Страны, расположенные на другом конце мира, стали нашими соседями: Китай – напротив, через улицу, Ближний Восток – за углом. Повсюду юные туристы с рюкзаками, а домоседов балуют бесконечным потоком книг, документальных фильмов и рассказов приезжих из-за границы. Мы слышим, что Восток и Запад «сходятся вместе», но это еще мягко сказано. Их бросает друг к другу, швыряет с силой атомов, со скоростью реактивных самолетов, со всем беспокойством разума, которому не терпится узнать, как живут другие. Оглядываясь на наш век, историки, возможно, будут вспоминать его не за полеты в космос и не за высвобождение ядерной энергии, а как время, когда люди мира впервые стали воспринимать друг друга всерьез.
Перемены, которых эта новая ситуация требует от всех нас – от тех, кого внезапно выбросило из города и страны на мировую арену – ошеломляют. Две тысячи пятьсот лет назад только такой исключительный человек, как Диоген, мог заявить: «Я не афинянин и не грек, а гражданин мира». Сегодня мы все должны постараться сказать о себе именно так. Мы приблизились к моменту в истории, когда каждый, кто является только японцем или американцем, только жителем Востока или жителем Запада, лишь наполовину человек. Другой половине, которая пульсирует в унисон со всем человечеством, еще только предстоит родиться.
Заимствуя образ у Ницше, можно сказать, что все мы призваны стать космическими танцорами, которые не прикованы в неподвижности к одному месту, а легко совершают вращения и прыжки, переходя из одной позиции в другую. Как и гражданин мира, такой космический танцор поистине будет рожден культурой своих предков и вместе с тем окажется неразрывно связанным со всеми остальными. Корни танцора будут простираться глубоко в семью и сообщество, но в этих глубинах они дойдут до грунтовых вод единого человечества. Ведь разве танцор – не человек? И если он видит то, что заинтересовало других, разве то же самое не заинтересует и его? Это захватывающие перспективы. Когда разделение станет не столь жестким, начнутся заимствования, от которых, конечно, порой рождаются гибриды – но по большей части они просто обогащают виды и поддерживают их энергичность.
Мотивы, подталкивающие нас к познанию мира, различны. Однажды меня доставили на бомбардировщике на одну базу ВВС, чтобы я прочитал офицерам лекцию по верованиям других народов. Почему? Очевидно, потому что этим офицерам может когда-нибудь понадобиться иметь дело с представителями этих народов – в качестве союзников или противников. Это лишь одна из причин познакомиться с ними – необходимая, но, будем надеяться, есть и другие. Даже такая цель, как избегание участия в военных действиях посредством дипломатии, условна, поскольку полезна. Решающая причина стремиться к пониманию других естественна – чтобы расширить кругозор настолько, насколько позволяет зрение.
Разумеется, я говорю о зрении и кругозоре в переносном смысле, но такие визуальные аналогии более чем уместны. Без двух глаз – бинокулярного зрения, – нет представления о третьем измерении пространства. Если смотреть на мир лишь под одним углом, он выглядит плоским, как открытка. Наличие двух глаз имеет практические преимущества: они не дают нам налетать на стулья и позволяют оценивать скорость приближающихся машин. Но главное преимущество – это увеличение глубины взгляда на сам мир: на панорамы, что разворачиваются у нас перед глазами, на виды, что простираются перед нами. То же самое относится и к «глазам души», по выражению Платона. «Что знают об Англии те, кто только Англию знает?»
Я убедился, что практические блага, которые дает нам возможность взглянуть на мир глазами других людей, весьма велики. Они позволяют корпорациям вести бизнес с Китаем, а дипломатам – реже совершать оплошности. Но самые важные преимущества не нуждаются в подсчетах. Мельком увидеть, что означает для японца чувство принадлежности; почувствовать, с чем сталкивается в жизни и что выносит бирманская бабушка; понять, как индуистам удается воспринимать свою личность как маску, под которой скрыто бесконечное у них внутри; раскусить парадокс дзэн-буддистского монаха, убеждающего, что все сущее священно, но неукоснительно воздерживающегося от определенных действий, – впуская все это в свое поле зрения, мы усиливаем духовный взор, мы смотрим на вещи шире, мы обретаем еще один мир, в котором можно жить. Единственное, что может считаться добрым без ограничений, – не добрая воля (как утверждал Кант), ибо воля может быть доброй в том числе и в стесненных обстоятельствах. Абсолютное добро – лишь в том, чтобы видеть больше и шире понимать окончательную природу вещей.
Эти размышления о понимании мира ведут к мировым религиям, ибо самый верный путь к сердцам людей – через их веру, если эта вера не закоснела. И это различие между религией живой и мертвой подводит нас ко второй конструктивной цели данной книги.
2. Эта книга воспринимает религию всерьез. Она – не справочник для туриста. В ней не будет ни заискиваний перед любопытствующими, ни попыток разворошить чужую веру, чтобы вытащить на свет что-нибудь эпатажное; не будет ни аскетов на ложе из гвоздей, ни распятий на кресте в среде «кающихся» (пенитентес) в Мексике, ни «башен молчания» парсов, где умерших отдают на растерзание грифам, ни эротических скульптур или экскурсов в тантрический секс. В великих религиях есть и это, но акцентировать на таком внимание – грубейшая пошлость.
Существуют и более тонкие способы принизить религию. Один из них – признавать ее важность, но для других людей: живших в прошлом, представителей иных культур, тех, чье эго нуждается в подкреплении. И это тоже не наш подход. Мы будем вести повествование в третьем лице. Поговорим об индуистах, буддистах, конфуцианцах, мусульманах – и при этом все время будем называть их «они». Но это лишь фасад – а ведь за ним скрывается наша глубочайшая тревога о себе самих. До меня дошло, что главная причина, по которой я вновь и вновь обращаюсь к великим традициям мудрости всего мира, – помощь в проблемах, которые сам я не в состоянии преодолеть. Учитывая принципиальное сходство людской природы – все мы скорее люди, чем нет, – полагаю, именно проблемы привлекли к этой книге и ее читателей.
Мы будем избегать лаже легчайших оттенков покровительственного отношения к религии, в том числе попыток почитать не ее как таковую, а ее плоды – ее вклад в искусство, в душевный покой, во внутригрупповую сплоченность. Это книга о религии, которая существует не как тупая привычка, вопреки мнению Уильяма Джеймса, а как острая лихорадка. Она об истинно живой религии. Пробуждаясь к жизни, религия демонстрирует поразительное свойство. Она одерживает верх, и все прочее, даже если не умолкает, то становится тише и довольствуется вторыми ролями.
Живая религия дает человеку самую важную возможность, какую только может предложить жизнь. Она зовет душу к высшему приключению, которое та способна предпринять, предлагает ей пройти по дебрям, по вершинам, по пустыням человеческого духа. Она зовет встретиться с действительностью лицом к лицу, взять под контроль свое «я». Тот, кто отважится услышать этот тайный призыв и последовать ему, вскоре узнают об опасностях и трудностях этого одинокого путешествия.
Наука вносит немалый вклад в не столь значимые потребности, как любил повторять судья Холмс, добавляя, что религия, какими бы малыми ни были ее успехи, по крайней мере работает с тем, что особенно много значит. Когда же одинокий дух успешно одерживает главные победы на этом поприще, он поднимается выше короля или королевы. Он становится искупителем мира. Его влияние простирается на тысячелетия, веками осеняет благословением запутанный ход истории. «Кто они… величайшие благодетели живущих поколений человечества? – вопрошал Тойнби. – Я полагаю, это Конфуций и Лао-цзы, Будда, пророки Израиля и Иудеи, Заратуштра, Иисус, Мухаммед и Сократ»[6].
Его ответу не следует удивляться, ибо подлинная религия есть самый открытый из просветов, через который в человеческую жизнь входят неисчерпаемые энергии космоса. И что же тогда сможет соперничать с ней в той силе, с какой она вдохновляет самые сокровенные созидательные центры жизни? Выходя из них вовне, в мифах и обрядах, она дает символы, которые влекут историю вперед, пока наконец ее сила не растрачивается и для жизни не начинается ожидание нового искупления. Этот возобновляющийся сценарий побуждает даже таких острословов, как Джордж Бернард Шоу, заключить, что религия – единственная в мире реальная движущая сила. (Альфред Норт Уайтхед прибавлял к ней науку, то есть доводил число этих сил до двух)[7]. Именно воодушевляющая религия будет предметом наших последующих глав.
3. И, наконец, эта книга реально стремится установить и поддержать связь. Я воспринимаю ее как работу в сфере перевода, попытку не только проникнуть в миры индуистов, буддистов и мусульман, но и навести мостики между этими мирами и миром читателя. Изучение религии может быть сколь угодно теоретическим и академическим, но я старался не упускать из вида актуальность этого материала для проблем, с которыми люди сталкиваются сейчас. «Если вы не в состоянии в общих чертах объяснить любому, чем вы занимаетесь, – писал один выдающийся ученый и вместе с тем знаток тонкостей коммуникации, – значит, ваша работа ничего не стоит»[8].
Это внимание к коммуникации вновь напоминает нам об отношении этой книги к историческим знаниям, о котором уже упоминалось ранее.
Насколько мне известно, ничто на этих страницах не противоречит историческим свидетельствам и фактам, но если выйти за пределы старания избежать явных неточностей, вопрос не так прост. Я устранял массу исторических подробностей, упрощая текст везде, где они замедляли темп и затеняли суть. Изредка я представлял выводы, которые подразумевались сами собой, и приводил примеры, соответствующие теме, но отсутствующие в самих текстах. Эти вольности могут кое у кого создать впечатление, что данная книга «демонстрирует равнодушие к фактам», однако историческая точность не входит в число ее основных задач.
Религия в первую очередь не вопрос установления фактов, а вопрос смысла. Здесь пригодится сравнение из биохимии. «Несмотря на то что строение молекулы белка мы знаем вплоть до точного расположения ее атомов в трехмерном пространстве, мы не имеем ни малейшего представления о том, по каким правилам она образует свою естественную форму»[9]. Религиозный аналог атомов из биохимии – факты, которые история, социология, антропология и текстология группируют вокруг религии. Собрание этих фактов может быть таким же исчерпывающим, как познания биохимиков в области атомной структуры молекул белков, но сами по себе эти факты безжизненны. Косвенным образом, а не напрямую я пытался применить в этих главах «правила», благодаря которым религиозные факты «образуют свою естественную форму». Я старался сделать их живыми с религиозной точки зрения.
Мы отправляемся в путешествие в пространстве, времени и вечности. Места зачастую будут отдаленными, времена – давними, основные мысли – всецело за пределами пространства и времени. Нам предстоит пользоваться чуждыми словами – на санскрите, китайском и арабском языках. Мы попытаемся описать состояния сознания, на которые слова способны лишь намекнуть. Мы прибегнем к логике, чтобы загнать в угол озарения, потешающиеся над нашими попытками. И в конечном счете мы потерпим фиаско; сами обладая иным складом ума, мы никогда не поймем всецело религии, отличающиеся от наших собственных. Но если мы воспримем эти религии всерьез, позорный провал нам не грозит. А для того, чтобы воспринять их всерьез, нам необходимы всего две вещи. Во-первых, нам надо увидеть в приверженцах этих религий мужчин и женщин, которые сталкиваются с проблемами, во многом подобными нашим. И во-вторых, нам надлежит избавить свой разум от всех предубеждений, способных притупить нашу восприимчивость или готовность к новым озарениям. Если мы откажемся от наших предубеждений, касающихся этих религий, если будем рассматривать каждую из них как созданную людьми в стремлении узреть нечто, способное помочь им и придать их жизни смысл, если постараемся непредвзято увидеть то же, что видели эти люди, тогда покров, отделяющий нас от них, может стать прозрачным.
Один великий анатом обычно заканчивал вводную лекцию для начинающих студентов-медиков словами, в равной степени применимыми и к тому, чем собираемся заняться мы. «В этом курсе, – говорил он, – перед нами будут плоть и кости, клетки и сухожилия, и порой все это может показаться настолько холодным и мертвым, что вас повергнет в ужас. Но ни в коем случае не забывайте: оно живое!»
II. Индуизм
Если бы меня спросили, под каким небом человеческий разум… особенно глубоко размышлял над величайшими вопросами жизни и нашел для некоторых из них ответы, заслуживающие внимания даже тех, кто изучал Платона и Канта, я указал бы на Индию. А если бы я сам задался вопросом, из какой литературы мы, воспитанные почти исключительно на мыслях древних греков, римлян и представителей одного из семитских народов, евреев, могли бы почерпнуть поправки наиболее желательные, чтобы сделать нашу внутреннюю жизнь более совершенной, более полноценной и более универсальной, по сути дела – поистине человеческой… я опять указал бы на Индию.
Макс Мюллер
16 июля 1945 года в обстановке глубокой секретности, далеко в пустыне штата Нью-Мексико произошло событие, которое может оказаться самым важным в ХХ веке. Цепная реакция научных открытий, начавшаяся в Чикагском университете и сосредоточенная на «объекте Y» в Лос-Аламосе, достигла кульминации. Первая атомная бомба, что называется, имела успех.
Никто не сыграл в этом достижении роль более важную, нежели Роберт Оппенгеймер, руководитель Манхэттенского проекта. Очевидец, не сводивший с него глаз тем утром, представил следующий доклад: «Истекали последние секунды, и он все заметнее напрягался. Он едва дышал. Схватился за какой-то поручень, чтобы устоять на ногах… Когда комментатор крикнул: “Сейчас!”, последовала колоссальная вспышка света… при низком, раскатистом рокоте взрыва у него на лице отразилось невыразимое облегчение». Так выглядело происходящее со стороны. Но в разуме Оппенгеймера в те моменты, как он вспоминал позднее, вспыхнули, словно молния, две строчки из «Бхагавад-гиты», в которых речь идет от имени Бога.
- Я становлюсь смертью, сокрушителем миров,
- Ждущих, когда настанет час их погибели.
Глубокий символизм этого случая подходит для вступления к данной главе так же, как жизнь Махатмы Ганди служит для подготовки к рассказу о вере, которую нам предстоит рассмотреть. В эпоху, когда столкновения насилия и мира стали более трагическими, чем когда-либо прежде, в середине нашего века имя Ганди противопоставлялось именам Сталина и Гитлера. Этому человеку, вес которого не превышал сотни фунтов, а все земные сокровища – двух долларов, мировое сообщество приписывало такое достижение, как мирный уход Великобритании из Индии. Но гораздо менее широко известен тот факт, что в пределах своего народа Ганди устранил барьер еще менее преодолимый, нежели расовый в Америке. Он переименовал индийскую касту неприкасаемых в «хариджан», «людей Божьих», и возвысил их до положения людей. Тем самым Ганди предложил стратегию ненасильственной борьбы, вдохновившую Мартина Лютера Кинга-младшего, который возглавил подобное движение за гражданские права в США.
Воодушевление и стратегия Ганди подводят нас прямиком к теме этой главы, ибо в «Автобиографии» он писал: «Сила, которой я обладаю для работы в политической сфере, проистекает из моих экспериментов на духовном поприще». На этом духовном поприще, продолжал он, «истина является наивысшим законом, а “Бхагавад-гита” – книга для познания Истины par excellence».
Чего хотят люди
Если бы нам понадобилось взять индуизм в целом – с его обширной литературой, замысловатыми обрядами, многочисленными обычаями, процветающим искусством – и сжать все это в одну фразу, она бы гласила: ты можешь иметь то, чего хочешь.
Звучит многообещающе, но вместе с тем создает новую проблему. Ибо чего же мы все-таки хотим? Простой ответ дать легко – в отличие от хорошего. С этим вопросом Индия живет долгие века, и ответ у нее наготове. Люди, говорит она, хотят четырех вещей.
Для начала они хотят удовольствия. Это естественно. Все мы рождаемся со встроенной способностью реагировать на удовольствие и боль. Если мы пренебрегаем этими сигналами, не отдергиваем руки от горячей плиты или выходим из окон второго этажа, то быстро умираем. Так что же может быть очевиднее стремления следовать зову удовольствий и вверять им свою жизнь?
Будучи наслышанными – ибо это у всех на слуху, – про аскетизм, таинственность и отрицание ценности жизни, свойственные Индии, мы могли бы ожидать от нее неодобрительного отношения к гедонистам, но это не так. Да, Индия не объявляла удовольствия своим высшим благом, но это еще не значит, что в ней осуждают наслаждения. Тому, кто жаждет удовольствий, Индия по сути дела говорит: так стремись к ним – в этом нет ничего плохого; это одна из четырех законных целей жизни. Мир до отказа полон красотой и перегружен чувственными наслаждениями. Более того, выше этого есть миры, где удовольствия усиливаются в миллион раз с каждой ступенью, и эти миры мы тоже познаем в свое время. Как все прочее, гедонизм требует благоразумия. Отнюдь не каждому порыву можно поддаваться безнаказанно. Мелкими сиюминутными целями следует жертвовать ради больших целей в перспективе; порывы, способные нанести вред другим, надлежит гасить во избежание вражды и угрызений совести. Только глупец станет лгать, воровать или мошенничать ради немедленной выгоды или впадать в зависимости. Но до тех пор, пока основные нравственные правила соблюдены, человек вправе стремиться ко всем удовольствиям, к каким пожелает.
Вместо того чтобы осуждать удовольствия, индуистские тексты содержат указания о том, как увеличить их масштабы. Простым людям, которые ищут почти исключительно удовольствий, индуизм представляется чем-то чуть большим, нежели просто образ жизни, способствующий здоровью и процветанию; в то время как на другом конце спектра, для взыскательных, находится тщательно продуманная чувственная эстетика, поражающая своей откровенностью. Если удовольствия – именно то, что вам нужно, не подавляйте в себе это желание. Стремитесь к нему грамотно.
Так говорит Индия – и она ждет. Ждет, пока не придет время, – а оно приходит для каждого, хоть и не для всех в нынешней жизни. Но вдруг становится ясно, что удовольствие – далеко не все, чего хочет человек. Каждый в конце концов приходит к этому открытию не потому, что удовольствия греховны, а потому что они слишком банальны, чтобы полностью удовлетворять человеческую природу. Удовольствия преимущественно индивидуальны, а эго – слишком мелкий объект для того, чтобы восторгаться им вечно. Сёрен Кьеркегор некоторое время пытался вести то, что он называл «эстетической жизнью», сделав наслаждение ее руководящим принципом, но потерпел полное фиаско, которое описал в «Болезни к смерти». «В бездонном океане удовольствия, – писал он в “Дневнике”, – я тщетно выискивал место, чтобы бросить якорь. Я ощущал почти непреодолимую силу, с которой одно удовольствие тянет за собой другое, поддельное воодушевление, которое они способны вызывать, скуку и мучения, которые за ними следовали». Известно, что даже повесы, которым редко приписывают глубокомысленность, приходят к выводу, как недавно сделал один из них, что «во вчерашней роскоши я различил блеск мишуры». Рано или поздно у каждого возникает желание испытать не только море сиюминутных удовольствий, какими бы приятными они ни были.
И когда этот момент наступает, интересы индивида обычно смещаются ко второй из главных жизненных целей – к житейскому успеху[10] с тремя его китами: богатством, славой и властью. И эта цель тоже достойна, ею не пренебрегают, ее не осуждают. Более того, удовлетворение от нее длится дольше, так как, в отличие от удовольствий, успех – это социальное достижение, и как таковое, оно затрагивает жизнь окружающих. По этой причине он приобретает масштабы и значение, которыми не могут похвалиться удовольствия.
Современная западная аудитория не нуждается в доказательствах этой точки зрения. Англо-американский темперамент не отличается чувственностью. Приезжие из-за границы отмечают, что англоязычное население не особо радуется жизни и не проявляет такой склонности – оно слишком занято. Запад влюблен не в чувственность, а в успех, и спорят там не потому, что награда за достижения превосходит награду за чувства, а потому, что у успеха тоже есть свои ограничения – и вопрос «чего он стоит?» не сводится к вопросу «сколько он получает?»
Индия признает глубоко укоренившуюся жажду власти, статуса и обладания имуществом. И эти желания не следует недооценивать. Малая толика земного успеха совершенно необходима для обеспечения семьи и ответственного исполнения гражданских обязанностей. Вдобавок к этому минимуму мирские достижения придают чувство собственного достоинства и самоуважение. Но в конечном итоге и у этих наград есть свой срок, поскольку все они заключают в себе ограничения, которые мы рассмотрим подробно:
1. Богатство, слава и власть исключительны, а значит, рождают конкуренцию, следовательно, сопряжены с риском. В отличие от ментальных и духовных ценностей, они не умножаются, когда ими пользуются совместно; их нельзя распространять, не уменьшая доли, причитающейся каждому. Если у меня есть доллар, этот доллар не ваш; если я сижу на стуле, вы не в состоянии занять его. То же самое со славой и властью. Идея страны, в которой знамениты все, содержит логическое противоречие, а если власть распределить поровну, никто не будет обладать ею в том смысле, в каком мы обычно пользуемся этим словом. От духа соперничества, рожденного этими благами, до их рискованности рукой подать. Поскольку их хотят и другие, кто знает, когда успех перейдет из рук в руки?
2. Жажда успеха неутолима. Здесь требуется уточнение, так как люди порой действительно получают достаточно денег, славы и власти. Но лишь когда все перечисленное становится их главной целью, утолить их страсти невозможно, поскольку на самом деле люди хотят не того, к чему стремятся, а того, чего они в действительности не хотят, им никогда не бывает достаточно. Согласно индуистской поговорке, «пытаться приглушить стремление к богатству деньгами – все равно что тушить огонь, заливая его маслом».
Это известно и Западу. «Бедность заключается не в уменьшении имущества, а в увеличении ненасытности», – писал Платон, а богослов Григорий Назианзин соглашается с ним: «Если бы ты мог получить от всех богатств всего мира, остались бы и другие, без которых ты оказался бы нищим». «Успех – цель без точки насыщения», – недавно писал один психолог, и социологи, изучавшие один городок на Среднем Западе США, выяснили, что «и дельцы, и наемные работники изо всех сил зарабатывали деньги, пытаясь утолить свои желания, возраставшие еще быстрее». Именно в Индии Запад позаимствовал притчу о погонщике осла, который заставлял свое животное идти вперед, подвесив перед ним морковку на палке, прикрепленной к упряжи.
3. Третья проблема житейского успеха роднит его с гедонизмом. Успех тоже слишком сосредоточен на своем «я», и этого чересчур мало для непреходящего воодушевления. Ни состояние, ни положение в обществе не отменяют осознание того, что многое другое отсутствует. В конце концов каждый желает от жизни большего, нежели загородный дом, спортивная машина и шикарный отпуск.
4. Последняя причина, по которой житейский успех не в состоянии полностью удовлетворить нас, – в том, что его достижения эфемерны. Богатство, слава и власть не могут пережить телесную смерть – их, как принято говорить, «на тот свет с собой не заберешь». И поскольку это действительно невозможно, все перечисленное не удовлетворяет нас полностью, так как мы способны вообразить себе вечность и не можем не испытывать безотчетных сожалений о той краткой покупке в рассрочку, которую дает нам житейский успех.
Прежде чем перейти к двум другим вещам, которых, как уверяет индуизм, жаждут люди, неплохо было бы подвести итог вышесказанному. Индуисты располагают удовольствие и успех на Пути желания. Они пользуются таким названием, потому что личные желания человека на данном этапе играют решающую роль в выборе жизненного курса. Впереди лежат другие цели, но это не значит, что нынешние, предварительные, мы должны осуждать. Всецело подавляя свои желания или делая вид, будто их у нас нет, мы ничего не добьемся. До тех пор пока мы считаем, что хотим удовольствий и успеха, нам следует стремиться к ним, помня лишь о таких ограничениях, как благоразумие и справедливость.
Основополагающий принцип – не отворачивайтесь от желания, пока желание не отвернется от вас. Цели на Пути желания воспринимаются в индуизме как своего рода игрушки. Если мы зададимся вопросом о том, плохи ли чем-нибудь игрушки, нам следует дать на него только один ответ: напротив, грустно думать о детях, у которых их нет. Но еще грустнее видеть взрослых, не сумевших развить в себе интерес к чему-либо более значительному, нежели куклы и паровозики. И к тому же люди, не остановившиеся в своем развитии, переходят к стадии, на которой удовольствия и успех в целом перестанут привлекать их с такой же силой, как прежде.
Но что еще более притягательное способна предложить жизнь? Таких вещей две, утверждает индуизм. В отличие от «пути желания», они составляют «путь отречения».
У слова «отречение» есть негативный оттенок, и поскольку Индия часто прибегает к нему, в том числе и по этой причине она снискала репутацию занудной моралистки, отрицающей радости жизни. Но у отречения есть две стороны. Оно может проистекать из разочарования и отчаяния, ощущения, что тратить на что-то силы просто бесполезно; и в равной мере может свидетельствовать о подозрении, что в жизни есть нечто большее, чем наши переживания в настоящий момент. Здесь мы видим «вернувшихся к природе» – тех, кто отказался от изобилия ради свободы от социальной круговерти и материальных излишеств – но это лишь начало. Если отречение всегда подразумевает принесение в жертву банального настоящего ради более перспективного будущего, то религиозное отречение сродни отказу спортсменов потакать своим слабостям, способным отвлечь их от всепоглощающей цели. Прямая противоположность разочарованию, отречение в этом втором варианте – явное свидетельство действия жизненной силы.
Не следует забывать, что Путь отречения в индуизме следует за Путем желания. Если бы людям было достаточно следовать своим порывам, самой мысли об отречении не возникло бы никогда. Это происходит не только с теми, кто потерпел фиаско на предыдущем пути – скажем, когда кто-то, разочаровавшись в любви, уходит в монастырь и ищет утоления своих желаний там. Можно согласиться с критиками в том, что для таких людей отречение – акт спасения, попытка извлечь из личного поражения всю пользу. Что заставляет нас внимательно прислушаться к наставлениям индуизма, так это свидетельство тех, кто победно прошел по Пути желания и тем не менее обнаружил, что жаждет большего, чем предлагает этот путь. Эти люди – не те, кто отрекается, а те, кто видит, что отрекаться не от чего, – истинные пессимисты нашего мира, ибо для того, чтобы жить, людям надо верить в то, ради чего они живут. Пока они не ощущают тщетности в удовольствиях и успехе, они могут верить, что ради этого стоит жить. Но если, как указывает Толстой в своей «Исповеди», они больше не могут верить в конечное, им остается лишь поверить в бесконечное, или умереть.
Поясним: в индуизме не сказано, что каждому человеку в его нынешней жизни понадобится Путь желания. В отношении обширной временной шкалы индуизм проводит различие, с которым знаком и Запад, – между хронологическим и психологическим возрастом. Два человека, которым по сорок шесть лет от роду, хронологически являются ровесниками, но психологически один может оставаться еще ребенком, а другой – уже быть взрослым. Индуисты продлевают это различие так, что оно охватывает множество периодов жизни – этот момент мы подробно рассмотрим, когда перейдем к идее реинкарнации. Как следствие, мы увидим мужчин и женщин, которые ведут игры желания с тем же азартом, с каким девятилетние дети играют в «полицейских и воров»; не зная ничего другого, они тем не менее умрут с ощущением, что прожили насыщенную жизнь, и придут к заключению, что она прекрасна. Но в равной мере найдутся и те, кто искусно ведет эту игру, однако свои успехи в ней считает ничтожными. Чем объясняется разница? Энтузиасты, по мнению индуистов, подхвачены волной новизны, а остальные, участвуя в той же игре далеко не в первый раз, стремятся покорять другие миры.
Опишем типичный опыт этих вторых. Очевидные награды этого мира все еще чрезвычайно притягательны для них. Они купаются в удовольствиях, увеличивают свои капиталы и улучшают положение в обществе. Но ни эти стремления, ни достигнутые в них успехи не приносят истинного счастья. Чего-то из желаемого им не удается получить, и от этого они несчастны. Что-то они получают и некоторое время владеют им, а потом вдруг лишаются и опять-таки становятся несчастными. А что-то им удается и заполучить, и сохранить, только чтобы обнаружить, что оно (как Рождество для многих подростков) не доставляет той радости, какая ожидалась. Многое из того, что в первый раз приводит в восторг, к сотому разу приедается. При этом каждое достижение будто раздувает пламя нового желания; ни одно из них не удовлетворяет полностью, и вскоре становится ясно, что все они со временем утрачивают свои достоинства. В конце концов у этих людей возникает подозрение, что они, как белки в колесе, вынуждены бежать все быстрее и быстрее ради вознаграждения, которое значит для них все меньше и меньше.
И когда эта мысль осеняет их, и они вдруг обнаруживают, что заливаются слезами, повторяя: «Суета сует, – все суета!», им может прийти в голову, что все беды проистекают из незначительности эго, которому они стремились услужить. А если бы акцент их внимания сместился? Вдруг принадлежность к более обширному и значительному целому избавила бы жизнь от ее тривиальности?
Этот вопрос возвещает рождение религии, поскольку даже несмотря на то, что ее, с некоторым упрощением, можно назвать религией поклонения самому себе, истинная религия начинается с поиска смысла и ценности за пределами эгоцентричности. Она отказывается от притязаний эго на окончательность и категоричность.
Но это отречение – ради чего оно? Этот вопрос подводит нас к двум вехам на Пути отречения. На первой из них табличка «общество» – в качестве явной кандидатуры на роль чего-то большего, нежели мы сами. Обеспечивая одновременно и нашу жизнь, и жизнь других людей, общество обладает значением, которым не может пользоваться ни одна отдельно взятая жизнь. В таком случае давайте перенесем нашу преданность на общество, ставя его требования выше наших собственных.
Этот перенос знаменует первый важный шаг в религии. Он порождает религию долга, третью после удовольствия и успеха великую цель жизни с точки зрения индуиста. Ее власть над зрелыми умами колоссальна. Мириады преобразовали «волю получать» в «волю отдавать», а «волю побеждать» – в «волю служить». Не торжествовать, а стараться изо всех сил, со всей ответственностью подходить к любой задаче, – вот что стало их высшей целью.
Индуизм полон указаний для тех, кто готов внести свой вклад в общественное дело. В нем подробно описаны обязанности, соответствующие возрасту, складу характера и положению в обществе. Они будут рассматриваться в последующих разделах. А здесь нам осталось лишь повторить сказанное в связи с удовольствием и успехом: долг тоже приносит ощутимые награды лишь для того, чтобы оставить духовное начало человека неудовлетворенным. Его награды способна оценить лишь зрелость, но для зрелости они существенны. Честное исполнение долга вызывает уважение и благодарность со стороны равных. Но еще важнее уважение к самому себе, заслуженное внесением своего вклада. Однако в конечном итоге даже этих наград оказывается недостаточно. Ибо даже когда время обращает общество в историю, отдельно взятая история конечна, а значит, в перспективе трагична. Трагедия заключается не только в том, что ей надлежит завершиться – рано или поздно история тоже умрет, – но и в ее отказе совершенствоваться. Надежду и историю неизменно разделяют огромные расстояния. Конечное благо для человека должно заключаться в чем-то другом.
Чего на самом деле хотят люди
«Приходит время, – писал Олдос Хаксли, – когда кто-нибудь спрашивает даже о Шекспире и Бетховене: и это все?»
Трудно выбрать высказывание, которое точнее характеризовало бы отношение индуизма к миру. Дары мира неплохи. По большому счету они хороши. Некоторые из них хороши настолько, чтобы внушать нам воодушевление на протяжении множества жизней. Но рано или поздно каждый человек приходит к тому же осознанию, что и Симона Вейль – что «здесь, внизу, нет истинного блага, и все, что выглядит благом в этом мире, конечно, ограниченно, изнашивается, и будучи изношенным, оставляет на виду нужду во всей ее наготе»[11]. По достижении этого момента человек ловит себя на том, что даже лучшее, что может предложить мир, вызывает у него вопрос: «И это все?»
Вот он, момент, которого ждал индуизм. Пока люди довольствуются перспективой удовольствий, успеха или служения, индуистский мудрец вряд ли побеспокоит их – разве что посоветует, как действовать эффективнее. Решающий момент в жизни наступает, когда все перечисленное утрачивает изначальное очарование, и человек вдруг замечает: он бы хотел, чтобы жизнь могла предложить что-нибудь еще. Содержит или не содержит жизнь нечто большее – это, пожалуй, вопрос, вызывающий среди людей больше разногласий, чем какой-либо другой.
Индуистский ответ на этот вопрос однозначен. Жизнь содержит и другие возможности. Чтобы выяснить, какие именно, нам следует вернуться к вопросу о том, чего хотят люди. До сих пор, пояснит индуизм, мы давали на этот вопрос слишком поверхностные ответы. Удовольствия, успех и долг не являются высшими целями человечества. В лучшем случае это средства, которые, как мы полагаем, подвигнут нас в направлении того, чего мы на самом деле хотим. А хотим мы на самом деле того, что находится на более глубоком уровне.
Во-первых, мы хотим быть. Каждый хочет лучше уж быть, чем не быть; как правило, никто не желает умирать. Один корреспондент времен Второй мировой войны описал атмосферу в комнате, где находились тридцать пять человек, которым было поручено провести бомбардировку – с таких заданий в среднем возвращался только один летчик из четырех. Корреспондент отмечал, что уловил исходящий от этих людей не столько страх, сколько «полное нежелание отказываться от будущего». Их чувства характерны для всех нас, сказал бы индуист. Никого из нас не радуют мысли о будущем, к которому нам не суждено иметь никакого отношения.
Во-вторых, мы хотим знать. Кем бы мы ни были – учеными, исследующими тайны природы, типичной семьей за просмотром ежевечерних новостей, соседями, обменивающимися местными сплетнями, – нам присуще неутолимое любопытство. Эксперименты показали, что даже обезьяны готовы трудиться дольше и упорнее, чтобы узнать, что находится по другую сторону люка, чем ради еды или секса.
Третье, к чему стремятся люди, – радость, чувство по эмоциональной окраске противоположное раздражению, бессмысленности и скуке.
Вот чего на самом деле хотят люди. Если мы хотим дополнить индуистский ответ, следует добавить, что всего этого люди хотят до бесконечности. Отличительная особенность человеческой природы – ее способность считать что-либо не имеющим пределов: бесконечным. Эта способность затрагивает человеческую жизнь в целом, как недвусмысленно указывает картина де Кирико «Ностальгия по бесконечности». Достаточно упомянуть что-нибудь хорошее, и мы представляем себе еще больше этого хорошего, а представляя, хотим его еще сильнее. Медицинские науки увеличили продолжительность жизни вдвое, но разве люди, способные жить вдвое дольше, охотнее умирают? Если уж совсем начистоту, следовало бы сказать: чего на самом деле хотели бы люди, так это бесконечного бытия, бесконечного знания и бесконечного блаженства. Да, им приходится довольствоваться меньшим, но хотят они именно этого. Если выразить эти желания единственным словом, люди в действительности жаждут освобождения (мокша) – избавления от ограниченности, конечности, препятствующей нашему безграничному бытию, разуму и исполнению каких угодно желаний.
Удовольствие, успех, ответственное исполнение долга и освобождение – мы завершили перечисление всего, чего, как кажется людям, они хотят и чего они хотят на самом деле. И мы вернулись к поразительному заключению, с которого началось наше исследование индуизма. Люди больше всего хотят того, что они могут иметь. Бесконечное бытие, бесконечное знание и бесконечное блаженство находятся в пределах их досягаемости. Тем не менее самое удивительное утверждение еще впереди. Все эти блага находятся не просто в пределах людской досягаемости, уверяет индуизм. Люди уже обладают ими.
Ибо что есть человеческое бытие? Тело? Безусловно, но что еще? Личность, к которой относятся склад ума, воспоминания и склонности – результат уникального пути приобретения жизненного опыта? И это тоже, а есть ли что-нибудь еще? Некоторые считают, что нет – но индуизм не согласен с ними. В основе человеческого «я», оживляя его, лежит источник бытия, который никогда не умирает, никогда не иссякает и неограничен в сознании и блаженстве. Это бесконечное средоточие каждой жизни, это скрытое «я», или Атман, есть не что иное, как Брахман, божественная сущность. Тело, личность и Атман-Брахман – отчет о человеческом «я» не является полноценным, если не упомянуты все три.
Но если это правда, и мы действительно бесконечны в своем бытии, почему это неочевидно? Почему мы не действуем соответствующим образом? «Что-то я сегодня не чувствую себя бесконечным, – возможно, откликнется кто-то. – А что касается моего соседа, что-то я не заметил в его поведении ничего божественного». Что индуистское учение может противопоставить свидетельствам утренней газеты?
Ответ, по мнению индуистов, кроется в глубине, где Вечное погребено под почти непроницаемой массой отвлекающих факторов, ложных допущений и эгоистичных инстинктов, составляющих наше поверхностное «я». Лампа может быть настолько покрыта пылью и грязью, что эти пыль и грязь вообще не будут пропускать свет. Задача, которую жизнь ставит перед человеческим «я», – счистить с бытия все наслоения до такой степени, чтобы его бесконечное средоточие засияло во всей красе.
Внутренняя запредельность
«Цель жизни, – говорил судья Холмс, – отойти как можно дальше от несовершенства». Индуизм утверждает, что его цель – полностью выйти за пределы несовершенства.
Если бы мы задумали составить перечень конкретных несовершенств, препятствующих нашей жизни, им не было бы конца. Нам недостает силы и воображения, чтобы осуществить свои мечты; нас одолевает скука, мы заболеваем, мы глупы. Мы терпим неудачи, и они нас обескураживают; мы стареем и умираем. Списки такого рода можно продолжать до бесконечности, но в этом нет необходимости, так как все специфические ограничения сводятся к трем основным. Мы ограничены в радости, знании и бытии – трех вещах, которых на самом деле хотят люди.
Можно ли преодолеть преграды, отделяющие нас от них? Оправдано ли стремление качественно иной жизни, чтобы она, утратив ограничения, поистине заслужила бы право называться жизнью?
Начнем с препятствий на пути к нашей радости, которые можно разделить на три подгруппы: физическая боль, раздражение оттого, что желаемое не осуществляется, и скука от жизни в целом.
Физическая боль – наименьшая проблема. Поскольку интенсивность боли отчасти объясняется страхом, сопровождающим ее, победа над страхом способна в то же время избавить от боли. С болью можно также смириться, если у нее есть цель, – так пациент радуется возвращению жизни и ощущений, пусть даже болезненных, в замерзшей руке. Боль можно и превозмочь во имя насущной цели, как, например, во время футбольного матча. В исключительных случаях, когда боль бесполезна, ее можно приглушить с помощью медикаментов или контроля над ощущениями. Рамакришна, великий индуистский святой, или гуру, умер в XIX веке от рака гортани. Врач, который осматривал его на последних стадиях болезни, ощупал отмирающую ткань, и Рамакришна вздрогнул от боли. «Подождите немного, – попросил он, потом добавил: – Теперь можно», и уже не сопротивлялся манипуляциям врача. Пациент сосредоточил внимание в точке, куда почти не достигали нервные импульсы. Тем или иным способом можно, по-видимому, дойти до состояния, в котором физическая боль перестает представлять значительную проблему.
Более серьезна психологическая боль, возникающая из-за неосуществимости конкретных желаний. Мы хотим выиграть турнир, но проигрываем. Хотим прибыли, но сделка расстраивается. Повышение достается нашему конкуренту. Мы бы не прочь получить приглашение, но нами пренебрегают. В жизни так много разочарований, что мы готовы предположить, что они составляют неотъемлемую часть человеческого удела. Но на поверку оказывается, что у разочарований есть нечто общее. Каждое препятствует ожиданиям эго конкретного человека. Если бы у эго не имелось ожиданий, для разочарований не было бы причин.
Если все это выглядит как избавление от болезни путем убийства пациента, ту же точку зрения можно представить в позитивном ключе. А если расширить интересы «я» настолько, что мы посмотрим на человечество почти с точки зрения Бога? Тот, кто взглянет на все в свете вечности, станет объективным к себе, сумеет принять и неудачу, и успех в потрясающей человеческой драме «да» и «нет», положительного и отрицательного, действия двух противоположных сил. Личное фиаско окажется таким же незначительным поводом для беспокойства, как роль неудачника, сыгранная в постановке театрального кружка. Как может человек быть разочарован своим поражением, если радость победителя он тоже ощущает как собственную? Как может задевать обида оттого, что тебя обошли повышением, если опосредованно радуешься успеху конкурента? Вместо того, чтобы стонать «невозможно!», нам, пожалуй, следовало бы удовлетворенно отметить, как такой взгляд отличается от обычной жизни, поскольку из того, что пишут о величайших духовных гениях, можно счесть, что они достигли подобных воззрений. «Так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне», – должны ли мы предположить, что Иисус рисовался, произнося эти слова? Рассказывают, что Шри Рамакришна однажды
…взвыл от боли, увидев, как яростно ссорятся два лодочника. Он достиг отождествления самого себя с невзгодами целого мира, какими бы нечистыми и жестокими они ни были, в итоге его сердце постепенно покрылось шрамами. Но он знал, что должен любить Бога во всех людях, какими бы неприязненными и враждебными они ни были и во всех проявлениях мысли, управляющей их существованием, зачастую приводящей их к ссорам друг с другом[12].
К такому явлению, как отрешенность от конечного «я» или преданность всему сущему, можно относиться как позитивно, так и негативно. Когда оно возникает, жизнь возвышается и над возможностью раздражения, и над тоской – третьей угрозой для радости, – ибо космическая драма слишком зрелищна, чтобы допустить скуку в случае настолько яркого отождествления.
Второе значительное ограничение человеческой жизни – невежество. Индуисты утверждают, что и оно устранимо. Упанишады говорят о «познании Того, знание о котором приносит знание обо всем». Маловероятно, что под «всем» здесь подразумевается всезнание в буквальном смысле. Скорее, имеется в виду озарение, открывающее смысл всего. С учетом этого обобщающего озарения вопросы о деталях были бы так же неуместны, как вопросы о количестве атомов в живописном шедевре. Когда ухвачена суть, кому нужны подробности?
Но возможно ли трансцендентное знание даже в таком, более узком смысле? Мистики явно считают, что да. Научная психология не во всем соглашается с ними, но придерживается убеждения, что ментальная сфера есть нечто гораздо большее, чем кажется на первый взгляд. Психологи сравнивают ее с айсбергом, большая часть которого скрыта под водой. Что же содержит ее обширная погруженная доля? Кое-кто считает, что в ней хранится каждое приобретенное воспоминание и опыт, ничто не забывается глубинами разума, который никогда не спит. Другие, например Карл Юнг, полагают, что в нем заключена также коллективная наследственная память, обобщающая опыт всего человеческого рода. Психоанализ ориентируется по нескольким светящимся точкам в этой ментальной тьме. Но кто скажет, в какой мере такую тьму можно рассеять?
Что касается третьего ограничения жизни, ее конечного бытия, для того, чтобы с пользой рассмотреть его, нам прежде следует спросить, как должны определяться границы «я». Разумеется, не величиной физического пространства, которое занимают наши тела, или объемом воды, который мы вытесняем из ванны. Целесообразнее определять наше бытие в зависимости от величины нашего духа, спектра реальности, с которой он отождествляется. Мужчина, который отождествляет себя со своей семьей и радуется ее радостям, обладал бы соответствующей долей реальности; доля женщины, способной отождествить себя с человечеством, была бы гораздо больше. Согласно этому критерию, люди, способные отождествить себя с бытием в целом, не имели бы ограничений. Однако это едва ли правильно, ведь они все равно умерли бы. Предмет их забот продолжил бы существование, а их самих не стало бы.
Следовательно, нам надо подойти к вопросу бытия не только с пространственной, так сказать, стороны, но и относительно времени. Наш повседневный опыт обеспечивает для этого исходную точку. Строго говоря, каждый миг нашей жизни – это умирание; «я» данного момента умирает, чтобы уже никогда не возродиться. Но несмотря на то, что в этом смысле моя жизнь состоит исключительно из похорон, я не считаю себя ежеминутно умирающим, ибо не приравниваю себя к отдельным моментам своего бытия. Я прохожу через них, испытываю их, не будучи идентичным ни одному из них в его уникальности. Индуизм заходит на шаг дальше в развитии этой мысли – и постулирует наличие протяженного «я», которое проживает последовательные жизни так, как в одиночной жизни проживаются последовательные моменты.
Сердце ребенка разбивают беды, которые мы считаем пустяковыми. Он полностью отождествляет себя с каждым инцидентом, не умея увидеть его на фоне изменчивой жизни в целом. Понадобится прожить немало, прежде чем ребенок научится отделять самоопределение от конкретного момента и тем самым приблизится к взрослому возрасту. По сравнению с детьми мы – зрелые личности, но по сравнению со святыми мы дети. Способные увидеть наше «я» в целом и в перспективе не более, чем трехлетка, уронивший рожок с мороженым, мы сосредотачиваем внимание на нашем нынешнем сроке существования. А если бы мы могли достичь полной зрелости, то увидели бы этот срок в более широком смысле, то есть, по сути дела, нескончаемым.
Такова основная суть индуистской оценки положения человека. Мы уже видели, что психология приучила нас к тому, что сами по себе мы есть нечто большее, чем нам кажется. Как в представлениях европейцев XVIII века о земле, в нашей ментальной сфере есть собственные черные Африки, свои неизведанные Борнео, свои бассейны Амазонки. Большая их часть все еще ждет исследований. Индуизм воспринимает скрытые континенты ментальной сферы как протянувшиеся в бесконечность. Бесконечное бытие, бесконечное знание – нет ничего за их пределами, что остается неизвестным. И бесконечная радость, ибо нет ничего чуждого им, что пятнает их красоту.
Индуистская литература изобилует метафорами и притчами, предназначенными для того, чтобы помочь нам осознать золотые миры, скрытые в глубинах нашего бытия. Мы подобны царям, которые пали жертвой амнезии и бродят по своим владениям в лохмотьях, не зная, кто они на самом деле. А еще можно сказать, что мы подобны львенку, разлученному с матерью и воспитанному овцами, приученному пастись, блеять и считать, что и он – овца. Мы как влюбленный, который во сне отчаянно ищет по всему миру свою возлюбленную, забыв о том, что все это время она лежит рядом с ним.
Осознание нашего бытия в целом поддается описанию не более, чем закат, если требуется описать его слепому от рождения человеку; и то, и другое надо испытать самому. Однако биографии тех, кто совершил это открытие, дают нам подсказки. Эти люди мудрее, они обладают и силой, и радостью. Кажется, что они свободнее, но не в том смысле, что они сплошь и рядом нарушают законы природы (хотя им часто приписывают способность совершать удивительное), а в том, что естественный порядок, по-видимому, не стесняет их. Они выглядят безмятежными и даже лучезарными. Миротворцы по своей природе, они изливают любовь в равной степени для всех. Общение с ними укрепляет и очищает.
Четыре пути к цели
Все мы пребываем в двух шагах от бесконечного океана созидательной силы жизни. Мы носим ее в себе – наивысшую силу, полноту мудрости, неугасающую радость. Ничто не может помешать ей и уничтожить ее. Однако она скрыта в глубине, именно поэтому в жизни возникают затруднения. Бесконечное находится в самом темном и глубоком хранилище нашего бытия, в забытом колодце, в глубоком резервуаре. А если бы мы могли вывести его наружу и непрестанно черпать из него?
Этот вопрос стал для Индии навязчивой идеей. Ее жители стремились к религиозной истине не просто для того, чтобы пополнить свой банк общих данных; они искали ее как карту, способную привести их к высшим состояниям бытия. Именно религиозные люди стремились преобразить свою натуру, заново сформировать ее по сверхчеловеческому образцу, через который бесконечное воссияет, почти не встречая препятствий. То, сколь насущно это стремление, мы чувствуем в метафоре, которую индуистские тексты представляют во всевозможных видах. Подобно тому, как человек, несущий на голове вязанку хвороста, охваченную огнем, поспешит броситься в пруд, чтобы потушить пламя, так и искатель истины, опаленный огнем жизни – рождением, смертью, тщетностью самообмана, – поспешит к учителю, сведущему в том, что важнее всего.
В индуизме особые указания для реализации человеческого потенциала объединены под одним «заголовком» – йога. Когда-то, услышав это слово, мы тут же представляли себе косматых мужчин в набедренных повязках, которые скручивают собственные тела в подобия живых кренделей и демонстрируют таинственные и невероятные способности. Однако теперь, когда Запад присвоил этот термин, мы с большей вероятностью представляем себе грациозных женщин, которые упражняются, чтобы остаться подтянутыми и гибкими. Ни тот, ни другой образ не противоречит реальному явлению полностью, однако оба они связаны только с его телесными аспектами. Слово «йога» образовано от того же корня, что и английское «yoke» – «ярмо, иго», имеющее двойную коннотацию: «объединять» (yoke together) и «подвергать строгой выучке» («подчинять»; «возьмите иго мое на себя»). Оба оттенка присутствуют в слове на санскрите. Следовательно, согласно общему определению, йога – это метод тренировки, предназначенный для того, чтобы привести к объединению или союзу. Но к объединению чего?
Некоторые люди заинтересованы главным образом в своих телах. Без лишних слов ясно, что у них есть индийские аналоги – те, кто заботится лишь о своем теле и стремится его ублажать. Для таких людей Индия путем многовековых экспериментов создала самую потрясающую школу физической культуры, какую когда-либо видел мир[13]. Не то чтобы Индия была заинтересована в теле более, чем Запад; просто ее интерес принял иной оборот. Если Запад стремился к силе и красоте, то Индию привлекали точность и контроль, в идеале – полный контроль над всеми функциями тела. В какой мере ее поразительные притязания в этой сфере можно подтвердить научными методами, еще только предстоит увидеть[14]. Здесь достаточно отметить, что ее обширные указания по данному предмету составляют исходную йогу – хатха-йогу. Поначалу ее практиковали как предшествующую духовной йоге, однако она в целом утратила эту связь, поэтому нам нет нужды обращаться к ней здесь. К суждению индуистских мудрецов по этому вопросу могли бы присоединиться и мы. С телом можно творить невероятное, если есть желание посвятить этому занятию всю жизнь, но это невероятное не имеет отношения к просветлению. И если такое культивирование проистекает из стремления покрасоваться, оно, по сути дела, препятствует духовному росту.
Направления йоги, которые нас интересуют, предназначены для достижения единства человеческого духа с Богом, скрытым в его самых сокровенных глубинах. «Поскольку все индийские духовные [в отличие от телесных] упражнения всерьез направлены на эту практическую цель – а не просто на замысловатые методы созерцания или обсуждение возвышенных и глубоких мыслей, – их можно по праву считать отображением одной из самых реалистичных, прозаических, практичных систем мышления и тренировки, какие когда-либо были разработаны человеческим разумом. Как прийти к Брахману [Бог на санскрите] и поддерживать связь с ним; как стать отождествленным с Брахманом и вести соответствующую жизнь; как обрести божественность, продолжая пребывать на земле – преобразиться, переродиться подобным алмазу, находясь в земной плоскости; вот искания, которые вдохновляли и обожествляли человеческий дух в Индии на протяжении веков»[15].
Духовных троп, проложенных индуистами к этой цели, четыре. Поначалу это может вызвать удивление. Если цель одна, разве не должен быть единым и путь к ней? Так могло обстоять дело, если бы все мы начинали с одной и той же точки, даже если бы разные варианты маршрута объяснялись различием в способах перемещения – таких как ходьба пешком, езда, полет. Раз уж люди приближаются к одной и той же цели с разных сторон, значит, должно существовать и множество троп к этому общему пункту назначения.
С чего начинает каждый, зависит от того, какой он человек. Этот момент не ускользнул от внимания западных духовных наставников. Один из наиболее видных, отец Сурин, к примеру, осуждал «наставников, в голове коих есть замысел, который они применяют к каждой живой душе, обращающейся к ним, и пытаются привести всех в соответствие с этим замыслом, как те, кто желает, чтобы все носили одинаковую одежду». Святой Иоанн Креста привлекал внимание к той же опасности, когда писал в «Живом пламени любви», что цель духовных наставников – «не направлять души по пути, пригодному для них, а искать путь, который указует им сам Бог». В чем особенность индуизма, так это в масштабах внимания, которое он посвящает выявлению основных духовных типов личности, а также дисциплин или практик, с наибольшей вероятностью эффективных для каждого из типов. Итог – пронизывающее религию в целом понимание того, что существует множество путей к Богу, и каждый требует характерного способа для продвижения по нему.
С точки зрения индуистов, основных духовных типов личности – четыре. (Карл Юнг строил свою типологию по индийскому образцу, видоизменяя его в некоторых отношениях). Есть люди преимущественно мыслящие. Есть в основном эмоциональные. Есть большей частью активные. И наконец, есть еще склонные к экспериментам. Каждому из этих типов личности индуизм предписывает определенный вид йоги, разработанный с целью наилучшего применения присущей конкретному типу сильной стороны. Типы не заперты по одному в герметичных отсеках, каждое человеческое существо обладает в некоторой степени всеми четырьмя талантами точно так же, как большинство полученных при сдаче комбинаций карт содержит все четыре масти.
Все четыре пути начинаются с нравственных предварительных замечаний. Поскольку цель видов йоги – сделать внешнее «я» прозрачным и показать божественное, скрытое под ним, это внешнее сначала надлежит очистить от чудовищных нечистот. Религия всегда представляет собой нечто большее, чем нравственность, но если ей недостает нравственной основы, ей не выстоять. Эгоистичные поступки не растворяют, а сгущают конечное «я»; недобрая воля нарушает поток сознания. Следовательно, первый этап любой йоги предусматривает культивирование таких привычек, как непричинение ущерба, правдивость, воздержание от присвоения чужого, чистоплотность, умение довольствоваться тем, что есть, самодисциплина и непреодолимое стремление достичь цели.
Принимая к сведению эти общие прелиминарии, мы готовы к специфическим наставлениям йоги.
Путь к Богу через Знание
Джняна-йога, предназначенная для искателей духовности, имеющих выраженную склонность к мыслительной деятельности, – это путь к единству с божественным через знание. Такое знание – греческие «гнозис» и «софия» – не имеет никакого отношения к фактическим сведениям; оно не является энциклопедическим. Скорее это интуитивная способность распознавать и различать, которая в конечном итоге преображает, превращает знающего в то, что знает она сама. (Местоимение «она» в этом случае уместно потому, что в основных исходных языках Запада – иврите, латыни и греческом, – знание в этом смысле обозначается обычно словами женского рода.) Для таких людей важно мышление. Во многих отношениях они живут у себя в голове по той причине, что идеи для них обладают почти осязаемой жизненностью; они поют и танцуют для них. Таких мыслителей порой поднимают на смех, говоря, что они – просто философы, витающие в облаках. Но они и витают там лишь потому, что чувствуют солнце Платона, сияющее над этими облаками. Для этих людей мысли имеют последствия; их разум одушевляет их жизнь. Немногих убедило утверждение Сократа о том, что «знать добро – значит творить его», но, возможно, для себя самого он констатировал простой факт.
Людям, преданным знанию именно так, индуизм предлагает ряд наглядных свидетельств, призванных убедить мыслителя, что он обладает не только конечным «я». Рациональное обоснование достаточно просто и откровенно. Как только джняна-йог это поймет, его ощущение собственного «я» сместится на более глубокий уровень.
Ключ к успеху этого предприятия – распознавание, умение отличать поверхностное «я», заполняющее передний план внимания, и большее «я», скрытое. Развитие этой способности проходит в три этапа, первый из которых – учение. Слушая мудрецов, священные писания и такие трактаты, как «Сумма теологии» Фомы Аквинского, искатель подходит к пониманию того, что его внутренняя сущность – само Бытие.
Второй этап – мышление. Путем продолжительных и глубоких размышлений то, что во время первого этапа было введено в качестве гипотезы, должно обрести жизнь. Общее представление об Атмане (Бог внутри) должно перемениться и стать постижением. Для этого предлагается несколько путей, по которым могут следовать мысли. К примеру, ученику могут посоветовать исследовать наш повседневный язык и размышлять над его последствиями. Слово «мое» всегда подразумевает различие между обладателем и тем, чем он обладает; когда я говорю о моей книге или моем пиджаке, я никак не подразумеваю, что я и есть эти вещи. Но вместе с тем я говорю о моем теле, моем разуме и моей личности, тем самым свидетельствуя, что в некотором смысле отделяю себя также и от них. Что же это за «я», которое владеет моим телом и разумом, но не является их эквивалентом?
Кроме того, наука говорит, что в моем теле не осталось ничего из того, что присутствовало в нем семь лет назад, и что мой разум и моя личность претерпели сравнимые изменения. Однако несмотря на их многократные преобразования, в некотором смысле я остался прежним человеком – тем самым, который верил то в одно, то в другое, который некогда был юным, а теперь стар. Что именно в моей структуре, будучи более постоянным, нежели тело или разум, претерпело эти перемены? Обдуманный со всей серьезностью, этот вопрос может высвободить «Я» из меньших отождествлений.
Наше слово «личность» (personality) происходит от латинского «персона», первоначально относившегося к маске, которую актер надевал при выходе на сцену, – к той маске, через (per) которую он озвучивал (sonare) свою роль. Маска отражала роль, а актер за ней оставался скрытым и неизвестным, посторонним по отношению к эмоциям, которые он разыгрывал. И это, по мнению индуистов, идеал, ибо роли – именно то, чем являются наши личности, то, что нам отведено в величайшей из всех трагикомедий, драме самой жизни, в которой мы и соавторы, и актеры. Как хороший актер целиком отдается своей роли, так и нам следует играть наши роли в полную силу. Если мы в чем-то и неправы, так это в том, что ошибочно принимаем отведенную нам в настоящий момент роль за то, кто мы есть на самом деле. Мы поддаемся воздействию собственных реплик, не в силах вспомнить предшествующие сыгранные роли, и не подозреваем о тех, которые нам предстоит сыграть в будущем. Задача йога – исправить эту ошибочную идентификацию. Обратив свою осознанность внутрь, он должен проникать сквозь бесчисленные наслоения личности до тех пор, пока не прорежет их все и не дойдет до неизвестного, радостно-беззаботного актера, скрытого за ними.
Уловить различие между обычным «я» и высшим «Я» помогает еще один образ. Человек играет в шахматы. Доска символизирует его мир. В нем есть фигуры, которыми ходят и которые можно выиграть, а можно потерять, цели, которых можно достигнуть. Можно выиграть или проиграть партию, но не самого игрока. Приложив старания, шахматист может улучшить свою игру и, по сути дела, свои умения; это происходит как в случае поражения, так и при победе. Как участник партии соотносится с его личностью в целом, так и конечное «я» в любой конкретной жизни соотносится с лежащим в его основе Атманом.
Метафоры продолжаются. Одна из самых красивых содержится в упанишадах, а также, по любопытному совпадению, у Платона. Ездок сидит безмятежно и неподвижно в своей колеснице. Передав ответственность за поездку своему колесничему, он волен раскинуться в колеснице и любоваться пробегающим мимо пейзажем. В этом образе заключена метафора жизни. Тело – это колесница. Дорога, по которой она едет, – объекты чувственного восприятия. Лошади, которые везут колесницу по дороге, – сами чувства. Разум, управляющий чувствами, если они дисциплинированы, представлен вожжами. Способность разума к принятию решений – это колесничий, а хозяин колесницы, которому присуща вся полнота власти, однако ему незачем даже шевелить пальцем, – это Всеведущее «Я».
При наличии у йога способностей и усердия подобные размышления в конце концов вызывают яркое ощущение бесконечного «Я», лежащего в основе бренного, конечного «я». Два «я» со временем представляются все более обособленными, разделенными, как вода и масло, хотя раньше были смешанными, подобно воде и молоку. Это и есть готовность к третьему этапу на пути знания, который заключается в смещении самоидентификации к ее неизменной части. Прямой способ добиться этого – воспринимать себя как Дух не только в периоды медитации, предназначенные для этой цели, но и как можно чаще во время выполнения повседневных задач. Однако эта последняя практика дается нелегко. Для нее требуется вбить клин между эго, заключенным в кожу, и его Атманом. Это получается легче, если думать об эго в третьем лице. Вместо «я иду по улице» Сибил думает: «Вот Сибил идет по Пятой авеню» и в подкрепление этой мысли пытается представить себя со стороны. Она – не деятель и не объект воздействия, и придерживается по отношению к происходящему подхода «Я – Свидетель». За своей несущественной историей она наблюдает с такой же отстраненностью, с какой позволяет своим волосам развеваться на ветру. Точно так же, как лампа, освещающая комнату, безразлична к тому, что в ней происходит, йог наблюдает за тем, что творится в его доме из протоплазмы, – так говорится в писаниях. «Даже солнце, со всем его теплом, поразительно отделено от нас», – такую надпись кто-то нацарапал на стене тюремной камеры. Жизненным событиям просто позволяется происходить. Сидя в кресле дантиста, Сибил отмечает: «Бедненькая Сибил. Скоро все кончится». Но ей приходится вести честную игру и сохранять ту же позицию, когда ее посещает удача и ей ничего не хотелось бы так, как купаться в похвалах, которыми ее осыпают.
Мысли о себе в третьем лице одновременно достигают двух целей. Они вбивают клин между самоидентификацией и поверхностным «я», и в то же время заставляют эту самоидентификацию перейти на более глубокий уровень – до тех пор, пока, наконец, благодаря знанию, идентичному с бытием, человек не становится полностью таким, каким он всегда был в глубине души. «Это и есть ты, кроме Которого, нет другого, кто видит, слышит, мыслит или действует»[16].
Путь к Богу через Любовь
Йога знания считается кратчайшим путем к божественному осознанию. И вместе с тем этот путь наиболее крут и тернист. Он требует редкого сочетания рационализма и духовности, он предназначен для немногих избранных.
В общем и целом рассудок движет жизнью в меньшей степени, чем эмоции, а из множества эмоций, теснящихся в человеческом сердце, наиболее сильной является любовь. Даже ненависть можно истолковать как последствия сдерживания этого порыва. Более того, людям свойственно уподобляться тому, что они любят, с его именем, написанным у них на лбу. Цель бхакти-йоги – направить на Бога любовь, которая лежит в основании каждого сердца. «Как воды Ганга непрестанно текут к океану, – говорит Бог в «Бхагавата-пуране», – так и разум бхакта постоянно стремится ко Мне, Высшей личности, заключенной в каждом сердце, сразу же, едва они услышат о моих свойствах».
В отличие от пути знания, у бхакти-йоги насчитывается множеством последователей, – в сущности, из четырех путей она наиболее популярна. Она уходит корнями в древность, но одним из самых известных ее приверженцев был поэт-мистик XVI века по имени Тулсидас. Рано женившись, он питал такую привязанность к своей жене, что не мог вынести даже одного дня разлуки с ней. Однажды она отправилась навестить своих родителей. Не прошло и полдня, как Тулсидас пришел за ней, и тогда его жена воскликнула: «Как страстно ко мне привязан ты! Если бы только ты мог перенести свою привязанность на Бога, ты бы достиг Его мгновенно». «Я так и сделаю», – подумал Тулсидас. Он попытался, и попытка увенчалась успехом.
Все основные принципы бхакти-йоги подтверждены обилием примеров из христианства. В сущности, с точки зрения индуиста, христианство – великий, ярко освещенный путь бхакты к Богу, а остальные пути не то чтобы обделены вниманием, но гораздо менее явно обозначены. На этом пути Бог воспринимается иначе, чем в джняне. Направляющий образ в джняна-йоге – бескрайнее море бытия, скрытое под волнами наших конечных «я». Это море олицетворяет всепроникающее «Я», которое находится как внутри нас, так и вовне, и к отождествлению с которым нам следует стремиться. Представленный таким образом Бог имперсонален (обезличен), или, скорее, трансперсонален, ибо персональность как личность, будучи чем-то определенным, выглядит конечной, в то время как божественное джняны бесконечно. Бхакте, для которого чувства реальнее мыслей, Бог представляется разным в каждом из этих случаев.
Во-первых, поскольку здоровая любовь направлена вовне, бхакта отрицает все предположения о том, что предметом любви Бога является он сам, даже его глубочайшее «Я», и настаивает на инакости Бога. Как выразился набожный классик индуизма, «я хочу вкушать сахар; я не желаю быть сахаром».
- Может ли вода пить себя залпом?
- Могут ли деревья вкушать плоды, которые они приносят?
- Тот, кто чтит Бога, должен быть отличен от Него,
- Только тогда он познает радость любви к Богу;
- Ибо если он скажет, что Бог и он – одно,
- Эта радость и эта любовь мгновенно исчезнут.
- Больше не молись о полном единстве с Богом:
- В чем была бы красота, будь драгоценный камень един с оправой?
- Зной и тень – их двое,
- Иначе в чем была бы отрада тени?
- Мать и дитя – их двое,
- Иначе в чем заключалась бы любовь?
- Когда после разлуки они встречаются,
- Как же они рады, мать и дитя!
- В чем была бы радость, будь эти двое единым целым?
- Так не молись же больше о полном единстве с Богом[17].
Во-вторых, цель бхакты, убежденного в инакости Бога, – тоже стать отличным от джняны. Бхакта стремится не отождествиться с Богом, а обожать Бога всем своим существом. Слова Бэды Фроста, хоть и написанные в условиях другой традиции, напрямую применимы к этому аспекту индуизма: «Единение – не пантеистическое поглощение человека единым, а главным образом личное по характеру. Более того, поскольку это прежде всего единение любви, то род знаний, которого оно требует, относится к дружбе в наивысшем смысле этого слова»[18]. И наконец, в подобных условиях личность Бога вовсе не ограничивает – напротив, она совершенно необходима. Может, философы и способны любить чистую сущность, бесконечно далекую от любых свойств, но они – исключение. Нормальный объект человеческой любви – личность, обладающая свойствами.
Все, что нам необходимо делать в этой йоге ради горячей любви к Богу – не просто клясться в этой любви, а любить Бога по сути; любить только Бога (любя все остальное только в связи с Богом); любить Бога без каких-либо скрытых причин (даже не из стремления к слиянию с ним или к ответной любви), а исключительно ради любви как таковой. В той мере, в какой мы преуспели в этом, мы познаём радость, ибо никакой опыт не может сравниться с состоянием полной и неподдельной любви. Более того, каждое укрепление наших чувств к Богу ослабляет хватку мира. Святые могут любить этот мир и действительно любят его больше, чем миряне, но любят совсем иначе, воспринимая его в отраженном свете славы Бога, перед которым преклоняются.
Как можно породить такую любовь? Очевидно, эта задача не из легких. Мирское претендует на наши чувства настолько непрестанно, что остается лишь дивиться, как Сущность, которую нельзя ни увидеть, ни услышать, способна вступить с ним в соперничество.
И тут на сцене появляется индуистская мифология с ее великолепной символикой, ее несколькими сотнями образов Бога, ее обрядами, поддерживающими ход времени так же неустанно, как нескончаемое вращение молитвенных барабанов. Ценимые сами по себе все они, разумеется, могут узурпировать место Бога, но не в этом их предназначение. Они – посредники, и их призвание – приобщать людские сердца к тому, что они символизируют, но чем сами по себе не являются. Глупо путать образы индуизма с идолопоклонством, а их многочисленность – с политеизмом. Все это взлетные полосы, с которых обремененный рассудком человеческий дух может воспарить для своего «одинокого полета к Единственному». Даже деревенские жрецы часто начинают храмовые церемонии с такого воззвания, проникнутого любовью:
Господи, прости три греха, причина которых – моя человеческая ограниченность:
Ты повсюду, а я поклоняюсь тебе здесь;
Ты не имеешь формы, а я поклоняюсь тебе в этих формах;
Ты не нуждаешься в восхвалениях, а я возношу к тебе молитвы и приветствия.
Господи, прости три греха, причина которых – моя человеческая ограниченность.
Такой символ, как многорукий образ, графически изображающий поразительную разносторонность и сверхчеловеческую мощь Бога, может отражать суть теологии в целом. Мифология достигает глубин, которые ум способен узреть лишь косвенно. Притчи и легенды представляют идеалы таким образом, который вызывает у слушателей стремление воплотить их – наглядно подкрепляя утверждение Ирвина Эдмана о том, что «именно миф, а не предписание, притча, а не логика, – вот что трогает людей». Ценность подобных вещей заключается в их способности отзывать наше внимание от мирских отвлекающих моментов к мыслям о Боге и Божией любви. Воспевая хвалы Богу, всецело посвящая себя молитвам Богу, размышляя о величии и славе Божией, читая о Боге в Священных Писаниях, считая всю вселенную творением Бога, мы неуклонно двигаем наши чувства в направлении Бога. «Тех, кто размышляет обо мне и поклоняется мне одному, не питая привязанности ни к чему другому, – говорит Господь Кришна в “Бхагавад-гите”, – я быстро вызволяю из океана смерти».
