Читать онлайн «Сатурн» почти не виден бесплатно
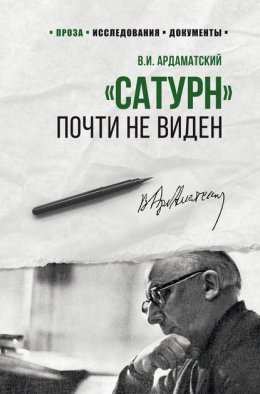
© Ардаматский В.И., наследники, 2020
© ООО «Издательство „Вече“», 2020
© ООО «Издательство „Вече“», электронная версия, 2020
Путь в «Сатурн»
Эту повесть автор посвящает памяти советских разведчиков, погибших на незримом фронте Великой Отечественной войны. Подвиги живых и память о погибших молчаливо хранит архив. Нарушим молчание. Теперь это сделать можно. Возьмем одну из папок, стряхнем с нее пыль времени. Начнем читать документы. И вот мы уже слышим живые голоса и видим героев повести.
Пролог
Глубокой ночью по обводной полосе подмосковного военного аэродрома медленно прохаживались, негромко разговаривая, комиссар государственной безопасности Леонид Иванович Старков и подполковник Михаил Степанович Марков. Оба они были в штатском, и это вызывало к ним любопытство людей аэродрома, на котором в это время шла своя ночная жизнь. Где-то на невидимых в темноте стоянках самолетов вечно бодрствующие механики пробовали моторы. Когда мотор умолкал, его рев еще долго повторяло эхо, глухое в недалеком лесу и звонкое в невидимых просторах вокруг аэродрома. На башне штабного здания неустанно вращался прожектор-маяк. Далеко отброшенный им конус света скользил по крыше ангара, по верхушкам деревьев парка и белым стенам домов военного городка, по перекрестью бетонных полос, по зеленой равнине аэродрома и потом опять по ангару, по парку. И так без конца. Когда конус света убегал с аэродрома, становились видны багровые светлячки оградительных сигналов.
Но Старков и Марков ничего этого не замечали, занятые своим разговором.
– Все же мне непонятно, – упрямо тряхнув головой, сказал Марков. – Если Крымов шлет из Берлина донесения, которые здесь считают провокационными, почему его не вызовут и не отдадут под суд?
– Скажу вам больше: ему даже не сообщают, как расцениваются здесь его донесения.
– Ничего не понимаю… – Марков остановился и, заглянув в лицо тоже остановившемуся Старкову, спросил: – А вы понимаете?
– Я успокаиваю себя мыслью, что тут действует очень высокая политика, в которую мы, грешные, не посвящены.
Они снова пошли рядом и некоторое время молчали.
– Ну, я понимаю, если бы Крымов сообщал какие-то абстрактные сведения, – взволнованно заговорил Марков. – Но он же перечисляет номера армий, двинутых Гитлером к нашим границам. Он сообщает даже примерный срок нападения. Да ведь и мы сами читаем в газетах сообщения о непрекращающихся нарушениях наших границ немецкими самолетами. Англичане – те прямо и открыто пишут о повороте Гитлера на восток. Что же это все? Дезинформация? Политическая игра?
– Вообще-то Гитлер – великий мастер политической авантюры, а против этого невредно выставить спокойствие и выдержку… – Старков посмотрел на часы. – Пойдем…
Марков понял, что Старков разговаривать на эту тему не хочет, и молча шел рядом с ним, погруженный в свои мысли.
Самолет, которого они дожидались, высоко пролетел над аэродромом; они увидели только цветные его огоньки и услышали глухой рокот моторов.
– Ну вот, Михаил Степанович, сейчас многое выяснится, – сказал Старков, провожая взглядом плывущие среди звезд цветные огоньки.
– И, может, придется объявить провокатором и Петросяна, – усмехнулся Марков.
– Меня сейчас интересуют не предположения Петросяна, а то, что скажет нам с вами немец, которого он везет.
Гул моторов снижавшегося самолета быстро нарастал, и вот в лучах зажженных прожекторов возник скользящий к земле двухмоторный воздушный корабль. Пробежав по бетонной полосе, он погасил разбег и, с ходу развернувшись, покатился туда, где стояли Старков и Марков.
В последний раз моторы самолета взревели и умолкли. Дверь в самолете открылась, и из нее спустили на землю лесенку. Первым из самолета вышел конвойный солдат с винтовкой. Чуть отойдя от самолета, он остановился, махнул рукой и взял винтовку наперевес. В дверях самолета показался высокий беловолосый парень в милицейской форме, но без головного убора. Посмотрев по сторонам, он легко соскочил на землю и чуть не упал: руки у него были связаны за спиной. Затем из самолета вышел еще один конвойный солдат и, наконец, низкорослый, похожий на борца мужчина в чекистской форме. В руках у него был небольшой чемодан. Он сказал что-то солдатам, и те повели парня в милицейской форме к штабному зданию. А сам он быстрыми шагами приблизился к Старкову и, вытянувшись, негромко сказал:
– Докладывает майор Петросян…
– Подождите. Пройдем в здание…
Спустя несколько минут они втроем сидели в отведенной им тесной комнате авиационного штаба и вели неторопливый разговор.
– А может, он был сброшен не один? – спросил Старков у Петросяна.
– Вполне может быть, товарищ комиссар! – быстро, напористо, как говорят южане, ответил Петросян. – Ведь служба ПВО обнаружила самолет, когда он уже уходил на запад.
– Поиск ведется?
– Весь минувший день и эту ночь. Но до моего отлета ничего не дал. Да и этот гад был задержан чисто случайно: он вышел к железнодорожной станции, а там им заинтересовался постовой милиционер.
– Он оказал сопротивление?
– Извините, товарищ комиссар, эту подробность я не выяснил.
– Напрасно. – Старков перевел взгляд на стоявший на полу чемодан. – Что там?
Петросян легко подхватил чемодан, раскрыл и вывалил на стол его содержимое: два пистолета и сумку с запасными обоймами к ним, компас, три пачки взрывчатки с привязанными к ним взрывателями, четыре электрические батареи для радиостанции и одну маленькую – к фонарику, ракетницу с пятью патронами разных цветов, две обоймы к автомату и миниатюрную аптечку.
Старков и Марков внимательно осматривали каждую вещь. Майор Петросян нетерпеливо переступал с ноги на ногу.
– Он знает латышский язык? – спросил Старков, рассматривая удостоверение.
– Наши рижские коллеги сказали, что плохо. Допрос вели по-немецки.
– Не жил ли он в Латвии до репатриации оттуда немцев?
Петросян приподнял свои борцовские плечи.
– Он же вообще никаких данных о себе не сообщает. Только острит, чтоб мы торопились. И смеется, гад! – Большие черные глаза Петросяна от злости сузились. – У меня, товарищ комиссар, сложилось впечатление…
– Подождите со своими впечатлениями, – строго оборвал его Старков. – Он знает, что находится в Москве?
– Знает, гад. Когда мы приземлились, засмеялся и говорит: «Я прибыл в Москву раньше всех».
– Давайте его сюда.
Петросян быстро вышел из комнаты. Старков обернулся к Маркову и, встретив его тревожно спрашивающий взгляд, спокойно сказал:
– Допрашивать буду я… Весь разговор – по-немецки. Вы ведете протокол – для виду. Схема допроса такая: если он хочет жить, пусть не только нас торопит, но поторопится и сам. Нам же торопиться некуда: на его расстрел нам достаточно пяти минут, мы все знаем и без его показаний. Так сказать, не допрос, а чистая проформа перед тем, как расстрелять. И вы уже оформляете протокол расстрела. Бандиты, как правило, обожают жизнь. Ставим на это…
– Ясно, – отозвался Марков.
Вернулся Петросян, и вслед за ним конвойные ввели немца. Старков мельком взглянул на него и показал на стул:
– Сядьте сюда.
– Благодарю вас, – четко произнес немец, сел, посмотрел на настенные часы, которые показывали двадцать минут второго, и улыбнулся.
– Ваши имя и фамилия? – небрежно спросил Старков.
Немец не отвечал и, продолжая улыбаться, смотрел то на Старкова, то на Маркова, то на Петросяна.
– Можете, если хотите, назвать вымышленное имя, – сказал Старков.
– Адольф Гитлер! – выкрикнул немец, перестав улыбаться.
– Это имя не подойдет, – поморщился Старков. – Его неудобно вносить в протокол вашего расстрела. Сами понимаете. Пожалуйста, какое-нибудь другое.
В голубых глазах немца мелькнула растерянность. Он внимательно посмотрел на Старкова, на Маркова, занесшего ручку над листом бумаги, на стоявшего у стены Петросяна и, видимо, понял, что с ним не шутят.
– Все равно вы ничего от меня не узнаете, – заученно проговорил он. – И я очень советую вам поторопиться.
– Нам торопиться некуда, – лениво сказал Старков, и стал закуривать папиросу. – На расстрел хватит пяти минут.
– Вы же не знаете, что вас ждет! – воскликнул немец.
– Вы имеете в виду войну? Знаем, – сказал Старков, наблюдая за дымом от папиросы.
Немец явно оторопел. Несколько секунд он молчал, а потом угрожающе произнес:
– Вы ответите за это.
– За что? – искренне удивился Старков. – На протоколе расстрела мы поставим дату позднее, и, таким образом, вы будете расстреляны по законам военного времени, как шпион и диверсант. – Старков показал глазами на лежащие на столе вещи. – Ну, ну, давайте какое-нибудь имя. Не записывать же нам в протокол «господин икс»?!!
На лбу у немца проступила испарина. Он что-то обдумывал.
– А если я буду говорить? – вдруг спросил он уже без всякой амбиции.
– Вы отсрочите свою смерть, а может быть, избежите расстрела, – спокойно ответил Старков. – Мы из контрразведки, и, естественно, нам важно получить от вас сведения. Впрочем, поскольку вы явно не генерал, вряд ли мы услышим от вас что-нибудь действительно важное.
– Я давал присягу, – снова заученно выпалил немец.
– Мы тоже, – тихо сказал Старков. – Такова уж военная служба…
Немец молчал, напряженно глядя прямо перед собой.
– Вы член гитлеровской партии? – лениво спросил Старков.
– К сожалению, нет.
– Почему?
– Я жил не в Германии, – удивленно смотря на Старкова, ответил немец.
– Но после вашего возвращения из Прибалтики в фатерланд прошло время?
– Увы, недостаточное для того, чтобы я успел заслужить такое доверие.
В это время Марков нетерпеливо пошевелился, Старков посмотрел на него и обратился к немцу:
– Да, я забыл, назовите все же какую-нибудь фамилию… – Старков улыбнулся. – А то мой протоколист нервничает.
– Гельмут Шикерт, – чуть подумав, ответил немец. Старков подождал, пока Марков записал фамилию, и сказал ему:
– Сходите к начальнику конвоя, спросите, достаточно ли ему наших подписей. И у меня нет с собой печати.
Немец проводил Маркова испуганным взглядом.
– Еще несколько вопросов… не для протокола, а так, просто из чистого любопытства… – сказал Старков. – Сколько вам лет?
– Двадцать четыре.
– Не дотянули годика до круглой даты. С парашютом прыгали впервые?
– Да.
– Без тренировки? – удивился Старков.
– Считается, что новичок первый прыжок делает более уверенно и храбро, чем второй и третий, – ответил немец механически, думая, очевидно, совсем о другом.
– А что? Пожалуй, это верно, – обратился Старков к Петросяну. – Все же нужно быть храбрым, чтобы ночью прыгнуть в полную неизвестность…
Немец молчал. Эти домашние рассуждения Старкова доконали его: кроме всего прочего, такой допрос исключал для него возможность прибегнуть к заученной браваде.
Вернулся Марков и, не садясь больше за стол, сказал по-немецки:
– Протокол он принял, но просил не забыть поставить потом печать.
– Хорошо. Господин Шикерт, вы сами хотите что-нибудь сказать?
– Может, вы думаете, что я из службы безопасности? – тревожно спросил немец. – Я от армии.
– Абвер? – быстро спросил Старков.
– Да, да, – почти обрадованно подтвердил немец.
– Не велика разница, шпион абвера или шпион гестапо.
– Но на меня распространяются все законы в отношении военнопленных! – воскликнул немец. – Швейцарская конвенция!
– Да кто это внушил вам такую глупость? – сочувственно сказал Старков. – По всем законам участь пойманного шпиона безотрадна. Увы! Закончим на этом…
Старков и Марков встали. Немец продолжал сидеть.
– Встать! – приказал ему Старков. Немец вскочил, точно подброшенный пружиной, и вытянулся перед Старковым; его связанные за спиной руки так и рвались опуститься по швам.
– Я буду говорить… Я скажу очень важные для вас вещи… Я прошу вас… – немец бормотал это, не сводя со Старкова умоляющего взгляда.
Старков нехотя вернулся на свое место.
– Если вы надеетесь морочить нам голову – не выйдет.
– Нет, нет, я скажу все. Спрашивайте.
– Кто точно забросил вас?
– Подразделение абвера, имеющее название «Сатурн»…
Вот когда начался настоящий допрос, который длился больше часа.
Когда чуть занимался рассвет, немца вывели из штабного здания, посадили в машину и увезли в Москву. Потом на крыльце здания появились Старков, Марков и Петросян. Посмотрев в бледнеющее небо, Старков сказал:
– Ну что ж, возможно, это утро – историческое…
В этот момент где-то над ними оглушительно завыла сирена. Переглядываясь, они слушали ее и видели, как от военного городка к аэродрому бежали люди. Из штабного здания вышел летчик. Нахлобучивая на голову шлем, он смотрел на небо.
– Тревога? – спросил у него Старков.
– Война, – ответил летчик и побежал к самолетам.
Часть первая. Навстречу врагу
Глава 1
– Кто вы такой? Фамилия?
– Пантелеев Григорий Ефимович.
– Профессия?
– Это вы в смысле профсоюза? Считайте, что выбыл. Лет десять, как взносы не платил.
– Коммунист?
– Хранил Бог.
– Что это значит?
– Ну, даже близко к ним, к коммунистам, не был. Хранил Бог, говорю, от этого.
Человек, задававший вопросы, записал что-то в своем блокноте и, постукивая карандашом по столу, внимательно разглядывал своего собеседника.
Они сидели в просторной, залитой солнцем комнате. Ветерок, залетавший в раскрытые настежь окна, шевелил гардины и приносил с собой чуть слышный шум большого города.
Один из них – в добротном светло-сером костюме – по-хозяйски расположился в кресле. Другой – в мятом, потрепанном пиджаке и мешковатых брюках, заправленных в разношенные сапоги, – сидел скромненько, на краешке стула, всем телом почтительно подавшись вперед. Тому, который сидел в кресле, можно было дать лет тридцать пять. У него было худощавое лицо с резкими чертами, покрытое ровным, еще не сильным загаром. Выпуклые надбровья отчеркнуты темными бровями. Прямой тонкий нос и близко к нему поставленные серые глаза придавали его лицу выражение какой-то недоброй внимательности, которое, однако, мгновенно слетало, стоило ему чуть улыбнуться. Но сейчас он не улыбался…
Его собеседник был помоложе, и это было видно, несмотря на пушистые рыжеватые усы и бородку лопаточкой. Вздернутый широкий нос с раздвоенным кончиком и широко открытые маслянисто-черные глаза. После каждого вопроса бородатый всем своим широким корпусом делал движение вперед и, отвечая, пригибался, будто подобострастно кланялся.
– Где вы работаете?
– По бумагам я числюсь отсюда дальше далекого, аж за самой Колымой. А только теперь, я считаю, бумагам моим ноль цена, грош-копейка. Теперь я пожить хочу, господин начальник.
– Минуточку, минуточку, я не уловил. Что значит вы числитесь за Колымой?
– Так я там состою при леспромхозе.
– Кем?
– Сторожем или, если хотите, обходчиком.
– А здесь вы как очутились?
– Родной брат у меня здесь скончался, и я от него унаследовал домик с садом и огородом. Неловко так говорить о смерти родного брата, а все же мне повезло. Поносило меня по белу свету, как цветок одуванчика, – хватит.
– Когда умер ваш брат?
– Девятого февраля сего года.
– Вы сюда переехали когда?
– Четырнадцатого марта.
– Через месяц после смерти брата?
– Ну да! До меня же известие о его смерти три недели шло. Факт. Вы знаете, где та Колыма!
– А почему вы раньше не жили здесь с братом?
– У него жена была волчьего норова, терпеть меня не могла, покойница, царство ей небесное. А те далекие места я не сам выбирал.
– Как это не сам?
– Так меня, извините, сослали…
– Чего ж вы сразу не сказали, все тянете! Ну а за что же?
– За что? Как вам сказать… Работал я на лесозаводе под Казанью, подносчиком считался. И вдруг пожар, завод возьми да сгори. НКВД, конечно, тут как тут. Вредительство, говорят. И нас, восьмерых рабов Божьих, кто в ту смену работал, в ссылку.
– И вас судили?
– Ни-ни, ни синь пороху. Поспрошали вот, как вы сейчас. А потом сразу в поезд, в вагон с решеткой, и ту-ту…
– У вас есть справка?
– Вы меня просто смешите, господин начальник. Постройте в одну линию все наше население и прикажите: кто имеет на руках какую-нибудь справку из НКВД, тот пусть сделает шаг вперед и получит миллион рублей. Ни один не выйдет, жизнь кладу. Факт, НКВД, господин начальник, не справки давал, а сроки. Я свой срок еще два года назад отбыл. Жил там уже по вольной. И работал, как уже сказано, в леспромхозе. А тут вот умирает брат и оставляет мне дом. Я сразу, конечно, приехал и оформился в наследстве. И тут же, между прочим, чуть наследство-то не потерял. Факт.
– Почему?
– Сейчас поясню. В апреле и мае шло оформление. Боже ж ты мой, мельница какая! Бумажки, справки, запросы. Ну, ладно, оформили. Теперь, думаю, надо же и себя оформить, уволиться, так сказать, из системы. А то ведь у нас с этим шутить не любят. Чуть что, пришьют тебе дезертира трудового фронта. У нас даже за опоздание на работу судят. Вот я и поехал в Москву, в свой, так сказать, наркомат. Прибыл я туда пятнадцатого июня сего года. Хожу там по этажам, по коридорам и никак добиться толку не могу. Весь от злобы зашелся, кричать на них стал. Тогда они выдали мне вот эту справку, что кадровый отдел вроде не возражает, чтобы я уволился по семейным причинам. Получил я эту справочку в пятницу и поехал сюда обратно. А как приехал, через сутки война началась. Поволынь они меня еще пару дней, не увидел бы я своего домика с садом и огородом.
– Документы по наследованию дома у вас с собой?
– Так точно. Вот…
– Чем занимался ваш брат?
– Художник по сельским храмам.
– Кто?
– Ну, понимаете, ездил человек по селам и обновлял на иконах лики святых. Но это не то что маляр постенный. Брат мой тому умению учился, два года в Угличе жил.
– А чем собираетесь заняться вы?
– Торговлишку самую малую заведу. Народ говорит, что по новому, по вашему стало быть, порядку это можно и даже имеет содействие немецких властей. Или врут люди?
– Почему врут? Мы за частную инициативу. Но что же вы будете продавать?
– Вещички разные из обихода жизни. Война-то растрясла людское имущество. Кто имеет, что продать, а кто в том нуждается. А я тут как тут – между ними: извольте, к обоюдной выгоде. Комиссия, одним словом, но не как-нибудь там налево, а по закону, согласно выправленного патента. Потому я к вам и пришел.
– Так… Так… Значит, когда умер ваш брат?
– Девятого февраля сего года.
– А когда вы приехали сюда?
– Я же сказал: четырнадцатого марта.
Человек, сидевший в кресле, помолчал и сказал:
– Вот тут, Бабакин, мне кажется, вы делаете ошибку. Дату смерти брата вы должны знать назубок – с этим связано ваше счастье. А вот дату своего приезда сюда так точно называть не следует. Тут лучше сказать: в середине месяца. Так будет естественнее.
– Почему, товарищ подполковник? Ведь для него и дата приезда связана с тем же счастьем. В этот день он впервые видит унаследованный дом.
– Подумайте, Бабакин, подумайте. Ведь кто Пантелеев? Туповатый и темный тип. Для него каждая дата – это цифра, арифметика. Подумайте об этом. Дальше. Выбросьте словечко «факт». Оно не из лексикона Пантелеева. Теперь насчет профессии и профсоюза. Эту игру слов надо выбросить. Она может стоить вам слишком дорого. Ведь в составленных гестапо списках крамольных организаций наши профсоюзы упомянуты рядом с партией. А платили вы взносы или не платили, они могут на это не обратить внимания или просто не понять.
– Я и сам подумал об этом, – сразу согласился Бабакин. – Но вы так быстро спросили: «Профессия?» И я, как есть тип темный, переспросил: «В смысле профсоюза?» И тут же спохватился, но уже поздно. Учту, товарищ, подполковник.
– Не думать о таких мелочах нельзя. А в общем хорошо. Правильно, что у него нет большой злости на НКВД. Ведь действительно, никакой особой трагедии с ним не случилось. Работал подносчиком на лесозаводе под Казанью, а попал на север в леспромхоз. Может, ему на новом месте даже лучше стало. И со справкой из НКВД вы придумали здорово. Побольше таких вот находочек, и чтобы каждая работала на ваш типаж. Очень хорошее, например, выражение «вещички разные из обихода жизни».
– Это я у Горького вычитал, – улыбнулся Бабакин.
– Кстати, маляр постенный – такое выражение есть?
– Есть, товарищ подполковник. Я специально консультировался. Так говорят о плохих малярах, которым платят не за колер или красоту, а по размеру стены.
– Хорошо… – подполковник Марков снова осмотрел Бабанина. – И внешность уже приблизилась к норме, только вот бородка слишком аккуратная.
– Отрастет. – Бабакин кивнул через плечо. – Что на фронте?
– Плохо… – Подполковник Марков подошел к висевшей на стене карте и подозвал к себе капитана Бабакина. – Вот уже где они. По данным на четырнадцать ноль-ноль сегодня. Окончательно утверждено: наша база будет вот здесь.
– Когда вы туда прибудете?
– Мы тронемся, когда их войска пройдут дальше на восток, а в этих местах все мало-мальски определится. Наконец, надо убедиться, что наши данные правильны и «Сатурн» расположился именно в вашем городе.
– А если нет, товарищ подполковник?
– Тогда придется на ходу перестраиваться. Еще раз, Бабакин: пока к вам не придут наши люди, вы ничем, кроме своей торговли, не занимаетесь. От прочности вашего врастания в город зависит очень многое. На первом этапе операции ваш ларек на рынке – главный узел моей связи со всеми, кто окажется в городе. Главный и единственный.
– Понимаю, товарищ подполковник. Буду только присматриваться к людям.
Марков повернулся к нему:
– Вы слышали? Я повторяю: абсолютно ничем.
– С ума можно сойти, товарищ подполковник! – тихо проговорил Бабакин. – Сидеть сложа руки, когда вокруг…
– Если вы серьезно, сейчас же подайте рапорт.
Бабакин вытянулся. Подполковник бросил на него сердитый взгляд и, вернувшись к столу, включил радио. Послышалась громкая оркестровая музыка, «тарелка» не могла пропустить ее через себя, она хрипела, дребезжала и, казалось, могла сорваться с гвоздя. Марков раздраженно выдернул штепсель и смотрел, как он качается на шнуре. Потом взял его и аккуратно вставил в розетку. «Тарелка» суровым голосом диктора предложила прослушать арию Ивана Сусанина…
Марков прошел к окну и стал смотреть вниз, на улицу, похожую на дно глубокого ущелья. Здесь, на десятом этаже, в глаза ему било слепящее солнце, а там, на дне ущелья, лежала синеватая мгла. За спиной уже рокотал бас Сусанина. Раздражение не проходило.
С того дня, когда Маркова назначили руководителем оперативной группы, которой предстояло действовать в глубоком тылу врага, он часто впадал в такое раздраженное, почти неуправляемое состояние. Вот, изволите ли видеть, открылось, что у него есть нервы, с которыми он не может справиться.
Когда Марков повернулся снова к Бабакину, тот продолжал внимательно разглядывать карту.
– Словом, ждать, товарищ Бабакин, – как только мог спокойно сказал Марков и вернулся к столу.
– И год ждать? – весело спросил Бабакин.
– Два! Десять! Ждать! – повторил Марков, стараясь не смотреть на улыбавшегося Бабакина.
Приглушенно буркнул телефонный звонок. Марков схватил трубку:
– Слушаю… Ясно… Он здесь…
Марков положил трубку и посмотрел на Бабакина.
– Я буду терпеливо ждать, товарищ подполковник, – сказал Бабакин с такой интонацией, будто хотел успокоить Маркова.
– Немедленно на аэродром, – сухо произнес Марков. – Приказ комиссара госбезопасности Старкова.
Бабакин вытянулся.
– Есть!
Они смотрели друг на друга почти в замешательстве. Марков вышел из-за стола к Бабакину.
– У меня, Алексей Дмитриевич, нервы тоже не из проволоки… – усмехнулся Марков, стараясь спрятать смущение. – Ну, желаю вам успеха. До свидания.
– Через десять лет? – рассмеялся Бабакин. – Если можно, хоть чуть-чуть пораньше.
Марков смотрел на него удивленно: неужели у этого черта нет нервов? Ему захотелось обнять капитана, сказать ему теплые, дружеские слова, но он этого не сделал. Они ограничились энергичным рукопожатием, и Бабакин быстро вышел.
Недовольство собой стало еще сильней. Марков снова подошел к окну и, перегнувшись через подоконник, посмотрел вниз. Из подъезда выбежал Бабакин, посмотрел по сторонам и юркнул в стоявшую у тротуара машину, которая тотчас сорвалась с места, развернулась поперек улицы и помчалась к площади. Сусанин закончил свою арию, и «тарелка» снова надрывалась от оркестровой музыки. Марков со злостью посмотрел на нее и вышел из кабинета.
По коридору навстречу ему шел комиссар госбезопасности Старков.
– Бабакин отправился? – спросил Старков.
– Наверно, уже на аэродроме. Я к вам, товарищ комиссар.
– Сейчас не могу. Вечерком… – Старков посмотрел на хмурого Маркова и взял его под руку. – Вот что, едемте со мной. Поймали еще одну птичку из того же гнезда. По дороге и поговорим…
Машину вел сам Старков. Однако он успевал поглядывать на сидевшего рядом Маркова, который пристально смотрел вперед, но явно ничего не видел.
– Как Бабакин, в форме?
Марков вздрогнул.
– Вполне. – И, помолчав, прибавил: – А я вот обнаружил, что у меня есть нервы.
– Лучше поздно, чем никогда, – улыбнулся Старков. – Впрочем, лучше бы вы их обнаружили попозже, скажем, после войны.
Только когда машина уже вырвалась на широкую окраинную улицу, Марков сказал:
– Когда я на финской с отрядом лыжников рейдировал по тылам врага, нервов у меня не было.
Старков долго молчал, а потом заговорил как будто совсем о другом:
– Я сегодня ночью еще раз просмотрел досье на руководителей и работников абвера. – Старков прищелкнул языком. – Академики! На шеях кресты за Францию, за Чехословакию, за Испанию, за Польшу. Заметьте себе, Канарис возле себя дураков не держит. И во всех бандитских делах Гитлера разведка первое дело. Он бросает ее в обреченную страну, как квасцы в молоко, и молоко в два счета прокисает.
– Про то и говорю, – угрюмо пробурчал Марков. – Ни у одного из нас нет опыта в таких делах.
– В таких и не надо, – рассмеялся Старков. – Ну вот… А кого мы с вами против этих академиков выставляем? Скажем, в вашей группе. Рудин – парень из потомственной рабочей семьи. Кравцов – всего семь лет назад пас скот в колхозе. Тот же Бабакин: вся его академия – это завод, комсомол и армия.
– Именно, – иронически подтвердил Марков.
– Но есть, Михаил Степанович, одно «но»… – Старков весело посмотрел на Маркова. – Все они коммунисты!
Довольно долго они ехали молча, думая каждый о своем. У железнодорожного переезда пришлось остановиться и ждать, пока пройдет поезд.
Марков вздохнул.
– А все ж не думал я, идя в органы, что мне приведется такое. Вы понимаете, это страх не за себя.
– Увы, Михаил Степанович, положение у нас с вами безвыходное, – сухо, без тени улыбки сказал Старков. – Назвались чекистами – полезай в опасные и нелегкие дела. Но все на нашей грешной планете, в том числе и самое необыкновеннейшее, свершают люди. Обычные люди. – Старков помолчал. – Шутка сказать, была громадная темная, как тайга, Россия с царем-батюшкой во главе. А на ее месте возникло светлое государство социализма. И сделали это мы. Между прочим, как раз батька нашего Кравцова брал Зимний. И был тогда совсем неграмотным солдатом. А ваш отец что делал, когда была революция? То-то! Ну, хватит об этом, Степаныч. Обнаружил нервы? Тоже хорошо. Теперь вы знаете, где они, и можете ими управлять…
Машина мчалась по шоссе, которое было как прямая просека в лесу. Старков уменьшил скорость и посмотрел на спидометр.
– Где-то здесь…
Они проехали еще немного и увидели стоящего на шоссе офицера, который делал им знак остановиться.
– Сворачивать? – спросил у него Старков.
– Дальше не проехать, – ответил офицер. – Поставьте машину на обочину. Идти шагов триста, не больше.
Они вошли в лес, и сразу их обступила спокойная тишина, в лицо пахнули пряные ароматы горячего летнего дня. Марков невольно замедлил шаг. А Старков, будто не замечая ничего вокруг, шел рядом с офицером своим обычным размашистым легким шагом. Они говорили о деле.
– Не сопротивлялся? – спросил Старков, отстраняя свисшую на пути ветку.
– Нет. – Офицер засмеялся. – Его ведь первая девчонка обнаружила и подняла такой крик, что люди сбежались со всех сторон. А пистолет он даже не вынул. Удивительно, как люди его не прикончили! Мы в самый раз прибыли.
– Вам бы пораньше девчонки надо, – ворчливо сказал Старков. – Где его сбросили?
– Да тут же.
– А почему он отсюда не ушел?
– Говорит, решил ждать темноты. Сбросили-то его на самом рассвете.
– Парашют, снаряжение нашли?
– Он все зарыл и сам показал где.
– Имя девочки записали?
– Катя Лагутина. Дочка путевого обходчика. Она здесь…
– Я вижу, здесь целый митинг, – недовольно сказал Старков.
Они вышли на лесную поляну, на которой толпилось не менее сотни людей. Были тут и мужчины, и женщины, и, конечно, вездесущие ребятишки. Люди сгрудились вокруг парня в красноармейской форме, понуро сидевшего на гнилом пне. Рядом с ним на лугу лежал скомканный парашют и нераспечатанный грузовой контейнер.
– Здравствуйте, товарищи! – громко сказал Старков, подходя к толпе.
Отвечая Старкову, люди расступились.
– Кто из вас принимал участие в задержании парашютиста?
Ребятишки вытолкнули вперед девчушку лет четырнадцати. Босоногая, курносая, с растрепанными рыжими волосами, она исподлобья смотрела на Старкова. Вперед вышли еще три человека: пожилой мужчина в парусиновом мятом пиджаке, женщина с маленькой корзиночкой земляники и круглолицый, багряно-румяный юноша в тюбетейке на крупной бритой голове.
– Спасибо, товарищи, – сказал Старков, внимательно вглядываясь в их лица. Он остановил взгляд на Кате Лагутиной и увидел, что на правой щеке у нее засохшая царапина. – Это он тебя?
Катя фыркнула, тряхнула кудлатой головой.
– Ничего, я ему тоже… – Она прикрыла царапину ладонью.
– А он же мог тебя из пистолета?
– Пусть бы попробовал!
Старков рассмеялся и оглянулся на Маркова.
– Вон ты какая!
– Такая уж…
– Молодец, Катя! Спасибо тебе огромное.
– Не за что… – девчушка презрительно посмотрела на парашютиста. – Лезут, гады…
Старков приказал офицеру записать со слов тех, кто задержал лазутчика, как все это было, а остальных попросил разойтись.
– Нам надо работать, товарищи…
Люди не очень охотно стали расходиться. Старков подошел вплотную к парашютисту:
– Ну, герой Гитлера, назовись.
Подняв голову, парень с тупым страхом смотрел на Старкова и молчал.
– Фамилия? Имя? – повысил голос Старков.
– Куницкий, – негромко и хрипло ответил парашютист.
– Яснее, громче.
Парашютист прокашлялся:
– Куницкий Петр.
– Где в плен сдавался?
– Нигде не сдавался. Освобожденный я.
– Что значит освобожденный?
– Сидел в минской тюрьме. Немцы освободили.
– За что сидел?
– По тридцать пятой.
Старков переглянулся с Марковым.
– Академические кадры, ничего не скажешь. Что собирался здесь делать?
– Ничего не собирался. Думал, как сяду, дам деру куда подальше. В Сибирь, к примеру.
– Тебя обучали?
– Две недели и пять дней.
– Где?
– В спецшколе…
– Они, – тихо сказал Старков Маркову.
Он приказал офицеру доставить пойманного в Наркомат госбезопасности и кивнул Маркову.
– Поехали домой.
Шагая по лесу, Старков улыбался и посматривал на Маркова.
– Ну, как у нас с нервами?
– По крайней мере знаю, где они находятся, – отшутился Марков.
Старков остановился.
– Знаете, о чем я думаю? Ваша группа будет действовать там в благоприятнейших условиях. Да, да, Михаил Степанович, в благоприятнейших. Вспомните того первого, которого привез Петросян. Немец, не то что этот уголовник. Насколько у него спеси хватило? Ровно на сутки. А потом как он лебезил, как покорно ползал на брюхе, как поносил всю свою епархию! Ведь его же уверили, что война с Россией – веселая прогулка. И академики Канариса тоже развращены успехами. После легких добыч в Европе у них должна быть очень опасная для господина Канариса самоуверенность и наглость. Вы только подумайте, они вот на этого типа, на тридцатипятника, возлагали задачу подорвать наш тыл! Наглецы! А тут Катя… – Старков посмеялся. – Одна Катя, и сюжету конец.
Они вышли к машине и остановились, любуясь зеленым коридором шоссе, по краям которого крутым водопадом рушился солнечный свет.
– И между тем – война… – тихо оказал Старков и вздохнул. – Садитесь, Степаныч. Надо ехать, война не ждет…
Машина развернулась и помчалась к Москве.
Глава 2
Самолет, на борту которого находился Бабакин, взлетел с Центрального аэродрома и, не делая традиционного круга, взял курс точно на запад. Бабакин был втиснут в кабину стрелка-радиста, вдвоем они не могли даже присесть, стояли, чуть подогнув колени, дыша в лицо друг другу. Стоило Бабакину чуть шевельнуться, он бился головой о пулеметную турель. Стрелок нервно оглядывал небо и потом со злостью смотрел на Бабакина: случись надобность, он не сможет вести огонь из-за этого бородатого.
Самолет летел низко, словно привязанный правым крылом к железной дороге. Чуть повернувшись вправо, Бабакин все время видел одно и то же – прямое двустрочие железнодорожного полотна и на нем эшелоны, эшелоны из кирпичиков вагонов. И было такое впечатление, будто эшелоны не движутся, а просто расставлены по всей дороге с небольшими промежутками. А вверху было блекло-голубое знойное небо. Впереди висело предзакатное громадное солнце. По отполированной руками стрелке пулеметной турели скользил нестерпимо яркий солнечный блик.
Стрелок резко дернулся, закрутил головой. Самолет в это время как-то боком взмыл от земли, у Бабакина перехватило дыхание, и вдруг он близко-близко увидел внизу жуткую картину разгромленного эшелона: несколько вагонов были опрокинуты и горели, паровоз лежал на боку, и вокруг него, точно молочная лужа, растекался пар. В стороне от поезда бежали люди. Бабакин понял: это случилось только что. Он глянул на стрелка, а тот в это время, до белизны закусив губу, бешеными глазами смотрел вверх. Бабакин тоже посмотрел туда: в голубом небе три самолета с черными крестами на крыльях один за другим пикировали к земле. Он ясно увидел, как из-под брюха первого самолета отделились и точно растаяли в воздухе черные сигары. Взрывов бомб он не видел и не слышал. Эшелон был уже где-то позади…
Теперь внизу был лес, над которым они летели так низко, что Бабакин видел качающиеся верхушки деревьев. Его начало подташнивать. Чтобы отвлечься, он стал думать о деле, которое ждало его там, впереди. Еще раз мысленно он повторял версию своей выдуманной судьбы. Но на этот раз привычное повторение легенды происходило по-иному: почему-то сознание все время рядом с выдуманным ставило то, что было в его реальной жизни. И так это выдуманное не сходилось с настоящим, что Бабакин вдруг со страхом подумал, что уверенно жить с этой выдуманной биографией он не сможет и сорвется… Подносчик на лесозаводе. Сослан на Колыму. Работал сторожем в леспромхозе. Унаследовал дом с садом и огородом. А теперь будет заниматься частной торговлей в оккупированном немцами городе. Сплошная муть. А на самом деле его жизнь – простая, ясная: завод, комсомол, армия, учеба… По неисповедимому движению памяти вдруг перед его мысленным взором возникало давнее-давнее – ночевка на жигулевских скалах, высоко над Волгой. Это было в туристском походе в студенческие времена. Давно это было, а припомнилось так ясно, будто было это вчера. В каменной пещере бушует костер. Они сидят поодаль на обомшелых валунах, и кто-то заводит разговор о том, что, может быть, у этой самой пещеры вот так же сидели у костра, поджидая купеческие корабли, лихие волжские разбойнички. Генька Сугробов сказал с печальной миной: «Все погубила цивилизация. Даже разбойничков». А Таня Зиборова рассмеялась и сказала: «Да поглядите вы на себя, разве из вас получились бы разбойники? Да у вас храбрости хватает только на то, чтобы, не готовясь, идти сдавать диамат…»
И тогда он, Бабакин, обиделся и сказал: «Храбрость человека – это не его нос, который всем сразу виден». Кто-то неожиданно заговорил о Чапаеве. Что вот-де простецкий мужичок, многого не понимал, культурно говорить не мог, а стал легендарным героем народа. «Опять же героем его сделала война, – гнул свою линию Генька Сугробов. – И Павку Корчагина тоже. Она породила всех известных нам по литературе героев, включая сюда и артиллериста Тушина из „Войны и мира“. А вон Чехов о войне не писал, так у него все герои – хлюпики, мелкота разная». Возражая Геньке, он, Бабакин, назвал своего любимого героя – Рахметова. Разве он не мужественный человек? «Не война, так какая-нибудь борьба! – не сдавался Генька. – А ты назови мне хоть одну героическую личность, которая выявилась, так сказать, на ровном месте жизни…» И он ничего ответить Геньке не смог…
Самолет снова взмыл вверх, и воспоминания точно сдуло воздушным вихрем. Бабакин на мгновение увидел большой город, над которым в нескольких местах закручивались в небо столбы черного дыма.
Самолет резко накренился, и тут же его сильно затрясло: он уже катился по корявому зеленому полю.
К остановившемуся самолету подъехала облезлая «эмка», из которой вылез рослый парень в брезентовом плаще и высоких болотных сапогах.
– Вы Пантелеев? – спросил он Бабакина.
– Ну… да, – чуть запнувшись, ответил Бабакин.
– Я за вами. Садитесь.
Парень сел за руль, Бабакин – рядом, и «эмка» помчалась к городу.
– Как дела? – спросил Бабакин.
– Плохо. Ночью уходим в лес. Мы уже думали, вы не успеете…
Странно выглядел город. Тихий солнечный день, а на улицах ни единой живой души, будто это не настоящий город, а оставшиеся после спектакля декорации.
– Все ушли? – спросил Бабакин.
– Если бы! – парень сердито ударил кулаком по баранке. – Всех разве вывезешь за такой короткий срок? Немало таких, кто остался из-за барахла… А есть такие, кто надеется, что жить можно и при оккупантах. Есть, конечно, и просто сволочи.
Минуя центр города, машина свернула в тихую улочку и, поднимая клубы пыли, промчалась по ней к самой окраине города. Там она круто завернула в глухой переулок и вскоре въехала во двор дома, на стене которого Бабакин успел прочитать вывеску: «Автотракторосбыт».
Бабакин с парнем вошли в дом.
– Сюда, – парень показал на дверь с табличкой «Управляющий конторой».
В тесном кабинете возле стола сидели пятеро мужчин в штатской одежде. На полу лежали туго набитые вещевые мешки. В углу возле двери стояли винтовки.
– Пантелеев? – спросил мужчина с крупной седой головой. Это был секретарь обкома партии Лещук.
– Так точно, – ответил Бабакин. Он по фотографии знал, кто этот седой человек.
– У вас должна быть… – начал седой, но Бабакин уже протягивал ему клочок бумаги с условной запиской от подполковника Маркова.
Секретарь обкома прочитал записку, тщательно ее разорвал, ссыпал клочки в пепельницу и поджег спичкой.
– Ну вот, – сказал он, когда бумажки сгорели, – я – товарищ Алексей. А это – члены нашего теперь подпольного обкома. С ним вы уже знакомы? – товарищ Алексей показал на парня, который встречал Бабакина на аэродроме. – Товарищ Завгородний. Теперь – товарищ Павел. Он, как и вы, остается в городе. Договоритесь с ним о связи.
– До появления нашей группы мне приказано бездействовать, – сказал Бабакин.
– Я это знаю. Но на всякий случай о технике связи вы должны договориться… – Товарищ Алексей тяжело вздохнул. – Обстановка такова: передовые подразделения противника достигли поселка кожевенного завода на западной окраине города. Там они пока и сидят. Наверно, не верят, что мы оставили город без боя. Наиболее важные объекты взорваны. С темнотой все мы кроме товарища Завгороднего уйдем в лес. Когда думаете вступить во владение домом? – спросил товарищ Алексей, и в глазах его мелькнула искорка смеха.
– Сегодня же.
– Ну и живите на счастье. Все документы по наследованию вами дома, как условлено, в городском архиве. Комар носа не подточит…
– Спасибо.
– Как Москва? – помолчав, спросил товарищ Алексей.
Бабакин молчал, не зная, как коротко ответить на этот вопрос. Он вспомнил Москву, какой увидел ее последний раз несколько часов назад, когда мчался в машине на аэродром. Пронизанная солнцем, по-летнему пестрая, она показалась ему опасно не военной. Возле памятника Пушкину толпились девочки с яркими цветами. А на углу возле тележки, торгующей газированной водой, толстяк в белом чесучовом пиджаке, сдвинув на затылок соломенную шляпу, со смаком пил воду, и стакан в его руке излучал ярко-красный свет… Почему-то вспомнилось вот это, и Бабакин не очень уверенно произнес:
– Москва спокойна.
– Не слишком? – спросил товарищ Алексей, строго глядя в глаза Бабакину.
– Спокойна, если со стороны смотреть, – немного смутившись, пояснил Бабакин. – А вообще-то и в Москве все на войну повернуто. Москвичи валом идут в ополчение. Товарищ Алексей оценивающе оглядел Бабакина и сказал:
– Тут, глядите, поосторожней. Фрицы у вас будут рядом, а в Минске они уже показали себя.
– Волков бояться – в лес не ходить, – улыбнулся Бабакин.
– Ну, ну… – товарищ Алексей еще раз оценивающе посмотрел на Бабакина, потом – на часы. – Давайте-ка, товарищи, собираться.
С первой, еще неплотной темнотой они ушли. Бабакин и Завгородний в окно видели, как они пересекли улицу и один за другим исчезли в проломе забора.
– Кто бы мог подумать, что приведется такое… – вздохнул Завгородний. – Ну, ладно. Помоги мне сжигать мосты.
Два бидона бензина они разлили внутри дома. Остальные вынесли во двор и там облили стены всех построек. Один бидон Завгородний опорожнил в «эмку», на сиденья. Потом намочил бензином тряпку и вынул из кармана спички:
– Ну, давай. До свидания.
Бабакин вышел на улицу и направился к центру города. Он не дошел еще и до первого перекрестка, как за его спиной с ревом и треском к небу взметнулось сине-желтое пламя.
Глава 3
Разведывательный центр «Сатурн», нацеленный на Москву, был создан абвером уже перед самым нападением на Советский Союз.
Чем было вызвано создание этого специального центра? Ответить на этот вопрос нелегко: все связанное с абвером – германской военной разведкой – происходило в глубокой тайне. Шеф абвера Канарис не любил оставлять следов. Известно его изречение, что разведчик, заботящийся о своем архиве, – самоубийца. Все же кое-что можно понять, проследив события того времени, нашедшие отражение в документах или в мемуарах, на которые невероятно плодовитыми оказались недобитые гитлеровцы, в том числе и работники абвера.
Когда уже шла переброска дивизий к советским границам, состоялся разговор Гитлера с Канарисом «о русской проблеме». Этот разговор фигурирует в мемуарах, в переписке и даже в некоторых служебных документах. Упоминался он, в частности, и на Нюрнбергском процессе.
Что касается мемуаров, то изложение в них этого разговора находится в прямой зависимости от того, кем они написаны, с какой целью и где изданы. Так, в одном выпущенном в Мюнхене мемуарном сочинении автор его, упомянув об этом разговоре Гитлера с Канарисом, приходит к категорическому выводу, что, если бы Канарис не был изменником, этот разговор мог сделать совсем иным исход всей Русской кампании. Тут что ни слово, то дремучая глупость или злоумышленная ложь. Исход войны не зависит от разговоров. Уж что-что, а поговорить Гитлер умел… Наконец, если поверить этому запоздалому адвокату Гитлера, Канариса следует считать чуть ли не защитником интересов Советского Союза. Между тем Канарис был одним из наиболее опасных наших врагов. Он смертельно ненавидел нашу страну, фанатически желал ее разгрома, а поняв раньше других, что Советский Союз оказался Гитлеру не по зубам, он сделал все, что мог, для того, чтобы внушить нашим западным союзникам мысль не торопиться с реальной помощью СССР, а то и вообще отказаться от союзничества, вступив в войну на стороне Германии…
В Лондоне в свое время вышли мемуары, в которых не менее категорично утверждалось, что в вышеупомянутом разговоре Гитлера с Канарисом умный адмирал-де не мог в течение нескольких часов убедить Гитлера в том, что Россия – опасный противник. И снова ложь. Известно, что пущенное Гитлером в оборот выражение «Россия – колосс на глиняных ногах» принадлежит Канарису.
Ерунда! Никакого конфликта между Гитлером и Канарисом в ту пору и быть не могло. И тот и другой к Русской кампании приступали в ореоле славы покорителей Европы. Все казалось им легкодостижимым. И оба они были убеждены, что Россия – это колосс на глиняных ногах.
– Ударьте железной палкой по этим ногам сзади, а я сделаю все остальное…
Эта фраза Гитлера приводится в нескольких описаниях разговора, как и фраза Канариса о том, что в нужный момент самые опытные его люди окажутся за спиной Кремля.
Гитлер порекомендовал Канарису в России работать смело, уверенно и начисто отбросить разборчивость в методах.
– Если, действуя в Чехословакии, Норвегии и Польше, – сказал Гитлер, – нам еще приходилось помнить о традиционных симпатиях к этим странам лидеров англосаксов, то в России все допустимо, лишь бы свалить большевистский режим. И тогда те же западные лидеры своими руками наденут на нас ангельскую одежду.
Канарис с этим целиком согласился.
– Действуйте, адмирал! Бейте их наотмашь! Всаживайте им кинжал в спину! – быстро распаляясь, уже почти кричал Гитлер. – Все, что вы сделаете, заранее одобрено мной! Я вам полностью доверяю, и вашей груди не хватит для знаков доблести, которыми я вас увенчаю!
Канарис без слов благодарно склонил свою уже сильно поседевшую голову и только после пристойной моменту паузы заметил, что единственной трудностью, которую он видит в России, являются непостижимые размеры этой страны.
– Это не Норвегия, – сказал он, – которую можно между завтраком и обедом пересечь на дамском велосипеде.
В ответ он услышал небезопасное для него заявление Гитлера:
– Вы недооцениваете нашу нацию. Я хочу напомнить вам, что не кто иной, как русские, в войнах прошлого достигали не только Берлина, но и Парижа. И делали они это, когда не было ни танков, ни авиации, ни автомашин.
И, хотя Гитлер сказал это, криво улыбаясь одной правой стороной лица, Канарис счел за лучшее промолчать, преданно смотря фюреру в глаза…
И, наконец, всплыл еще один, для нас наиболее любопытный эпизод этого разговора. Канарис повел речь о трудностях с подбором агентов для работы в России. Все дело в языковой проблеме. О, эти неполноценные славянские языки! Ни один европеец не может научиться говорить по-русски без акцента… Гитлер не дал Канарису договорить, рывком встал и, пристукнув ладонью по столу, чеканя слова, произнес:
– Воспитанные мною немцы могут всё!
Канарис молчал. Он видел, что продолжать нормальный разговор с Гитлером уже нельзя, так как у него начиналось то состояние, которое сам Канарис через пару лет метко назовет «помешательством на самом себе».
– Вы, Канарис, оказывается, кое-что явно не понимаете, – все более наэлектризовываясь, говорил Гитлер. – У норвежцев был король, который являлся для них дублером Бога. У поляков были фанаберия, амбиция, национальный фанатизм и католичество. А мы одним щелчком развеяли все это в прах. А что у русских? Им и не снилась такая вера в государство, в вождя, которая одухотворяет всю новую историю великой Германии. В моих устах «я» – это и есть Германия! Ее настоящее и будущее! Провидение и немцы избрали меня своим вождем! Я обязан видеть дальше всех! Разве мне генералы не говорили, что с Польшей так гладко, как с чехами, не получится? Говорили! Польши не стало в несколько дней! Разве те же генералы не говорили мне, что во Франции мы завязнем? Говорили! На Францию мы потратили пару недель! Я знаю, что теперь малодушных теоретиков пугает план «Барбаросса». Они болтают о стратегии, подсчитывают русские дивизии. А мой расчет ясен и прост. Россия – миф двадцатого века! И этот миф развеет мой солдат, одухотворённый религиозной верой в меня и мою партию! Вы понимаете, Канарис, логику моих действий?
– Да, мой фюрер, – почтительно отозвался Канарис.
– Молниеносный удар и молниеносная победа, какой еще не видала история! – изрек Гитлер, рассекая рукой воздух.
Несколько секунд Гитлер, распрямив плечи и откинув назад голову, исступленными глазами смотрел прямо перед собой, и губы его нервно подрагивали. Потом плечи его сникли, и весь он точно погас и стал меньше.
– Я верю в вас, Канарис, – устало произнес он и сел в кресло.
– Спасибо, мой фюрер, – сказал Канарис и, пятясь, вышел из кабинета…
В последний месяц перед началом войны против Советского Союза в гитлеровском генеральном штабе почти ежедневно проводились так называемые контрольные советы, на которых проверялась готовность войск по отдельным деталям плана «Барбаросса». Обычно председательствовал на этих совещаниях начальник штаба Гальдер, а присутствовал цвет генералитета, командующие армиями и специальными ее службами.
Канарис присутствовал далеко не на всех заседаниях совета. Получив очередное приглашение, он поручал кому-нибудь из своих генералов позвонить от его имени Гальдеру и узнать, обязательно ли присутствие начальника абвера. Чаще всего следовал ответ: «Если у адмирала найдется время, я рад буду его видеть». Это означало: можно не являться. Канарис вообще не любил бывать среди генералитета. Слишком много он знал об иных генералах такого, что не мог не раздражаться, видя их лицемерное подхалимство перед Гитлером. В свою очередь, эти генералы знали, что Канарису известно о них многое, и присутствие шефа военной разведки им тоже не доставляло удовольствия.
На этот раз сам Гальдер позвонил Канарису, когда тот еще находился дома, и попросил обязательно присутствовать на сегодняшнем совете.
– Что случилось? – с оттенком иронии спросил Канарис.
– Это не по телефону, – сухо ответил Гальдер. – Я вас жду.
Канарис догадывался, зачем он понадобился. Робеющие перед надвигающимися событиями генералы хотят, чтобы абвер положил им на стол данные, как и где без боев и без риска доехать до Москвы. Их явно не удовлетворяет его меморандум Гитлеру от 1 марта 1941 года. У Канариса были неофициальные сведения, что некоторые генералы, в частности только что назначенный одним из заместителей начальника штаба Паулюс, сомневается в достоверности данных меморандума о русских пограничных укреплениях и о возможностях советского железнодорожного транспорта. Не удовлетворены они и разделом меморандума о командном составе Красной армии. Во Франции-де абверу были известны абсолютно все командиры полков, а в России он не смог установить даже всех командующих армиями.
Словом, Канарис понимал, что у генералов есть достаточно претензий к данным военной разведки русского плацдарма, но, еще не выходя из дому, адмирал уже знал, как он всех их поставит на место…
Совет прямо с этого и начался – с критических замечаний по главному меморандуму абвера. И первым заскрипел как раз Паулюс. Он хотел абсолютно точно знать пропускную способность русских железных дорог на всех направлениях и отдельных участках, а также количество подвижного состава и в особенности паровозов.
– Вашему предшественнику на посту квартирмейстера эти данные в свое время были представлены, – как всегда, ровным и будто усталым голосом ответил Канарис. – Принимая пост, мой генерал, надо знакомиться не только с креслом предшественника…
Так, один из игры выбит. Кто следующий?
Неудача Паулюса разозлила генералов. Претензии посыпались одна за другой. Один хотел «достоверно, а не приблизительно» знать, кто стоит против него по ту сторону Буга. Обычно тихий и, как думал Канарис, побаивающийся его генерал Клюге вдруг с желчью набросился на меморандум, назвал его любительским сочинением и требовал перепроверки всех данных по интересовавшему его направлению Брест – Москва. Представитель воздушных сил, сославшись на заинтересованность в этом самого Геринга, хотел иметь уточненные данные о всех базах горючего советской авиации. В заключение он под общий смех обратил внимание Канариса на то, что в той части меморандума, где даются характеристики советских военных самолетов, имеется феноменальное открытие: один из советских бомбардировщиков наделен скоростью, вдвое большей, чем у истребителя «мессершмитт». «За таким самолетом гоняться бесполезно, – иронически сказал авиационный генерал и после паузы добавил: – Ибо такого самолета нет в природе».
Канарис выслушал все это, как всегда, со спокойным и даже сонным видом, изредка делая пометки в блокноте. Наконец Гальдер предоставил ему слово.
Заглянув в блокнот, он заговорил тихо и внятно:
– С самолетом – явная опечатка, и я извиняюсь, что из-за этой глупой опечатки, понятной каждому фельдфебелю, представитель наших славных воздушных сил отнял время у столь важного собрания. – Канарис перевел взгляд своих черных маслянистых глаз на авиационного генерала. – Я недоумеваю только по поводу того, почему вы, заметив опечатку, не исправили ее, а ждали этого совещания. Неужели вас так волнует чисто эстрадный успех? – Канарис положил блокнот в карман и продолжал: – По-человечески я понимаю многие высказанные здесь претензии. Конечно же всем вам хочется знать о противнике как можно больше, но есть, однако, объективно существующий предел возможностей разведки и соответственно должен быть предел требовательности к нам. Пример в этом отношении показывает фюрер. На меморандуме, о котором здесь шла речь, он написал, конечно, приятную для меня, почему я ее и помню дословно, резолюцию. В ней всего три слова: «Великолепная, обнадеживающая картина…»
Гальдер понял, чем грозит создавшаяся ситуация, и сказал примирительно, что никто здесь меморандум не дезавуирует и речь идет только о каких-то отдельных деталях.
Канарис, не повышая голоса и не торопясь, верный своей будто бы сонной манере, сказал:
– Я не вижу никакой разницы в том, сказать ли, что меморандум негоден полностью, или сказать то же самое о каждой его странице в отдельности. Дальше. Я почему-то не вижу у вас в руках дополнительных к сводке тетрадей: синюю, зеленую и черную, в которых мы дали уточненные и новые данные по многим разделам… – Канарис прекрасно знал, где эти тетради: они лежали в сейфе у Гитлера, и он их попросту не захотел читать, сказав, что меморандум его полностью устраивает…
Совещание сразу закрылось, и Канарис еще раз убедился, что сегодня единственной задачей совета было дать бой абверу. Ни с кем не прощаясь, он покинул зал и уехал к себе. Он был взбешен: болваны! Но он не мальчик, которого легко поставить в угол…
Канарис приказал секретарю переключить телефон на себя и в течение часа никого к нему не пускать. Близкие к адмиралу люди дали ему дружеское прозвище Кикер, что означает – подсматривающий. Когда он вот так, как сейчас, уединялся в своем кабинете, секретарь всем посторонним говорил, что адмирала нет, а приближенным с почтительной улыбкой доверительно шептал: «Он подсматривает за собой».
Сегодняшний совет заставил адмирала вернуться к раздумьям, которым последнее время он уделял немало времени. Его занимала и тревожила мысль о том, как будет выглядеть абвер и он, Канарис, когда начнется русский поход и если, не дай бог, он развернется совсем не так успешно, как рассчитывает фюрер. Гитлер беспощадно расправляется с теми, кого он выбирает в качестве виновников неудач. Во время большой войны ссориться с генералитетом Гитлер не решится. Он будет искать виновных в другом месте, и абвер может оказаться тем самым местом, тем более что будет весьма логичным обвинить в неудачах разведку, которая-де не обеспечила доблестную германскую армию исчерпывающей информацией и заставила ее драться вслепую…
Канарис поежился. Нет, нет, покорно ждать такой ситуации он не намерен. Прежде всего нужно продумать работу абвера с того момента, как начнется поход в Россию. Надо при любых обстоятельствах застраховать себя от неприятностей…
«Подсматривание за собой» затянулось. Адмирал «отсутствовал» более двух часов. И в результате родился приказ о создании на центральном направлении фронта специального разведывательного центра под названием «Сатурн».
Собрав узкий круг руководящих работников абвера, Канарис зачитал им приказ и объяснил, чем вызвано создание «Сатурна». Разумеется, он не говорил, что «Сатурн» для абвера и для него лично – нечто вроде громоотвода на случай грозы. Цель «Сатурна» он изложил так:
– Эта начинаемая фюрером кампания – самая важная, ибо она завершает выполнение гениального плана создания великой Германии – владычицы Европы и Азии… – начал Канарис свою речь без тени пафоса, не изменяя своему обычному стилю – обо всем говорить тихо и спокойно. – Победа на Восточном фронте должна быть решена молниеносным рывком армий от Бреста до Москвы. Но не забудем, что в России мы сталкиваемся с фактором колоссальных расстояний. Это требует от нас нового построения нашей работы. Именно для этого мы вслед за бронированным кулаком армии выставляем и наш кулак. Главная цель «Сатурна», естественно, – Москва. Мы нашпигуем большевистскую столицу разведывательной и диверсионной агентурой, поможем этим нашей доблестной армии, а в нужный час нанесем решающий удар в спину Кремлю… «Сатурн» – это не просто группа наших работников, приближенных к фронту. «Сатурн» – это весь наш абвер, только сконцентрированный на это время в наиболее выгодной для нас точке. В «Сатурне» в точности повторится вся наша структура. И если во главе «Сатурна» я ставлю лучших своих работников Зомбаха и Мюллера, это вовсе не означает, будто я хочу взвалить на них все дело по России. Отнюдь нет. Больше того, я им не завидую, – Канарис с улыбкой посмотрел на Зомбаха, потом на Мюллера, – да, друзья, не завидую, ибо в вас я буду видеть себя, а вы знаете, как безжалостно требователен я к себе и к своей работе. Ведь отныне и на ближайшее время слава нашего абвера будет создаваться там. Только там. – Канарис помолчал, как будто дожидаясь ответа, и продолжал: – Однако это совсем не значит, что весь «Сатурн» сможет скрыться за моей спиной. Мой выбор потому и пал на Зомбаха и Мюллера, что я знаю их как талантливых, умных, гибких и оперативных работников разведки и контрразведки. Их инициатива неистощима, мешки с новыми и смелыми их идеями все мы не раз тащили на своих спинах… – Канарис тихо рассмеялся и подмигнул Зомбаху. – Не обижайтесь, дорогой, я говорю это, любя вас и безгранично в вас веря. И прошу вас завтра же дать мне соображения о комплектовании аппарата «Сатурна». Не стесняйтесь, берите себе лучших…
Зомбах молча кивнул головой, лицо его не выражало ни радости, ни огорчения. Не зря про него говорили, что у него лицо из камня, а глаза из стекла.
Идею создания «Сатурна» горячо поддержали начальники всех отделов абвера. О! Они прекрасно разгадали тайный смысл создания «Сатурна» и были искренне благодарны своему шефу; они понимали, что действие громоотвода распространится и на них. Они называли создание «Сатурна» блестящим ходом в стиле стратегии и тактики самого фюрера.
Но не таков был Пауль Зомбах, уже давно славящийся своим холодным аналитическим умом. Он совсем не торопился восторженно говорить о порученном ему новом детище абвера. Зомбах был одним из наиболее доверенных людей Канариса, искренне преклонялся перед его умом и талантом, и поэтому, если он и понимал, что за созданием «Сатурна» кроется хитрость, он рассуждал так: «Если Вильгельму это надо, я обязан это взять на себя…» Единственное, что его сейчас обижало, – это то, что Канарис не поговорил с ним об этом предварительно.
Поблагодарив за доверие, Зомбах заговорил языком далеко видящего практика, для которого любое новое дело сразу же представляется в реальном своем виде.
– Что касается наших профессиональных кадров, – сказал он, – то я еще сегодня представлю список необходимых мне сотрудников. Но меня тревожит проблема агентуры, которую мы должны будем засылать в советский тыл. Я и до этого, как вы знаете, занимался этим делом. Положение здесь у нас не из лучших. Агенты русской национальности, которыми мы располагаем в данный момент, представляют собой нечто вроде пассажиров Ноева ковчега, и вдобавок нет никакой возможности установить, какая пара чистая, а какая – нечистая. Агенты из среды старой русской эмиграции и из молодого ее поколения – это трусливый, развращенный Европой сброд. За деньги готовы на все, а умения – ноль. Кроме того, они не знают современной России. То, что мы получили от Маннергейма из контингента пленных Финско-русской войны, – товар более хороший, но его мало. Это означает, что главное, решающее поступление этих кадров следует связывать с началом кампании, когда у нас появятся пленные и коренные русские. Армия должна получить авторитетнейший приказ о работе на нас в этом направлении. Значение дела столь огромно, что я нахожу желательным вмешательство самого фюрера.
Канарис слушал Зомбаха, прикрыв глаза чуть вспухшими веками. Конечно же Зомбах правильно ухватился за главное и самое трудное. Но чем он мог здесь помочь ему? Гитлер, когда он попытался разъяснить ему эту проблему, или ничего не понял, или не захотел этим делом заниматься. Таким образом, вмешательство Гитлера, о котором мечтал Зомбах, исключалось. Приказ подпишет армейское начальство, напишут его с кучей оговорок, и неповоротливая военная машина будет выполнять его спустя рукава. Однако другого выхода нет…
Но полковник Зомбах говорил не только о кадрах. Он стал выкладывать свои критические соображения и по другим не менее важным вопросам. Канарис почувствовал, что выступление полковника может косвенно дискредитировать самую идею создания «Сатурна», и закрыл совещание, сказав Зомбаху, что все остальные вопросы будут им решены в оперативном порядке.
Они остались вдвоем, сели в кресла и молча смотрели друг другу в глаза. Для обоих это молчание было и красноречивым и взаимопонятным. Если не считать того, что Зомбаху не было по силам ни раньше, ни теперь разгадать темную душу своего шефа.
– Поговорить с вами предварительно у меня не было минуты, – тихо сказал Канарис.
– С Мюллером говорили? – спросил Зомбах.
– Нет. Кстати, следует объяснить, почему я его назначил. При всем том, что нам о нем известно, у него все же есть и достоинства. Он умен, цепок, любит нашу работу. А то, что вторым работником «Сатурна» я сделал человека, пришедшего к нам из дебрей Гиммлера, тактически необходимо. Ревность Гиммлера к нашему абверу прямо пропорциональна нашим успехам. Так пусть в наших успехах участвует его человек.
– Он что, до сих пор их человек? – удивился Зомбах. – Он же работает с нами уже несколько лет.
– Из гестапо никто не может уйти совсем, – улыбнулся Канарис.
– Тогда на какого черта мне эти глаза и уши Гиммлера? – разозлился Зомбах.
– Чтобы вы делали поменьше ошибок, радующих Гиммлера, – продолжая улыбаться, ответил Канарис. – Кроме того, Мюллер – большой специалист по диверсиям, и в этом качестве он хорошо дополнит вас, поэта разведки. Разговаривая со мной в отношении Москвы, Гитлер особенно нажимал на диверсионную деятельность. Помните это всегда…
Некоторое время они молчали. Потом Зомбах спросил:
– Фюрер подпишет приказ о работе армии для нас?
– Нет. Он этой проблемой попросту не хочет заниматься. Не беспокойтесь, за этой стороной дела я буду следить сам. И вообще мое заявление, что я всегда буду рядом с вами, – это не слова.
Глава 4
Самолет взлетал в абсолютной темноте душной летней ночи. Когда он стал делать разбег, на каких-нибудь десять-пятнадцать секунд вдоль взлетной полосы зажглись оградительные багровые огоньки. В момент отрыва самолета от земли огоньки погасли, и с ними исчезло всякое ощущение полета. Внизу была глухо затемненная Москва, сверху – черное небо. И только когда самолет, круто набирая высоту, пробил два слоя облаков, вверху засветились редкие бледные звезды. Рудин смотрел на них, прижавшись лицом к стеклу. Тусклая лампочка над дверью в кабину летчиков чуть освещала внутренность самолета. Смутными белыми пятнами виделись лица только тех, кто находился ближе к двери. Кравцов сидел, привалившись спиной к парашюту, и, закинув вверх голову, как будто спал. Его круглое, обычно добродушное и простецкое лицо сейчас было сердитым и напряженным. Если он спал, то видел явно неприятный сон. Рядом с ним, зажав руки между колен и подавшись вперед всем телом, сидела Галя Громова. Ее отсутствующий взгляд был устремлен в пол самолета. Губы ее шевелились. Она тренировалась по кодам. Сидевший напротив нее Савушкин смотрел на нее с улыбкой: вот дотошная дивчина, даже в самолете зубрит свои коды! Сидевший в хвосте самолета Добрынин с интересом рассматривал крепления своего парашюта.
Марков в это время находился в кабине летчиков. Привалившись нагрудным парашютом к спинке пилотского кресла, он через плечо летчика смотрел на карту, расстеленную на коленях штурмана. Зеленую курчавину Лиговинских болот он так часто и подолгу рассматривал на разных картах, что она всегда стояла у него перед глазами. По силуэту болото было похоже на Апеннинский полуостров. Возле этого болота они и спрыгнут. Там их должны ждать возглавляемые старшиной Будницким бойцы из воинской части НКВД, сброшенные несколько дней назад…
Ни в одной дислокации партизанских сил Лиговинские болота не значились, хотя они представляли собой довольно удобное место для партизанской базы, во всяком случае, летом. Болотный массив, заросший густым кустарником, тянулся в длину почти на пятнадцать километров и в ширину – на шесть. В центре массива находился маленький островок сухой земли, добраться до которого, не зная опасных охотничьих троп, было невозможно. Недаром в округе это болото прозвали лешачьим морем. Забредет сюда отбившаяся от стада корова – и пиши пропало. Рассказывали, что в зыбкой трясине болота погибали и люди.
– Что будем делать, если не увидим костров? – прокричал Марков летчику.
– Уйдем обратно, – крикнул летчик и добавил: – Увидим!
– Приближаемся к фронту! – штурман показал вперед и вниз.
Марков выпрямился и увидел глубоко-глубоко внизу багровые вспышки. Справа кучкой огня виднелся большой пожар. Вдруг все там, внизу, исчезло. Марков вопросительно посмотрел на штурмана.
– Слава богу, опять облачность! – прокричал штурман, улыбаясь.
Прошел еще час полета, и летчик показал Маркову на карту.
– Порядок! Впереди слева костры! – крикнул летчик. – Идите готовьтесь, я пошел на круг…
Бортмеханик снял дверь с петель, и вся оперативная группа выстроилась в очередь у дверного отверстия. Первой у черной свистящей дыры стояла Галя Громова. Марков приказал ей прыгать первой не только потому, что она лучше всех знала парашютное дело; он считал, что пример девушки хорошо подействует на всех остальных. Сам он прыгнет последним, а затем люди экипажа самолета сбросят груз.
Зажглась и быстро-быстро замигала сигнальная лампочка.
– Пошли! – крикнул Марков и махнул рукой сверху вниз.
Галя шагнула в черную дыру. За ней – Савушкин, Кравцов, Рудин, Добрынин.
Марков несколько задержал раскрытие парашюта, рассчитывая, что это поможет ему оказаться ближе к своим людям, но, когда парашют раскрылся и он огляделся, оказалось, что он опускается значительно правее костров. Он знал, что в районе приземления по предболотью разбросаны жерди и ветви кустарника на тот случай, если парашютист попадет в места, где есть опасная трясина. Все же мысль о том, что он может оказаться в болоте, встревожила Маркова. Но расчет летчиков оказался верным, и вскоре Марков заметил, что его относит все левее и левее – прямо к кострам. Еще левей себя он увидел силуэты двух парашютных куполов. Костры были уже совсем близко. В отсвете одного из них Марков увидел пробежавшего человека. «Внимание, земля!» – приказал себе Марков и, как исправный парашютист-новичок, соединил ноги и чуть согнул их для того, чтобы удар о землю был пружинным.
Ноги Маркова выше колен вонзились в мягкую землю.
Согласно инструкции он завалился на бок, и это чуть не обошлось ему очень дорого, он мог сломать обе ноги – таким вязким и цепким было болото. Его спасло только то, что одновременно парашют протащило вперед порывом ветра и он выдернул Маркова из болота.
Отцепив парашют, Марков вынул из кармана фонарик с зеленым стеклом, зажег и начал размахивать им над головой. Перед ним точно из-под земли вырос низкорослый коренастый человек в кепке, нахлобученной козырьком назад. Это был Будницкий – командир группы сброшенных ранее бойцов. Вскоре подбежали еще несколько человек. Как и участники группы Маркова, все они были в штатской одежде.
– Потушить костры! – приказал Марков. Будницкий побежал выполнять приказание, а Марков, осторожно нащупывая ногами землю, пошел за ним на звучавшие в темноте голоса. Вскоре он наткнулся на Рудина, который сидел возле куста и складывал парашют.
– Как дела? – тихо спросил у него Марков.
– Отлично! – весело отозвался Рудин.
– Где остальные?
– Да тут где-нибудь. Кравцов шел левее меня.
Опять словно из-под земли вынырнул Будницкий.
– Костры потушены, – доложил он. – Двое ваших товарищей вон там, с моими людьми.
– А еще один?
– Ищем. Груз уже найден.
Будницкий исчез.
К Маркову подошли Савушкин и Добрынин. Минут через десять объявился Кравцов. Не было только Гали Громовой. Ее обнаружили только перед самым рассветом…
Прыгнув первой, Галя решила сделать большую затяжку, чтобы оказаться значительно ниже своих товарищей и наблюдать за их снижением. Из-за этого она приземлилась довольно далеко от костров и попала в глубокий бочаг. Вода по грудь, ноги завязли в вязком илистом дне. И неизвестно, чем бы это кончилось, если бы не предусмотрительный Будницкий. Его люди и в этот бочаг бросили жердину. С ее помощью Галя выбралась из ямы, но сама идти искать товарищей не решилась: сидела около ямы и ждала.
Ее нашли солдаты Будницкого. Так как они были в штатском и Галя их не знала, она, услышав их голоса, спряталась в куст ольшаника и долго оттуда наблюдала за ними, пока не убедилась, что это свои.
Подойдя к Маркову, Галя отрапортовала:
– Радист Громова явилась на место сбора группы.
– Что случилось? – строго спросил Марков.
– Проявила ненужную инициативу, сделала большую затяжку, чтобы лучше видеть снижение товарищей; приземлилась далеко от расчетного места и угодила в яму.
– Так… – тихо произнес Марков, не зная, ругать или хвалить девушку. Но тут он разглядел, что вся одежда на Гале мокрая, и принялся совсем по-домашнему отчитывать ее: – Как же это вы, честное слово! Ведь можете простудиться, слечь! Шевелитесь, что ли, бегайте, чтобы не застыть. Надо скорей идти.
Группа шла к острову цепочкой. Впереди – Будницкий, за ним – Марков. Замыкали шествие солдаты, которые тащили сделанную из еловых веток волокушу с нагруженным на нее снаряжением.
– Вот и наш остров, – сказал Будницкий.
Все остановились и с удивлением обнаружили, что под ногами у них действительно твердая, хотя и не совсем сухая земля.
– Зимой тут будет довольно голо, – оглядевшись, сказал Марков.
– Мы тоже думали об этом, – согласился Будницкий и, показав рукой вперед, добавил: – Вот там, километрах в семи, есть лесок. Грунт там, правда, влажный, но я рассчитываю, что к зиме, когда земля подмерзнет, мы там приготовим базу.
– Посмотрим. Где землянки?
– Главная – перед вами, – ответил Будницкий, лукаво смотря на Маркова.
Только приглядевшись, Марков заметил, что под густой кустарник в глубь земли уходят ступени.
Просто непонятно было, как Будницкий и его люди за такой короткий срок смогли построить эту подземную трехкомнатную квартиру! В узком коридоре справа и слева были входы в просторную главную штабную землянку и в две поменьше, оборудованные для жилья. Для радистки в главной землянке был сделан специальный закуток, задернутый плащ-палаткой. Кроме общего выхода каждое помещение имело свой выход на поверхность.
Осматривая это добротное и прочно сделанное подземное жилье, Марков понимал, чего стоила людям Будницкого эта работа, и хотел его поблагодарить, но комендант острова уже исчез. Выйдя на поверхность, Марков увидел его, одиноко стоящего на полянке. Склонив голову набок, он перочинным ножичком обстругивал палку. Уже поднявшееся солнце освещало его лицо, серое от усталости. Услышав шаги Маркова, Будницкий вздрогнул, обернулся, отшвырнул палочку и сделал привычное движение, чтобы одернуть гимнастерку, но вместо военной формы на нем был тесный пиджачок и кепка козырьком назад. Быстрым движением он перевернул кепку и смущенно улыбнулся.
– Хочу сказать вам спасибо за вашу отличную работу, – сказал Марков. Сжимая руку коменданта, он почувствовал, что его ладонь в горбылях мозолей. – Я знаю, как нелегко было сделать эти землянки, да еще так быстро. Спасибо.
– Да это ж мои бойцы, товарищ подполковник. Орлы!
– Всем им передайте мою благодарность.
– Есть передать благодарность! – Будницкий метнул руку к козырьку, но, вспомнив, что на голове у него кепка, сделал какое-то неопределенное движение рукой и вдруг сердито сказал: – Не могу, товарищ подполковник, к форме этой привыкнуть.
– Ничего, привыкнете… – улыбнулся Марков и вспомнил, как, характеризуя Будницкого, его командир сказал: «Он из тех, кто из двух палок может мост построить и одной пулей семерых убить».
– Я вот стою сейчас и думаю… – между тем заговорил Будницкий, чуть окая по-владимирски. – С одной стороны, красота тут какая, а с другой, вы правы, зимой произойдет полное оголение местности, или, точнее сказать, демаскировка. А вдруг там, в леске, на глубине залегания землянок почвенная вода зимой не промерзает?
– Ладно, не ломайте пока над этим голову, – сказал Марков. – Обживемся, а потом вместе решим, как поступить.
– Но и оттягивать не дело, товарищ подполковник. Сани надо готовить летом.
– Обдумаем это немного погодя. Вас тут никто не беспокоил?
– Только комары, товарищ подполковник, – засмеялся Будницкий. – Ну до того лютые, прямо гестаповцы, а не насекомые! Из-за них мы работали только днем и ночью.
– А отдыхали когда?
– А как комары на работу выйдут, мы под кусты и спать.
– Люди здоровы?
– Чего им сделается? Тут же не война, а санаторий.
– А где вы живете?
– Мы по краю острова отрыли восемь блиндажиков из расчета на четыре человека каждый. Так сказать, и жилье и ближняя круговая оборона.
– Когда же вы все это успели?
– Приказ, товарищ подполковник.
– Дайте своим людям трое суток полного отдыха и сами тоже отдохните как следует.
Будницкий молчал.
– Вы слышали, что я сказал? – строго спросил Марков.
– Слышал, товарищ подполковник, – скучным голосом ответил Будницкий. – А только сегодня половина моих бойцов тропы зубрит. – Увидев на лице Маркова недоумение, комендант пояснил: – Они с проводником заучивают все подходы к острову. Между прочим, мои бойцы все спрашивают, когда на операции пойдем.
– Придет срок – пойдете, – сухо ответил Марков, сердясь на себя за то, что не может найти правильный тон разговора с комендантом.
– Нам ведь теперь вроде и делать нечего, а кругом – война, – продолжал Будницкий.
– Всем дела хватит, комендант, еще чуру запросите. А пока все же отдыхайте, комендант, – засмеялся Марков и пошел к землянке…
Глава 5
Начали действовать бойцы Будницкого. Нагрузившись взрывчаткой, они группами уходили с базы на несколько дней, а иногда и на целую неделю. Цель этих рейдов – дальняя разведка местности и диверсии, отвлекающие и дезориентирующие противника. В группу входили два-три подрывника, остальные бойцы прикрывали их во время диверсий. Уход с базы и возвращение планировались так, чтобы гитлеровцам абсолютно не было понятно, откуда эти люди появляются и куда исчезают. За этой особенностью операций Будницкий следил с беспощадной требовательностью и каждый раз придумывал хитрейшие схемы передвижения своих групп. Он с самого начала показал себя незаурядным, врожденным, что ли, тактиком борьбы в тылу врага. У него невесть откуда появилась толстая бухгалтерская книга, в которую записывались все боевые дела: взорванные мосты, пущенные под откос эшелоны, уничтоженные гитлеровцы. И особо: как был проведен уход с базы и возвращение. Возвращавшихся после операции бойцов, несмотря на то, что это происходило, как правило, ночью, встречало все население острова. Расспросам и рассказам не было конца. И конечно же в рассказах бойцов частенько факты приукрашивались воображением. Но Будницкий этому не мешал. Он считал, что на первых порах такие, как он говорил, «вольные рапорты» даже полезны: слушая их, люди убеждались, что враг не так страшен, как сначала казалось. Однако, дав своим бойцам высказаться, Будницкий звал к себе старшего по группе и, раскрыв перед ним свой гроссбух, говорил:
– Теперь запиши точно и без всякого трёпа…
Начали разведку обстановки и люди из группы Маркова.
Первым в такую разведку отправился Савушкин. Вместе с тремя бойцами Будницкого он покинул базу перед вечером. За ночь они сделали почти тридцать километров и к утру вышли к железной дороге. По ту сторону дороги виднелся большой поселок, тянувшийся вдоль берега реки. Бойцы остались у дороги, а Савушкин направился в поселок. Он шел в открытую, хотя в кармане у него был документ не очень-то надежный, – это была рукописная справка, свидетельствовавшая, что обладатель ее работает санитаром при немецком госпитале в Барановичах и отпущен на десять дней для розыска семьи.
Савушкин шел не торопясь, успевая заметить все: и одинокую фигуру женщины, рывшейся в земле на картофельном поле, и ребятишек, бегавших возле разрушенной церкви, и сутулого мужчину, перешедшего от дома к дому на окраине поселка, и даже жаворонка, висевшего над нескошенным лугом.
На окраине поселка Савушкин пучком травы обстоятельно обтер сапоги, выколотил о колено пыль из кепки и только тогда вошел на пустынную улицу. Мужчина, несколько раньше перешедший от дома к дому, стоял в тени дерева и смотрел на Савушкина. Поравнявшись с ним, Савушкин пошел прямо к нему.
– Здорово, земляк! – приветливо сказал он.
– Здравствуйте, – осторожно ответил мужчина, смотря на Савушкина.
– Не скажешь ли мне, часом, много у вас тут осело народу из тех, что от войны бежали?
– Не считал, – угрюмо ответил мужчина.
– Мне не счет нужен, – печально и укоризненно сказал Савушкин. – Я свою родню разыскиваю.
– А другой заботы, как искать ветра в поле, у тебя нет?
– Жена пропала, двое ребятишек… понимать надо, – тоскливо сказал Савушкин. – В начале войны они снялись из-под Минска, по моему разумению, дальше этих мест они уйти не могли.
– Жена пропала… – повторил мужчина. – У людей все пропало, и то не ищут.
Они молчали.
– Немцы-то в поселке есть? – небрежно спросил Савушкин.
– Чистых немцев нет, а холуев ихних сколько хочешь. Вон легок на помине. – Мужчина показал на высокого усатого богатыря, вышедшего на крыльцо соседнего дома. – Наш старший полицай господин Ферапонтов.
– Он-то небось знает всех, кто у вас осел? – спросил Савушкин.
– Этот все знает, – усмехнулся мужчина.
Савушкин направился к полицаю, продолжавшему стоять на высоком крыльце. Но вот он повернулся и перевел взгляд на приближавшегося к нему Савушкина.
– Здравствуйте! – еще издали громко и подобострастно произнес Савушкин.
– Ну, ну, а что дальше? – спросил Ферапонтов и положил руку на кобуру нагана.
Савушкин рассказал, что привело его в поселок.
– Бумага у тебя есть? – низким, басовитым голосом спросил Ферапонтов.
– А как же, вот! – Савушкин протянул ему свою справку.
Ферапонтов внимательно ее прочитал, сложил и отдал.
– Зайди в хату, – сказал он и, посторонясь, пропустил Савушкина мимо себя.
Они сели к столу. Больше никого в просторной светлой хате не было. Очевидно, вечером здесь происходила попойка: на полу и на лавках валялись пустые бутылки, на столе на смятой немецкой газете – остатки еды. От Ферапонтова несло кислым перегаром.
– Тэк-с… – сказал он, положив на стол узловатые руки с черными ногтями. – Так ты, значит, прешь от самых Барановичей?
– Ну да! Где пешком, где подвезут. – Савушкин помолчал и добавил со вздохом: – Ребятишек жалко.
Ферапонтов хмыкнул.
– Жалость теперь не в моде. А только с двумя ребятишками у нас никого нет. Это я тебе официально говорю, я тут каждую собаку знаю, а собаки знают меня, – Ферапонтов рассмеялся, и Савушкин понял, что он пьяный: или с ночи не протрезвился, или опохмелился недавно. – А у тебя ряшка гладкая, при госпитале, видать, жить можно, – продолжал Ферапонтов добродушно.
– На харчи жаловаться нельзя. Потому я и семью стал разыскивать. Мог бы легко ее прокормить, а это теперь самое главное.
– А деньги платят?
– Какие деньги? Да и на кой они мне, что на них купишь? – жалостно сказал Савушкин, а Ферапонтов продолжал басовито:
– Как поглядишь – прижимистый народ эти фрицы, копейки человеку зря не заплатят. Нам, полицаям, положили жалованье – смех один. И прямо объяснили: у вас, мол, есть много возможностей для заработка. Понял, куда указуют? Ну, мы, конечно, и не теряемся. Я вот домину себе отхватил. Тут, брат, жил сам председатель исполкома. Пожил, и хватит, дай другим пожить… – Он снова рассмеялся. – Hу а как в ваших краях, спокойно?
– А какое же может быть беспокойство? Немцев набито там, как сельдей в бочке. Одних госпиталей в Барановичах четыре штуки, потом штабы всякие, канцелярии. Каждый день в саду музыка играет, кино крутят.
– Вон как! – удивленно сказал Ферапонтов и доверительно наклонился к Савушкину. – А у нас тут начинают кино крутить партизаны, понял?
– У нас не слышно, – в тон ему сказал Савушкин.
– А у нас, брат, и слышно и видно. – Он еще ближе придвинулся к Савушкину и обдал его таким ядреным перегаром, что противно стало дышать. А полицай, как видно, находился в том состоянии опьянения, когда ему требовался слушатель для его пьяных разглагольствований. Ну что ж, лучшего слушателя, чем Савушкин, ему не найти. Ферапонтов положил свою тяжелую лапу на плечо Савушкина и продолжал: – Да… Третьего дня мост на шоссе начисто снесли. Давеча эшелон с бензоцистернами опрокинули и зажгли. Во кино было! За десять верст видно. Ну и народ сразу, точно его подменили. Вчера вечером у одной вдовицы телка забирали, так она такие угрозы начала орать, что пришлось ее приложить к земле-матушке. Или вот сосед мой, Малахов, ты к нему, я видел, подходил. Он же спит и во сне на меня зубами щелкает. Мы у него и мотоцикл забрали и мебелишку вытряхнули. А главное, он тут при славе состоял, вкалывал по-стахановски на дороге. А теперь нуль с палочкой. Оттого у него и злость. Ну, ничего, ничего, или он смирится, или фрицы до него доберутся.
– В этом роде у нас работа почище, – шепотом, тоже доверительно сказал ему Савушкин. – В госпитале добра своим не делаешь, но и зла им тоже не творишь.
– Какие они мне свои? – вдруг вскипел Ферапонтов. – Я через этих своих два раза небо через решетку разглядывал. Что мне, за это добром им платить, что ли? – выкрикнул он и сразу сник, запустил руку куда-то под лавку и, как фокусник, вытащил оттуда бутылку водки. – Не хочешь?
– Как не хотеть… – улыбнулся Савушкин, разглядывая бутылку. – Смотри, московская! С начала войны не видел.
– Ее не глядеть надо, – сказал Ферапонтов, наливая водку в захватанный руками граненый стакан. – Пей, я уже опохмелился.
Савушкин выпил, закусил огрызком сала и подумал, что он первый раз в жизни выдул сразу почти целый стакан водки. По телу разливалось тепло, в голове зашумело.
– Нелегко с отвычки, – сказал он, виновато улыбаясь, и взял со стола еще кусок сала и ломоть хлеба.
– Вообще с этих мест лучше подаваться туда, к вам, от фронта подальше, – говорил Ферапонтов. – Значит, у вас там, говоришь, спокойно?
– Вполне.
– Вот погляжу, как дальше будет, и, если увижу, что фрицы порядок сделать не могут, подамся до ваших мест. Поможешь с работой?
– А чего ж не помочь по-земляцки?
– Где там искать тебя?
– Спросишь госпиталь номер три, и все. А там меня всякий знает. Спроси Егора, и сразу укажут. Ну, спасибо за приют и угощение. Пойду дальше искать. – Савушкин встал.
– Иди, коли хочешь, а только зазря ноги натружаешь. Разве ж можно сообразить, куда твоих забросило в этом коловороте? – Ферапонтов поднялся и протянул Савушкину свою ручищу. – Но раз надумал – иди…
– Пройду за Борисов немного и ворочусь, – сказал Савушкин. – До свидания, коли не шутил про переезд.
– Тут, брат, не до шуток… – запустив руку в кудлатые волосы, мрачно сказал Ферапонтов. – Фрицы хитрюги, дорогу они берегут, а мы – берегись как хочешь. А нас-то, полицаев, трое на весь поселок. Вот и соображай, какие тут могут случиться штуки…
Савушкин вышел из поселка и зашагал обратно к железной дороге. «Можно было без шума прикончить гада», – подумал он. Но приказ Маркова безоговорочно запрещал подобные действия.
Перейдя через полотно, Савушкин вскоре сошел с дороги и углубился в кусты, где его ждали бойцы сопровождения. Ночью они вернулись на базу…
Марков внимательно слушал рассказ Савушкина об этой первой разведке. Все казалось важным. И то, что в деревне нет немцев, и то, что полицай Ферапонтов уже трусит. И то, что поблизости начал действовать какой-то партизанский отряд, а явно патриотически настроенный железнодорожник почему-то сидит в деревне. Все это может пригодиться…
У Маркова накапливалось все больше безотлагательных вопросов к секретарю подпольного обкома партии товарищу Алексею, но встреча с ним откладывалась и откладывалась. И хотя Марков прекрасно понимал всю сложность организации встречи, но нервничал…
Глубокой ночью Маркова разбудил Будницкий:
– ЧП, товарищ подполковник! Крупное нарушение дисциплины и режима секретности! – тревожно проговорил Будницкий и показал на стоявшего возле двери старшину Ольховикова – парня богатырского роста, про которого бойцы говорили, что он добрый, что телок-несмышленыш, а здоров, как бык в соку.
– Что там у вас? – Марков встал и прошел к сколоченному из досок столу.
– Старшина Ольховиков, доложите, – напряженным голосом приказал Будницкий и сам отошел в сторону.
Ольховиков переступил с ноги на ногу, потом сделал шаг вперед и вытянулся, почти упершись головой в потолок землянки. В это время Марков зажег лампу и увидел, что все левое плечо старшины в крови.
– Вы ранены? – спросил Марков.
– То кровь не моя, – прогудел Ольховиков. – То кровь…
– Докладывайте по порядку, как положено! – прервал его Будницкий.
Ольховиков глянул в потолок и заговорил мягким баском:
– Значит, так. Во время дальнего рейда подобрали мы раненого мальчонку. Колей звать. Тезка, значит, мне…
– Отставить ненужные подробности! – крикнул Будницкий.
– Есть отставить ненужные подробности, – как тихое эхо, повторил Ольховиков. – Ну, значит, подобрали того мальчонку и доставили на базу. Сюда, значит, – он умолк, преданно и вопросительно смотря на своего командира.
– Вы что, забыли, какой у нас режим? – строго спросил Марков.
Ольховиков пошевелил своими могучими плечами.
– Почему забыл?
– Товарищ подполковник, пусть он все доложит, как было, – сказал Будницкий. – Доложи, Ольховиков, при каких обстоятельствах ты дошел до своего преступного легкомыслия.
– Значит, так… – Ольховиков посопел, глядя в потолок, и продолжал: – За городом Гомелем подорвали мы бензосклад. И согласно схеме пошли до дому. Первый день переждали в лесу. В ночь опять же шли. Видим, горит деревня. Подошли поближе. Картина ясная – каратели побывали. Вокруг трупы раскиданы. Женщины, между прочим, и старики. И ни тебе живой души. А дома горят. Ну, значит, мы постояли, попечалились и пошли дальше согласно схеме. Только отошли от горящей деревни шагов на триста, глядим, метнулось что-то с дороги. Алексеенко враз туда и вытаскивает мальчонку. Рука у него простреленная вот сюда, – Ольховиков показал на кисть своей огромной ручищи. – Ну, куда его деть? Бросить? Все мои бойцы молчат и на меня глядят. И я же вижу, как они глядят. И сам я что, изверг какой? Вот мы того мальчонку и взяли… – Ольховиков помолчал и добавил: – Смышленый. Лет тринадцать ему. Из города, между прочим.
Будницкий, который все время норовил врезаться в рассказ старшины, крикнул:
– Ты про режим скажи! Что ты об этом думаешь?
– Скажу… – Ольховиков снова глянул в потолок. – А что он, этот пацаненок, сделает вредного нашему режиму? А такой паренек может и сгодиться в дело. Для разведки, к примеру.
– Он передвигаться может? – спросил Марков.
– А чего ж? – улыбнулся Ольховиков. – У него ж только рука раненая.
– Приведите его сюда, – приказал Марков.
Ольховиков с неожиданным проворством исчез за дверью. Будницкий выжидательно молчал, посматривая на Маркова.
Ольховиков привел худого, тоненького мальчика. Держа у груди забинтованную руку, он угрюмо смотрел на Маркова.
– Как тебя зовут? – спросил Марков.
– Коля, – чуть слышно ответил мальчик и, сделав глотательное движение, повторил громче: – Коля, фамилия – Куканов. Я из Гомеля, а с войны жил в деревне, у тетки.
– Кто твои родители?
– Мама – врач, а отец – танкист.
– Где они?
– Как где? Воюют, наверно. Тетя Даша ходила в город, так там и дома нашего нет.
– Что ж теперь, тетя Даша хватится тебя?
– Не хватится, – тихо ответил Коля.
– Она, товарищ подполковник, убитая, – пояснил Ольховиков. – И ее дочка тоже. И все это у него на глазах.
– Товарищ начальник, оставьте меня здесь, я пригожусь, честное слово, пригожусь. Я рисовать умею, я все буду делать, – быстро проговорил Коля то, чему его явно научил Ольховиков.
– Ладно, подумаем, – сказал Марков и обернулся к Будницкому: – Определите его.
– Он у меня будет, – обеспокоенно прогудел Ольховиков.
– С вами разговор будет особо, – сухо, но совсем не строго сказал Марков.
Вот так и появился на базе Коля Куканов.
Глава 6
Наконец пришла долгожданная радиограмма из Москвы. Комиссар госбезопасности Старков сообщал о месте и времени встречи Маркова с секретарем подпольного обкома товарищем Алексеем. Она должна состояться в ближайшую субботу, в двадцать два часа, в селе Набережном, в доме священника.
В пятницу вечером Марков отправил туда Кравцова и двух бойцов из отряда Будницкого. Они должны были разведать обстановку в селе, а затем охранять место встречи. Сам Марков прибудет туда точно к назначенному времени.
Кравцов с двумя бойцами покинули остров ночью. На рассвете они вышли к автобазе имени Будницкого – так называли землянку на окраине болота, где хранились пять велосипедов, добытых по приказу Будницкого его бойцами. Этот, как его называл Будницкий, ножной транспорт позволял его группе совершать все более дальние рейды.
Кравцов и сопровождавшие его бойцы поехали на велосипедах проселочной дорогой, петлявшей вдоль реки и уходившей к горизонту, где чернел лес. Село Набережное находилось за лесом, и до него было не меньше двадцати километров.
Осень чувствовалась во всем. Низкие грязные облака закрывали небо. Давно пожухли листья кустарника. Несжатое ржаное поле стало бурого цвета, от него веяло прелью. Скворцы стремительными стаями перелетали с места на место, готовясь к дальнему путешествию в теплые края. Река была свинцового цвета, ее рябил холодный ветер. На заросшем травой проселке велосипеды противно скользили, увязали в наполненной водой колее.
Впереди ехал Кравцов. Его круглое добродушное лицо раскраснелось. Нажимая на скрипучие педали велосипеда, он с досадой думал, что зря послушался Будницкого и надел под пиджак телогрейку. Теперь ему было жарко, а засунутый за пояс пистолет больно упирался в ребра.
Чтобы отвлечься от всего этого, он стал слушать разговор ехавших позади него бойцов.
– Смотри влево на одинокое дерево. Чуть правей дерева – человек или что?
– Я уже давно смотрю, – отозвался другой голос. – Не шевелится, вроде пень.
Кравцов тоже стал смотреть туда. То, о чем говорили бойцы, было похоже на сидящего под деревом человека. Всю дорогу до самого леса они посматривали туда и пришли к выводу, что это все-таки пень: за все время силуэт ни разу не шевельнулся.
В лесу дорога была настолько расквашена, что найти на ней даже узкую сухую полоску для велосипеда было невозможно. Машины спрятали в лесу и дальше пошли пешком.
К селу Набережному приблизились в середине дня. Укрывшись в кустарнике на взгорке, они стали наблюдать за тем, что делалось на единственной улице села, которая отсюда была им хорошо видна. Село казалось вымершим. Только над прижавшимся к церкви домиком, на старой одинокой березе, тоже, очевидно, собираясь на юг, беспокойно горланили грачи.
Но вот из крайней хаты вышла женщина, по самые глаза повязанная черным платком. Она остановилась у калитки, посмотрела в хмурое небо, потом – по сторонам и вернулась во двор. Спустя немного из калитки вышел мальчуган, он тоже постоял, посмотрел по сторонам, а потом медленно пошел по улице к центру села. Возле церкви точно сквозь землю провалился. Кравцов видел, как он зашел за куст сирени и там точно растаял. Однако спустя немного времени мальчик появился по другую сторону церковной ограды и пошел дальше по улице, почти до самого ее конца, где он зашел в покосившуюся хату, окна которой были забиты досками.
«Пожалуй, неспроста гуляет этот паренек», – подумал Кравцов. Один из бойцов точно услышал его мысль и тихо сказал:
– Сдается мне, что малец просматривает село.
– Я тоже так думаю, – согласился Кравцов.
Прошел еще час, а может быть, и больше, и все это время село казалось вымершим. Где-то за тучами солнце скатывалось к горизонту, и его движение угадывалось только по тому, как темнело небо на востоке.
– Слышь, мотор! – быстро проговорил один из бойцов.
Кравцов тоже слышал отдаленный, но постепенно приближающийся рокот.
В село въехал мощный трехосный грузовик, в железном кузове которого сидело не менее полусотни немецких солдат. В середине села грузовик остановился, из шоферской кабины вылез офицер в черной эсэсовской шинели. Минут пять он стоял возле машины, точно ждал кого-то. Потом сказал что-то солдатам и быстро залез в кабину. Солдаты встали, подняли автоматы, и тишину разорвала бешеная стрельба. Грузовик медленно поехал дальше, солдаты продолжали стрелять. Их мишенью были крестьянские хаты. Со звоном вылетали стекла из окон. Загорелась соломенная крыша на одной из хат. Грузовик выехал из села и, прибавив скорость, помчался к горизонту. В наступившей тишине слышался только треск разгоравшегося пожара. Но на улице, как и прежде, ни души. Кравцов услышал рядом непонятный звук, повернулся. Это скрипел зубами лежавший рядом с ним боец, от гнева лицо его было серым, побелевшими руками он сжимал винтовку.
– Еле удержался, – хрипло произнес он, виновато улыбнулся и, сдвинув кепку на затылок, рукавом стер выступившую на лбу испарину. – Вот ироды!..
Кравцов не знал, что делать: продолжать наблюдение или сниматься и идти навстречу Маркову, чтобы предупредить его об опасности: ведь немцы могли вернуться сюда. Но он знал, как долго и трудно готовилась эта встреча. А появление здесь грузовика с немцами могло быть чистой случайностью.
Тревожные размышления Кравцова прервал быстро нараставший треск.
На дальней окраине села показался мотоцикл с коляской. На нем ехали трое мужчин в штатском. Они промчались через все село, выехали на дорогу, но вскоре свернули прямо на луг и тотчас скрылись в кустарнике. Рокот мотора вдруг оборвался. Очевидно, они там остановились.
– Похоже, что полицаи, – сказал боец, лежавший рядом с Кравцовым.
– Следить за кустами! – приказал Кравцов. Однако до самых сумерек никто из кустов так и не вышел. Кравцов послал туда на разведку одного из бойцов.
– В перестрелку не лезь, – приказал он, – только посмотри след мотоцикла. Может быть, там есть дорога? Посмотри и возвращайся, да поживей.
Боец спустился в лощинку и, укрываясь в ней, побежал к дороге. Вскоре Кравцов увидел, как он стремительно переметнулся через дорогу и исчез в кустах…
Боец вернулся запыхавшийся, весь выпачканный землей. Он рассказал, что мотоцикл стоит, прикрытый наломанным кустарником, а следы пассажиров ведут к деревне. Он прополз по следу, пока можно было, но затем след повернул на огород крайней хаты, а там все вокруг голо и за капустной кочерыжкой не спрячешься…
Кравцов встревожился не на шутку. До появления Маркова оставалось чуть больше двух часов. По плану они все трое сейчас должны были пройти в село и попроситься на ночлег в трех разных хатах поблизости от церкви, где находился поповский домик. Но кто были эти трое штатских? Больше всего это было похоже на засаду полицаев. Кто же кроме них мог ездить на мотоцикле так открыто? Неужели враг откуда-то узнал о встрече и организовал засаду?
Одного из бойцов Кравцов послал навстречу Маркову, чтобы предупредить о происшедшем.
Боец ушел. Уже заметно смеркалось. Кравцов подумал, что посланный им боец может не встретить Маркова, разминуться с ним в темноте. И тогда может случиться непоправимая беда.
Кравцов решил изменить план и действовать напролом. Первым в село пойдет боец, он направится прямо в крайнюю хату и попросится на ночлег. А спустя десять минут в ту же хату зайдет и Кравцов. Бойцу он приказал каждую секунду быть наготове и гранату-лимонку держать в руке со снятым кольцом. Если в хате засада, бросить гранату и отходить.
Они спустились к дороге, и боец открыто пошел в село.
Кравцов присел на обочине, чтобы выждать десять минут. Он видел, как боец исчез в калитке крайней хаты…
Дверь была не заперта, и боец сразу прошел в горницу. Женщина, выходившая днем из калитки, сидела с вязаньем возле мутного окна. Появление незваного гостя ее нисколько не удивило.
– Что тебе, родимый? – приветливо спросила она.
– Пусти переночевать… – совсем не просительно сказал тот, пристально оглядывая горницу.
– Ночуй, ночуй, родимый. Где лечь хочешь? В хате душно. Можно в пуньке, там чуть-чуть сенца есть.
– Лучше в хате, ночью сейчас уже холодно.
– Тогда сходи, родимый, в пуньку, возьми сенца и постели тут на пол.
Боец вышел во двор, осмотрелся, но ничего подозрительного не заметил. Взяв в пуньке охапку сена, он вернулся в хату. Сбросив сено на пол, он обнаружил, что в горнице находятся двое мужчин. Один сидел за столом, другой стоял, прислонясь к печке у самой двери.
– Откуда бредешь, бездомный? – весело спросил тот, что сидел за столом.
– Пробиваюсь к себе на Смоленщину, – спокойно ответил боец, кляня себя за то, что из-за проклятого сена он снова окольцевал гранату.
– Вон как! И откуда же ты пробиваешься?
– Из-под Минска.
– А там что делал?
– В окруженцах сидел, пока можно.
– Гляди-ка!
Боец стал медленно передвигать руку к карману, где была граната.
– Еще одно движение – стреляю! – хриплым голосом крикнул тот, что стоял у печки, и боец увидел у своего виска дуло пистолета. – Спокойно, парень, ну-ка, сядь вон туда на лавку и руки положи на стол.
Боец выполнил приказ. Он решил поступить так: через несколько минут, когда в хату войдет Кравцов, он крикнет: «Засада!» – и – будь что будет! – бросит под стол гранату. Приняв это решение, он сразу успокоился.
– Мы свои карты не прячем, – тихо сказал тот, что сидел за столом. – Мы партизаны. А ты кто?
– Чего на бога-то брать? – усмехнулся боец.
– Удивляешься, что сами раскрываемся? – включился в разговор человек с хриплым голосом. – Так мы же играем без проигрыша. Если ты не гад, хорошо, а если гад, до утра не доживешь, а нам опять же выигрыш – одним гадом меньше.
Боец растерялся. В том, что сказал хриплый, была железная логика. Что же делать? Вот-вот должен войти Кравцов.
– Если вы партизаны, тогда и я партизан, – торопливо проговорил боец.
– Вон как! А нельзя без «если»? Мы-то тебе прямо сказали. И поторопись, мы тут по делу, а не театр разыгрывать.
– Ладно, я тоже партизан, – доверительно сказал боец.
– Случайно, не с острова, что в Лиговинских болотах?
– Оттуда, – подтвердил боец, видя, что эти люди и без него знают об острове.
– Пароль на сегодня знаешь?
Боец молчал. Никакого пароля он не знал.
– Кто-то еще идет, – сказала женщина.
– Это ваш? – тревожно спросил хриплый.
– Наш, и я ему сейчас дам команду бросить гранату.
– Не дури, мы здесь по случаю встречи. Понял?
Кравцов вошел в горницу и остановился в дверях, пытаясь разглядеть, кто тут есть, в темной хате.
– Кто там? – спросила женщина
– Можно у вас переночевать? – спросил Кравцов.
– Ночуй, ночуй, родимый, – с той же приветливостью сказала женщина.
– Я здесь, – услышал Кравцов голос своего бойца.
Кравцов сделал два шага вперед и остановился, сжимая в кармане гранату. Он уже видел силуэты сидевших у стола людей. В эти секунды напряженной тишины все находившиеся в хате кроме Кравцова, понимали, что сейчас может случиться беда.
– Мы из отряда «Мститель», – торопливо сказал хриплый. – Прибыли для обеспечения, возможно, известной вам встречи.
– Пароль? – с угрозой потребовал Кравцов и вынул из кармана гранату.
– Тропинка идет в гору, – сказал хриплый.
– На горе воздух чище, – произнес Кравцов ответную часть пароля и почувствовал, что ладонь, в которой он сжимал гранату, стала мокрой.
– Вы что же это, с ума посходили там у себя на острове? – со злостью спросил тот, что сидел за столом. – Тетя Аня, занавесь окна, зажги свет.
Женщина зажгла коптилку и поставила ее на стол. Сидевший за столом посмотрел на бойца, на Кравцова с гранатой в руке и нервно рассмеялся:
– Ну, история могла быть! Да спрячь ты свою игрушку… – сказал он Кравцову.
Кравцов положил гранату в карман и сел. Теперь и он понял, что могло случиться, и тяжело дышал, облокотившись на стол.
– Разве ж это работа? – укоризненно сказал сидевший за столом. – Посылаете человека без пароля, – он кивнул на бойца. – Мы же могли прихлопнуть его в два счета. А заодно и вас.
– Это мое упущение, – тихо произнес Кравцов.
– Легко сказать – упущение, – ворчливо заметил хриплый.
Теперь Кравцов разглядел его. Это был высокий худой человек лет тридцати пяти. Густые темные брови, черные глаза, рыжие усы.
– Легко сказать – упущение, – повторил он. – Свои своих могли перебить. Ну да ладно, как говорится, свадьбы не было, музыка не играла. Вы по встрече?
– Да.
– Мы тоже.
– Это вы ехали на мотоцикле? – спросил Кравцов.
– А кто же еще? Мы же оба с документами полицаев из городской команды… Так вот, встреча состоится не здесь. План изменен. Утром в ближнем лесу была какая-то перестрелка. А здесь болтается грузовик с эсэсовцами. Мало ли что… Поедем на взорванную мельницу, в пяти километрах отсюда. Товарищ Алексей уже там.
Марков подошел к селу ровно в девять. С бойцом, который был послан Кравцовым, он укрылся в кустах, а сопровождавшие его два бойца и Будницкий направились в село. Не дойдя до него, они увидели стоявшего у дороги Кравцова…
Марков решил, что с ним поедет только Будницкий. Сам он сел в коляску, а комендант устроился позади водителя. Мотоцикл взревел, сорвался с места и исчез в темноте. Кравцов и остальные бойцы будут ждать его здесь вместе с партизанами…
Не без опаски посматривал Марков на водителя: как он на такой скорости успевает разглядеть дорогу? Подлетев к мосту, мотоцикл резко затормозил и свернул влево. На мгновение водитель зажег фару, сноп света скользнул по берегу, по засыпанной опавшими листьями реке. Теперь мотоцикл катился медленно, будто на ощупь находя дорогу вдоль реки.
Наконец машина остановилась возле какого-то приземистого строения. Водитель выключил мотор и неизвестно кому крикнул:
– Прибыли!
Марков стоял возле машины, не зная, куда ему идти. Стоявший рядом с ним Будницкий, приподняв автомат, настороженно всматривался в темноту.
– Подождите, вас проведут, – сказал водитель и добавил после паузы: – От этой езды по ночам без света с ума можно сойти…
Вынырнувший из темноты человек провел Маркова к берегу реки и фонариком осветил ступени лестницы, уходившей под большую груду кирпичных развалин.
– Семь ступенек и дверь, – сказал он, погасив фонарик.
Открыв массивную дверь, Марков инстинктивно заслонил глаза рукой – таким ярким показался ему свет обычной керосиновой лампы. За сколоченным из ящиков столом сидели двое, они рассматривали какую-то карту. В одном из них Марков узнал секретаря подпольного обкома.
– Здравствуйте, товарищ Алексей!
– Наконец-то встретились! – товарищ Алексей тяжело поднялся с опрокинутого ведра, на котором сидел, и подошел к Маркову. – Вон вы какой. Я почему-то думал, вы постарше, – он крепко сжал руку Маркова и подвел его к столу. – Знакомьтесь, это наш человек из интересующего вас города, товарищ Завгородний, подпольное имя – товарищ Павел. Из-за него наша встреча и откладывалась. Вытащить его из города не так-то легко…
Марков поздоровался с Завгородним, и они втроем сели к столу.
Товарищ Алексей как-то по-штатски – так он, наверно, делал всегда на мирных заседаниях обкома – снял с руки часы и, положив их перед собой, сказал:
– Я думаю, начнем с того, что Завгородний расскажет вам об обстановке в городе. Давай, Павел, десять минут, не больше.
– Прежде всего, несколько сведений общего характера… – неторопливо и тоже привычно по-штатски начал Завгородний. – Созданный оккупантами гражданский аппарат управления городом – сплошная фикция. Бургомистром является бывший директор комбината бытового обслуживания. Жулик, но ловок как черт. До войны раскусить его не смогли. А когда пришли немцы, он сразу к ним. Нашлись еще предатели. Пару интеллигентов-стариков запугали – вот вам и магистрат. Ну а мы им подсунули в аппарат двух своих подпольщиков. Главная сила в городе – военная зональная комендатура во главе с подполковником Штраухом и гестапо во главе с оберштурмбаннфюрером Клейнером. Делами города занимается гестапо. В городе осталось не меньше двадцати тысяч жителей.
– Так много? – удивился Марков.
– Не так уж много, – заметил товарищ Алексей. – Ведь к войне у нас было более ста тысяч…
– Гестапо начало вербовать агентов среди населения, – продолжал Завгородний. – Пока это у них не очень ладится. Все же с десяток подлецов нашли. Но и сюда мы тоже определили своего человека, чтобы знать, куда целится Клейнер. Пока их главная цель – выловить коммунистов и актив. Аресты проводятся каждый день, две тюрьмы набиты битком. Третьего дня под тюрьму заняли еще и здание студенческого общежития. Расстрелы происходят каждую ночь. Из наших подпольщиков пока ни один не взят. В городе назревает драма с продовольствием. К зиме нет никаких запасов. Расклеены объявления о поощрении рыночной продажи продуктов. Такие же объявления отправлены во все окрестные деревни. Мы пока главным образом ведем разведку и стараемся залезть в оккупационные органы. – Завгородний помолчал, подумал и сказал: – Вот и все, пожалуй. Конечно, в самых общих чертах. Если у вас есть вопросы, давайте.
– Есть в городе какие-нибудь военные учреждения? – спросил Марков.
– Есть два госпиталя, оба переполнены. Затем довольно большой штаб инженерно-строительных войск. И, наконец, главная полевая почта центральной группы войск. В отношении того, что вас особо интересует, мы только третьего дня установили почти твердо: учреждение это действительно обосновалось в нашем городе. Они заняли несколько зданий, в том числе новую школу. Это далеко от центра. Охрана всей этой зоны очень сильная, улицы перекрыты шлагбаумами, по огородам протянута колючая проволока. Так что проникнуть туда мы не рисковали. Единственно, что мы выследили, – что в эту зону почти каждую ночь проезжает автобус; он останавливается возле школы с тыльной ее стороны. Там пустырь.
– На основании чего вы решили, что это именно то учреждение?
– Тут, значит, дело такое… – Завгородний помолчал. – Есть у нас человек, инженер Русаков, коммунист. Вот он как раз по нашему заданию и завербовался в тайные агенты гестапо. И, кажется, перестарался. Примерно неделю назад он пошел на очередную явку с гестаповцем, а его оттуда повезли в ту запретную зону. И там его часа два уговаривали пойти работать в немецкую разведку. Предложили очень высокое жалованье. Объяснили, что его забросят в советский тыл, там он должен поступить на военный завод и организовать диверсию, потом вернуться, получить большие деньги и жить припеваючи в Германии, работать, если захочет, по своей инженерской специальности. Ну, он, конечно, отказался. Сказал, что такое дело ему не по силам. Потом они его еще целый час агитировали. В конце концов инженер сказал, что подумает.
– Он должен согласиться… – сказал Марков. – А когда его забросят, пусть сразу явится в органы безопасности. Его будут ждать.
– Как же так? Человек-то он для нас очень ценный. Верно, товарищ Алексей? – заволновался Завгородний.
– Поймите, он сделает для нас огромное дело, – горячо заговорил Марков. – Он первый пройдет через аппарат «Сатурна», и мы получим от него важнейшие данные.
Завгородний молчал.
– У меня только одно сомнение… – сказал товарищ Алексей. – Справится ли он? Операция даже физически нелегкая, а ему уже далеко за сорок.
– Не в этом дело! Он здоров как бык и умница! – возразил Завгородний. – Мы же лишимся человека, привязанного к гестапо.
– Погоди, Павел! – сказал товарищ Алексей. – Задача, которую должна решить группа Маркова, настолько значительна, что нужно считать за честь участие в этом деле. Это раз. Во-вторых, насколько я понимаю, заменить инженера Русакова тебе нетрудно. Пусть он сам подберет себе замену. Трофима Кузьмича, например. Он же у тебя до сих пор без дела…
Завгородний неохотно согласился. Марков сказал ему – для передачи инженеру – несколько советов. Завгородний ушел: он еще этой ночью должен был вернуться в город.
– Что у вас еще? – спросил товарищ Алексей. Марков рассказал о том, что выяснила его разведка.
– Самое первоочередное, – сказал он, – надо отодвинуть подальше от моей базы партизанский отряд, о действиях которого говорил Савушкину полицай Ферапонтов. В моей зоне пока должно быть тихо. Мы выполняем такое ответственное задание, что привлекать к этому району внимание противника не следует.
– Что же это за отряд? – товарищ Алексей задумался и сказал: – Это что-то новое, наверно, окруженцы подсобрались. Хорошо, я пошлю туда человека.
– Еще просьба… – Марков улыбнулся. – С нами вы хлопот не оберетесь.
– Давайте, давайте, – строго сказал товарищ Алексей. – Я-то знаю, о каком деле речь.
– На зиму мой остров не годится, он станет голый, как лысина. Нужно, чтобы вы порекомендовали мне какое-нибудь лесное место для новой базы.
– Подумаю. А как у вас с продовольствием?
– Имеем неприкосновенный запас. А пока кое-что доставляют бойцы отряда. Нас же не так много.
– Смотрите, сигнальте, если что. Поможем.
– Спасибо… и опять просьба…
Они обсудили еще немало больших и малых дел и договорились о шифре и о схеме радиосвязи между собой.
В дверь постучали.
– Войдите! – крикнул товарищ Алексей.
В подвал вошел водитель мотоцикла.
– Пора ехать, а то до рассвета мы не успеем…
– Пора так пора, – товарищ Алексей встал и протянул руку Маркову. – Ну что ж, закроем первую нашу конференцию. Вроде все ясно. И будем теперь поддерживать регулярную связь. До свидания. Желаю вам успеха.
К рассвету Марков, Кравцов и сопровождавшие их бойцы во главе с Будницким были уже на границе болота и, построившись цепочкой, направились к острову.
Глава 7
Несколько очень важных шифровок:
От подпольного обкома – Маркову
«С Русаковым в порядке. Проходит ускоренное обучение в известном вам учреждении. Ориентировочно его выезд – конец октября. Человек, с которым он там имеет дело, – бывший офицер Красной армии Андросов Михаил Николаевич. До войны он как будто служил в Прибалтийском военном округе. Наши встречи с Русаковым крайне затруднены. Павел виделся с ним только один раз и вряд ли увидится еще. Наблюдение за учреждением продолжается, но заранее хотим предупредить, чтобы вы не возлагали больших надежд на его результаты. Пантелеев торгует нормально. Привет. Алексей».
От Маркова – комиссару госбезопасности Старкову
«Русаков, о котором я сообщал, ориентировочно прибудет в конце октября. Явится к вам немедленно по прибытии. Срочно надо выяснить фигуру Андросова Михаила Николаевича, работающего в интересующем нас месте и, по-видимому, связанного с вербовкой агентуры. По непроверенным сведениям, до войны служил в Прибалтийском военном округе. Рудин готовится к походу в город. Пантелеев действует нормально. Люди Будницкого успешно продолжают свое дело, беспокоя и отвлекая внимание противника. Привет. Марков».
Из Москвы – Маркову
«Ждем Русакова. Относительно Андросова пока получили следующие данные: год рождения – 1911, уроженец города Кромы Курской области, учился в Курском военном училище, затем служил в армии. В 1939 году окончил курсы усовершенствования командного состава и работал в штабе Ленинградского военного округа, откуда в 1940 году был переведен в Прибалтийский округ. Со всех этих мест, исключая Прибалтику, отзывы положительные, как официальные, так и лиц, его знавших. Словесный его портрет сообщу вам в ближайшие дни. При первой возможности перешлем фото. В штабе Прибалтийского округа, по имеющимся скудным данным, Андросов работал до самой войны. За утерю секретного штабного документа он решением партийного собрания штаба примерно в мае 1941 года исключен из партии, приказом командующего понижен в звании и отчислен в резерв. Есть не очень надежная деталь, что в последние дни перед войной он болел. Предприняты меры для получения дополнительных данных и перепроверки сообщаемых сейчас. Нельзя не опасаться, что у вас может оказаться совсем другой человек, существующий по версии и документам Андросова. Привет. Старков».
От Маркова – товарищу Алексею
«Если появится возможность, получите от Русакова описание внешности Андросова. Желательны какие-то особые приметы по внешности, в голосе, в манере держаться и тому подобное. Привет. Марков».
От подпольного обкома – Маркову
«Павел видел инженера второй и теперь наверняка последний раз. К сожалению, это произошло ранее получения нами вашей радиограммы относительно внешности Андросова. Другие возможности для выполнения вашего задания мы вряд ли будем иметь. Русакова отпускали на несколько часов в город в связи с близкой отправкой. Ему доверяют. Привет. Алексей».
Из Москвы – Маркову
«Русакова ждем с нетерпением. Дополнительно по Андросову. Мы нашли подполковника Маслова – секретаря партийной организации, где разбиралось дело Андросова. Он считает, что в утере документа Андросов непосредственно не виноват, но по непонятным мотивам то ли из ложного чувства товарищества, желая выгородить других, он всю вину взял на себя и при этом вел себя вызывающе, что способствовало принятию крутого решения. После отчисления в резерв много пил, а перед самой войной заболел. Жил он в Риге один, семьи у него нет. Допускается возможность, что в суматохе эвакуации о нем, больном, забыли. При ориентации Рудина все это крайне важно. Как можно тщательнее разработайте вместе с Рудиным варианты его разговора с Андросовым. Очевидно, что его ахиллесова пята – обида. Привет. Старков».
От подпольного обкома – Маркову
«По всем данным, Русаков отбыл. Привет. Алексей».
Из Москвы – Маркову
«Русаков прибыл благополучно. Сообщаю полученные от него данные. Андросов занимается первичной проверкой всех поступающих в „Сатурн“ русских военнопленных, намечаемых к вербовке в агенты. По его совету принимается решение брать человека в агенты или отправлять обратно в лагерь. Подтверждается, что в отделе подготовки документов для агентов работает другой русский и тоже бывший советский офицер – Щукин. Андросов – умный, волевой, рост выше среднего, блондин. Шевелюра светлая, редкая, с намечающейся лысиной. Голубые глаза. Эти данные совпадают с нашими. У немецкого начальства пользуется полным доверием. В отношении других русских сотрудников „Сатурна“, в том числе о Щукине, сведения инженера очень скудные. В аппарате „Сатурна“ на мелких незначительных постах есть и русские эмигранты старой формации, которые враждуют с русскими типа Андросова. Немцы относятся к ним пренебрежительно. Кроме того, есть несколько русских, полученных Германией от Маннергейма из числа пленных Русско-финской войны. Они обработаны лучше других и представляют серьезную опасность, используются на более значительных постах, в частности на преподавательской работе. По-моему, следует ускорить отправку Рудина. Привет. Старков».
Глава 8
Было то время осени, когда даже в солнечный день чувствовалось, что зима уже стоит за дверью. По ночам жухлая трава становилась седой от инея и не оттаивала до полудня. Паутинный ледок на лужах холодно блестел на солнце весь день. Кустарник сбросил листву, болото хорошо и далеко просматривалось. Это очень тревожило Маркова. На острове был заведен порядок, чтобы днем ничто не выдавало присутствия здесь людей. Предстоял переход на зимнюю базу, оборудованную в соседнем лесу. Она была уже готова, и часть бойцов Будницкого даже жила там. Все остальные должны были перебраться на новое место в самые ближайшие дни, – ждали ненастной погоды, когда в небе не будут кружить немецкие самолеты-разведчики. По ночам бойцы Будницкого переносили туда имущество и боеприпасы.
Никто на острове так не ждал этой ненастной погоды, как ждал ее Рудин. Когда остров покинут все его обитатели, начнется и его операция по проникновению в «Сатурн». Началом ее будет фиктивный бой небольшого отряда бойцов Будницкого с гитлеровским гарнизоном села Никольского. Во время этого боя Рудин и сдастся в плен.
Попав к гитлеровцам, Рудин должен сделать все от него зависящее, чтобы они им заинтересовались. Для этого была разработана подробная и импонирующая немцам легенда его жизни и судьбы. Главная же его цель – добиться, чтобы интерес к нему проявил «Сатурн», а там попасть на допрос к Андросову. Давно продумано множество вариантов поведения Рудина на допросе в «Сатурне», но все они могли оказаться бесполезными, если его усилия заинтересовать собой «Сатурн» ни к чему не приведут. Мысль о возможности такого поворота дела была настолько страшной, что по сравнению с ней самый допрос в «Сатурне» казался Рудину совсем нетрудным. Хотя он прекрасно понимал, что допрос этот может окончиться и тем, что Андросов отправит его на виселицу…
С самого утра день нахмурился, заморосил дождь, который, как и серое небо, становился все гуще и злее. Сильный порывистый ветер свистел в кустарнике, закручивал желтые смерчи из отяжелевших мокрых листьев. Непогода, которую так ждали, пришла. Марков отдал приказ приготовиться к ночному маршу и к бою у села Никольского.
В землянку Маркова пришли Будницкий и старшина Ольховиков, назначенный командиром группы, которая должна провести бой. Втроем они склонились над картой местности. Марков показал Ольховикову на село Никольское.
– Знаете это село? – спросил Марков.
– Как не знать? Вторую неделю к нему принюхиваемся, – прогудел Ольховиков. – Там же есть гарнизон, и мы собираемся его прикончить.
– Сегодняшний бой – только разведка, – строго сказал Марков.
– Да зачем? – обиделся Ольховиков. – Мы же их уже разведали, по харям всех знаем.
– Скажу яснее: сегодняшний бой должен быть фиктивным… фальшивым.
– Каким, каким? – не понял Ольховиков.
– Фальшивым. Гарнизон нужно только растревожить, но особенно злить не надо.
Ольховиков не верил тому, что слышал; своими большими серыми глазами он недоуменно смотрел то на Маркова, то на Будницкого, то на Рудина.
– Да, да, вот так, – улыбнулся Марков. – Бой этот нам нужен только для того, чтобы вот он, – Марков показал на Рудина, – имел возможность по ходу боя сдаться в плен.
– Он? В плен? – Ольховиков даже сел на ящик, но тот угрожающе затрещал, и старшина вскочил. – Зачем?
– Так надо.
– В плен? Надо? – у Ольховикова от удивления сорвался голос.
– Раз начальство говорит – надо, значит, надо, – нравоучительно заметил Будницкий. И эта, в общем, ничего не объяснявшая сентенция успокоила Ольховикова.
– Ясно – приказ, – сказал он тихо, посмотрел на Рудина и вздохнул: – Ай-яй-яй! Ну и ну…
– Но то, что я сказал, знаете в группе только вы, – продолжал Марков. – Для всех ваших бойцов эта операция не что иное, как разведка боем. И боем осторожным. Понятно?
– Понятно!.. Ну и ну…
– А раз понятно, идите готовьтесь к делу.
Будницкий и Ольховиков вышли на поверхность и остановились в кустарнике. Глядя на старшину снизу вверх, Будницкий сказал:
– Но что ты знаешь, немец знать не должен. Он, как и твои бойцы, должен думать, что бой как бой. И вроде бы у тебя сил не хватает на решающую атаку. Ясно?
– Уж так ясно, что голова кругом идет!
– Ты это брось! – строго сказал Будницкий. – Голову раскрути в нормальное положение и думай.
– Я думаю, – прогудел Ольховиков.
– Вот что я решил насчет выхода из боя, – помолчав, сказал Будницкий. – Фрицы не должны это почувствовать сразу. Понял? Как почуешь, что скоро рассвет, пошли трех ребят вправо, трех – влево. И чтобы они постепенно, не прерывая огня, отходили лучами в разные стороны, а с рассветом торопились на новую базу. Понял? А остальные пусть продолжают лобовой огонь вблизи. Тогда фрицы решат, что боковой огонь – начало окружения. Понял? Внимание их распадется на три направления, плюс у них заиграют нервы. А ты в это время из лобовой группы снимай по бойцу и отправляй на базу, чтобы, как рассветет, все кругом было тихо и вас там нет. Понял?
– Понял…
В это время в штабной землянке разговаривали Марков и Рудин. Говорили тихо, вполголоса, точно боялись, что их кто-нибудь услышит.
– Единственно, что меня угнетает, – сказал Рудин, барабаня пальцами по столу, – это невозможность управлять событиями после того, как я попаду в плен. Ведь я…
– Это не совсем так, – поспешно прервал его Марков. – Все, что мы делаем для того, чтобы вызвать к вам интерес гитлеровцев, это управление ходом событий. Все зависит от того, Петр Владимирович, каков из себя тот немец, с которым вы в каждом отдельном случае будете иметь дело. И для каждого нужно применять свою тактику. Они сразу же проявят к вам любопытство, услышав ваш великолепный немецкий язык. А как только интерес к вам возникнет, все в конечном счете будет зависеть уже от вас… – Говоря это, Марков прекрасно понимал, что все предстоящее Рудину далеко не так просто, как выглядит сейчас в их разговоре, а главное, он понимал, что Рудин идет на подвиг, который можно считать смертным. Его могут попросту пристрелить, даже не взяв в плен. Его, как партизана, могут ликвидировать, не доставляя в лагерь военнопленных или в тюрьму, не говоря уже о том, что смертью может окончиться и его встреча с Андросовым. Может случиться самое примитивное: Андросов попросту испугается и откажется от предложения Рудина работать на советскую разведку и для того, чтобы еще больше возвыситься в глазах начальства, выдаст Рудина, не боясь никаких угроз с его стороны. Марков отлично понимал, на что идет Рудин, и знал, что сам Рудин так же хорошо это знает и понимает. Он сейчас досадовал на себя, что не может поговорить с ним в открытую, чтобы Рудин видел, как он по-человечески тревожится за него.
Рудин вынул из кармана два запечатанных и надписанных конверта и, положив их на стол, сказал:
– Просьба: если погибну, жене и старикам моим письмо перешлите не сразу. Пусть побольше увидят вокруг горя чужого, тогда и свое покажется им легче. А братишке – тому пошлите сразу. Он у меня служит на Черноморском флоте. Будет злее воевать. – Рудин сказал все это просто, без тени рисовки или сентиментальности, и, посмотрев в глаза Маркову, спросил: – Сделаете?
– Конечно. А только лучше об этом думать меньше.
– Почему? – поднял брови Рудин и посмотрел прямо в глаза Маркову.
– А черт его знает почему… – вздохнул Марков. – Знаю, на что вы идете, и испытываю перед вами некоторую неловкость. Но поверьте, я сам готов ко всему, и, если выпадет мне что-либо подобное, я буду желать себе одного: держаться, как держитесь сейчас вы. Говорю это искренне.
– Спасибо, – тихо произнес Рудин и, помолчав, сказал: – Вообще-то у меня какое-то странное состояние. Спросили бы вы у меня, испытываю ли я чувство страха, я бы не знал, как вам ответить, чтобы это было полной правдой. – Он улыбнулся. – Единственно, что ясно, – умирать не хочется. Но если придется – с тем большей злостью схвачусь с ней, костлявой. Жалко только, если дело сорвется.
– Не сорвется! Мы доведем его до конца.
– Мысль об этом поможет мне, если… – Рудин не договорил и после долгого молчания сказал: – Интересно, о чем сейчас думает Андросов? Как ему спится? Что может быть для человека страшнее – в час такого испытания, как война, оказаться не только не со своим народом, а еще и пособником его врагов? Если у него в мозгах есть хоть одна извилина, он не может не думать об этом без страха. Ну, я понимаю, враг, который пришел к этому всей своей судьбой. Но у Андросова-то биография похожа на мою.
– Особенно этим не обольщайтесь, – сказал Марков. – Кроме социальной основы в политической позиции человека такого сорта, как Андросов, есть еще такой фактор, как характер. Конкретный характер конкретного человека. А в пору грандиозных потрясений господин характер особенно активен. Вдруг бог знает куда человека толкает самая вульгарная трусость. Или взять такое сложное человеческое качество, как принципиальность или верность идее. По анкете он идеал для кадровиков, но анкета процессов в душе человека не отображает. Так что вы с биографией Андросова осторожней. Постарайтесь увидеть его таким, как он есть на самом деле, и соответственно выбирайте тактику. И прежде всего постарайтесь понять, что толкнуло человека в руки врага. И чем сложней причина, тем сложней тактика разговора. Помните, как Старков сказал однажды, – что перевербовать вульгарного труса может даже дурак… – Марков улыбнулся Рудину и замолчал.
– Андросов, судя по всему, не трус, – задумчиво произнес Рудин.
– К тому и говорю… – подхватил Марков. – Однако бояться он все же должен. Но подлость в нем может оказаться сильнее страха, и тогда… – Марков не договорил: и без того было ясно, что тогда произойдет.
– Бабакин к активной радиосвязи готов? Может, ему нужны новые батареи? – спросил Рудин.
Марков позвал Галю. Она вышла из-за брезентового полога. Готовая к походу на новую базу, она была в ватнике и стеганых брюках, заправленных в сапоги. На поясе у нее болталась граната.
Рудин рассмеялся.
– Ну, прямо богатырь наша Галочка!
Галя покраснела и обратилась к Маркову:
– Вы звали меня?
– Рудин интересуется, готова ли рация Бабакина к активной связи.
– До сих пор, как вы знаете, я ежедневно передаю ему только контрольную фразу, что мы на месте, а он отвечает одной точкой. Слышимость отличная.
– А за это время питание не могло иссякнуть? – спросил Рудин.
Галя снисходительно улыбнулась.
– Во-первых, наши батареи очень устойчивые; во-вторых, у него три или даже четыре запасных комплекта. Другое дело, что Бабакин очень медленно работает на ключе, вот это да.
– Ничего, потренируется, – рассмеялся Рудин. – Спасибо, Галя.
Галя ушла в свой радиозакуток. Марков тихо сказал:
– Она просилась с вами в операцию.
– Только этого мне не хватало! – улыбнулся Рудин.
– Она предлагала перебросить ее к Бабакину, чтобы связь между вами и мной была более надежной. Она даже замену себе нашла.
– Где?
– Оказалось, у запасливого Будницкого есть боец с квалификацией радиста.
– Ей-богу, у этого Будницкого все есть, – рассмеялся Рудин.
– Да, золотой комендант нам попался. Мужик из тех, кого забрось в одиночку на Северный полюс, так он там создаст рабочую бригаду из белых медведей.
Они оба посмеялись.
В землянку зашел Коля. На нем был перехваченный ремнем ватник с рукавами, засученными почти по локоть. На базе все называли его в шутку личным адъютантом Маркова, хотя жил он в землянке Будницкого.
– Я готов, – сказал Коля почему-то с виноватым видом.
– Фуфайку надел? – строго спросил Марков.
– Надел…
– Тогда иди к Будницкому, он объяснит тебе твои задачи в походе.
Коля вышел. Рудин кивнул ему вслед.
– Как адъютант? Справляется?
– Старается, – ответил Марков, и глаза его сузились, будто он смотрел вдаль. – Он на моего Саньку чем-то похож. Страшно подумать, какое испытание выпало такой вот детворе. Год сейчас для них считай за пять. И вы знаете, они все прекрасно понимают. Коля как-то сказал мне: «Здорово мне повезло, я, – говорит, – голову ломал, в какой вуз идти, когда десятилетку кончу, и вдруг подвалила война, и я попал в партизанскую академию…»
Так их разговор вдруг ушел далеко-далеко от того огромного и трудного дела, с которого он начался. Но дело это неотступно стояло рядом и сейчас же напомнило о себе. Галя принесла только что принятую шифровку из Москвы. Марков прочитал ее и передал Рудину.
«Из Москвы – Маркову. Передайте Рудину следующее: там, куда он идет, работают люди, прекрасно осведомленные о ходе войны, которым абсолютно ясно, что блиц не получился. Они знают, что быстрое и далекое продвижение их войск внутрь нашей страны вызвало опасную для них растянутость коммуникаций, которая уже теперь сдерживает активность их войск. Мы имеем точные сведения, что в их генеральном штабе дебатируется план приостановки наступления на Центральном фронте, чтобы к будущему году подготовить решающее наступление на Москву. Большую тревогу у трезвомыслящих немецких генералов вызывает неподготовленность их войск к нашей зиме. Речь здесь идет и об экипировке солдат и о технике, не рассчитанной на низкие температуры. Даже осенняя грязь уже стала для них ощутимой трудностью. Нужно, чтобы Рудин все это знал и учитывал. О выходе Рудина в операцию сообщите мне немедленно. Информируйте об этом и товарища Алексея. Все мы желаем Рудину успеха и уверены в нем. Привет. Старков».
Рудин прочитал шифровку и вернул ее Маркову. Они переглянулись. Радиограмма была для них как бы ответом на их постоянные и тревожные раздумья о положении на фронте. Не дальше как вчера они говорили об этом, и Марков сказал, что самую главную трудность для Рудина создает положение на фронте, ибо совершенно ясно, что разговаривать с Андросовым было бы гораздо легче, если бы немецкие войска не имели таких больших успехов в первые же месяцы войны.
– Остается только желать, – сказал Рудин, – чтобы Андросов оказался достаточно осведомленным.
– А если нет, – улыбнулся Марков, – информируйте его сами.
– Постараюсь…
С наступлением сумерек все покинули остров. За несколько минут до этого в Москву отослали последнюю радиограмму:
«Сейчас Рудин уходит. Все покидаем остров и переходим на зимнюю базу. Утром связь оттуда. Марков».
На границе болота Марков простился с Рудиным.
– Все будет в порядке, я уверен, – тихо сказал Марков, сжимая руку Рудина.
– Я тоже.
– До свидания!
– До свидания! – Рудин махнул рукой стоявшим поодаль товарищам, улыбнулся Гале Громовой, смотревшей на него широко раскрытыми глазами, и побежал догонять ушедший вперед отряд Ольховикова…
Глава 9
Шли молча, растянутой цепочкой. Впереди маячила громадная фигура Ольховикова, сразу за ним шагал Рудин. Стоило кому-нибудь звякнуть оружием или глухо чертыхнуться на скользкой тропинке, Ольховиков оборачивался и некоторое время шел пятясь. И тогда виновный старался укрыться за спину впереди идущего, будто командир мог разглядеть его в темноте.
В километре от села Никольского отряд встретил боец, проводивший здесь предварительную разведку. Он сообщил, что в селе находится около двадцати немцев и полицаев. Немцы ночуют в здании школы, а полицаи – по хатам.
Подошли к селу вплотную. Ольховиков сам выбрал место для каждого своего бойца. Оставляя его, он спрашивал:
– Все ясно? Вопросов нет?
– Ясно!..
Разместив бойцов с флангов села и прямо перед ним, Ольховиков вернулся к Рудину, выбравшему себе место на окраине ольшаника, который широкой полосой тянулся западнее села.
Ольховиков присел рядом с ним на землю, прижал к глазам светящийся циферблат часов и сказал шепотом:
– Рубеж заняли хорошо. Ровно через час начнем концерт. – Тронув Рудина за руку, добавил: – Значит, вы из кустов никуда. И пока мы не начнем отхода, сидите здесь без движения. Мало ли что: пуля, она, как известно, дура.
– Вы обо мне меньше думайте, – строго сказал Рудин. – Делайте свое дело, а я – свое.
Ольховиков помолчал, смотря на Рудина, и вздохнул:
– Не знаю, конечно, для чего это делается, но вашей доле не позавидуешь.
– Думайте, повторяю, о своей задаче.
Ольховиков обиженно умолк. Вокруг тишина. Только шорох дождя.
Точно в назначенный срок Ольховиков встал и, подняв ракетницу, выстрелил. Над темными силуэтами домов со свистом взметнулся багровый комочек, со звонким треском он взорвался в воздухе, и огненные капли, на мгновение зависнув в воздухе, начали медленно падать. И тотчас справа и слева затараторили ручные пулеметы. Они точно перекликались краткими очередями. Ольховиков вслушивался в эти звуки, как дирижер в игру оркестра.
– Начали складно, – удовлетворенно сказал он.
Там, где в селе была школа, послышался звон разбитого стекла, крики и ругань по-немецки. Очевидно, солдаты гарнизона покидали помещение кратчайшим путем – через окна. Немцы открыли ответный огонь. Беспорядочная перестрелка длилась около часа.
Особенно ожесточенной она была на правом фланге села.
– Там у них блиндаж с круговым обстрелом, – пояснил Ольховиков.
На левом фланге действовал миномет, он швырял мины через село, видимо, стремясь помочь огневой точке и думая, что партизаны там готовят прорыв в село.
Рудин напряженно вслушивался в разноголосицу выстрелов, стараясь понять, как ведут себя немцы. Пули щелкали по кустарнику, где он сидел, рикошетили то с визгом, то со злым урчанием. Ольховиков ворчливо сказал:
– Ложитесь, товарищ. Это они, гады, стреляют сюда вслепую.
Небо на востоке начало приметно светлеть. Фланговые группы Ольховикова, не прекращая огня, начали уходить от села.
– Мои снимаются, – тихо сказал Ольховиков и, помолчав, смущённо добавил: – И мне пора… – Он смотрел на Рудина выжидательно и удивленно, возможно, до сих пор еще не веря, что этот человек сейчас пойдет сдаваться в плен.
Рудин улыбнулся ему.
– Спасибо, старшина. Идите. Будницкому и всем вашим ребятам – привет…
Ольховиков встал, посмотрел еще раз на Рудина:
– Ну и ну… – Он вздохнул и неторопливо пошел по кустарнику. Издали он еще раз оглянулся на Рудина и пошел быстрее. Его тяжелые шаги затихли вдали…
Рудин встал и медленно пошел к саду. Поднявшись на взгорок, который был как раз против школы, он укрылся за стволом дикой яблони. В предрассветной мгле он уже различал у школы силуэты немцев. Трое стояли, прижавшись к стене, и о чем-то громко спорили, показывая руками в разные стороны. Как раз в это время огонь отходивших бойцов Ольховикова должен был вызвать у них ощущение, что их окружают.
Четверо немецких солдат, привалившись к поленнице дров, стреляли, поминутно меняя направление огня и тревожно оглядываясь на тех, что стояли у школы. Полицаев здесь не было. Очевидно, они вели огонь на восточной окраине села.
Те, что стояли у стены, теперь все чаще показывали в ту сторону, где находился Рудин. По-видимому, они говорили о том, что с этой стороны села противника нет.
Видно вокруг было уже довольно хорошо, но со стороны реки на село наползала белая полоса тумана и чуть притихший недавно дождь вдруг будто с цепи сорвался.
Рудин обнаружил, что стрельбы больше не слышно. Подождал еще минут десять – ни единого выстрела. Только хлещет, шумит злой осенний дождь. Возле школы появилось еще несколько немцев и полицаи. Сбившись в кучу, они возбужденно разговаривали.
Рудин решительно оттолкнулся от яблони и пошел прямо к школе. Вскоре немцы его заметили и взяли автоматы на изготовку. Рудин продолжал идти, делая вид, будто он пытается разобраться, где он находится. Он вышел на открытое место. Теперь немцы видели его хорошо, видели, что он один и что в руках у него нет оружия.
Они не стреляли. Рудин подходил к ним все ближе, и вот он услышал, как кто-то из немцев гортанным голосом отрывисто приказал:
– Взять его!
Два немца и один полицай пошли наперерез Рудину. Рудин остановился, поднял руки. Он стоял и ждал. Немцы и полицай подошли к нему и в трех шагах остановились.
– Сделать обыскание! – приказал полицаю один из немцев.
Полицай, не сводя злобных глаз с Рудина, подошел к нему и начал обыск. Из кармана ватника вытащил пистолет и вернулся к немцам.
– Иди! – крикнул Рудину один из немцев.
– Куда? – по-немецки спросил Рудин.
Немец удивленно посмотрел на него и показал рукой в сторону школы.
Из группы, стоявшей возле школы, вперед вышел высокий худощавый офицер с нашивками младшего лейтенанта. Фуражка с высокой тульей была глубоко нахлобучена на голову, в тени от большого козырька Рудин увидел только ввалившиеся щеки, тонкие сжатые губы и острый подбородок.
– Стой! – по-русски приказал офицер, когда Рудин был еще шагах в пяти от него. – Кто есть такой?
– Я из партизанского отряда, с которым вы вели бой. Решил сдаться в плен, – на хорошем немецком языке ответил Рудин и, сняв кепку, рукавом отер вспотевший лоб.
Немцы переглянулись.
– Отведите его в мою комнату, – приказал офицер.
Рудина ввели в комнату, которая была когда-то школьным классом. Вдоль стен стояли парты. На стене висела диаграмма сравнительной успеваемости Никольской неполной средней школы за 1939/40 учебный год. Рудин механически отметил, что успеваемость повысилась, но, судя по сравнительной высоте столбиков, ненамного. В глубине комнаты стояла разворошенная койка, на стуле возле нее висел китель. Как видно, офицер так торопился, что надел шинель без кителя. На столе стояла эмалированная кружка с недопитым кофе, а на листе бумаги лежали аккуратно нарезанные ломтики белого хлеба и косячок ноздреватого сыра. Тут же стоял зеленый ящичек полевого телефона, провода от которого тянулись в окно.
Конвоировавший Рудина немец стоял у двери и с любопытством рассматривал пленного. Полицаи в комнату не вошли. Не было и офицера, его приметный гортанный голос слышался в коридоре.
Офицер вошел стремительно, ударом ноги распахнув дверь. Повесив фуражку на гвоздь, сбросив шинель на кровать, он надел китель, аккуратно застегнул его на все пуговицы, одернул, прошел к столу и сел в кресло. Может быть, целую минуту он молча снизу вверх смотрел на Рудина большими белесыми глазами, в которых не было ни любопытства, ни злости. В них вообще ничего не было, разве только усталость. Лицо у офицера было серое, с болезненной желтизной. Под глазами – пухлые синеватые мешки.
– Кто ты такой? – спросил он тихо.
– Я же сказал – партизан.
– Где базируется твой отряд?
– Лиговинское болото.
– Ты говоришь неправду – эти болота непроходимые.
– Нет, я говорю правду, в болоте есть остров, и к нему ведут безопасные тропы.
Офицер помолчал.
– Допустим… Фамилия?
– Крамер. Михаил Евгеньевич Крамер.
– Еврей?
– Немец.
– Как так немец?
– Очень просто, я родился и вырос в республике немцев Поволжья.
– Не знаю такой республики.
– Между тем она есть. Вернее – была.
– Сколько ваших наступало на Никольское?
– Человек сорок.
– Почему отступили?
– Я не командир, не знаю. Мне известно только то, что говорил наш командир перед боем. Он сказал, что, по данным разведки, в Никольском почти две роты.
– Какой у тебя партизанский пост?
– Никакого. Рядовой боец, переводчик при командире. Меня мобилизовали в партизаны как знающего язык.
– Что значит мобилизовали? Разве ты не местный?
– Я же сказал вам, я уроженец Поволжья, это возле Саратова. А мобилизовали меня в Москве, где я жил и работал последние два года. Мобилизовали и сбросили сюда с самолета.
– И что же, ты, значит, чистокровный немец?
– Не совсем, мать у меня русская.
– Как ты сказал? Республика немцев Поволжья?
– Да.
– Первый раз слышу.
Рудин пожал плечами.
– Значит, Крамер?
– Да.
Офицер явно был озадачен.
– Партизаны, как правило, в плен не сдаются. Почему ты не оказал сопротивления?
Рудин улыбнулся.
– Это могло стоить мне жизни, а она у меня одна.
Офицер тоже улыбнулся и с этого момента перевел разговор на «вы».
– Какая у вас профессия?
– Инженер коммунального ведомства в городском муниципалитете Москвы. Я работал в отделе, который ведал энергетикой.
– Каков был план нынешней операции вашего отряда?
– По-моему, разведка боем.
– Две роты! – офицер посмотрел на стоявшего у двери немца и рассмеялся. – Ваши разведчики имеют большие глаза и маленькую храбрость. Нас здесь девятнадцать человек.
Офицер крутнул ручку полевого телефона и взял трубку.
– Второй? Здесь – Девятый. Все в порядке, они отступили. Есть пленный… Мне кажется… Нет, мне все же кажется…
Что казалось офицеру, Рудин мог только догадываться. Видимо, не желая говорить в присутствии пленного, офицер приказал конвойному вывести Рудина в коридор.
Рудин решил, что дело обстоит так: офицеру кажется, что пленный представляет интерес, а тот, с кем он говорит по телефону, его интереса не разделяет и, весьма возможно, предлагает пленного без всякой канители ликвидировать. Рудин думал об этом так, будто речь шла совсем не о нем. Вот это и была та угнетавшая его раньше ситуация, когда события становились неуправляемыми, когда нервничай ты, не нервничай, все равно события развертываются без всякого твоего участия. Рудин продумал свои ответы офицеру. Нет, нет, он сделал все, чтобы заинтересовать его своей персоной. Единственная досада, что полицай при обыске взял у него только оружие и не сработало зашитое под подкладку пиджака письмо Крамеру от отца, якобы полученное им еще в Москве в первые дни войны, в котором отец довольно прозрачно намекает сыну насчет голоса крови и призывает его прислушаться к этому голосу. Словом, сейчас все решается в том разговоре офицера по телефону…
Рудина заперли в деревянном сарайчике на школьном дворе. Он сидел на поленнице, стараясь не мучить мозг и нервы раздумьем о том, как сложится его дальнейшая судьба. Ему вспомнилось вдруг, как он мальчишкой на пари стал переплывать Оку и посреди реки его охватил ужас, что у него не хватит сил. Плыви назад, плыви вперед – все равно не хватит. Он начал тонуть. И тут увидел летевшего над рекой голубя, за ним гнался ястреб. Голубь то припадал к самой воде, то взмывал вверх, но ястреб не отставал от него… Но вот голубь сделал крутой маневр, и ястреб проскочил мимо, а голубь повернул к берегу и вскоре исчез там. А Рудин обнаружил, что он не утонул и продолжает плыть к берегу. Он понял простую вещь: нельзя думать, что у него не хватит сил, – эта мысль как раз и отнимает силы. Он стал думать о голубе, который только что на его глазах спасся от смерти. И переплыл Оку.
«Да, бесцельно и даже вредно думать о том, что меня ждет худшее», – решил Рудин и стал тихо декламировать свое любимое стихотворение, жившее в его сердце со школьных лет и с ходом времени вмещавшее в себя все больше, чувств и мыслей:
- Белеет парус одинокой
- В тумане моря голубом!..
- Что ищет он в стране далекой?
- Что кинул он в краю родном?…
- Играют волны, ветер свищет,
- И мачта гнется и скрипит…
- Увы, – он счастия не ищет
- И не от счастия бежит!
- Под ним струя светлей лазури,
- Над ним луч солнца золотой…
- А он, мятежный, просит бури,
- Как будто в бурях есть покой!
«Как будто в бурях есть покой!» – повторил Рудин про себя последние строчки и обнаружил, что это его любимое стихотворение уже вместило в себя и то, что сейчас с ним происходило.
«Как будто в бурях есть покой! – еще раз повторил он. – Почему „как будто“? Ведь есть же особый, высший покой, ощущаемый человеком, оказавшимся в центре бури, которой он не боится. И конечно же Лермонтов эти слова „как будто“ написал как бы не от себя, а от какого-то другого, боящегося бурь человека. И слова эти надо понимать так, что говорит их боязливый человек, не понимающий счастья борьбы».
Потом Рудин стал думать об Андросове. Что он сейчас делает, какими мыслями занят? Изучив словесный его портрет, Рудин так отчетливо представлял себе лицо и всю фигуру Андросова, что ему иногда казалось, будто однажды и даже не раз он уже видел его.
Громыхнула дверная задвижка, в сарайчик хлынул блеклый свет.
– Скорей выходи!
Два полицая вывели его на улицу. У ворот школы стоял грузовик, его шофер, тучный немец с усами на багровой физиономии, стоя на подножке машины, стирал грязь с переднего стекла.
По-прежнему лил холодный дождь. День уже клонился к сумеркам.
Рудина подвели к грузовику и велели залезть в кузов. Вслед за ним в кузов забрались и два полицая. Они приказали ему сесть на пол кузова лицом к задней его стенке, а сами уселись на скамейку, стоявшую у шоферской кабины. Вышедший из школы лейтенант передал полицаям конверт и, не взглянув на Рудина, ушел.
Шофер со злостью захлопнул дверцу кабины, машина рванулась с места и помчалась по селу, вздымая фонтаны грязи.
Рудин подумал, что сейчас его вывезут за околицу и там расстреляют. Но нет, машина, не снижая скорости, мчалась все дальше и дальше.
В сгустившихся сумерках впереди показался большой город, тот самый, куда так стремился Рудин. Машина резко затормозила. Шофер вылез на подножку и, заглянув в кузов, начал по-немецки кричать полицаям, что дальше он их не повезет, что отсюда до лагеря ближе всего, что, наконец, он водит не пассажирский автобус, а военную машину и у него есть свои дела. Черт его попутал, когда он послушался того костлявого лейтенанта.
Рудин видел, что полицаи его не понимают, и сказал им: шофер требует вылезать, так как отсюда до лагеря ближе всего.
Полицаи встревожились. Они, оказывается, не знали, где лагерь. Рудин сказал это шоферу. Тот начал ругаться еще пуще. Он, немец, знает, а они, русские свиньи, не знают собственного хлева! Рудин и это перевел полицаям. Те ответили шоферу бранью по-русски. Завязалась горячая перепалка. Рудин уже не успевал переводить, только слушал, еле сдерживая смех.
– Вон ваш лагерь! – устав ругаться, уже спокойнее сказал шофер, показывая в сторону видневшейся вдали железнодорожной насыпи, на которой стоял длинный товарный состав. Шофер обратился к Рудину: – Переведи им, что нужно только перейти железную дорогу, и тут же – лагерь, который им нужен.
Полицаи слезли с грузовика и приказали слезть Рудину. Машина умчалась, обдав их грязью.
– Иди! – вяло сказал Рудину один из полицаев.
Они шли прямо по раскисшему, чавкающему под ногами лугу. Полицаи матерно ругали шофера.
– Будто это нам надо, а не им, – с руганью сказал один из них.
– Что это за лагерь? – не оборачиваясь, спросил у них Рудин.
– Там узнаешь, – ответил один.
– Санаторий, – прибавил другой, и они рассмеялись.
До насыпи они добрались, когда заметно стемнело, но еще нужно было обойти длинный товарный состав. По ту сторону насыпи происходило что-то непонятное. Там то вспыхивал, то гас яркий свет. Слышались выкрики команд, лай собак и качающийся глухой гул.
Они обошли состав и стали переходить через железнодорожное полотно. Перед ними выросла фигура часового.
– Стой, кто идет? – испуганно крикнул по-немецки солдат.
– Опять двадцать пять! – произнес один из полицаев и, показывая на Рудина, начал кричать солдату, точно тот был глухой: – Вот его… в лагерь… партизан… в лагерь.
Солдат выпученными глазами смотрел то на Рудина, то на полицаев. Видимо, он понял только одно слово – «партизан» и теперь не знал, что ему делать.
– Вызови кого-нибудь из начальства, – спокойно сказал ему Рудин по-немецки.
– Сейчас. А ты посмотри за ними, – также по-немецки сказал солдат Рудину и, отбежав на несколько шагов, засвистел в свисток. К нему подбежал другой солдат, они о чем-то переговорили, и тот, другой, побежал с насыпи вниз. Солдат вернулся и сказал:
– Сейчас придет офицер, – сказал он Рудину, явно не понимая, кто из этих троих партизан.
Рудин видел перед собой громадную равнину, обнесенную высоким забором из колючей проволоки. Там строилась бесконечная серая колонна. То и дело прожекторы со сторожевых вышек обдавали эти шевелящиеся колонны ярким светом и тотчас гасли. Лаяли собаки. Что-то неразборчивое орал высокий голос, усиленный радиодинамиком. Но вот колонна качнулась и двинулась вдоль забора. Прожекторы уже не гасли, и их лучи двигались вслед за колонной. Теперь Рудин ясно понял, что это колонна пленных и что ее ведут к поезду.
Он не ошибся. Когда колонна через ворота вышла из лагеря, ее развернули вдоль поезда и вскоре остановили. Послышались слова команды, и колонна стала разделяться на куски. Потом пленные направились к поезду, каждая группа – к своему вагону.
В это время на насыпь взбежал запыхавшийся немец с нашивками капрала.
– Что тут такое? – спросил он у часового.
– Привели в лагерь какого-то партизана, – ответил часовой и показал на полицаев.
Капрал быстро подошел к ним.
Полицаи подтолкнули Рудина в спину.
– Объясни ему.
Рудин сказал капралу, что он пленный партизан и что его направили в этот лагерь.
– Что за чепуху вы говорите? – тяжело дыша, воскликнул капрал. – Не могли вас сюда направить. Этот лагерь ликвидирован. Где документы?
Рудин спросил у полицаев, есть ли у них какие-нибудь документы.
Один из них выхватил из-за пазухи конверт и отдал капралу. Тот достал из кармана фонарик и, подсвечивая им, прочитал вынутую из конверта бумагу.
– Чертовщина какая-то, – проворчал он, пряча бумагу в карман. – Стойте здесь, я сейчас узнаю.
Капрал побежал вдоль поезда.
Пленные уже залезли в вагоны. Рудин видел, как в стоявший рядом крайний вагон пленные подсаживали своих ослабевших или больных товарищей. Кто-то стонал громко, протяжно, и тихий бас ласково приговаривал:
– Потерпи, потерпи, сейчас…
Стон затих.
Прожектор с угловой вышки водил своим лучом вдоль поезда. В полосе света дождь казался золотым. Посадка заканчивалась. В некоторых вагонах с грохотом закрывали двери.
– Сколько наших похватали! – не то с восхищением, не то огорченно сказал один из полицаев.
К ним подошли два офицера в длинных черных клеенчатых плащах. Мокрые от дождя, их плащи казались сделанными из железа. Пришедший с ними капрал показал на Рудина.
– Партизан – вот этот.
Офицеры удивленно посмотрели на Рудина и переглянулись. Один из них взял у капрала бумажку.
– Посвети!
Офицер прочитал бумажку и тихо сказал что-то другому офицеру; тот кивнул головой. По их приказу капрал привел долговязого солдата.
– Этот крайний вагон ваш? – спросил у него офицер.
– Да.
– Сколько у вас?
– Сто четырнадцать человек.
– Будет сто пятнадцать, для более удобного счета. Посадишь к себе вот этого. – Офицер показал на Рудина.
Солдат уже шагнул к Рудину, но офицер остановил его.
– Подожди, вот документы на него. Сдашь их по месту прибытия и объяснишь, что этого человека взяли в поезд по моему приказанию.
– Будет исполнено, – солдат спрятал бумажку за отворот пилотки и крикнул Рудину: – Ну!
Офицеры ушли. Сопровождаемый долговязым солдатом, Рудин подошел к вагону и, ухватившись рукой за боковину двери, легко впрыгнул в вагон. И тотчас перед самым его лицом с грохотом задвинулась дверь. Непроницаемая темнота. Шорох тихих голосов, приглушенные стоны. В эту же секунду Рудин принял решение. Он должен бежать – больше никакого выхода у него нет. Только бы не заперли вагонную дверь. Но если ее запрут, он взломает зарешеченное колючкой окошко. Сев на пол, Рудин напряженно прислушивался к звукам за дверью.
Когда вагон наполнился рокотом колес, Рудин, ухватившись за край двери, попробовал чуть-чуть ее сдвинуть. Не тут-то было. Упершись в пол широко расставленными ногами, он со всей силой нажал на край двери. Безрезультатно.
Глава 10
Отряд Ольховикова после боя у села Никольского прибывал на новую зимнюю базу. Будницкий уже поджидал его на лесной поляне и сразу повел Ольховикова к Маркову.
Согнувшись пополам, громадный Ольховиков вошел через низкую дверь в землянку и, опасливо глянув вверх, выпрямился.
– Прибыл по вашему приказанию. Операция проведена точно по плану. Потерь нет.
– Как Рудин?
Ольховиков приподнял свои борцовские плечи.
– Что я могу о нем знать? Ушел, и все.
– Когда вы его видели в последний раз?
– Когда шел бой.
– Он вам ничего не говорил?
Ольховиков снова поднял могучие плечи.
– Не до разговора было. Когда бой стал свертываться, я его оставил в кустах.
– Так… – Марков хотел спросить еще что-то, но передумал. – Спасибо, идите отдыхайте, – сказал он.
Спустя несколько минут Галя Громова передала в Москву шифрованную радиограмму:
«Операция по первичному выведению Рудина на цель прошла нормально. Все дальнейшее неизвестно. Рудин чувствовал себя уверенно. Будем ждать. Привет. Марков».
Доложив, что радиограмма передана, Галя продолжала стоять перед Марковым.
– Я все понял. Спасибо, – недовольно сказал Марков.
– Сколько же времени мы ничего не будем о нем знать? – тихо спросила Галя.
– Сколько понадобится, – сухо сказал Марков и с притворным интересом посмотрел на радистку. – А вы что, хотите что-нибудь предложить?
Галя молча повернулась и ушла в свою каморку. В землянке было тихо. С тревожным шорохом за дощатой обшивкой обсыпалась подсохшая земля.
Из-за полога радиорубки доносилось попискивание рации. Очевидно, Галя, как она выражалась, «прохаживалась по эфиру». Но сейчас она не просто так прохаживалась. Настроив приемник на волны, на которых немцы обычно работали открытой радиотелефонной связью, она слушала их переговоры, надеясь перехватить что-нибудь имевшее отношение к Рудину.
«Пфенниг, Пфенниг, я – Марка, я – Марка, – монотонно повторял какой-то немецкий радист. – Дайте генерацию, дайте генерацию, я вас не слышу… – Помолчит с минуту и снова: – Пфенниг, Пфенниг, я – Марка, я – Марка…»
Потом Галя услышала, как какой-то немец острил по поводу холода: «Не знаю, как ты, а у меня мозги замерзли, и я думаю только о стакане спирта». Низкий красивый голос медленно диктовал какие-то непонятные цифры вперемежку с именами: «Десять. Макс. Двадцать четыре. Точка. Феликс, тире. Одиннадцать. Анхен. Тире. Семнадцать. Точка. Сюда не входит сегодняшняя сводка. Повторяю еще раз. Десять. Макс…»
Нет, нет, о Рудине Галя ничего не услышала. А в полночь она приняла радиограмму от товарища Алексея, которая еще больше встревожила всех обитателей землянки:
«Имеем информацию о ликвидации лагеря военнопленных возле нашего города, откуда возили пленных в интересующее вас место. Причины неизвестны. Работавший в лагере советский врач, с которым мы имеем связь, утверждает, будто пленных увезли в другое место, где есть зимнее помещение. Вывоз осуществлен этой ночью. Привет. Алексей».
Марков, не раздеваясь, лег на койку и попытался заставить себя уснуть. Но это был странный сон, когда он все время ощущал себя неспящим и в то же время видел какие-то смутные сны…
Его вывел из этого состояния неугомонный Будницкий, которому было сказано прийти, когда он освободится, и вот в третьем часу ночи он счел себя освободившимся.
Марков ему обрадовался: можно заняться делом и отвлечься от тревожного и бесплодного раздумья. Они расстелили перед собой подробную карту района.
– Придется вашим людям еще поработать для нашего хозяйства… – медленно сказал Марков; он еще не освободился от сонного оцепенения.
– А мы и не думали, что все уже сделано… – Будницкий по-хозяйски оглядел землянку. – Потолок будем укреплять.
– Погодите вы с потолком, – недовольно сказал Марков. – Тут новое дело. Нам надо в разных местах, но обязательно в лесу и в большом отдалении от базы отрыть три маленькие землянки. Чтобы сбивать противника с толку, если он займется пеленгацией, мы должны нашу рацию систематически перемещать.
– Ясно. Укажите места и размер землянок… – Старшина вытащил из-за голенища замусоленный блокнот.
Будницкий ушел.
– Что-нибудь новое есть? – крикнул Гале Марков.
Полог пошевелился и чуть приоткрылся.
– Ничего, товарищ подполковник.
…Поезд с пленными продолжал идти на запад. Рудин подсчитал, что от места отправки он удалился не меньше как на сорок-пятьдесят километров. Хорошо помня карту этой местности, он подсчитал, что скоро поезд должен проходить через большой лесной массив. Рудин встал. Разглядеть, что делается в вагоне, он не мог. За грохотом колес ничего не было слышно. Рудин сделал шаг в сторону от двери, наткнулся на чье-то тело. Он пригнулся и, ощупывая руками сидящих и лежащих людей, начал продвигаться к чуть светлевшему в темноте окну. Ему пришлось влезть на нары. Возле окна, прижавшись лицом к проволочной решетке, сидел бородатый человек в изодранной тельняшке. Рудин протиснулся к нему вплотную и немного отжал его от окна.
– Я решетку попробую, – шепнул ему Рудин.
Бородач ничего не сказал, но отодвинулся.
Рудин ощупал и осмотрел крепления решетки. Колючка была прибита гвоздями к деревянной раме. Не раздумывая, Рудин обвернул руку полой пиджака, ухватился за центральное сплетение проволоки и изо всей силы рванул на себя. Сорванная сразу с нескольких гвоздей решетка обвисла. Еще рывок, и вся решетка была в руках Рудина; он выбросил ее в окно.
– Я с тобой, – жарко, в самое ухо ему проговорил бородач в тельняшке.
– У тебя товарищи есть? – спросил Рудин. – Может, они тоже?… Я выберусь, и минут через пятнадцать вылезайте вы… Помоги…
С помощью бородача Рудин ногами вперед спустился из окна и стал на карниз вагона. Прижавшись к дрожащей стене вагона, ощущая упругие толчки воздуха, Рудин осмотрелся. Поезд шел в сумрачном коридоре леса. И вдруг Рудин рядом увидел небрежно повязанную проволокой щеколду вагонной двери. Держась одной рукой за окно, Рудин размотал проволоку и откинул щеколду. Подтянувшись на руках к окну, Рудин увидел бородача.
– Я дверь открыл.
– Спасибо… – Бородач исчез в темноте вагона, и тотчас Рудин увидел, что дверь стала отодвигаться.
Теперь надо самому прыгать как можно скорей: бегство большой группы пленных может быть замечено охраной поезда. Рудин уперся ногой в карниз вагона и сильно оттолкнулся. Воздушным вихрем его перевернуло в воздухе и отшвырнуло в сторону. Он врезался в густой кустарник и провалился в канаву.
Поезда уже не было слышно. Саднила правая сторона лица. Рудин попробовал это место рукой и нащупал глубокую царапину возле уха. «Ладно, неважно, – сказал он себе. – Самое главное – нужно немедленно уходить подальше от этого места».
Он выполз из кустов и, поднявшись на ноги, сделал приседание. Ноги были целы, а вот левая рука тупо ныла в плече. Попробовал поднять ее вверх и чуть не вскрикнул от резкой боли. Сжав зубы, он правой рукой несколько раз дернул левую и через страшную боль почувствовал, как выбитый сустав стал на место. Боль стала гаснуть. Лес молчал, только все шумел и шумел дождь. Рудин перешел через железнодорожное полотно и стал углубляться в лес. Отойдя от дороги километра на три, он повернул направо и пошел параллельно дороге. Никакого реального плана действий сейчас у него не было. Им руководила только одна мысль: он должен как можно скорее снова оказаться вблизи заветного города. Он шел всю ночь и сделал первый привал, когда рассвет пробился в лес и можно было отыскать сухое местечко, чтобы присесть.
«Продолжать идти или до ночи спрятаться? – вот о чем думал Рудин, прислушиваясь к ровному шуму дождя. – Нет, сидеть нельзя. Еще осторожнее, но все равно идти. Во что бы то ни стало идти».
Рудин встал и зашагал дальше, напряженно следя за всем вокруг. Но лес был точно вымерший. За несколько часов пути Рудин не увидел ни одной птицы, и ничто не говорило о том, что здесь прошла война.
Во второй половине дня Рудин заметил, что лес редеет, и вскоре он кончился совсем. До самого горизонта простиралась равнина с очень редким кустарником. Выяснилось, что он приблизился к железной дороге. Или, может быть, дорога еще в лесу сделала поворот. Во всяком случае, первый звук жизни, который он услышал здесь, на окраине леса, был протяжный гудок паровоза, а затем он увидел вышедший из леса поезд. Значит, снова надо брать влево.
Около часа Рудин наблюдал за равниной, но ничего подозрительного не заметил. Пройдя километра два по окраине леса, он вышел на равнину. Идти здесь было труднее, чем по лесу. Размокшая от дождя земля липла к ногам, дождь хлестал в лицо так сильно, что приходилось идти, выставив вперед плечо. С наступлением темноты стало еще хуже. Он то и дело попадал в ямки с водой, спотыкался, напарывался на кусты.
Внезапно перед ним возник черный силуэт одинокой избы. Пахло дымом. На отдалении обойдя вокруг избы и не заметив там никаких признаков жизни, он, бесшумно ступая, приблизился к ней.
– Ты кого ищешь, божий человек? – услышал он тихий старческий голос из темноты.
Рудин сжал в руке тяжелую палку, с которой он шел.
– Попить не дадите?
– Почему не дать? Вода не золото, заходи.
В темноте возле избы что-то шевельнулось, и от стены отделился сгорбленный человек. Рудин подошел ближе и разглядел старика, на котором была коротенькая солдатская шинель и шапка с торчащими в стороны ушами.
– Держись за меня, тут склизко, – предупредил старик, направляясь к двери.
В избе Рудин остался у двери. Старик, чиркнув спичкой, зажег коптилку, сделанную из немецкой консервной банки, и оглянулся на Рудина.
– Чего стоишь? Проходи. Садись с дороги.
Рудин сел на лавку. Старик поднес ему ведро, в котором позвякивал ковшик:
– Пей на здоровье.
Рудин жадно выпил целый ковшик и зачерпнул еще. Старик взял его за руку.
– Погоди, а то, как конь, сядешь на задние ноги. Поесть не хочешь?
– Хочу.
– То-то же, а то пьет, пьет, будто чем объелся… – ворчал старик, доставая что-то из настенного шкафчика. Он положил на стол перед Рудиным кусок ржаной лепешки и поставил глиняную миску.
– Макай, там конопляное масло.
Пока Рудин возился с окаменевшей лепешкой, старик молча смотрел на него, делая беззубым ртом жевательные движения.
– Откуда же ты и куда путь держишь? – спросил он, садясь рядом с Рудиным. – Войну, что ли, догоняешь?
– Иду, дед, в город… по делам… – устало ответил Рудин. – Спасибо тебе за еду, а заплатить мне нечем.
– А с тебя плату разве кто спрашивал? – сердито сказал старик.
– Спасибо. Мне надо идти.
– Вроде же ты и не солдат. Что же это у тебя за дела, когда кругом война? Или ты, может, к новым господам в услужение поступил?
– Нет, дедушка.
– Стало быть, ты партизан? – вдруг быстро спросил старик.
– Нет, дедушка, – ответил Рудин. – А что?
– Да ничего… для интереса спросил.
– Слушай, дедушка, если отсюда идти прямо на город, могу я на немцев напороться?
– Да как тебе сказать? – Старик явно соображал, говорить ему или нет, но все же решился. – Если пойдешь версты на две стороной от железки, то их вроде и не будет. Но они ведь что твои клопы – по всем стенам ползают. – Старик помолчал. – А партизан не боишься?
– Нет, дедушка, не боюсь.
– Тогда иди от железки стороной версты на четыре, так тебе будет еще спокойнее.
– Спасибо, дедушка! – Рудин встал. – Как звать-то тебя?
– Степан, а все вокруг зовут меня Ведьмаком. – Он тихо рассмеялся. – Это за то, что я на болоте живу.
– Спасибо, дядя Степан. До свидания.
– Бог тебе по пути.
Рудин пошел, как советовал старик, значительно левее. Под ногами по-прежнему чавкала раскисшая земля, но идти теперь было легче; это, наверно, потому, что после встречи со стариком на душе у него стало чуть светлее…
– Эй, ну-ка, стой! – приказал сиплый голос из темноты. – Руки, руки подыми, а то не ровен час…
Рудин остановился и поднял руки. От куста отделилась и приблизилась неясная в темноте человеческая фигура.
– Кто таков?
– Советский человек.
– Советскими все зовутся. Отвечай: кто, откуда и куда идешь?
– Это долго рассказывать. Если ты партизан, веди меня к командиру.
– Оружие есть?
– Нет.
– Тогда шагай вон туда и не оглядывайся.
Кусты становились все гуще, и вскоре начался лес. Неизвестно откуда возле Рудина появились еще два человека, а когда они углубились в лес километра на три, их остановил невидимый часовой. Один из сопровождавших Рудина сказал часовому пароль, и они пошли дальше. Вскоре его ввели в тесную землянку, в которой у опрокинутого ящика сидели и пили чай два бородатых человека неизвестного возраста. Их стол бедно освещала подвешенная к потолку керосиновая лампа с закопченным разбитым стеклом. Один из бородачей с недовольным лицом поставил на стол недопитую кружку чаю.
– Мне сказали, что ты просил вести тебя ко мне. Что тебе надо?
– Если вы командир отряда, я хотел бы говорить с вами с глазу на глаз.
– Ишь ты! – он подмигнул другому бородачу. – Это ты брось, от комиссара отряда я секретиться не буду. Говори, кто ты и что тебе надо.
– Пусть выйдет боец, – сказал Рудин, оглянувшись на стоявшего у входа партизана, который его привел.
– Ну, ладно. Петрок, выйди на минутку… Ну, я слушаю.
– Вы связаны с товарищем Алексеем? – спросил Рудин.
Бородачи смотрели на него невозмутимо.
– А что?
– Я просил бы передать ему радиограмму, которую я напишу.
Комиссар запустил руку в ящик, возле которого они сидели, вытащил лист бумаги и подал его Рудину.
– Пиши!
Рудин написал: «Сообщите Маркову, что со мной произошло осложнение, я был отправлен с эшелоном пленных. Бежал. В настоящее время нахожусь у… – Тут Рудин сделал пропуск. – Снова выхожу на прежнюю цель».
– Сами вставьте, у кого я нахожусь…
Бородачи вместе прочитали написанное Рудиным, переглянулись. Помолчали. Командир отряда встал.
– Хорошо. Сейчас передам, но до получения ответа ты останешься здесь.
– С удовольствием, – улыбнулся Рудин.
Командир вышел из землянки, комиссар предложил Рудину поесть.
– Не отказался бы. За двое суток я съел только кусок каменной лепешки, – сказал Рудин.
– У Ведьмака? – улыбнулся комиссар.
– У него.
– Не удивляйтесь. Когда вы были у него, там были и наши люди.
– Хорошая работа, – рассмеялся Рудин.
Вернулся командир отряда.
– Сейчас передадут.
Теперь из землянки вышел комиссар, но вскоре вернулся, неся кусок сала и каравай черного хлеба.
– Чем богаты, тем и рады.
Рудин еще не успел поесть, как радист принес ответ на радиограмму:
«Ваше сообщение передано Маркову. Оставайтесь в отряде до получения указаний от вашей базы, которые мы передадим вам немедленно по получении».
И еще одна радиограмма адресовалась командиру отряда Нагорному:
«Находящемуся у вас человеку окажите полное доверие и необходимую помощь. Алексей».
Глава 11
Второй день после ухода Рудина был на исходе. И хотя Марков отлично понимал, что рано ждать от него каких бы то ни было известий, освободиться от нервного напряжения ему не удавалось.
Вечером пришел Савушкин. Он ходил на разведку района, где, по данным, полученным из Москвы, гитлеровцы строили большой аэродром.
В свое время, когда Марков формировал оперативную группу и первый раз поговорил с Савушкиным, у него сложилось о нем неважное впечатление. «Паренек легковесный, на серьезное дело посылать нельзя», – решил Марков. Он сказал об этом комиссару госбезопасности Старкову, а тот немедленно вызвал к себе непосредственного начальника Савушкина и спросил у него, зачем Маркову рекомендован несерьезный человек.
– Могу сказать одно, – ответил начальник, – если Савушкин останется у меня в отделе, буду очень рад, это мой лучший работник.
Он рассказал об операциях, самостоятельно проведенных этим «несерьезным», смешливым работником. В них рельефно был виден настоящий Савушкин – живой, умный и острый человек.
– Да, да, я вспомнил его, – сказал Старков. – Вы напрасно, товарищ Марков. Савушкин действительно цепкий работник, а главное – имеет на плечах собственную голову.
Маркову пришлось извиниться перед начальником Савушкина…
И впоследствии, когда в Москве шла подготовка группы, Марков сам убедился, что не зря начальник считал Савушкина лучшим своим сотрудником. Все же один недостаток у него был, хотя Марков и не очень был уверен, что это действительно недостаток. В характере Савушкина жила азартность; он, как шахматист авантюрного стиля, в любом деле искал ходы к обострению и усложнению. Для него не было большего удовольствия, чем придумать по ходу дела неожиданный поворот.
Вот и сейчас, увидев вернувшегося с задания Савушкина, Марков по его весело блестевшим глазам угадал, что Савушкин доволен своей разведкой и что у него случилось что-то неожиданное и интересное.
– Во-первых, данные Москвы абсолютно точные: немцы строят там большой аэродром, – докладывал Савушкин. – Сказать точнее – переоборудуют и расширяют наш военный аэродром. Одну бетонную полосу они уже заканчивают, другую – обводную – сделали наполовину. Во-вторых, я познакомился там с полковником инженерных войск Конрадом Хорманом – личностью абсолютно исключительной. Более тупого и ограниченного человека я не встречал за всю свою жизнь. Мне повезло…
– Нельзя ли конкретнее? – прервал Савушкина Марков. – Я сейчас очень занят.
– Рудин? – с наигранной беспечностью спросил Савушкин и, видя, что Марков отвечать ему не собирается, сказал: – Есть конкретней. Когда я пойду туда второй раз, я могу сделать, на выбор, следующее: а) притащить полковника сюда; б) попросту его ликвидировать; в) позаимствовать его портфель. И как резерв – привлечь его к работе на нас.
– Нам исключительные дураки не нужны, – сухо обронил Марков.
– Он дурак во всем, что не касается его инженерных дел, – пояснил Савушкин. – А в своем деле он, надо думать, специалист высокого класса. Он сказал мне, что за строительство Темпельгофского аэродрома в Берлине он награжден орденом, и даже показал мне этот орден; он носит его в заднем кармане брюк в замшевом чехле.
– Как вы с ним познакомились? – спросил Марков.
– На почве ревности, – последовал мгновенный ответ. И затем Савушкин рассказал историю своего знакомства с немецким военным инженером.
Придя в поселок, где жили вольнонаемные рабочие стройки, Савушкин быстро сошелся там с одним разбитным пареньком, по имени Анатолий. Довоенная специальность паренька – карманный вор. В сороковом году он попал в тюрьму, из которой его вызволили немцы. На стройке аэродрома он работал учетчиком земляных работ. Савушкин выдал себя за бывшего преподавателя танцев в Минске, сказал, что не успел эвакуироваться и теперь ищет теплое местечко при немцах. Он дал Анатолию понять, что у него есть идея, как хорошо заработать на спекуляции продуктами. Весь, мол, вопрос в том, чтобы вовлечь в это дело какого-нибудь немца, имеющего власть и тоже желающего подзаработать.
Анатолий сразу же назвал имя инженера Хормана.
– Лысый кот, – сказал он, – ходок по бабам, выпить дока и «навар» любит похлеще нашего.
Знакомство с инженером Хорманом состоялось в тот же день на квартире у некоей Тоськи.
– Шалавая баба из наших. У нее подушка круглые сутки не стынет. Ловкая, как хорек! – восхищенно говорил Анатолий, когда они шли с Савушкиным к этой Тоське. – Немцы липнут к ней, как мухи на клейкую бумагу. Ну а теперь у нее любовь с этим Хорманом; он у нее днюет и ночует, одаривает ее грабленым барахлом. Вот там мы с ним сейчас и потолкуем.
– По-нашему он понимает? – спросил Савушкин.
– Когда дело идет о «наваре», все, гад, понимает и сам лопочет разборчиво. В общем, договориться можно. А Тоське я что скажу, то она и сделает.
Тоська оказалась довольно красивой женщиной лет тридцати. Наделенная хитростью базарной торговки, она прекрасно освоилась с новым гитлеровским порядком и жила припеваючи. Хорман зачислил ее на какую-то фиктивную должность. Жила она в отдельном домике на окраине бывшего авиационного городка. Все три ее комнаты были тесно уставлены разносортной мебелью, натасканной из покинутых квартир. Стены были увешаны картинами – копиями с известных полотен. На рамах картин оставались несорванные инвентарные бляхи с тавро «Дом офицера».
– Хочешь жирно позолотить ручку? – с места в карьер спросил у нее Анатолий, представив ей Савушкина как своего старого приятеля по имени Вова.
– А кто же этого не хочет? – лениво отозвалась Тоська, запахивая полы зеленого японского халата.
– Когда придет шеф? – осведомился Анатолий.
– Должен быть… – неопределенно ответила Тоська.
– Обещал?
– Да вот жду.
– Тогда так: ставь на стол шнапс. Хорману скажем, что Вова – твой бывший ухажер. Мол, разыскал тебя и явился. А дальше уже дело не твое. Пойдет так для начала? – спросил он Савушкина.
– Пойдет, – улыбнулся Савушкин.
Вскоре явился Хорман. Это был обрюзгший и явно не следящий за собой мужчина лет сорока пяти. Плохо побритый, в помятом кителе, он поминутно вытирал грязным платком лоб и лысину.
Знакомство с бывшим ухажером Тоськи его явно не обрадовало. Он насупился и пить наотрез отказался. Савушкин тоже держался угрюмо. Что касается Тоськи, то ей эта ситуация явно нравилась; она делала глазки Савушкину, отчего Хорман становился еще мрачнее.
Анатолий не унывал, буйно жестикулируя руками, будто говорил с глухонемым. Он объяснил Хорману, что Вова не собирается увозить Тоську и что вообще он ее начисто разлюбил. Однако Вова хотел бы иметь какую-нибудь компенсацию. И тут Анатолий выложил Хорману идею Вовы, как из продуктов сделать ценности.
Хорман заметно оживился и действительно стал лопотать по-русски вполне понятно, хотя и очень смешно. Угрюмость его прошла. Более того, он дал понять, что в коммерции, которую Вова предлагает, он хотел бы иметь дело непосредственно только с ним, Вовой, «без какой контрагент абер комиссионер…»
На том и договорились. Анатолий прикинулся обиженным и вскоре ушел.
Савушкин с Хорманом выпили по рюмочке за успех коммерции и еще по рюмочке – за счастье Хормана с Тоськой. Савушкин сказал, что еще сегодня он отправится в ближайший город подыскивать клиентов, которые имеют ценности…
Выслушав рассказ Савушкина, Марков вызвал Галю Громову и передал ей краткую радиограмму в Москву о результатах разведки. Соприкосновение с живым делом несколько успокоило его. Отпустив Савушкина, он прилег на койку и неожиданно для себя уснул.
Его разбудил крик Гали. Высунувшись из-за полога, она кричала:
– Рудин объявился! Рудин объявился!
Глава 12
Партизанский отряд, в который попал Рудин, был совсем небольшой, всего тридцать бойцов.
– Ничего, ничего, – посмеиваясь в бороду, говорил Рудину командир отряда Нагорный. – Надо помнить, что человечество начиналось с одного Адама.
– Не забудь еще его Еву, – раскатисто захохотал комиссар отряда Лещинер. – Тем более что у нас с тобой была вполне аналогичная ситуация: все началось с нас двоих.
Рудин узнал от них простую историю их партизанского отряда. До войны Нагорный был директором совхоза, расположенного западнее Минска, возле старой советско-польской границы. Лещинер в том же совхозе был агрономом и секретарем партийной организации. Когда началась война, они получили приказ эвакуировать коллектив совхоза и уничтожить все постройки и технику. На транспорте, которым располагал совхоз, они отправили на восток рабочих с их семьями и остались вдвоем.
Они взорвали электростанцию и сыроварню, всю технику вывели из строя, зарыли в землю наиболее важные части машин, а сами ушли на восток. Шли пешком, потому что полуторка, которая должна была за ними вернуться, почему-то не пришла. Они не добрались и до Минска, как были отрезаны немецкими войсками.
Оба они были абсолютно штатскими людьми, даже в юности не служившими в армии. То, что у них было по нагану и по полусотне патронов к ним, ничего для них не значило, кроме возможности застрелиться в безвыходном положении. Об этом они и договорились, как только поняли, что путь на восток отрезан. Но все же они решили пробиваться. Им даже показалось, что это не так трудно, – нужно только держаться подальше от дорог. Они не знали, что это была та пора войны, когда гитлеровцы, прорвав нашу оборону, делали бросок колоннами по дорогам. Однако, пока они дошли до района Борисова, картина войны уже сильно изменилась. Где-то далеко на востоке все упорнее становилось наше сопротивление, и как река, остановленная плотиной, начинает выходить из берегов и разливаться, так и немецкая армия начала растекаться в стороны от основных коммуникаций и затоплять все более обширную территорию. Вскоре они поняли, что к своим они не прорвутся, зашли в глубь леса и засели там, не представляя себе, что делать дальше. Ясно было только одно: жить с немцами в мире они не будут. Спустя два дня к ним прибился шедший из окружения офицер саперных войск; затем к ним присоединился экипаж сбитого бомбардировщика. Прошло две недели, и их отряд уже насчитывал более двадцати человек и начал действовать.
– Знаешь, когда мы окончательно поняли, что войну мы выиграем? – смеющимися глазами смотря на Рудина, спросил Нагорный. – Ровно месяц назад. Вдруг является к нам дядька. Представитель подпольного обкома партии. Сердитый такой. Давай расспрашивать да спрашивать, кто мы такие. Партизаны, отвечаем. По чьему указанию, спрашивает, создан отряд? Лещинер ему говорит: по указанию партийной совести. «Это, – говорит, – я понимаю, но мне нужно знать точно, какой именно райком, горком или обком». Мы удивляемся: для чего ему эти точности? Оказывается, для учета. Рассказали мы ему всю нашу историю, показали тетрадь с записью боевых действий. Тетрадь он похвалил, сказал «молодцы» и процитировал Ленина, что социализм – это учет. И тут же приказал, чтобы мы составляли еженедельные рапортички, и даже вручил нам форму – честь по чести, отпечатана в типографии. Смотрим мы на эту форму, на него, слушаем его строгий голос, а в душе у нас просто музыка играет. Ну, думаем, теперь все в порядке. Угостили мы его по-царски. Хороший мужик оказался. Ходит, понимаешь, по лесам и учет налаживает. Оказывается, он и до войны в обкоме партии тоже на учете кадров сидел. Так вот после этой ревизии мы окончательно и бесповоротно поверили в нашу победу…
Рудин слушал рассказ бородачей, смотрел на них – веселых, уверенных, – и на душе у него становилось все спокойнее, и все, что произошло с ним за последние сутки и еще недавно казалось ему исключительным, становилось в один ряд с делами и трудностями этих людей, и рождающееся из этого ощущение боевого товарищества как бы включало его и его дело в общую героическую борьбу народа. Вот почему, когда Нагорный вдруг спросил у Рудина, чем он тут в тылу занимается, Рудин смешался, не зная, как ответить, а потом совершенно искренне сказал:
– Ничего особенного, но я о своей работе попросту не имею права говорить. Не обижайтесь.
Бородачи не обиделись.
Уже за полночь были получены две радиограммы от товарища Алексея.
Одна – для Рудина. Он прочитал:
«Одновременно командир отряда получит соответствующие указания. Далее следует текст, полученный нами от Маркова для вас: „Продолжайте выход на цель. Версию появления придумайте сами. Особенно тщательно взвесьте объяснение своего побега из эшелона. Рады, что благополучно вышли из осложнения. Все желаем вам успеха. Марков“».
В радиограмме на имя Нагорного говорилось о необходимости выделить человека, который безопасным путем провел бы Рудина к городу.
– Когда пойдете? – спросил Нагорный.
– Сейчас, – ответил Рудин.
Они шли по лесу. Впереди скорой подпрыгивающей походкой шел Ваня Козляк – лучший разведчик отряда, совсем юный паренек маленького роста. Всем своим обликом он был похож на деревенского школьника-забияку.
– Жаль, что дождь перестал, – обернувшись назад, на ходу сказал Козляк.
– Почему? – механически спросил Рудин, который в это время обдумывал версию своего нового появления близ города.
– Фриц – он дождя не любит. Он тогда на воздух только до ветру вылезает, – словоохотливо начал пояснять Козляк и рассмеялся. – У меня смешное дело с фрицами вышло третьего дня. Пошел я…
– Погоди, – остановил его Рудин. – Мне нужно обдумать свои дела.
Больше Козляк за всю дорогу до города не произнес ни слова. Только утром, когда, пересекая шоссе, он побежал, а Рудин немного отстал от него, паренек обернулся и, зло прищурясь, беззвучно шевельнул губами. Рудин понял, что он ругается, и послушно прибавил шагу.
До города оставалось не больше двух километров, он был уже хорошо виден. Козляк остановился так внезапно, что Рудин натолкнулся на него.
– Значит, так… – сказал Козляк, смотря в сторону города. – Видите колокольню со сбитой верхушкой? Это самый центр города. А главная улица, которая идет сквозь весь город, начинается вон там, где два отдельных дома. Самое лучшее – тут в город и войти. Дорога туда идет вон за теми кустами. Фриц на запад смотрит спокойно, он, дурак, думает, что на западе его Германия, а не мы. Так что отсюда войти в город лучше. Дальше так: поравняетесь со стадионом и берите влево вдоль стадиона. Кончится стадион – и сразу направо рынок. Потолкайтесь там по рынку, а потом идите, куда вам надо. Я всегда к делу иду от рынка. Фриц дурак, думает, раз человек идет с рынка, значит он мирный. Все понятно?
– Вполне, – улыбнулся Рудин. – Спасибо тебе.
– Не стоит благодарности, – сухо отозвался Козляк, круто повернулся и пошел назад, насвистывая «Мельника» Шуберта – любимую песенку учителей пения в школах. Как видно, еще не забыл партизанский разведчик свою школу…
Рудин поступил так, как советовал Ваня Козляк: вошел в город с запада, прошел до стадиона, свернул налево и вскоре оказался на рынке. Попадавшиеся ему по пути немцы не обращали на него никакого внимания. Между тем Рудину хотелось, чтобы они были к нему повнимательней и, может быть, даже задержали его. По придуманной им версии это было бы лучше. Но все немцы были заняты какими-то своими делами.
Денек был хоть и солнечный, а холодный, железные крыши домов побелил иней, тускло блестели замерзшие лужи. На севере небо было темно-свинцового цвета и обещало уже не дождь, а снег.
Рудин решил: если он на рынке найдет Бабакина, он сделает так, чтобы тот его только увидел. Подходить к нему он не будет.
Рынок был людный, но выглядел очень странно. Здесь не было обычной бестолковой и нервной суеты, и на нем больше было мужчин, а не женщин, как обычно. Эти мужчины стояли, держа в руках нехитрый товар: кто старое пальто, кто стоптанные валенки, кто – что. Один мрачный дядя в черной шляпе держал в вытянутой руке надраенный медный подсвечник. Он стоял, будто в церкви, – торжественно и в то же время просительно. Солнце весело играло на его нелепом товаре.
Рудин знал, что Бабакин должен иметь на рынке комиссионную торговлю. Укрывшись за спиной человека, который продавал нарезанное на мелкие дольки сало, Рудин начал осматривать рынок и вскоре увидел Бабакина. Тот стоял возле открытого ларька, оживленно разговаривая с инвалидом на самодельной деревянной култышке. На Бабакине было добротное темно-серое пальто и пыжиковая шапка. На ногах – сапоги с калошами, лицо тщательно выбрито, усы и борода аккуратно подстрижены. Говоря, он то и дело степенным жестом подправлял пальцем усы. Рудин подошел ближе и остановился шагах в трех, не сводя глаз с товарища.
Их взгляды встретились. Рука, поднятая Бабакиным к усам, на мгновение замерла, но больше он ничем не выдал того, что узнал Рудина, и продолжал разговаривать с инвалидом. Рудин чуть улыбнулся ему.
Бабакин, видимо, думал, что Рудин хочет к нему подойти, и начал прощаться с инвалидом. Когда тот заковылял прочь, Бабакин прошел в ларек и стал там, облокотясь о прилавок. Он пристально смотрел на Рудина. Снова их взгляды встретились. Рудин едва заметно качнул головой, повернулся и пошел к рыночным воротам. И снова на него нахлынуло успокаивающее ощущение его принадлежности к великому боевому товариществу.
Рудин шел к центру города неторопливо, походкой человека, любопытного ко всему, что он видит. Он постоял возле немецкого солдата, который подкачивал колесо своего мотоцикла. Потом пошел дальше. Он тщательно выбирал немца, к которому обратится со своим подготовленным вопросом.
Навстречу ему медленно шел офицер в кожаном длинном пальто. Он, наверное, прогуливался, и у него было хорошее настроение. Устремив вперед рассеянный взгляд, он задумчиво улыбался. Увидев остановившегося перед ним Рудина, офицер вздрогнул и даже сделал шаг в сторону; глаза стали настороженными, правую руку он опустил в карман пальто.
– Что вы хотите? – спросил он по-немецки.
– Простите, пожалуйста, – тоже по-немецки заговорил Рудин. – Не скажете ли вы мне, где здесь военная комендатура?
Офицер внимательно и даже с любопытством посмотрел на Рудина и ответил:
– Центральная площадь, точно против церкви.
– Спасибо, извините, – подобострастно сторонясь, Рудин даже сошел с тротуара.
Возле комендатуры стояло несколько легковых машин, а у подъезда прохаживался часовой. Он ничего не спросил, только, остановясь, проводил Рудина взглядом, пока тот поднимался по ступеням и входил в дверь.
В вестибюле у столика, уставленного телефонами, сидел молоденький лейтенант. Над ним на стене была прикреплена табличка: «Дежурный офицер». Окинув Рудина быстрым, оценивающим взглядом, лейтенант вышел из-за стола.
– Вам кто, куда? – спросил он по-русски, произнося каждое слово раздельно.
– Мне нужно к кому-нибудь из начальников, – по-немецки ответил Рудин.
Лейтенант еще раз, как бы переоценивающе – точно в первый раз его обманули, – посмотрел на Рудина, на его мятую, грязную одежду.
– Не можете ли вы сказать, какое у вас дело, это поможет мне правильно подсказать необходимую вам комнату.
– О деле я буду говорить с начальником, – чуть раздраженно сказал Рудин.
Лейтенант пожал плечами, подумал и спросил:
– Это касается чисто военного дела или имеет связь с вопросом контакта с населением?
Рудин понял, что лейтенант действительно не знает, куда его направить, и боится нарушить священный истинно немецкий порядок своего учреждения.
– Да, контакт с населением, – сказал Рудин. Лейтенант прямо обрадовался. Он шагнул к столу и нажал там кнопку. Из двери сбоку выбежал солдат в очках. Лейтенант показал ему на Рудина и сказал:
– Проводите господина в комнату номер четыре…
Рудин вошел в узкую длинную комнату, в конце которой за столом спиной к окну сидел офицер. Стоя у двери, Рудин видел только его силуэт: большую круглую голову на короткой шее и широкие плечи.
– Подойдите ближе, – произнес офицер довольно чисто по-русски.
– Благодарю вас, – по-немецки сказал Рудин, подходя к столу. Теперь он хорошо видел немца. Это был майор. На груди у него висел почетный знак «За Францию» и неизвестный Рудину ромбовидный орден. У майора было простецкое и какое-то увядшее лицо, с мягкими, почти бабьими чертами.
– У меня очень сложное дело, господин майор, – сказал Рудин. – Я даже не знаю, как начать.
– Откуда вы так хорошо знаете наш язык? – спросил майор, бесцеремонно рассматривая Рудина.
– Я наполовину немец, по отцу… – ответил он. – Уроженец республики немцев Поволжья. Моя фамилия Крамер.
– О-о! – воскликнул майор. – Эта республика – предмет большого любопытства нашей семьи. Там жил один наш дальний родственник. А что вы делаете здесь?
Рудин ответил не сразу; он помолчал в замешательстве, как бы не решаясь сказать всю правду.
– Я, господин майор, бывший партизан, – сказал наконец Рудин, опустив голову.
– Партизан? – глаза у офицера округлились. – А что это значит – бывший?
– Вообще-то я инженер-электрик. Но я был мобилизован в Москве, как знающий немецкий язык, и заброшен к партизанам в качестве переводчика. Три дня назад меня послали в бой у села Никольского, это километрах в двадцати отсюда.
– Никольское? – спросил майор. – Одну минуту. – Он вынул из стола папку и, отыскав в ней какую-то бумажку, внимательно ее прочитал. – Так, так… Ну и что же?
– Во время ночного боя я нарочно ушел от своих и сдался в плен.
Майор заглянул в бумагу и спросил:
– И вас отправили в лагерь военнопленных?
– Да. Это был самый страшный момент в моей жизни.
– Почему же вы на свободе?
– Я бежал.
– Не врите. Из лагеря такого типа бежать нельзя, – почти обиженно сказал майор.
– Я, господин майор, бежал не из лагеря. Когда меня доставили туда, лагерь как раз эвакуировался, и меня тоже посадили в поезд, и в пути я выпрыгнул из вагона.
– Чтобы явиться затем сюда? – недоверчиво усмехнулся майор. – Очевидно, вы очень хотели познакомиться со мной?
– Мне не до шуток, господин майор, – огорченно сказал Рудин.
– Я у вас спрашиваю, зачем вы сюда явились?
– Вы должны понять мое положение, господин майор. Для партизан я пропал без вести. Сдаваться в плен живым у нас не полагается. Вернуться туда для меня означало бы попасть под расстрел. Но дело не в этом. Я же твердо решил, что мое место среди немцев. И вообще все это не так просто. В первые дни войны, еще в Москве, я получил письмо от отца. Он писал мне, чтобы я прислушался к голосу крови. Тогда, прочитав это, я улыбнулся, подумал, что мой наивный старик все еще слышит песню о Лорелее. А когда, находясь уже здесь, я увидел немцев, услышал немецкую речь, стал свидетелем грандиозного подвига немецкой армии, во мне произошло что-то необъяснимое. Я просто не мог себе представить этих людей своими врагами, в которых я должен стрелять. Наоборот, моими врагами стали партизаны, которые, словно чувствуя это, относились ко мне безобразно. И я пошел в плен. Но я это сделал совсем не для того, чтобы провести войну в лагере для пленных. Однако со мной никто из ваших толком не пожелал разговаривать. А потом эта страшная нелепость: меня бросают в поезд, везут неизвестно куда. И я бежал…
– Но вы могли бы все объяснить по месту прибытия поезда, – сказал майор, который слушал теперь Рудина более заинтересованно.
– Нет, господин майор. Одно дело – все выяснить здесь, когда у вас есть возможность быстро и легко проверить все, и то в том числе, при каких обстоятельствах я сдался в плен. Другое дело – пытаться уверить в своей правдивости, находясь за тридевять земель от фактов.
– Это, впрочем, верно, – сказал майор и, помолчав, продолжал: – Но я ничего конкретного предложить вам не могу. Мы – организация чисто военная, для нас люди из среды противника – или цель для стрельбы, или пленные. Я могу сделать только одно: снова отправить вас в лагерь военнопленных. То, что вы советский немец, – обстоятельство любопытное, но никак не решающее, и мне некогда разбираться в этих тонкостях.
– Разве вам не нужны переводчики, одинаково хорошо знающие оба языка?
– Мне лично не нужны, я говорю по-русски. В отношении же других я ничего не знаю, ибо я не отдел кадров. – Майор, смотря на уныло опустившего голову Рудина, задумался и сказал: – Скорей всего, вы могли бы заинтересовать нашу службу невоенного порядка. Службу безопасности, например.
– Нет, нет, – поднял руку Рудин. – Туда попасть мне бы не хотелось.
Майор с явным любопытством посмотрел на него.
– Вот как? Ну, хорошо, я попробую кое-что предпринять.
Майор нажал кнопку звонка, и тотчас в дверях появился тот солдат, в очках. Майор приказал солдату отвести Рудина в комендантскую.
Глава 13
В это время в городе уже находился и Кравцов. Началась параллельная рудинской и тоже очень важная операция по проникновению в аппарат гестапо.
Кравцов прибыл в город ночью. На условленном месте его встретил подпольщик, тот самый, которого подпольная организация устроила в гестапо взамен заброшенного в Москву инженера Русакова. Это был мрачный, неразговорчивый человек лет пятидесяти, по имени Трофим Кузьмич.
Он провел Кравцова на приготовленную для него квартиру – маленький, прямо игрушечный домик, стоявший в большом фруктовом саду.
– Это сад нашего местного мичуринца, – пояснил Трофим Кузьмич, зажигая коптилку. – Летом он, бывало, сам жил в домике, а теперь сдал нам, то есть вам, значит. Вместо платы вы обязаны работать в его саду. Ясно? А теперь я пошел. Завтра приду в полдень. – Трофим Кузьмич ушел, но тут же вернулся. – Забыл предупредить, мичуринец наш тронутый, – Трофим Кузьмич ковырнул пальцем висок. – Маскировка. Зовите его дядя Егор, так его весь город зовет.
Кравцов осмотрел домик и вышел в сад. Сразу за забором начинался окраинный пустырь, а с другой стороны темнели развалины какого-то дома. «Местечко удобное», – подумал Кравцов, возвращаясь в домик.
Он постелил на полу пальто и лег. Сразу понял, что скоро не заснет, и, чтобы утомить себя, начал штудировать свою версию. Итак, фамилия его – Коноплев. Окончил юридический институт в Москве, но не имел возможности работать по специальности, так как из института за ним ползла плохая характеристика, приписывавшая ему ни больше, ни меньше как низкопоклонство перед буржуазным законодательством и буржуазной теорией права. Не дали работать даже юрисконсультом в торговых организациях. В конце концов он вынужден был уехать из Москвы в Смоленск и работать там директором мясного магазина. Но и здесь он долго не продержался, был обвинен в хищении мяса и осужден. Когда началась война, заключенных из смоленской тюрьмы решили вывезти на восток, но эшелон этот разбомбила немецкая авиация и уцелевшие заключенные разбежались кто куда. Коноплев в их числе… А в этот город он прибыл в поисках работы, надеясь на помощь друга его отца – Трофима Кузьмича.
Но одно дело – схема версии сама по себе, самое трудное – уверенно жить по этой схеме, всегда помня великое множество деталей выдуманной биографии. Кроме того, нужно быть актером и таким жизненно правдивым, чтобы зритель – враг – не мог и подумать, что видит игру, а не самую жизнь. Вот где та «правда жизни», которую иной раз так ищут в театре. От этой правды зависит: жить или умереть этим безымянным героям-актерам.
Кравцов должен был много-много раз умозрительно «прожить» биографию своего прототипа и по каждому эпизоду жизни быть осведомленным почти так же, как и тот, кто эти эпизоды мог пережить в действительности. Он должен знать великое множество подробностей исторического, географического, бытового и всякого иного порядка. Скажем, бывший директор смоленского мясного магазина Кравцов-Коноплев должен с не меньшей твердостью, чем свое имя, знать цены на мясо в самые различные времена. Или суд над ним в Смоленске. Ведь это судебное дело в действительности имеется в архиве городского суда, и гитлеровцы всегда могут его «поднять». А это значит, что Кравцов должен знать не только всех выступавших на процессе свидетелей, но и то, что они говорили; он должен помнить, на каком – утреннем или вечернем – заседании суда произошел тот или иной эпизод судебного следствия…
Поезд с заключенными смоленской тюрьмы немцы разбомбили в действительности. И поскольку этот факт они тоже всегда могут проверить, Кравцов должен о бомбежке знать и помнить целую кучу подробностей. Он «не знает» только одной детали, что его прототип – Коноплев – в этой бомбежке погиб.
И вот сейчас, лежа на полу в домике дяди Егора, Кравцов «гонял» себя по всем эпизодам своей версии. Заснул он только под утро…
Кравцова разбудил непонятный звук под окном. Кто-то не то пел, не то стонал низким неровным голосом. Кравцов осторожно выглянул в окно. Возле самого дома копал землю нескладный старик, страшно худой, со стоящей дыбом седой шевелюрой. Всаживая ногой лопату в уже подмерзшую землю, он выгибался знаком вопроса и в это время не то пел, не то стонал. Это, очевидно, и был дядя Егор.
Старик словно почувствовал, что на него смотрят, воткнул лопату в землю и направился к домику. Он вошел и долго, со света ничего не видя, стоял около двери. Потом подошел поближе, пристально посмотрел на Кравцова и спросил:
– Коноплев?
– Я, – ответил Кравцов.
Старик улыбнулся, но тотчас же его лицо будто погасло, и он забормотал быстро и неразборчиво; это походило на бред человека во сне. Так, бормоча, он вышел из домика и вернулся к своей лопате. «Вот это артист!» – восхищенно подумал Кравцов.
Пришел Трофим Кузьмич. Не здороваясь, он подсел к столу и положил перед Кравцовым лист бумаги.
– Тут вся моя родня. Выучите. Теперь то новое, что вы тоже должны знать. В благодарность за услуги «новому порядку» я только что получил хлебную должность. Уже вторую неделю я директор хлебозавода. Это может пригодиться. А сейчас нам надо идти на встречу с гестаповцем. Он уже ждет нас на явочной квартире. Учтите, что мои заслуги как секретного агента гестапо ерундовые. Я прикидываюсь плохо соображающим в этом вопросе.
– Понятно, – улыбнулся Кравцов.
Трофим Кузьмич и Кравцов вышли на улицу и направились в центр города.
– Держитесь свободно, – тихо сказал Трофим Кузьмич. – Меньше любопытства к окружающему. Ведь вы прибыли сюда не из Москвы, и всего этого уже успели наглядеться. Теперь о гестаповце Циммере, который нас ждет. Человек он не очень умный, примитивно хитрый, но убежден, что является знатоком России. Эту уверенность я в нем всячески подогреваю, восхищаюсь каждым его дурацким откровением. Но нужно быть всегда начеку, он очень подозрительный. Значит, условлено: я рекомендую вас как сына моего старого друга, с которым я вместе рос, учился в школе и потерял его из виду примерно в тридцатых годах. Я буду просить гестаповца устроить вас на работу.
– Но он может устроить меня директором бани, – заметил Кравцов.
– Может. Москва строилась не сразу.
Кравцов почувствовал себя неловко и замолчал.
Они пересекли проходной двор и оказались на пустынной улице. Здесь они вошли в подъезд старинного каменного дома. В коридоре было темно, но Трофим Кузьмич уверенно сделал несколько шагов и два раза отрывисто стукнул в дверь.
– Прошу! – послышалось из-за двери.
Просторная комната была обставлена казенно, как номер в дешевой гостинице. Кравцов невольно улыбнулся, увидев на стене темную копию шишкинских «Мишек».
– Русский лес и русские медведи, – тщательно выговаривая слова, сказал гестаповец Циммер. – Русский человек любит этот родной пейзаж.
– Да, конечно, – поспешил согласиться Кравцов, отмечая про себя наблюдательность немца, заметившего его мимолетную улыбку.
Трофим Кузьмич почтительно поздоровался с Циммером и показал на Кравцова.
– Вот это и есть тот человек, о котором я вам говорил. Коноплев.
– Ко-но-плев, – раздельно произнес Циммер. – Очень хорошо! Здравствуйте, господин Коноплев. Давайте все сядем.
Кравцов обратил внимание, что сам гестаповец сел спиной к окну, а их посадил лицом к свету и, не переставая, смотрел на него.
– Значит, вы из Смоленска? – спросил Циммер, видимо, хорошо помня то, что сказал ему о Кравцове Трофим Кузьмич.
– Если считать мою довоенную жизнь – да, из Смоленска. Но с началом войны где я только не побывал!
– А где именно? Назовите, пожалуйста.
– Ну, сразу как бежал из тюремного поезда – в Дорогобуже, потом в городе Белом, потом в Демидове, а последнее время в Велиже. Это отсюда уже недалеко.
– О! – засмеялся Циммер. – Война развивает путешествие.
– Путешествие в поисках работы – довольно грустное занятие, – подчеркнуто серьезно заметил Кравцов.
– Да, да, мне Трофим Кузьмич говорил, – сочувственно сказал гестаповец и, забыв, что на нем штатский костюм, сделал жест рукой к правому нагрудному карману, потом перенес руку левее и, вынув из бокового карманчика пиджака бумажку, заглянул в нее. – Вы имели, не знаю, как выразиться легче… ну, преступление перед советским законом. Так по крайней мере говорил мне Трофим Кузьмич.
– Нет, я никакого преступления не совершал, – сказал Кравцов, недоуменно посмотрев на Трофима Кузьмича. – Меня осудили неправильно, мне приписали преступление, которого я не совершал.
Кравцов заметил, что, когда он это говорил, в глазах Трофима Кузьмича мелькнула растерянность.
– Разве так можно? – удивленно поднял брови гестаповец.
Кравцов снисходительно улыбнулся.
– Еще с незапамятных времен живет русская поговорка: «Закон что дышло – куда повернул, туда и вышло».
– О! Русские поговорки удивительно смешные и точные, – сказал гестаповец. – Но что есть дышло?
– Оглобли в телеге или в пролетке, куда привязывается лошадь.
– Пролетка? – Циммер не знал и это слово.
– Ну, тарантас или кабриолет.
– О! Понятно! – рассмеялся гестаповец. – Значит, дышло – вышло?
– Мне это дышло стоило года свободы, – мрачно заметил Кравцов.
– Есть ли у вас семья?
– Нет. Была жена, но когда меня посадили за решетку, она быстро утешилась с другим.
– О женщины, женщины!.. – вздохнул гестаповец. – Я, когда изучал Россию раньше, еще по книгам, я очень был взволнован историей жен – противников царя, которые имели название декабристы. Царь послал их в Сибирь, и их жены добровольно поехали тоже. И я думал, что русские женщины – это что-то особенное и небывалое, а оказывается, нет. Женщины – всюду женщины.
– Да, добра от них не жди, – охотно подтвердил Кравцов.
Гестаповец подумал, смотря на Кравцова, и спросил:
– Вы хотите иметь работу?
– Да, путешествовать мне надоело.
– И сотрудничать с нами?
– Естественно.
– Но искренне или по необходимости?
– В моей искренности можете не сомневаться, любая работа будет выполнена честно и хорошо.
– Вас в этом городе знают?
– Откуда? Я все время работал, учился и потом жил в Москве. Только в конце тридцать девятого года переехал в Смоленск и вскоре попал в тюрьму.
– Это хорошо, – рассеянно произнес Циммер.
– Кому хорошо, а мне не совсем, – усмехнулся Кравцов.
– Я думал, что хорошо, если вас здесь не знают, – поправился гестаповец. – А в Москве вы работали?
– Ты скажи про свое образование, – посоветовал Трофим Кузьмич.
– Какое это имеет значение!
– Почему? Образование – это очень важно, – подхватил Циммер.
– Я имею юридическое образование.
– Вот как! – удивился гестаповец. – Советский торговец обязан быть юристом?
– Да нет, – раздраженно сказал Кравцов. – По образованию я должен был работать следователем в прокуратуре, мог стать судьей или адвокатом, но было несколько «но». Во-первых, я был беспартийный. Во-вторых, в институте мне дали характеристику, что я политически невыдержан и допускал антимарксистские высказывания о преимуществах буржуазного законодательства. – Кравцов улыбнулся. – Может быть, вам будет любопытно услышать, что антимарксистские высказывания касались, между прочим, и работ немецкого теоретика Зауэра?
– О, Зауэр! – оживился гестаповец. – Я однажды на экзамене срезался как раз по его работам. Ха-ха! Получается, что мы с вами товарищи по беде?
– Ну вот, – продолжал Кравцов, – в общем, в юридические дела двери мне были закрыты, и поэтому я пошел в торговлю.
– Но господа партийные юристы, как видно, нашли вас и там?
– Выходит, да! И должен сказать, они окрутили меня ловко. В институте, когда я учился, большой успех имела моя экзаменационная работа на тему «Техника допроса при полном отрицании вины подследственным». Ее напечатали на стеклографе и раздавали студентам. Профессор Киселев упомянул мою работу в своей книге. Словом, я эту технику допроса действительно знаю. Но так, как они допрашивали меня, это граничило с волшебством. Они так хитро ставили вопросы, что скажи я «да» или «нет», все равно получалось, что вину признаю. Зауэр ваш, окажись он на моем месте, сел бы за решетку как миленький.
– О! Как миленький! – хохотнул гестаповец и отрывисто произнес: – Коммунисты – опасные враги.
– Надо знать их слабости, и тогда борьба с ними будет легче, – небрежно обронил Кравцов.
– Главная их слабость – невероятная самоуверенность и наглость, – резко проговорил Циммер.
– Правильно! – подобострастно воскликнул Трофим Кузьмич.
– Но не только это, – глубокомысленно заметил Кравцов.
– Что же еще? – заинтересовался гестаповец.
– Коммунисты, как и все люди, разные. Но одновременно есть нечто, что делает их одинаковыми и легкоуязвимыми. Надо только знать, какая партийная биография стоит за каждым отдельным человеком.
Кравцов видел, что разговор идет так, как надо; гестаповец по ходу разговора проявляет к нему все больший интерес. Кравцов решил выбросить еще один из заготовленных козырей и завел разговор о том, что, по его наблюдениям, при внедрении нового порядка на советской территории допускаются тактические ошибки, которые вызывают излишнюю озлобленность населения.
Гестаповец слушал его внимательно, даже не перебивал вопросами. Трофим Кузьмич смотрел на Кравцова с удивлением, если не с восхищением. И этот козырь сработал как надо. Немного спустя Кравцов выбросил еще один – о неиспользуемой немцами возможности привлечь к себе симпатии молодежи, подростков и даже детворы.
– Старое поколение вы не переделаете, – с авторитетной уверенностью сказал Кравцов. – А молодое – это глина. Нужно только уметь придать ей нужную форму. Из подростка одинаково легко сделать и партизана и тайного агента гестапо. Он жаждет игры с оружием, с тайной и прочими штуками, и постепенно его можно вовлечь в конфликт со старшим поколением…
Гестаповец понимающе кивал головой и думал: «Положительно этот человек – находка; все, что он предлагает насчет подростков, не дольше как две недели назад на совещании в гестапо говорил сам Клейнер. Прямо удивительно!»
Между тем ничего удивительного в этом не было. Просто комиссар госбезопасности Старков вовремя сообщил Маркову, что, по сведениям из Берлина, гестапо разрабатывает специальный план использования в своих целях советских ребят. И сейчас по тому, как вел себя гестаповец, Кравцов видел, что сведения Старкова точные.
– Где бы вы хотели работать? – спросил Циммер.
– Где угодно, – скромно ответил Кравцов. – Лишь бы быть сытым и… – он улыбнулся, – не путешествовать.
– Хорошо, я подумаю. Прошу вас, вот на этом листке бумаги кратко напишите данные о себе. Самые основные.
Кравцов сел писать, а гестаповец отозвал в сторону Трофима Кузьмича.
– Вы за него ручаетесь? – тихо спросил он.
– Видите ли, – уклончиво ответил Трофим Кузьмич, – за его отца я бы поручился, а тут уж вы сами смотрите. Но я думаю, что он пригодится.
– Где он живет?
– Я устроил его у одного сумасшедшего садовода.
– Хорошо. Прошу вас быть с ним здесь послезавтра в час дня.
Выйдя на улицу, Кравцов и Трофим Кузьмич долго шли молча. Потом Трофим Кузьмич сказал:
– Молодчина вы, честное слово!
Кравцов улыбнулся.
– Выкручиваемся, Трофим Кузьмич, как можем.
– Он вашу наживку заглотнул по самое грузило.
– А не пережал я?
– Думаю, нет. Я все время наблюдал за ним. Порядок!..
Через день в назначенный час они снова пришли на явочную квартиру гестапо. Кроме уже знакомого им гестаповца их ждал там сам начальник гестапо оберштурмбаннфюрер Клейнер. По-видимому, Циммер сильно заинтересовал его своей «находкой».
Узнав, кто этот статный моложавый гестаповец, Кравцов весь внутренне собрался. По краткой характеристике, которой располагал Марков, Клейнер был образованным гестаповцем, сделавшим стремительную карьеру во Франции. А до войны он работал в немецком посольстве в Москве.
Уже по началу разговора Кравцов понял, что Клейнер не высоко ценит достоинства Циммера. Когда Кравцов на первый вопрос Клейнера ответил, что обо всем этом он уже сообщил Циммеру, начальник гестапо резко сказал:
– Разговоры такого типа – это не вещи, и передача их через третьи руки – не лучший способ сохранения их точности. Итак, скажите о вашем образовании.
Кравцов слово в слово повторил то, что говорил Циммеру.
– Диплом у вас есть? – сухо спросил Клейнер.
– Есть, но он в Смоленске.
– Вы можете его там получить?
– Безусловно. Кое-какие мои документы, в том числе и диплом, я перед арестом передал хозяйке квартиры, у которой жил. Она никуда не уехала и, надеюсь, жива.
– Так… – Клейнер помолчал, холодно смотря на Кравцова. – Теперь об аресте и суде. Несколько слов: в чем тут дело?
Кравцов рассказал.
– Об этом у вас документы есть?
– Лично мне никаких справок по этому поводу не давали, – сказал Кравцов. – Но в архивах смоленского суда и тюрьмы, я думаю, вы найдете все, что вас по этому поводу интересует. У меня лично сохранилась только копия кассационной жалобы со штампом, что подлинник ее принят к рассмотрению.
Клейнер выслушал это с непроницаемым лицом и спросил:
– Ваше преступление носило экономический характер?
– Не было никакого преступления! – раздраженно ответил Кравцов.
– Чуть подробнее об этом, пожалуйста, – сухо, но вежливо попросил Клейнер.
– Я переехал в Смоленск… – начал Кравцов.
– Откуда? – прервал его Клейнер.
– Из Москвы.
– Почему?
– В Москве мне не давали работать по специальности. Последнее время я на полставки работал юрисконсультом в универмаге, но затем был лишен и этой работы.
– За что?
– Я обнаружил, что все руководство универмага ворует, и написал об этом прокурору, а уволили меня, использовав для этого все ту же институтскую характеристику.
– Это в высшей степени странно, – заметил Клейнер.
Кравцов посмотрел на него с открытым сожалением: дескать, откуда вам, приезжим, знать здешние порядки?
– Ну, ну, дальше, – сказал Клейнер.
– Я перебрался в Смоленск, и там мне удалось устроиться заведующим мясным магазином. И снова я попал на воров. И заместитель мой вор, и бухгалтер, и старший продавец. Но теперь я к прокурору уже не бегал и только держался от ворья подальше. А на их намеки и предложения включиться в их черные дела я никак не реагировал. Спустя несколько месяцев их посадили и меня вместе с ними. А потом судили. Доказать, что я получал деньги у воров, судьи не смогли, но, поскольку директор в принципе отвечает за все, дали мне три года, по-божески. Те получили по семь лет. Вот и все.
– Вы бежали из тюремного поезда? Скажите точно день, час и место, где подвергся бомбардировке этот поезд.
– Второго июля, около пяти утра, примерно посредине между станциями Ярцево и Дорогобуж.
Клейнер это записал, подумал и сказал:
– В ваших интересах проделать следующее: съездить в Смоленск и привезти свой диплом и все остальные документы.
– А нельзя ли это сделать с вашей помощью? – попросил Кравцов. – Я дам точный адрес своей хозяйки, дам к ней записку. Вы поймите меня: всякая поездка человека в моем положении – дело очень рискованное. Меня уже хватали не раз. Кроме того, вряд ли по моей просьбе будут искать документы в архивах.
– Позвоните в Смоленск и обеспечьте эту операцию с документами, – приказал Клейнер Циммеру.
– Будет сделано, – щелкнул каблуками гестаповец.
Клейнер повернулся к Кравцову.
– То, что вы говорили моему сотруднику о привлечении подростков, вы считаете делом возможным?
– Вполне, – убежденно ответил Кравцов.
Клейнер встал.
– Завтра утром ровно в девять будьте у нас в гестапо. Знаете где?
– Нет.
– Он объяснит вам. – Клейнер кивнул на Циммера, надел фуражку и, небрежно подняв два пальца к козырьку, вышел.
Циммер явно не знал, как ему теперь держаться с Кравцовым. Торопливо объяснив, где находится гестапо, он дал понять, что свидание окончено.
Вскоре Марков получил краткую радиограмму от товарища Алексея:
«Кравцов просит, чтобы его смоленская хозяйка и тюремный архив были на месте».
Глава 14
Солдат в очках вел Рудина через весь город.
Резко похолодало. Темные тучи низко стелились над городом, казалось, задевали крыши. На улицах было сумрачно, как в предвечерний час; вот-вот должен был пойти снег. На солдате была коротенькая легкая курточка. Он шел за Рудиным, засунув руки в карманы брюк, локтем прижимая к боку автомат.
– Скорей иди, скорей! – почти умолял он замороженным голосом.
Рудин несколько секунд двигался быстрее, но тут же сбавлял шаг: ему надо было успеть продумать недавний разговор в комендатуре.
Решая, кто может заинтересоваться советским полунемцем, майор прежде всего вспомнил, конечно, гестапо. Нежелание Рудина попасть туда майору было явно по душе: здесь сработала бравшаяся в расчет старая неприязнь военных к службе безопасности. Но какой адрес избрал майор потом? Куда его ведут?
– Скорей, скорей! – торопил Рудина конвоир.
Они пересекли какой-то бульвар, свернули за угол большого дома и сразу оказались перед шлагбаумом, возле которого стояла будка. Рудин быстрым взглядом окинул улицу, и сердце у него радостно забилось. Если полученное в свое время от подпольщиков описание зоны «Сатурн» точное, то здание впереди и слева и есть здание школы, где размещался «Сатурн». Тот самый, к которому Рудин так стремился. Он внутренне улыбнулся, вспомнив, как Марков сказал ему однажды: «Разведчик часто попадает в невероятно критические ситуации и благополучно выходит из них не по воле случая, а только благодаря тому, что он разведчик и все время работает, имея определенную цель, а никакой труд зря не пропадает». Это верно. И если бы сейчас его привели не сюда, а совсем в другое место, он продолжал бы работать и сделал бы все для того, чтобы в конце концов очутиться именно здесь, в «Сатурне».
Рудин прислушался к разговору солдата в очках с часовым, вышедшим из будки. Они явно не могли договориться. Наконец часовой потребовал, чтобы солдат и приведенный им человек отошли назад на десять шагов. После этого часовой, очевидно, позвонил куда-то из своей будки.
Прошло минут десять. Солдат в очках страшно ругался, приплясывая и согревая руки. Из калитки в заборе позади будки вышел офицер в длинной шинели с меховым воротником. Он поговорил с часовым и потом подошел к Рудину и солдату в очках.
Солдат доложил, что он сопровождает человека, о доставке которого сюда договаривались майор Оренклихер и подполковник Грейс.
Офицер скользнул взглядом по Рудину и, ничего не сказав, ушел и скрылся в калитке. Прошло еще минут десять. Начал сыпать редкий колючий снежок. Солдат в очках проворчал:
– Все корчат из себя начальников, черт бы их побрал!
– Что бы ни было, плохо всегда солдату, – улыбнулся Рудин.
– Немецкому солдату всегда хорошо! – сердито и заученно выпалил солдат.
Из калитки в заборе вышли два солдата с автоматами и за ними офицер в длинной шинели. Офицер показал солдатам на Рудина и сказал:
– Второй блок, комната восемь, подполковник Грейс.
Солдаты стали по бокам Рудина, и один из них сделал движение автоматом, заменявшее приказ: «Пошли!»
Солдаты подвели его к небольшому двухэтажному дому, стоявшему рядом со школой. Один остался у входа, другой прошел с Рудиным внутрь здания. В вестибюле их уже ждал молодой человек в штатском. Он кивнул солдату, и тот замер в дверях. Молодой человек жестом пригласил Рудина идти за ним. Они поднялись на второй этаж и повернули направо по коридору. Возле второй двери молодой человек остановился.
– Вам сюда, – он открыл перед Рудиным дверь. Рудин вошел в небольшой кабинет. В это время сидевший за столом немец раздраженно говорил по телефону. Увидев входящего Рудина, он крикнул в трубку: «Позвоню позже!» – и небрежно спросил по-русски:
– Так что у вас там?
– Я думал… Это очень длинный рассказ, господин начальник… – всем своим видом и тоном Рудин как бы извинялся за то, что вынужден отрывать время у занятого куда более важными делами начальника.
– Я что-то не понял: вы и партизан и в то же время немец, и притом немец советский? Что это за ребус?
– Да, я по национальности немец, но вырос в Советском Союзе, в республике немцев Поволжья, а потом был мобилизован в партизаны. Теперь сдался в плен.
– Так. Что вы хотите?
– Я хочу сотрудничать с Германией, – ответил Рудин.
Подполковник Грейс на мгновение задумался, потом склонился к какому-то аппарату на столе и тихо сказал в него:
– Попросите ко мне Андросова. Сейчас же.
Сердце у Рудина застучало так часто, что он испугался…
Ну, вот и наступил решающий момент. Работа зря не пропала, сейчас он увидит Андросова – первую свою цель.
Рудин продолжал стоять посреди комнаты, когда позади с легким шумом открылась и закрылась дверь.
– Вы меня вызывали? – спросил спокойный и какой-то бесцветный голос.
Андросов прошел мимо Рудина к столу подполковника. Рудин видел его спину, широко развернутые плечи. На нем был китель немецкого офицера, но без знаков различия и брюки, заправленные в сапоги, начищенные до лакового блеска.
– Этого человека нам прислал из военной комендатуры мой друг майор Оренклихер, – продолжая рыться в бумагах, небрежно сказал Грейс. – Займитесь им.
– Есть какие-нибудь ваши рекомендации? – спросил Андросов.
– Нет, нет, все решайте сами и потом мне доложите.
Андросов повернулся к Рудину, окинул его взглядом и, уже проходя мимо, сказал:
– Идемте.
Первое впечатление об Андросове было почти неуловимым. Запомнились только его глаза – внимательные, цепкие. В просторном кабинете, куда они прошли, несмотря на день, был зажжен свет, а окна зашторены.
– Садитесь, – Андросов показал Рудину на стул, стоявший у его стола. Потом он, может быть, целую минуту пристально смотрел на Рудина, а тот на него, выжидательно и покорно.
Андросов пододвинул к себе лист бумаги, положил на него карандаш.
– Расскажите, как вы оказались в военной комендатуре.
– Я пришел туда добровольно.
– Вы местный житель?
– Нет, – улыбнулся Рудин. – Вам, наверное, придется выслушать довольно длинную историю…
– Отвечайте на вопросы, – сухо сказал Андросов. – Фамилия, имя, отчество и основные анкетные данные. Прошу! – Он взял карандаш.
– Крамер Михаил Евгеньевич.
– Национальность?
– Немец, точнее – по отцу немец. Мать – русская. Год рождения 1911, место – город Энгельс, бывшая республика немцев Поволжья. Беспартийный, образование высшее – энергетик, работал в Москве. В июле нынешнего года мобилизован в партизаны как знающий немецкий язык. Несколько дней назад в бою возле села Никольского сдался в плен.
Андросов молчал, а Рудин смотрел на него спокойно и выжидательно. В глазах Андросова он не видел ни любопытства, ни веры, ни недоверия – ничего.
– Значит, вы сдались в плен, а затем свободно явились на прием в военную комендатуру? Не кажется ли вам это странным? – спросил Андросов.
– В такой последовательности это выглядит, конечно, странно, – согласился Рудин. – Но вы не знаете, что произошло между тем, как я сдался в плен, и пришел в комендатуру.
– Вас передумали брать в плен, – без тени улыбки сказал Андросов.
– Нет, меня взяли. Но вместо того чтобы прислушаться к моему предложению о сотрудничестве, меня отправили в лагерь военнопленных. Мало того, это случилось в ту ночь, когда лагерь перебазировали в тыл. Никто со мной не поговорил, меня сразу сунули в эшелон, а я из него бежал – выпрыгнул из вагона на ходу, вернулся сюда и явился в военную комендатуру. Все это вам нетрудно проверить. Я находился в последнем вагоне эшелона, мои бумаги остались, вероятно, у солдата, сопровождавшего этот вагон.
Андросов подождал и спросил с иронией:
– Итак, вы выпрыгнули из поезда специально для того, чтобы предложить ваши услуги нам именно в этом городе и ни в каком другом?
– Да, – последовал твердый ответ Рудина. Андросов сделал на листе бумаги пометку «Проверить бегство» и спросил:
– А почему вы не подумали, что в глубоком тылу, куда шел эшелон, в более спокойной обстановке, чем здесь, немецкое начальство разобралось бы в вашей истории гораздо лучше?
– Наоборот! – горячо возразил Рудин и изложил уже известное нам объяснение: сдавшись в плен, он считал, что все последующие объяснения с немецким начальством должны происходить в условиях, когда этому начальству легче легкого проверить каждое его слово.
Рудин видел, что Андросов это его объяснение принял. В разговоре наступила пауза. Андросов сделал пометку «Проверить пленение», бросил на стол карандаш, облокотился на стол и, глядя в глаза Рудину, спросил:
– Что побудило вас сдаться в плен?
Рудин вытащил из-за подкладки потрепанный конверт с письмом отца и протянул его Андросову.
– Вот вам причина номер один.
Рудин видел, как Андросов профессиональным взглядом, что называется, ощупал конверт и письмо.
– На первой странице несущественное, – пояснил Рудин. – Обычные стариковские жалобы. Читайте на обороте, в конце.
Но Андросов прочитал все письмо. Прочитал и положил возле себя. Он подождал довольно долго, потом спросил:
– Итак, в вас проснулась кровь, подняла крик, и вы по ее зову пошли вытворять невероятное? – Андросов серьезно, даже грустно усмехнулся и сказал: – Перестаньте, это несерьезно. Говорите правду, это для вас во всех отношениях будет лучше.
Рудин пожал плечами, помолчал, потом вдруг понимающе посмотрел на Андросова и торопливо проговорил:
– Извините меня, пожалуйста, я не подумал…
Андросов удивленно уставился на него.
– О чем?
– Может, вам неприятно напоминание про голос крови? Извините, ради бога.
– Да вы что, с ума сошли? Что вы мелете? – почти до крика повысил голос Андросов. Но тут же он овладел собой и небрежно спросил: – Итак, вы настаиваете на версии о кричащей крови и больше никаких мотивов своего поступка назвать не можете?
– Остальное субъективно в еще большей мере, – удрученно произнес Рудин.
– А все же что? – настаивал Андросов.
– Нелады с командованием отряда.
– Конкретно, пожалуйста. Характер неладов. Политический? Личный?
Рудин удивленно посмотрел на Андросова.
– Да что вы, право! Я же был рядовым бойцом, да еще переводчиком, без работы, поскольку пленных у нас не было. Просто в отряде меня почему-то невзлюбили, дали мне прозвище Полуфриц. В общем, несправедливое хамье, и все… – Рудин будил у Андросова воспоминания о его собственных неприятностях в Риге, пережитых им.
– Что за отряд? Где его база? – Андросов явно уходил от этой темы.
– Лиговинские болота.
– Лиговинские? – удивился Андросов и, достав из стола какие-то бумаги, стал их просматривать. – Вы говорите правду?
– Только правду. На ваших картах показано, что эти болота непроходимы. Но это не так. В центре болота есть остров и к нему безопасные тропы.
Андросов удивленно посмотрел на Рудина.
– Сколько человек в отряде?
– Около двухсот. Большая часть – местные, остальные заброшены, как и я, из Москвы.
– Командир местный?
– Да.
– Фамилия?
– Я знаю только его партизанское имя – дядя Николай.
– Кто он был до войны?
– Судя по всему, партийный деятель. Причем из тех, кто уверен, что каждое его слово – это Божья искра гениального ума. Его любимое изречение: «Фриц сам лезет в петлю, наше дело подтолкнуть его в спину». И это глубокомысленное заключение он сделал, сидя в болотной землянке.
Андросов пожал плечами.
– То же самое, только чуть другими словами твердит московское радио.
– Ну что вы! – не согласился Рудин. – Если уж говорить об официальной пропаганде, то она и в Москве и в Берлине грешит только одним: бежит несколько впереди событий и норовит желаемое выдать за действительность. Я из-за этого немало пережил.
– А вы тут при чем? – вяло поинтересовался Андросов, очевидно, думая о чем-то другом.
– Я ведь решил сдаться в плен давно. Но я считал, что мне здесь не будет веры, если я явлюсь, когда у немецкой армии одни бесспорные успехи.
– Теперь, значит, они уже не бесспорны? Так прикажете вас понимать?
Рудин молчал, только взглядом спрашивая, можно ли сказать все откровенно.
– Ну, ну, а что же теперь? – бесстрастно спросил Андросов.
– Теперь обстановка на войне изменилась, – тихо проговорил Рудин.
– Это интересно. Что вы имеете в виду? – все так же бесстрастно спросил Андросов. Но Рудин увидел за этим неподдельную заинтересованность: конечно же ему интересно узнать, что думают о ходе войны с той стороны.
– Я имею в виду видный всем факт – молниеносной войны у немцев не вышло, – спокойно заговорил Рудин. – Красная армия приведена в порядок и оказывает все более стойкое сопротивление. А немецкие войска получили непомерно длинные и притом постоянно нарушаемые партизанами коммуникации, по которым совсем нелегко… нормально питать какие бы то ни было большие операции…
Рудин говорил неторопливо, будто раздумывая вслух, но с большой убежденностью. Выражение лица Андросова становилось все более замкнутым, а взгляд – отсутствующим. Он точно сверял то, что сейчас слышал, с собственными мыслями.
– Наступает, вернее – уже наступила, зима, – продолжал Рудин. – Немецкая армия к ней не подготовлена, и это станет ее трагедией. Между тем как советское командование даже партизан обеспечивает полушубками и валенками. Это очень важно. Но дело не только в одежде. Немецкая техника захлебнулась еще в осенней грязи. Что с ней будет, когда начнутся снежные заносы? Словом, теперь нельзя меня заподозрить в том, что я сдался в плен, чтобы примазаться к праздничному пирогу. Нелегкой борьбы хватит и для меня. Вы меня понимаете?
Вопрос Рудина застал Андросова врасплох. Сказать, что он понимает Рудина, означало бы согласиться и с его оценкой положения дел на фронте. Выигрывая время для обдумывания ответа, он неторопливо размял и закурил папиросу:
– Дилетантский взгляд на такое событие, как война, прежде всего субъективен. Нужно уметь видеть дальше собственного носа.
– Конечно, я знаю далеко не все, – покорно принял обвинение Рудин. – Но если говорить о будущем войны, учитывая только то, что известно всем, нас с вами тоже не ждут легко сбывающиеся надежды. Я имею в виду простой арифметический подсчет всех и всяких резервов Германии, с одной стороны, и России с ее могущественными союзниками – с другой.
– Союзники России – блеф, – вставил Андросов.
Рудин улыбнулся.
– Вот вам типичный пример, когда немецкая пропаганда желаемое выдает за реальность. Нет, нет, мы с вами должны приготовиться к тяжелой и затяжной борьбе.
Андросов промолчал, и это, как ничто другое, сказало Рудину, что инициативу разговора он уже взял в свои руки. Надо продолжать атаку.
Рудин тихо и сочувственно спросил:
– Вам не бывает страшно при мысли, что вы…
– Вы забылись! – крикнул Андросов. – Вы забыли, где вы находитесь?
– Я не забыл, я просто не знаю, где я нахожусь, – мягко улыбнулся Рудин. – Я откровенно разговариваю со своим земляком, с которым у меня в общем одинаково тревожное положение. Почему бы нам не посоветоваться, не поговорить искренне? Потом вы можете сдать меня гестапо. Вам-то бояться нечего. А кричать не стоит. Меня ваш крик не испугает, а полезному для нас обоих разговору он только повредит. Я понимаю, что вам в высшей степени наплевать на мои сомнения и на меня. Но не торопитесь плевать, Андросов, я еще могу вам пригодиться…
Рудин видел, что Андросов в смятении, он уже, вероятно, почувствовал, что перед ним не просто очередной пленный из тех, что вереницей прошли через его руки раньше.
Да, Андросов был в смятении, а главное, у него было ощущение, что он не властен над этим человеком, который сидит перед ним. Чутье подсказывало ему, что этот разговор таит для него опасность и что-то еще. Он весь дрожал внутри от напряжения, от желания скрыть эту дрожь. Но он никогда не был трусом и потому сейчас решил пойти навстречу опасности.
– Скажите-ка прямо, что вы хотите? – спросил Андросов. – У меня такое впечатление, что вы вертитесь вокруг да около, главного не говорите, а у меня время ограничено.
– Мне хотелось бы вернуться немного назад, – с улыбкой заговорил Рудин. – Вы с насмешкой отнеслись к моей ссылке на голос крови. Ну а что руководило вами, когда вы пошли работать к немцам?
– Это что, допрос? – спросил Андросов.
– Да нет, – поморщился Рудин. – Допрашиваете вы. Я же только пытаюсь разобраться в сложнейшем для меня моменте собственной жизни. Мне кажется, что и вы, и я не из тех примитивных людей, которые с легкостью меняют форму и убеждения и для которых где хорошо кормят, там и рай. Допустите все же, что меня позвал голос крови, и скажите, что привело сюда вас.
– Ваше – ваше, мое – мое, – быстро сказал Андросов.
– Но все же что оно – это ваше? Может, обида?
– Что? – насторожился Андросов.
– Ну, скажем, несправедливость, когда-то проявленная к вам? Разве у нас не было так: человек совершает небольшую ошибку, а с ним под горячую руку расправляются как с преступником? Или еще того хуже: человек и не совершал ошибки, а его обвиняют, не дав себе труда разобраться в сути дела? После этого человеку трудно верить в объективность. Можно, конечно, но трудно.
– Вы думаете, что все-таки можно? – усмехнулся Андросов.
Рудин затаил дыхание, Андросов шел в приготовленное русло разговора.
– Конечно, можно, – сказал Рудин убежденно. – Для этого необходимо только одно: когда над вами совершается несправедливость, ясно сознавать, что на людях, которые ее совершают, общество не заканчивается, а если вы коммунист – понимать, что даже общее собрание партийной организации – это еще не партия.
Андросов сидел молча, плечи его опустились, он не смотрел на Рудина.
– А что, если я скажу вам, что подполковник Маслов и тогда и до сих пор считает, что с вами поступили несправедливо? – спросил Рудин и заметил, как, услышав фамилию подполковника Маслова, Андросов вздрогнул, но продолжал, будто ничего не случилось: – Больше того, подполковник Маслов был тогда и до сих пор убежден, что в утере секретного документа вы виноваты меньше всех из тех, кто имел доступ к тому документу. Я говорю – до сих пор, но я должен предупредить, что подполковник Маслов еще не знает, чем вы занимаетесь теперь. Он знает, что вы были отчислены в резерв и, по непроверенным слухам, заболели. Он как раз собирался вызвать вас по вашему делу, а ему доложили, что вы больны. А потом – война.
Теперь Андросов уже и не пытался скрывать, как он поражен услышанным. На лбу у него выступила испарина.
– Теперь я понимаю, кто вы, – весь обмякнув, тихо произнес он.
– Тем лучше, – подхватил Рудин. – Вы должны понять и другое: какое огромное значение придается нашей с вами встрече. Ради нее было решено рисковать моей жизнью. Впрочем, чтобы вами не было допущено ошибки, уточняю: цель этой нашей встречи не спасение грешника Андросова, а нечто, как вы догадываетесь, гораздо большее.
– Я все понимаю, – глухо и как-то рассеянно отозвался Андросов.
Эта его внезапная рассеянность встревожила Рудина. Очевидно, именно сейчас Андросов решил, как ему поступить. И именно в эту напряженную до предела минуту дверь распахнулась и в кабинет вошел высокий подполковник.
– Вы, оказывается, здесь? – сказал он раздраженно. – Почему вы не отвечаете по телефону?
Вскочивший при его появлении Андросов посмотрел на вмонтированный в стол щиток.
– Вон в чем дело: очевидно, я нечаянно задел рычажок переключения…
Рудин прекрасно видел, как несколько минут назад Андросов вполне сознательно перевел этот рычажок в верхнее положение. Рудин даже подумал тогда, не включил ли он звукозапись или не зовет ли кого на помощь. Оказывается, Андросов просто отключил телефон, чтобы звонки не помешали их разговору.
– Кто это? – спросил подполковник, смотря на Рудива.
– Пленный, переданный нам военной комендатурой, – небрежно ответил Андросов.
– Когда кончите с ним, зайдите ко мне.
– Слушаюсь.
Подполковник вышел. Андросов взглянул на Рудина и отвернулся.
– Я боялся, – сказал Рудин, – что вы проявите минутное малодушие и на этом наша очень важная беседа оборвется.
– Я могу это сделать пятью минутами позже, – угрюмо произнес Андросов.
– Насколько я понимаю, это был подполковник Мюллер?
– Откуда вы его знаете? – удивился Андросов.
Рудин рассмеялся.
– Все стоящие внимания обитатели «Сатурна» нам известны.
Андросов склонился над столом и опустил голову.
– Я отлично понимаю вас, Андросов, – сочувственно заговорил Рудин. – Я верю, что вам нелегко далось решение идти на службу к немцам. Нелегко вам и теперь принять новое решение. Но тогда вы были во власти случайных обстоятельств, которые толкали вас в спину, и выбора у вас, объективно говоря, не было, ибо далеко не каждый в том вашем положении мог бы найти в себе силы и не согнуться от ударов. Но теперь перед вами ясный выбор: либо продолжать идти по этому же пути, отлично зная, что впереди вас ждет пропасть, либо сделать все, чтобы искупить свою вину перед Родиной и своим народом и обрести право на будущее. Решение должно быть принято сейчас же. Я лично готов ко всему. Но моя смерть вас не спасет.
Рудин молчал, глядя на Андросова, который продолжал сидеть с низко опущенной головой. После очень долгой паузы, показавшейся Рудину бесконечной, Андросов спросил, не поднимая головы:
– Как это будет выглядеть практически? Что я должен делать?
– Сделать все, чтобы устроить меня сюда, в «Сатурн». Мы будем вместе с вами работать на благо своей Советской Родины.
После этого Андросов долго сидел, не поднимая головы. Лицо его стало белым как бумага. Потом он выпрямился, посмотрел на Рудина и решительно сказал:
– Я согласен.
– Я искренне рад за вас, Андросов! Искренне!
Рука у Андросова была холодная, как у мертвеца.
– Я не знаю, – сказал он с жалкой улыбкой, – что мне теперь с вами делать.
– Отправьте меня туда, куда вы отправляете всех проходящих через вас пленных, по поводу которых у вас сложилось мнение, что они могут пригодиться. Потом займитесь проверкой моей версии. Все, что касается моей сдачи в плен в Никольском и бегства из поезда, подтвердится на сто процентов. Затем вы докладываете обо мне начальству. Покажите им письмо моего отца, только скажите, что оно изъято у меня при обыске. А договориться о дальнейшей нашей работе мы еще успеем…
Андросов кивнул головой и нажал кнопку звонка.
Глава 15
Метель как зарядила с того вечера, когда Рудин был доставлен в «Сатурн», так и не прекращалась уже пятые сутки. В город вошла и прочно поселилась в нем зима во всей своей девственной и чистой красе.
Проснувшись утром в арестном помещении «Сатурна», Рудин через окно, почти доверху забитое досками, увидел угол крыши с навьюженным на нем косым сугробом, увидел беснующуюся метель и неожиданно для себя тихо рассмеялся: вот и пришла зима; все идет своим чередом, как надо.
За прошедшие четыре дня его дважды вызывали на допрос. Первый раз кроме Андросова на допросе присутствовал неизвестный Рудину седоголовый майор, который все время молчал, не сводя глаз с Рудина. Андросов тусклым своим голосом сообщил, что получил подтверждение показаний Рудина, и задал несколько чисто формальных вопросов: год и место рождения, кто отец, мать, где они сейчас? Рудин понял, что он вызван только для показа сидевшему на диване майору.
Второй раз Рудина отвели к Андросову вчера – он заполнил опросный лист и написал обязательство «честно и добросовестно выполнять приказы военной разведки Германии».
Прочитав написанное Рудиным обязательство, Андросов положил его в стол и с чуть заметной улыбкой сказал:
– Теперь и вы в моих руках.
Рудин удивленно поднял брови.
– Почему я? Ведь вы, Андросов, не у меня в руках. Вы в руках своих собственных.
Андросов сообщил Рудину, что в самое ближайшее время с ним будет говорить кто-нибудь из большого начальства.
– Будьте осторожны, тут работают не дураки, – тихо сказал он. – Пока все идет нормально. На присутствовавшего здесь в прошлый раз личного референта начальника «Сатурна» Зомбаха вы произвели хорошее впечатление…
Зима совсем не радовала полковника Зомбаха. Если до этого зимние холода были для него не больше, чем одним из аргументов в разговорах о положении и перспективах Центрального фронта, то теперь зима стала и его личным бытом. В первый же зимний день он, пока дошел от квартиры до «Сатурна», набрал полные ботинки снега. Пришлось в кабинете переобуваться, посылать домой солдата за сухими носками. И он отдал приказ, чтобы каждое утро расчищали от снега всю улицу, на которой находился «Сатурн» и жилые дома его сотрудников.
Вчера Зомбах хотел съездить в Оршу, где после совещания, проведенного начальником штаба, находился командующий 4-й армией фельдмаршал фон Клюге, о котором говорили, что «ключи от Москвы у него в кармане». Шофер сказал, что на легковом «мерседесе» в Оршу не проедешь, вся дорога занесена, нужны цепи для колес, а их до сих пор не прислали. Комендант «Сатурна» предложил воспользоваться гусеничным тягачом. Зомбах отказался; ему почему-то показалось унизительным прибыть к фельдмаршалу Клюге на тягаче. К счастью, сегодня выяснилось, что Клюге сам приехал сюда проверить один из своих штабов. Зомбах позвонил ему и попросил уделить тридцать минут по очень важному вопросу. И в ответ услышал:
– Очень рад буду видеть вас, полковник, сейчас же…
Положив трубку, Зомбах долго думал, чем объяснить такую поспешную любезность Клюге. Уже подъезжая к особняку, в котором остановился фельдмаршал, Зомбах продолжал думать об этом, но никакого объяснения так и не нашел.
У особняка стояло несколько легковых машин. В вестибюле толпились офицеры разных рангов. Дежурный провел Зомбаха к адъютанту Клюге. Тот, узнав, с кем имеет дело, тотчас прошел за массивную дверь. Спустя минуту он вернулся и, вытянувшись перед Зомбахом, сказал:
– Командующий просит извинения, он примет вас через три минуты.
Спустя две минуты из кабинета Клюге вышли несколько офицеров. Выходя, они с любопытством посматривали на Зомбаха. Наверно, им было любопытно, из-за кого это командующий так спешно всех их выпроводил.
Клюге вышел навстречу Зомбаху с протянутой рукой.
– Добрый день, полковник! Рад вас видеть, садитесь. Вот сигары, сигареты.
– Спасибо, – Зомбах выдавил на своем каменном лице улыбку. – Я запланировал себе долгую жизнь и не курю.
– А я плюнул на все и дымлю, как фабрика, – рассмеялся Клюге. – Один мой полковник подбросил мне утешительную формулу. Он сказал: на войне, если не курить, надо пить. А я как раз из ваших же соображений не пью. – Клюге посмотрел на часы. – Я слушаю вас, полковник.
– У нас произошел конфликт со здешним начальством СД, – начал Зомбах. – Вдруг, не предупредив нас, они ликвидировали находившийся в пяти километрах отсюда лагерь военнопленных, из которого мы черпали необходимые нам кадры.
– Что значит ликвидировали? – спросил Клюге.
– Просто погрузили всех пленных в эшелон и вывезли куда-то на запад.
Клюге ворчливо сказал:
– Черт знает что! Мы своих раненых не можем вовремя вывезти… – Он повернулся к столику с телефонами и схватил одну из трубок. – Полковник Гашке? Здесь – Клюге. Почему ликвидировали местный лагерь военнопленных? Так… так… Хорошо. Мой штаб вы об этом информировали?… Так… хорошо, спасибо, – он положил трубку и повернулся к Зомбаху. – Лагерь, оказывается, не ликвидирован; отсюда только вывезли контингент, чтобы иметь возможность на этом месте построить зимние бараки. Строительство закончится через месяц, и лагерь снова будет наполнен. Вас это устраивает?
– Но нам уже теперь необходимо непрерывное поступление пленных.
– А лагерь под Гомелем? Это же совсем недалеко.
– Но и не близко… – возразил Зомбах. – Когда лагерь рядом, мы имеем возможность вести там повседневные, весьма важные для нас наблюдения за пленными. А поездки в Гомель могут попросту срываться из-за тех же снежных заносов, из-за которых я не смог вчера приехать к вам в Оршу.
Клюге посмотрел в окно, за которым бушевала вьюга, и вздохнул.
– Да, русские вполне могут назвать зиму вторым фронтом.
– Неужели она так сильно усложнила наши действия? – осторожно спросил Зомбах.
– Очень, – доверительно, как доброму другу, сказал Клюге. – Страдает от нее и техника и особенно люди. За последние два дня мы имеем сотни обморозившихся солдат.
– Значит, это факт? – спросил Зомбах. – А я подверг сомнению донесение своего агента.
– Напрасно. Это в Берлине должны знать.
– Но ставка, наверное, знает все, – возразил Зомбах, уже начиная догадываться о причинах поспешной любезности фельдмаршала. – Ведь вы со ставкой связаны повседневно.
– Связан-то связан, но у нас нет привычки докладывать ставке о подобных неприятных вещах, тем более не имеющих прямого отношения к ходу военных действий, – бросив свой доверительный тон, раздраженно сказал Клюге и добавил поспешно: – Но если и вы тоже будете молчать в сомнении, это будет похоже на заговор лжецов.
Теперь Зомбах уже окончательно понял, почему Клюге так захотел его повидать: решил выяснить, доносит ли фюреру разведка о том, о чем сам он сообщать не решается.
– О трудностях во время осенней распутицы мы сообщали регулярно, – сказал Зомбах, решив несколько успокоить и обнадежить Клюге.
– Могу вас за это только поблагодарить. Кстати, вполне ли точны ваши данные о том, что русские подтягивают к нашему району свежие и достаточно крупные резервы?
– Вполне. Данные перепроверены и подтверждены несколькими нашими агентурными точками.
– Фюрер об этом тоже знает?
– Конечно. Наши данные уже фигурируют в материалах главной ставки.
– О, это ничего не значит, – махнул рукой Клюге. – Материалы ставки могли пройти и минуя фюрера. А сейчас, как никогда, фюрер нуждается в абсолютно точной и регулярной информации о нашем фронте. Вам, наверно, известно, полковник, что недавно я был в конфликте с фельдмаршалом Боком по поводу тактической цели группы «Центр». Я придерживался первоначальных планов фюрера, чтобы наши армии остановились на реке Десне, а выход на Москву осуществлять с юга. Но затем, победила позиция Браухича, и войска «Центр» атакуют Москву. Браухич склонил к этому решению и фюрера. А для нас, солдат, приказ есть приказ – мы, не считаясь ни с чем, рвемся вперед. Не считаемся мы и с сообщениями о том, что русские подтягивают резервы.
– Но ведь и для русских, – сказал Зомбах, – контрнаступление затруднено теми же зимними условиями.
– Вы так думаете? – с иронией спросил Клюге. – У русских есть очень точная поговорка: дома и стены помогают. А мы тут в гостях, полковник. Вы не читали, случайно, мемуары наполеоновского генерала Коленкура? Обязательно прочитайте… – Клюге кивнул головой через плечо, спросил: – Ваши агенты… там… не прозевают момента, когда готовность русских к контрудару станет вполне реальной?
– Не должны. В прифронтовой полосе с той стороны у нас больше десятка хорошо работающих агентов.
– Я иногда думаю об этих ваших людях. Смелый народ. И я слышал, все они русские? Это верно?
– Да. Почти все.
– Таинственная нация, честное слово, таинственная!
– Почему? – спросил Зомбах. – Люди, склонные и даже влюбленные в рискованную профессию разведчика, есть в каждой нации. И мы их хорошо готовим, надежно оснащаем, мы много платим тем, кто хорошо работает. Вы помните наши сводки по району Гжатск – Вязьма?
– Как же! Как же! – оживился Клюге. – Это была ценнейшая информация, она позволила мне высвободить из боя и перебросить в другое место три дивизии. И силами одной дивизии я сделал то, на что собирался бросить почти всю армию. Это был пример великолепного контакта армии и ее разведки; пользуюсь случаем поблагодарить вас за это.
– За этот эпизод ставка наградила наших людей орденами, – сказал Зомбах.
– По заслугам, по заслугам, полковник! – быстро проговорил Клюге и снова задумался.
– Стремление к такому контакту должно быть и постоянным и обоюдным, – сказал Зомбах. – Очень досадно, когда сталкиваешься с непониманием и неуважением наших задач.
– Что я могу сделать для вас? – Клюге подвинул к себе огромный блокнот.
– Не можете ли вы отдать приказ, чтобы, пока здешний лагерь будет построен и заполнен, мы получали пленных непосредственно от войск? Мы будем производить отбор, а остальных переправлять в ближайшие лагеря.
Клюге сделал размашистую запись в блокноте.
– Хорошо, это будет сделано. Вы правы, армия должна помогать вам лучше, но и вы армии тоже.
– Мы делаем все, что от нас зависит, – с достоинством ответил Зомбах. – Меньше чем за полгода создать в тылу противника широкую агентурную сеть было делом нелегким.
Зомбах и в самом деле был доволен проделанной «Сатурном» работой. И он был уверен, что, если бы не вечные интриги службы безопасности, да еще холодок в отношениях с армейской верхушкой, дело можно было бы развернуть еще лучше. В этом смысле Зомбах возлагал большие надежды на этот свой разговор с фельдмаршалом Клюге.
– Вы несете большие потери? – спросил Клюге.
– Значительная убыль для нашей работы естественна. Главным образом потери происходят при переходе через фронт. Вот и здесь, позволю себе заметить, помощь нам армии могла бы быть значительно лучшей.
– А как же мы можем помочь? – спросил Клюге.
– В настоящее время при переходе фронта наши люди могут рассчитывать лишь на то, что свои не выстрелят им в спину. Но бывало и такое.
– Не может быть! Где, когда?
– В сентябре на участке сто девятой дивизии. Командир дивизии по нашей просьбе будто бы отдал соответствующий приказ, но приказ почему-то не дошел до флангов дивизии, и мы потеряли двух ценных, хорошо подготовленных агентов. Их застрелили наши солдаты.
– Почему об этом случае не доложили мне?
– Шифровка вам была послана.
– Я расследую это. – Клюге сделал запись в блокноте и, отшвырнув карандаш, сказал: – В свою очередь, просьба к вам: будьте до конца честны в сводках, которые достигают стола фюрера. Вы понимаете меня?
– Вполне.
– Армия не забудет этой вашей помощи ей. – Клюге встал. – Я буду позванивать вам, а вы звоните мне, не стесняйтесь, я хочу иметь с вами, полковник, настоящий деловой контакт. – Клюге протянул руку. – До свидания, полковник, желаю успеха.
– Взаимно.
Зомбах вернулся в «Сатурн» в хорошем настроении. Разговор с Клюге получился интересным и весьма обнадеживающим. Зима – все же опасность побочная: армия с ней справится. Надо немедленно сообщить об этом разговоре Канарису, подчеркнув просьбу Клюге относительно честного информирования фюрера.
Зомбах зашел в кабинет своего заместителя Мюллера и рассказал ему о встрече с Клюге. Он рассказал все кроме того, что собирался подчеркнуть в донесении Канарису.
– Когда им становится плохо, они вспоминают о разведке, – съязвил Мюллер. – Кажется, еще старик Николаи сказал, что армия любит делиться с разведкой только поражениями.
– Неплохо сказано, – усмехнулся Зомбах. – Что нового?
Мюллер раскрыл лежавшую перед ним папку и вынул из нее два оранжевых листка, на каких печатались расшифрованные донесения агентов.
– Два интересных донесения, – сказал он. – Агент «Иван» сообщает, что за истекшие сутки из Сибири к Москве «проследовало тринадцать эшелонов, то есть на два эшелона больше, чем вчера, и на пять больше, чем третьего дня. Второе – от точки „Оскар“. Вторично утверждает, что ничего похожего на голод в Москве не наблюдается». – Мюллер положил шифровки в папку. – Я думаю, что оба эти донесения нужно включить в сводку номер один.
Зомбах вспомнил просьбу Клюге и распорядился включить в главную сводку только донесение о сибирских эшелонах. Незачем лезть на рожон. Геббельс в «Фелькишер беобахтер» ежедневно расписывает голодающую Москву, и в конце концов сам этот факт, тем более что он вовсе и не факт, никакого значения сейчас для немецкой армии не имеет.
Мюллер не возражал. Он и сам думал так же, но хотел заручиться поддержкой начальника «Сатурна».
– Остальные точки, – сказал Мюллер, – точно сговорились передавать чепуху. Точка «Южная» нашла нужным радировать о пожаре в керосиновой лавке.
– Может, это дело их рук? – спросил Зомбах.
– Да нет же, они бы об этом сообщили. Доносят, как репортеры в хронике: «Сгорела керосиновая лавка». Я дал указание Фогелю, чтобы он всем этим репортерам сделал строгое внушение.
– Только пусть он это делает мягче, без ругани, которая может обидеть агентов. Прошу вас, проследите, за этим. Что еще?
– Андросов докладывает, что у него есть, как он выразился, любопытный и очень стоящий экземпляр. Он настаивает, чтобы мы сами поговорили с этим человеком.
– Откуда он его взял?
– Прислали из военной комендатуры.
– С чего бы это они вспомнили о нас? – удивился Зомбах.
– Чистая случайность, – пояснил Мюллер. – Наш Грейс дружит с каким-то майором из комендатуры, и тот сделал ему этот подарок.
– Ну что ж, учитывая наш голод на кадры, давайте посмотрим, что за экземпляр. Минут через тридцать пусть его доставят ко мне. Приходите.
Зомбах написал личное донесение Канарису о разговоре с Клюге. Как всегда, он абсолютно точно рассчитал время. Только из его кабинета вышел шифровальщик, унесший донесение Канарису, как в дверях появился Андросов.
– Человек, о котором вам говорил подполковник Мюллер, здесь, – доложил Андросов. – Прикажете ввести?
– Подождите, сначала расскажите, что он собой представляет.
В это время в кабинет вошел Мюллер.
– Это он сидит у дверей? – обратился он к Андросову.
– Да.
– Морда симпатичная, прямо похож на какого-то нашего киноартиста, из-за этого мне кажется, что я его где-то видел.
– Вы видели его у меня в кабинете, – сказал Андросов. – Помните, когда я не отвечал по телефону и вы зашли узнать, в чем дело. А симпатичный он и в другом, для нас более важном, – почтительно улыбнулся Андросов.
– Посмотрим, – хмуро бросил Зомбах. – Расскажите о нем.
Андросов четко, без лишних слов изложил версию Рудина – Крамера и сообщил, что проверка того, что можно было проверить, показания Крамера подтвердила.
– А что? – обратился к Мюллеру Зомбах. – Я верю в такой зов немецкой крови. Письмо отца у вас? Ну-ка, покажите.
Андросов вынул из своей папки и протянул Зомбаху письмо. Тот исследовал отдельно конверт, потом начал читать письмо.
– Да, это письмо писал немец… – Зомбах подумал и сказал Мюллеру: – Между прочим, мы эту большевистскую республику немцев Поволжья, как резерв кадров, использовали плохо.
– Об этих наших интересах, – сказал Мюллер, – большевики своевременно подумали и приняли меры. Республика эта стала для нас недоступной.
– Ах, эти несносные большевики! – рассмеялся Зомбах, которого еще не покинуло хорошее настроение. Он обратился к Андросову: – Давайте сюда вашего красного немца…
Первый вопрос Рудину задал Зомбах:
– Где и в какой форме вы рассчитываете сотрудничать с нами?
Рудин долго не отвечал, делая вид, будто он напряженно обдумывает ответ.
– Вы задали мне самый трудный вопрос… – пробормотал он и, помолчав еще, спросил: – Можно ответить мне на этот вопрос позже?… Понимаете, я был готов ко всему, что вы мне сами предложите, о выборе я и не помышлял, но раз вы мне предоставляете эту возможность, я хочу обдумать как следует.
– Какая причина толкнула вас перейти к нам? – спросил Зомбах.
– Было несколько причин, – не торопясь, с паузами ответил Рудин. – Здесь и письмо отца, которое еще раз напомнило мне, какая кровь течет в моих жилах; здесь и хамское отношение ко мне командования партизанского отряда, куда меня забросили; здесь и…
– Почему вас не любило командование отряда? – перебил его Мюллер.
– Любовь или нелюбовь – это не то определение, – скромно улыбнулся Рудин. – За хамством ко мне стоял средний уровень культуры моих начальников.
– То есть? – не понял Зомбах.
– Почти всегда люди среднего уровня не любят людей образованных, имеющих это явное превосходство над ними.
– Почему? Наоборот, более естественно их уважение к такому человеку, – сказал Зомбах.
– Да, да, – закивал головой Рудин, – где угодно и не только в России. Проследите трагическую судьбу умных людей России во все времена ее истории. В основе всех этих трагедий то, что облеченные властью посредственности не признавали ум и талант этих людей: Пушкин, Шевченко, Лермонтов, Некрасов. В России неприязнь клики людей среднего уровня к уму сложилась исторически. – Рудин улыбнулся. – Я, конечно, не причисляю себя к таким гениям, как Пушкин, и моя трагедия в сравнении с его трагедией – песчинка, но для каждого человека своя боль – самая больная. Командиру отряда не нравилось во мне все: и то, что я знаю немецкий язык, а он его не знает; и то, что я люблю книги, а он в каждый свободный час заваливается спать; и то, как я разговариваю и не прибегаю, как он, к матерной ругани. Ну и уж, конечно, то, что я по крови наполовину немец. Они называли меня Полуфриц и делали вид, что не знают другого имени. Часто я был не согласен с командиром по поводу действий отряда, но это менее существенно. В конце концов за отряд отвечал он, а не я. А главное, у меня не выходили из головы слова отца, и с каждым днем я чувствовал себя в отряде все более чужим. В конце концов я увидел, что оставаться там мне не по силам. Я мог однажды сорваться и погибнуть. И тогда я сдался в плен…
Рудину казалось, что Зомбах слушает его не только с интересом, но и с сочувствием. А вот Мюллер – тот не сводил с него холодного прищуренного взгляда. Но это были разведчики-профессионалы, и точно определить, что они сейчас думают на самом деле, невозможно. Было видно, как нервничал сидевший в стороне Андросов. Он так сжимал в руках папку, что пальцы у него стали белыми.
– Разрешите мне теперь ответить на ваш первый вопрос? – обратился Рудин к Зомбаху.
Полковник благосклонно кивнул.
– Все, что я сейчас сказал, и есть часть ответа на первый ваш вопрос. Я нахожусь здесь в нашем… простите, в вашем тылу… – смущенно поправился Рудин. – Все дни войны я наблюдал поистине грандиозный размах действий немецкой армии и ее оккупационного аппарата. Но, с другой стороны, я не мог не видеть досадных оплошностей и промахов, которые происходили от незнания специфики Советской России. Именно Советской, а не просто России. Вы меня простите за смелость, но мне кажется, что многие действующие здесь представители Германии изучали Россию только по Достоевскому.
Зомбах не смог удержать улыбки. Он вспомнил, как Канарис на одном совещании сказал, что он не в силах понять русскую душу в том ее виде, как она раскрыта Достоевским, и, кроме того, надо полагать, что большевики вывернули эту душу наизнанку и немцам придется иметь дело черт знает с чем…
– Можете вы привести хоть один пример из этих ваших наблюдений? – попросил Мюллер.
– Сколько угодно, – с готовностью ответил Рудин, чуть повернувшись к Мюллеру. – Например, действия оккупационного аппарата по отношению к местному населению. Безжалостность и жестокость по отношению к коммунистам и ко всем их прихлебателям – это трезвая необходимость. Германия должна убрать с этой земли все, что было главной опорой советского режима. Но она, эта жестокость, не должна быть безжалостной и неразборчивой по отношению ко всем людям, живущим на этой земле. Когда в качестве заложников расстреливают наугад схваченных жителей какой-нибудь деревни, иногда даже не узнав их фамилий, мы… простите, вы в этой деревне из-за каждого расстрелянного приобретаете столько врагов, сколько у этого расстрелянного друзей и родственников. Прославленная покорность русского мужика оканчивается там, где он начинает озлобляться. Еще пример, даже просто вопрос: расстреливать ли заложников на глазах у всей деревни, или делать это в другом месте, оставив родственникам право надеяться на лучшее? Опять же учитывая классическую долготерпимость русского человека.
– Гестапо обязано выполнять приказ фюрера о расчистке занятых нами просторов России, – ровным голосом сказал Мюллер.
– Я понимаю это, – подхватил Рудин. – Но не лучше ли проделывать это постепенно, а главное, так, чтобы не озлоблять население, не создавать этим опасность для тыла немецкой армии? Вот и командир нашего партизанского отряда, как только узнавал, что в какой-нибудь деревне произведена жестокая расправа над крестьянами, немедленно посылал туда своих людей и получал оттуда и пополнение отряда и продовольствие. – Рудин сказал все это, глядя прямо в прищуренные глаза Мюллера, и тот первый отвел взгляд в сторону.
Против того, что сказал этот полунемец, возразить было нечего. Обо всем этом поднимался вопрос и на недавнем секретном совещании в Минске, где Мюллер присутствовал.
Зомбах смотрел на Рудина с возраставшим интересом. Да, у этого красивого парня башка варит. Ему нравилась еще и классически немецкая внешность Рудина. В самом деле, он похож на какого-то киноартиста. Зомбаху нравилось и то, что он говорил. Ведь не дальше как две недели назад, когда Канарис прилетал в «Сатурн», Зомбах сам говорил ему, что гестапо, излишне и торопливо усердствуя, усложняет положение в тылу немецкой армии. Правда, Канарис как будто не обратил на это никакого внимания и отделался шуткой, что за действия гестапо он не отвечает…
– Или взять вопрос о частной торговле в зоне оккупации, – продолжал Рудин. – Русские привыкли к полному отсутствию частной торговли. Вы ее восстановили, но не подумали, как ограничить алчность торговцев. И что получилось? Людям жить трудно, достать что-нибудь для нормальной жизни – целая проблема. У частников все есть, но они дерут с обывателей три шкуры. Обыватель клянет торговцев, но заодно и тех, кто дал им волю. Разве нельзя обуздать частников? Можно и нужно.
Зомбах и Мюллер переглянулись. Это же просто удивительно! Оба они вспомнили недавно полученную оккупационными властями специальную директиву по поводу контроля за ценами и источниками товаров частных торговцев.
– Ну, хорошо, – сказал Зомбах. – Вы говорите любопытные вещи, но они к нашей работе не имеют никакого отношения. Вы представляете себе ясно, где вы находитесь?
– Безусловно. Мне все разъяснили, – Рудин посмотрел в сторону Андросова.
– Ну так как же вы представляете себе сотрудничество с нами?
– Как? – удивился Рудин и недоумевающе посмотрел на Андросова. – Я ведь уже подписал обязательство выполнять приказы немецкой разведки. Так что я жду приказа, и все…
– Мы вас пошлем в качестве нашего агента в партизанский отряд. Согласны? – спросил Мюллер, не сводя глаз с Рудина.
– В принципе согласен, – после некоторого раздумья ответил Рудин и, помолчав, продолжал: – Однако мне кажется, что при засылке своих агентов в партизанские отряды вы иногда не учитываете типичной черты военного времени – подозрительности. Нельзя схватить партизана, уговорить его служить Германии и отправить его туда, где он находился до плена. Категорически нельзя. Более правдиво – заслать его совсем в другой район. У нас в отряде рассказывали, как вы вернули одного партизана в отряд, что находится в Задвинском лесу. Его там потрясли, он все рассказал, и его повесили на осине у самой шоссейной дороги, да еще прикололи к пиджаку надпись: «Судьба предателя». У меня нет желания последовать за ним. Уж если это обязательно необходимо, забросьте меня к партизанам, которые находятся подальше от моего отряда, и я вам подберу там нужных сотрудников.
– Это надо обдумать, – сказал Зомбах. – Давайте пока закончим. Я прошу вас, Крамер, выйти и подождать в приемной. А вы, Андросов, останьтесь…
Андросов вышел из кабинета Зомбаха спустя полчаса и на ходу сухо бросил Рудину:
– Пройдите ко мне.
В своем кабинете Андросов, как совсем обессилевший человек, тихо опустился в кресло:
– Ну, знаете ли… – шепотом произнес он.
– А что такое? – улыбнулся Рудин. – Все как будто идет нормально. Или я ошибаюсь?
– Больше, чем нормально. Зомбах хотел, чтобы вы сейчас же начали работать здесь, в аппарате, но Мюллер настоял, чтобы сначала вы отправились в партизанский отряд.
– Это не страшно. Мюллер, я вижу, очень насторожен, а он не дурак. Надо дать им возможность меня проверить. Нет, нет, все идет хорошо. Спасибо. На каком режиме меня будут держать?
– Приказано определить вас в общежитие при нашей разведшколе, это на территории гарнизона.
– Выход в город разрешается?
– Как и всем курсантам, только в воскресенье и только с двенадцати до трех.
– Не густо, но ничего, управлюсь. Был разговор, в какой отряд посылают?
– Мюллер предложил как раз в тот отряд в Задвинском лесу, про который вы говорили.
– Прекрасно! А какой у нас сегодня день?
– Четверг.
– Надеюсь, я могу затянуть свою подготовку, чтобы иметь хоть одно воскресенье с выходом в город?
– Конечно.
– Тогда все в полном порядке…
Пять важных радиошифровок
От Бабакина – Маркову
«Торговля идет нормально. Связи с Кравцовым по-прежнему нет. Сегодня было свидание с Рудиным. Далее следует переданный им для вас текст: „Все в полном порядке. Андросов согласился и уже сделал для меня многое. Его письменное обязательство оставляю у Бабакина. В самое ближайшее время меня забросят в Задвинский лес в отряд, где в конце лета был повешен изменник. Я должен завербовать там агента. Это задание для меня экзамен, и, если я его выдержу, по всем данным, буду взят в аппарат. Прошу обеспечить все необходимое для этой операции. Привет. Рудин“. Рудин очень торопился, ничего к его тексту прибавить не могу. Обязательство Андросова перешлю при ближайшей возможности. Привет. Бабакин».
От Маркова – в Москву, Старкову
«Только что через Бабакина получил первую радиограмму от Рудина. У него все в полном порядке. Андросов согласился и уже работает. Рудина хотят проверить – посылают с заданием к партизанам. Обеспечиваю эту операцию и подключаю в нее находящегося в резерве Добрынина. Дальнейшее продвижение Кравцова происходит пока медленно. Хотя данных об организации противником широкой и тщательной службы радиопеленгации нет, до возможного минимума сокращаю работу своей рации и буду выходить в эфир из разных мест. Перехожу на использование каналов связи с участием посыльных и почтовых ящиков. Привет. Марков».
От Маркова – товарищу Алексею
«В самое ближайшее время вражеские разведорганы забросят своего агента в партизанский отряд, действующий в Задвинском лесу. Это будет наш человек, о чем надо срочно предупредить только руководство отряда. Подробности им объяснит сам заброшенный. Операция имеет крайне важное значение. В целях наилучшего ее обеспечения нахожу необходимым немедленно перебросить в тот отряд своего представителя, который в настоящее время находится в деревне Стогово. Сообщите, возможно ли установить с отрядом предварительный контакт. Начиная с 20-го числа переходим на условленные каналы связи. Радиосвязь только в самых необходимых случаях, но слушаем друг друга, как и до сих пор, в четырех поясах времени. Привет. Марков».
От товарища Алексея – Маркову
«Командиру отряда Лещевскому даны необходимые указания и лично на него возложена ответственность за успех вашего дела. Представитель отряда будет ждать вашего человека завтра с 19 до 20 часов возле развалин казачинской церкви, что примерно в пяти километрах на запад от Стогова. Пароль вашего человека: „Привет верующему“. Отзыв: „Бога бояться – не грешить“. Подтвердите выход вашего человека завтра. Привет. Алексей».
Из Москвы – Маркову
«При первой же возможности передайте Рудину сердечный привет и пожелания успехов. Держите меня в курсе всех его дел, в том числе незначительных. Находка Савушкина может оказаться перспективной. Его связь с Хорманом развивайте и закрепляйте. Что у Кравцова? Хозяйка и тюремный архив в Смоленске давно приготовлены, но до сих пор там никто не был. Решение в отношении радиосвязи правильное, но мы слушаем вас по-прежнему круглосуточно. Учитывая громадную важность для нас точки Бабакина и то, что он находится в городе, насыщеном радиослужбой противника, необходимо, чтобы и он использовал свою рацию только в особо важных случаях, требующих срочности действий, и переходил на использование связных. Привет. Старков».
Глава 16
Ровно в девять ноль-ноль Кравцов, как было ему приказано, явился в гестапо. Старательно сколотив снег с сапог, он подошел к дежурному:
– Мне приказано оберштурмбаннфюрером Клейнером быть здесь в девять утра.
Фамилия Клейнера подействовала, но все остальное дежурный явно не понял.
– Айн момент, – пробормотал он и вызвал по телефону переводчика.
Явился пожилой флегматичный дядя.
– Узнайте, что надо этому человеку, – обратился к нему дежурный.
Кравцов сказал переводчику, по чьему приказанию он явился. Тот перевел все это дежурному.
– Айн момент, – улыбнулся Кравцову дежурный и позвонил адъютанту Клейнера. Доложив о посетителе, он выслушал, что ему сказали, положил трубку и повернулся к Кравцову. На лице у него уже не было никакого уважения к посетителю. Он кивнул переводчику: – Скажите ему, чтобы он вот там подождал.
Кравцов сел на обшарпанный деревянный диван, видимо привезенный сюда с вокзала, на спинке дивана было клеймо «МББЖД». В вестибюле становилось все оживленнее. Шли на работу сотрудники, многие из них были в штатском, и их ранги можно было угадать только по степени небрежности, с какой они козыряли дежурному и как тот им отвечал.
Кравцов пристально наблюдал за всем вокруг и старался понять, почему сегодня с ним обошлись так небрежно. Он находил всякие объяснения этому, но только одно, самое тревожное, в которое ему больше всего не хотелось верить, казалось ему самым реальным: очевидно, они немедленно дали указание в Смоленск, а наши не успели привести в боевую готовность ни «хозяйку дома», ни тюремный архив. Из Смоленска пришло соответствующее донесение, у гестаповцев, естественно, возникло недоверие ко всему, что он сообщил им о себе.
В характере Кравцова была черта, которую Марков иронически называл «недержание решительности». Когда в группе обсуждались очень рискованные действия Кравцова в операции по обеспечению встречи Маркова с товарищем Алексеем, Марков несколько раз спрашивал у него: «Ну а что было бы, если бы у людей товарища Алексея не оказалось больше выдержки, чем у вас?» Кравцов молчал. Что он мог ответить? Он еще долго после той истории вспоминал сцену в хате, и от одного этого воспоминания у него ладонь делалась влажной, как в ту минуту, когда он сжимал в ней приготовленную к броску гранату. А Марков своим ровным въедливым голосом уже спрашивал: «Как вы могли отправить в деревню солдата, не снабдив его паролем?» И снова Кравцов молчал. То, что он допустил крупный просчет, ему было ясно. Самое обидное, что он не только Маркову, но и самому себе не мог объяснить, как он не подумал тогда о таких простых вещах. «Снова и снова недержание решительности…» – со злостью сказал Марков.
Сейчас, сидя в вестибюле в гестапо, Кравцов старался как можно спокойнее обдумать свое положение.
