Читать онлайн Первый после Бога бесплатно
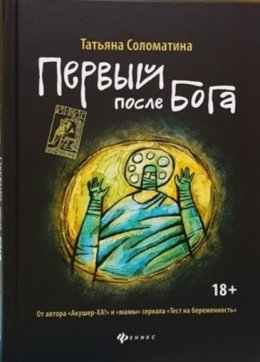
Белые надежды
Я как-то проснулась утром и первобытным инстинктом осознала, что мне совершенно нечего… делать! А вы что подумали? Про «нечего надеть» я тоже успела, конечно. Но тут не в этом дело. А в том, что я поняла, – всё, – хватит! Сколько можно?! Хочу, наконец, пожить свободным человеком! Буквально «наконец»: я окончила школу.
Да, да, это было давным-давно. Что не отменяет, согласитесь.
Но тут выясняется, что свободный человек должен работать. Свободный человек вообще дохрена всего должен. Это мне быстро разъяснили – в ответ на мою декларацию о свободе и независимости, – на экстренно собранном семейном совете. С привлечением Толика Из Шугурово, что свидетельствовало о крайней серьёзности обстоятельств.
Семью испугала моя жажда свободы. Или моё понимание свободы. Или трактовка понимания?.. Не суть. Откровенно глупой я свою семью не считала, несмотря на отдельно взятые недостатки каждого. Напротив, уважала совокупные знания и опыт. Все мои были людьми образованными, даже слишком, по два высших образования на нос. К приличным профессиональным достижениям на нивах педагогики, дефектологии, математики, судовождения, инженерии и физики прилагалось неистовое увлечение литературой, музыкой, театром, живописью и прочей культурологией. И по этой же причине к решению фундаментальных кармических вопросов привлекался именно Толик Из Шугурово. Токарь шестого разряда.
Толик Из Шугурово жил на рабочей окраине. Познал много из того, чего живущим в самом историческом центре и повидать не доведётся. И приходился нам не то дальним родственником по линии внебрачных связей, не то внуком той кухарки, что выдала барчонка, младшего бабушкиного брата, за своего родного сына, когда в имение явились большевики и томимые жаждой всяческих свобод, утолили её жестокими убийствами людей разных социальных слоёв, полов и возрастов. Свобода – в их понимании, а точнее: в полном их непонимании, – что правда, всё равно не материализовалась, а вот значительная часть моей семьи по материнской линии была навеки утрачена. Вот, видимо, семья и старалась восстановить ту старую Россию, большую помещичью усадьбу, которая не грабила, но накапливала. В том числе людей, о которых заботилась. Потому и был у нас Толик Из Шугурово, и бог весть кем он нам приходился. Кто знал и помнил – умерли, а при жизни болтать любили далеко не на все темы. Толик Из Шугурово был наш – и всё тут! Это был свободный выбор – считать его своим. У нас в Толике Из Шугурово была осознанная семейная необходимость.
По откровенному малолетству я считала, что именно так его и зовут: Толик Из Шугурово. Очень цельное было имя, и шло ему.
– К нам сегодня зайдёт Толик Из Шугурово, – иногда не очень довольно оповещала мама.
Это означало, что сегодня у нас дома появится маленький, кирпичного цвета весёлый алкаш, работяга. Шукшинский персонаж. Его иногда специально звали в гости на всяческую профессуру, эдакий кунштюк. Толика Из Шугурово ничем нельзя было ни пронять, ни удивить. На все случаи жизни, науки и техники, природы и географии, а равно мюзикла и выставки импрессионистов, у Толика Из Шугурово была короткая ёмкая история. А то и вовсе максима. И чтобы ни рассказал капитан дальнего плавания в белом кителе, только что пришедший из Аргентины, какими бы историями ни потряс компанию известный психиатр, чтобы ни исполнил на рояле заведующий отделением детской гематологии, на сцену, не мешкая, выходил маленький кирпичного цвета весёлый алкаш, и начинал свою интермедию:
– А вот у нас в Шугурово!..
И все понимали: кранты. Шугурово сейчас всех срежет.
Когда я была совсем маленькой, я любила Толика Из Шугурово. Потом я подросла и стала, как это свойственно всем мерзавцам-подросткам, относиться к нему свысока. И даже уточнила у своего обожаемого взрослого друга, того самого детского гематолога:
– Почему его вечно приглашают в гости?!
– Чтобы мы окончательно не превратились в кучу дерьма!
Ответ моего старшего друга был мне тогда непонятен. Ещё непонятней был его печальный вздох, которым он сопровождал разъяснение, кажущееся ему предельно ясным.
И было очень обидно, когда уговаривать меня обождать со свободой и ещё немножко поучиться, призвали не высокоинтеллигентных и потрясающе образованных друзей семьи, а её странного получлена, Толика Из Шугурово.
Первую Толик Из Шугурово выпил не закусывая. После немедленно опрокинул в себя вторую, поданную ему в заледеневшей стопке, на которую он посмотрел с осуждением, будто говоря: «лишнее, барство это!», закусил хрустящим солёным огурчиком и крякнул. И ему тут же налили третью. Все знали непреложное правило «Святой Троицы» от Толика Из Шугурово. Третью он поднял. И стал на мхатовскую паузу. Он всегда так делал: две подряд, первая без закуски; а третья под речь.
– А вот у нас в Шугурово девка одна была. Дурная. Шестнадцати лет утопла. Тебе сколько?
– Шестнадцать будет восьмого июля, ты же знаешь! – Недовольно буркнула я.
– Я знаю, что восьмого июля в этом доме завсегда наливают. А с чего наливают – я запоминать не обязан. И потом, сейчас что? Начало июня. Может, ещё и не станет тебе шестнадцати. Может, окончательно освободишься до восьмого июля. Если человек десять лет учится, как дурной, до золотой медальки дослуживается, и потом резко свободы хочет – то дурной этот человек. Ещё усилия нужны немалые. До свободы. Во время свободы. И после того, как… – Тут Толик Из Шугурово скривился по-крестьянски, бровки поднял, будто вспоминая что-то. – После того как – тут не скажу, не знаю, не слышал.
После чего он опрокинул третью рюмку. И зычно гаркнул, давая понять, что по теме всё что мог, поведал:
– Ну что, Фёдорыч, рукожоп ты мой головастый! Чего тебе в хате сегодня наладить надо?
Это было адресовано моему отцу. Стоит признаться, один из поводов, по которому Толик Из Шугурово был допущен в наш дом: у него были золотые руки. В то время как руки у большинства мужчин моей семьи и компании родителей росли из небезызвестного места.
Назавтра я отправилась подавать документы в медицинский институт имени Николая Ивановича Пирогова, отца русской хирургии.
Золотая медаль у меня действительно была. Тогда золотыми, да и серебряными медалями не швырялись в толпу, попадая в каждого второго. На район был лимит в одну жёлтенькую и две беленьких. Учитывая то обстоятельство, что я была совершенно «не блатная» девочка, это была более чем заслуженная медаль. На неё претендовали крутые детки, которых и тогда было во множестве. Например, учившаяся в другой школе моего района дочь директора флотилии «Антарктика». И ещё несколько не менее «лохматых», как тогда говорили, детишек. Но медаль получила я.
Обязательных экзамена было три. Я получила «отлично» по профильному, химии. И всё. И немедленно была зачислена в студентки медицинского института. Мама очень нервничала. Всё ей казалось, что меня «завалят», но экзамен по химии был письменный (как раз в год моего поступления впервые заменили письменными устные экзамены по химии, физике и биологии). А с письменной экзаменационной работой попробуй, завали.
И дальше началась удалая студенческая жизнь, которую я довольно подробно описала в книге «Коммуна или Студенческий роман». Но поскольку «Коммуна» – произведение всё-таки художественное, довольно много я упустила. Например, что атлас Анатомии Синельникова и атлас Гистологии Елисеева вместе взятые весят пять килограммов. И кроме них у тебя в сумке ещё ого-го сколько всего. И нельзя помять халат. Надо уметь его особым образом складывать. А ещё халат нужно стирать и крахмалить, равно и шапочку. Преподаватель неорганической химии не допускает на занятия без белого колпака, стоячего на манер гренадерской шапки. И на лекциях тоже вменяется сидеть в халате. Стирать халат чаще раза в неделю – он превратится в тряпку очень быстро, а их у тебя всего два. Без белых одежд можно быть только на кафедре марксистко-ленинской философии. Где заведующий, удивительно чуткий и тонкий человек, огромной души и невероятных знаний, полиглот и алкоголик, на первом занятии сказал нам:
– Главная причина – необоснованная уверенность в стопроцентной правоте. Почему старуха на костёр под ноги Яну Гусу принесла вязанку хворосту? Потому что была уверена без достаточного основания. Я права, я чиста, а он дружит с сатаной.
– Главная причина чего? – Заносчиво спросил наш староста, взрослый – как мне тогда казалось, – парень, прошедший Афган.
– Главная причина всего! – Усмехнулся наш философ.
– Ой, я знаю! Это из романа Дудинцева «Белые одежды»! – Воскликнула я.
Что поделать, я была записной отличницей, и это меня изрядно деформировало.
– Белые надежды… – печальное саркастичное профессорское эхо исказило название.
Была третья пара, и он был уже подшофе. Позже я узнала, что как и у Толика Из Шугурово, у этого мудрого доброго человека было правило «Святой Троицы», в своей трактовке: по стопарю после каждой пары. Если была четвёртая – всё, стоп! Остальную дозу он выдувал не раньше девяти вечера. Профессор был высокоорганизованным алкашом.
– У нас тут в учебном плане какая-то тема какого-то занятия. Но парням, я полагаю, уже в училищах и армиях этим башку набили, а ты только что со школьной скамьи, ты и вовсе всех членов Политбюро наизусть шпаришь. Так что поговорим сегодня от вольного.
Он очень любил говорить от вольного. И так и говорил с нами, пока мы не окончили институт, хотя кафедра марксистко-ленинской философии закончилась для нас много прежде. Экзаменом в конце первого курса. Многие подружились с нашим забавным Платоном и хотя священного оливкового сада, названного в честь древнегреческого героя Академа, у нас не было, но беседовать с умным и опытным человеком можно где угодно. И сидя на бульваре, и в затрапезной пивной, и прогуливаясь вдоль моря.
– Добро маскирует себя под небольшое зло, а зло себя – под величайшее добро. Светлое мужество говорит: какое я светлое, на мне много тёмных пятен. А тёмное кричит: я всё из серебра и солнечных лучей, враг тот, кто заподозрит во мне изъян. – Продолжил он наше первое занятие на его кафедре.
Этот чудак шпарил тексты наизусть километрами.
– Да-да, и это тоже из романа Дудинцева, – кивнул он мне. – Но для того, чтобы это из просто красивой словесной конструкции стало для тебя сперва правдой, а затем и истиной, чтобы проникло в кровь, тебе придётся жить. И жить долго. Жить, ежедневно болезненно расставаясь с белыми надеждами. Временами боль будет невыносимой. Иногда она будет притупляться.
Он обратился к аудитории:
– Кто надел белые одежды – обречён идти по пути расставания с белыми надеждами!.. И снимите ваши чёртовы халаты и дурацкие шапочки! Во-первых, у нас здесь философия, а не клиническая кафедра. Во-вторых, от некоторых глаза слепит, бабка научила так высококлассно синькой пользоваться? – Выразительно глянул он на ещё одного парня, прошедшего Афган. – А в-третьих! – Этот всегда аккуратный, чистенький, отутюженный алкаш брезгливо глянул на нашего старосту, прекрасного парня, тоже после армии, организованного и порядочного, но полнейшего бытового разгильдяя: – У некоторых они уже даже условно не могут считаться белыми.
Это показалось мне довольно интересным. И я решила идти по этому пути.
Ибо каждый из нас обречён только и только на свой путь.
Но пока я ещё совершенно свободная дура. Мне едва исполнилось шестнадцать лет, и Толик Из Шугурово с радостью пил за моё здоровье и поздравлял меня с поступлением в медицинский институт не менее горячо, чем мамины и папины высокоинтеллигентные энциклопедически образованные друзья. И всё у меня в жизни хорошо, я полна…э-э-э… надежд. Да, полна! И никакие учебные планы не помешают мне быть настоящей студенткой! Зря ли я так тренировала память и соображение все десять школьных лет!
Летучая мышь
В десятом классе захотела я платье фасона «летучая мышь». Со страшной силой. Голубое. И чтобы с голой спиной. С открытым воротом, со страшной силой и с голой спиной. Да-да, «шёл дождь и солдаты».
В лабазы тогда такое не завозили. А если и завозили в комки, то всё было в блёстках-люрексе-бляхах. Но я – девушка со вкусом. Не знаю, откуда во мне вкус. Врождённая патология.
И стала я ныть тётке: сшей платье!
Тётка у меня шила потрясающе! Великолепно! Гениально! Тётка у меня была просто Коко Шанель, но почему-то стала кондитером.
Я ныла, ныла! И как-то однажды так её заныла, что она – а в тот день у неё на работе была злая ОБХСС, но тётка всё равно принесла, что принесла, и ей надо было скинуть адреналин, – приступила к пошиву. Резко и чётко, как приступала моя тётка решительно ко всему. Для начала опрокинула в себя коньяка прям из насисечного пакета, занюхала какао-маслом из пакета нажопного (я чувствую, что ваша тётка не работала в СССР главным мастером экспортного цеха крупной кондитерской фабрики[1]), рванула к шкафу; схватила голубую простыню; цапнула меня за локоток – и мы понеслись в Среднюю комнату дедова дома, где у бабушки была практически швейная мастерская. И там тётка, посасывая из пакета коньячок, хренак-хренак, вжик, шур! – за два часа сшила мне платье «летучая мышь», иногда всаживая шпильки прямо мне в плоть (а равно закусывая ими коньяк).
Это было идеальное платье. Почти. В одном мы с тёткой не сошлись. Если с голой спиной, то вот сзади на шее надо… не знаю, не помню, как это называется. Такая тоненькая полоска. Шлейка? Потому что без этой полоски, да как ты хочешь, чтобы с голой спиной и с открытым воротом! – падать будет и сиськи наружу!
С обезумевшей тёткой, к тому же творящей тебе добро, лучше не спорить. Ту полоску я потом отрезала аккуратно заподлицо.
И до самого первого курса лежало платье без дела. Куда в таком?! На выпускной? Это произвело бы фурор, но мама не одобрила. На выпускном я была в унылом костюме из плотного белого гипюра, весьма элегантном, и состарившим меня лет на двадцать. Ещё десять добавили макияж и причёска. И на фото с директором школы я выгляжу не выпускницей, её личной гордостью, единственной золотой медалисткой на район, а суровым завучем по воспитательной работе, а заодно ещё и парторгом школы. Солидно снизошедшей чуть позже до вальса с военруком, и даже с записным школьным хулиганом. На вступительные экзамены платье с голой спиной тем паче не подойдёт. Так что великолепный шедевр, состряпанный тёткой из моей жажды, её адреналинового вдохновения и простыни с коньяком, томился в шкафу целый год. Это сейчас прикупишь что-то в порыве представлений, оно висит годами, а то и десятилетиями – и ничего. Пребываешь в твёрдой уверенности, что рано или поздно выгуляешь тряпку. Или подаришь кому. А тогда – вызывало приливы нетерпения. Порой такого, что взахлёб, наотмашь. Яростного.
На первом курсе у меня Примус появился. Друг, товарищ и брат. Не совсем, конечно, брат. Фигурально. Или разве только если как Чезаре Борджиа для Лукреции Борджиа. Вроде и у каждого своя жизнь, но так-то она общая, а иногда даже и объединённая. Уже буквально. Не то, чтобы мы такие распущенные были, просто ужасно юные. Я уж – так точно.
И пошли мы с Примусом как-то в свежеоткрытый спорт-бар на стадионе Спартак. Тогдашний спорт-бар так же отличался от нынешних спорт-баров, как теперешний фитнесс-клуб от давешней качалки.
Платье я дома предварительно протестировала. Тётка, чёрт возьми, отчасти права! Но у меня плечи косая сажень и выправка как у морского офицера. Если всё время себя держать будто шпагу проглотила – нормально, держится!
И вот сидим мы в спорт-баре, в дыму сигаретном, водяру пьём. И тут ко мне какой-то дяденька залётный с авансами. Мы ему вежливо объясняем, мол, бедные студенты, сидим своей компанией, уроки делаем. Дяденька, хоть и во хмелю был, но проявил понимание. И обратился к пацанам с такой примерно речью (исполняется с ноткой обиды):
– Да всё понятно, пацаны! Что ж я, сам студентом не был?! Я сам тех уроков переделал, по три нормы на барак! Но, сука, зачем же такой надменный вид?!
Он с надрывом покосил в мою сторону.
– Это, дядя, – отвечает Примус, – технологическая необходимость!
И тут же мне:
– Детка, улыбнись дяде!
Я дяде улыбнулась; а искренняя улыбка предполагает расслабленность; и есть моменты, в которых фальшивить нельзя ни в коем случае, ибо зверь напротив всё чует… И тут конструкция – долой с плеч!
– Надо же! – С отеческим сочувствием спокойно прокомментировал дядя. – Такая красивая шикса, а вместо сисек – две дули.
Платье не сохранилось. Было утилизировано в тот же вечер, в мусорный бак за спорт-баром. Домой я возвращалась в футболке Примуса, сидевшей на мне как коктейльное платье. А он шёл рядом топлесс, поигрывая офигенной мышцой.
Мораль: не важно, какие у тебя сиськи; важно, чтобы твой мужчина был умелым переговорщиком и на всякий случай здоровенным кабаном.
Красное платье
А в конце первого курса у меня появилось красное платье. Видимо, случился запоздалый подростковый бунт. Неприкрытый. С неприкрытым подростковым бунтом вовремя – вариантов не было. Не потому что родители диктаторы-бесы-узурпаторы, а потому что я была умная девочка, простите. Умные люди не бунтуют, отлично понимая, что жить в обществе родителей и быть свободными от родителей – нельзя. Путь умных: реформы. Так что мой бунт, ознаменованный появлением в моей жизни красного платья, был, скорее, проявлением эйфории начинающейся вольницы.
Мне перепала комнатка в коммуналке от родственницы. Повышенная стипендия и зарплата санитарки – это были уже мои собственные достижения. Но на красное платье всё равно не хватало. Потому что это должна была быть не красная тряпка с Толчка, а именно Красное Платье. И Красное Платье купил мне будущий первый муж. Это было правильное Красное Платье, он был мужчина со вкусом и стилем. Носить Красное Платье было совершенно некуда, даже в ресторанах я выглядела откровенно вызывающе. Безупречные Коленки в Красном Платье в Одессе 1989 года. Это было вопиюще. Любой поймёт.
Красное Платье было небезопасно. Оно провоцировало как молодняк, так и пожилых сохатых. И вообще, это крайне неудобно, когда ты заходишь и воцаряется гробовая тишина. Нет, в мечтах или, там, в кино – это круто. А в жизни – не очень. В жизни это – нелепо, неловко, неудобно. Вот пассажирский салон белого парохода, все уже в состоянии изменённого сознания, на эстраде Отиева, вся в ёлочном, вокализы выдаёт, богиня! Она реально богиня! Блёстки-мелькания, эпилептики на лету падают замертво. Ты тихонечко, стараясь не привлекать к себе внимания, пробираешься к капитанскому столику – и тут: стоп, машина! – всё на паузу. Только Отиева пытается спасти ситуацию, а ей минусовку отключили. Звукореж и держался-то на ногах только за тот штекер. А Отиева a capella живьём – это очень пронзительно. Кровь из ушей! Красная. Как платье. И ты только бессильно ахаешь, замирая. Пытаешься откреститься. Мимикой: это не я, это всё – оно! Красное Платье! Одними губами, бессильным беспомощным шёпотом: не я! Я – скромная, я уважаю чувства окружающих и их право на отдых без вопиюще раздражающих элементов!
Отиева – во всю мощь лёгких и голосовых связок на разгоне (богиня!).
В музыкальном салоне – битва на Чудском озере, причём непонятно почему, баба вообще никому неинтересна. Красное Платье.
Натерпелась я в том Красном Платье стыда и приключений. Его самостоятельная сила не просто не клеилась ко мне, стандартной бежево голубоглазой голенастой. Эта сила меня уничтожала. Обнуляла. Лишала самости. Я даже манекеном не была. В Красном Платье ты или становишься супергероем – или оно тебя разжуёт и выплюнет.
Я подарила своё платье коммунальной соседке по прозвищу Снежная Королева. Уж она-то с ним справится. А не справится – рука не дрогнет в острог, в ссылку, а то и казнить. И у Снежной Королевы рука не дрогнула. Она перешила великолепное Красное Платье, вечернее Красное Платье, в комбез. Для своей догини.
Положенная ремарка: прошло много лет. Как-то я захотела Красное Платье. Любые травмы, знаете ли, проходят. Если их не расчёсывать до мацераций и язв, как нынче модно. Очень не люблю людей, по жизни таскающих свои травмы. Причём таскающих свои травмы почему-то за тобой.
Лирическое отступление. Не могу не остановиться на теме «травмированных».
Заходит такой, со своей невероятной травмой глубиной лет в двадцать-тридцать, а может и все пятьдесят. Руки-ноги целы. Голова даже на месте. На голове – модная стрижка. На лице макияж «в тренде». Слов много разных знает, не заикается. Здоровый с виду гражданин. Или гражданка. Так и не скажешь, что травмированный. А он – глядь! – на пороге кучу наложил. Ты, такой: ё! дружище! Ты зачем это самое… на пороге-то нагадил?! Тут же вот, дверка в клозет, там тебе и унитаз начищенный, и плитка надраенная, и окошко и зеркало, и бумага туалетная трёхслойная, и свечка ароматическая, и полный венецианский пескоструй! Откладывай – не хочу! И тут он выдаёт, вдогонку к свежей куче: ага! как тебе не стыдно? я десять лет назад перенёс травматический колит, и я ничего не должен твоему порогу!
И ты, конечно же, думаешь: как был ты говном до травматического колита, так после него говном и остался. Теперь и с недержанием.
Это какая-то особая категория людей. Они непременно что-то перенесли. Корректней их называть не травмированными. А перенесенцами. Да. Перенесенцы. Есть переселенцы, а эти, вот, ПЕРЕНЕСЕНЦЫ.
Перенесенец всё переносит тяжелее. У вас, скажем, мамаша померла – и вы живёте, бесчувственная скотина. А у перенесенца возлюбленный кот скончался на двадцать пятом году жизни – и он не может больше жить. Не может, но, сука, живёт. Не хуже вас живёт. Ещё и получше. И непременно предъявит вам непонимание. Даже если вы к нему ни ногой. Он сам к вам явится – и предъявит. Прям на вашем же пороге.
Бывало человек на бог знает какой курс химиотерапии заходит, но не так страдает как перенесенец. Подумаешь, онкология! Вот в 1985 году перенесенец развёлся с женой. Или попал в аварию. Или гонорею подхватил. И пусть вы сто раз разводились/попадали в аварию/гусары, молчать! – вы не можете понять, потому что вы не перенесенец. Несмотря на то, что жизненный путь ваш не был усыпан лепестками роз, претерпевали и чего похуже. Просто вы – безжалостный урод. В том смысле, что никого никогда не разводили пожиже на жалость. Сами виноваты. В том, что перед вами никто не виноват. А перенесенец всегда найдёт сладкую-сладкую «травму» в далёком-далёком прошлом, где мама заставляла его жевать пенку с молока. Вы себе представляете, как больно с этим жить?! Не представляете?! Говорю же: в глазах перенесенца вы – безжалостный урод. В любом из смыслов.
Перед перенесенцем виноваты все. Во всём. И всегда. И нет той меры, которой бы удовлетворился перенесенец. Рыскает по свету, чутко усиками шевелит: сострадают ли ему здесь? сочувствуют ли должным образом? вникают ли на должную глубину и простираются ли на необходимую ширину?
Перенесенца невозможно накормить. Он ненасытен. Эта падла никогда не отвалится от пира. Будет срать прямо за столом. За которым собрались люди никак не с меньшим опытом потерь и трагедий.
Самое парадоксальное: этим добрым, и даже не совсем откровенно глупым людям будет искренне жаль перенесенца. И если, наконец, кто-то умный и злой, вроде меня, вынесет перенесенца из-за стола, добрые немало пережившие люди его же и осудят. Несмотря на то, что он сделал застолье приятней для всех.
– Да оно же перенесенец! Говно! Что до, что после, что вместо! – Заорёт умный злой человек, уставившись на своих добрых сопирушников.
– Да! Но он столько перенёс! Ему все мозги аварией вышибло! – Скажет, наконец, самый смелый из добрых. И самый глупый.
– Да ты сам в аварии попадал! В ситуации и проблемы! – Опешит умный и злой.
– Да. Но из меня они раз за разом вышибали говно. А вот из него вышибло мозги.
Тут все, конечно, смеются. Потом скидываются на похороны кота перенесенца. И те, у кого мама умерла. И те, кто на химиотерапии. И те, у кого работы нет. Потому что не перенесенцы. А попросту несгибаемые идиоты.
Я тоже иногда завидую перенесенцам. И тоже хочу себе какую-нибудь невероятную «травму», никогда не оставляющую меня. И с полным правом могу считать таковой Красное Платье. А кто мне в таком праве откажет – тот безжалостный злой и умный. Просто чудовище, ага!
Так вот, прошло много лет с первого Красного Платья. И я захотела второе. Моя медицинская карьера шла в рост. Как положено – через задницу. В смысле, через тернии, которые в неё впиваются. Им не придаёшь особого значения, потому что ты на пути. Нет времени. Особенно на марше. А именно маршевым темпом шла тогда моя медицинская карьера. Вдруг на меня стали обрушиваться степени, квалификации и должности. Вполне заслуженно, впрочем. Не оставалось времени на вытаскивание колючек из седалища, тщательного их рассматривания и пережёвывания в кругу сердобольных и/или психологов.
В тот день утром у меня была плановая, вечером я летела на конгресс. Второе Красное Платье уже месяц висело в шкафу. Я решила, что надо пообмять сарафан. Ночью меня вызвали в роддом. О! – думаю, – самое время! И нарядилась…
Охранник стоянки решил, что допился до «белки», и философически не среагировал на видение, потому что уже был знаком с обстоятельствами острого алкогольного психоза. Давно знакомый пес вжался в конуру и жалобно заскулил. От ночной скуки меня вяло тормознули гайцы. Подойдя, впали в ступор. Не представились. Не потребовали документы. Старший бледными губами прошептал:
– Простите…
И бессильно махнул рукой: ехай себе!
Прибыв, я решила перекурить в одиночестве на ступеньках приёма. Ничего ургентного, просто приехала рожать «моя девочка», в смысле – роженица, заключившая контракт с родовспомогательным учреждением, со мной в качестве врача акушера-гинеколога. Мне по телефону всё о ней доложили, раскрытие едва началось, торопиться было некуда. Так что я подумала: во-первых – это красиво! Алый призрак, пускающий дым в чёрное небо… Вышедшая группа товарищей отреагировала хотя и по-разному, но весьма однозначно.
– Матерь божья! – Заорала санитарка и перекрестилась.
– Твою же ж мать! – Прошептала акушерка и уронила зажигалку.
Анестезиолог попытался сохранить мужество и, стуча зубами, ринулся на колена. Поднимать зажигалку. Пробубнив:
– Это не матерь божья. Это Соломатина.
На банкете конгресса подрались два известных специалиста по ДВС[2]-синдрому. Не сошлись во взглядах на что-то очень кровавое узкоспециальное сильно биохимическое.
Второе Красное Платье я оставила в гостиничном номере. Мне его пытались вернуть, я от него открестилась.
Прошло много лет.
Я хочу Красное Платье.
Держусь из последних сил.
Но обязательно куплю, как только попадётся должное. Бог троицу любит.
Задницей чую – к терниям!
Опасная штука
Сразу раскрою все карты: студенчество – штука опасная!
Был у меня близкий друг, одно время даже полагала, что сердечный. Но слишком уж мы были разные, а, как известно, именно подобное притягивается подобным. Так что любви не получилось, но мы остались больше, чем друзьями. Мы навсегда остались в юности, где всё ещё возможно. И если время – один из способов, с помощью которого универсальное вещество вселенной формирует образы самого себя, и вещество времени – единственное, могущее передать воздействие от одной системы к другой мгновенно, то мы с моим другом сердечным в этот самый момент, когда я это пишу, и когда вы это читаете, – всё ещё сидим высоко над морем, на парапете Приморского бульвара, где он, хохоча и потряхивая кудрями, удивляется, как его угораздило! Частицы, не содержащие квантов хронального вещества, могут одновременно присутствовать и в прошлом, и в настоящем, и в будущем. Возможно, то, что лишь условно названо «частицами», потому что помимо прочих способов обязан существовать и способ поговорить об этом – наша память. И когда мы всего лишь говорим, что мы живы, пока о нас помнят – это вовсе не метафора, а реальное, буквальное, положение дел.
Так вот, именно сейчас мы самым натуральным образом болтаем и пьём кофе из термоса, созерцая утренний порт, и рассказывает мне мой надёжный – во всех остальных отношениях, – товарищ, экая с ним приключилась… вещь!
Надо сказать, что потрахаться он был совсем не дурак, и к соответствующей связи со всем, что мимо прошелестело и оказалось не против, был всегда готов. Для него пельменей в привокзальной кафешке принять под стопку водки было актом куда более сакральным, нежели половой.
На свою беду он был парнем весьма привлекательным, и я не имею в виду красоту, не только красоту, скорее определённый тип мужской красоты, который можно назвать ермоловским (имея в виду генерала Алексея Петровича Ермолова, а вовсе не актрису Марию Николаевну Ермолову, которая хоть и была свободолюбива, но всё-таки была женщиной). А что ещё хуже: подобный тип мужской красоты, как правило, снабжён невероятным сокрушительным обаянием. Было в моём друге сердечном лихое «мужчинство». С таким входят в незнакомую компанию, и через пять минут оказываются не просто своими, а уже компанией заправляют. Типичные альфа-самцы, какими их задумал Создатель.
И вот как-то раз проснулся мой дружочек в чужой койке, а рядом – глядь! – мужик. Толстый и седой. Спиной к нему. Храпит. Комната незнакомая. Дружище тихонечко вещички с полу подобрал и слинял. На мужика храпящего даже мельком ещё один взгляд бросить боялся. Пока знают двое – и ладно. Один раз не это самое! Будем считать: античность! Забыть, как страшный сон!
И вдруг, совсем через короткое время, на этой же неделе буквально, он получает автоматом зачёт по латыни. У нас латынь усатая очкастая старая тётка вела. Злобная ведьма. Лет пятидесяти. Да, так-то и не старая, но уж очень у неё была устрашающая внешность. И придирчивая была до ужаса. По сущим мелочам. Чем ей ещё заниматься, если у неё ни семьи, ни детей, и всего в жизни есть: вуз и студенты. А латынь тогда ещё более-менее серьёзно учили. Не так, конечно, как при царском режиме, не как в дореволюционных гимназиях и тем более университетах, но всё же, всё же. Товарищ же мой не то что там эпиграфы разбирать, а норму от почты отличить не мог. (Старая шутка, напишите слово «норма» прописными латинскими и прочитайте по-русски.)
Тут ему, конечно, сразу полегчало. Вспомнил, что вызвался помочь мебель переставить в её стародевической одинокой квартирке. А там за ужином и выпили. В общем, женщина – и слава яйцам! Зачёт, опять же. Жиголо чёртов!
Однажды этот друг сердечный меня очень расстроил. Как раз, когда я подумывала, не любовь ли с ним у нас? Собственно, этот товарищ – прототип Вадима Короткова, одного из героев моего романа «Коммуна». И вот когда у них случилось с моей соседкой, по прозвищу Снежная Королева, по совместительству и моей подругой – это было расстройство, да. Но когда он безобразную усатую «одну доцент» отпёр, прости господи, всё стало не так чувствительно. Просто есть такие люди, они сами по себе секс. Как Вадя. Как Снежная Королева. Таких людей невозможно не любить. Но любить их тоже невозможно. Потому что в любви как таковой довольно ценным качеством является способность остановиться. Это весьма сложно, если ты – ходячий вулкан эндорфинов и прочих эндогенных опиатов. Поверьте, это чудовищно сложно! Как будто водопад виноват, что брызги в солнечных лучиках. И далеко не все подобные великолепные особи обоих полов могут своевременно и резко сказать себе: да, ты водопад! но где ты видел сношающийся водопад? Пожалуйста, падай на здоровье, сверкай на радость окружающим, обрызгай того, кто сунется ближе. Но держись своей горы!
Опасная штука водопады времени. Но не слишком, если уметь с ними обращаться. И вдоволь насмеявшись над старой историей на парапете Приморского бульвара, воспользоваться хрональным веществом и вернуться туда, где водопады не предают свои горы достаточно долго. Например, вечно. Покуда новое Сотворение не разлучит их друг с другом, чтобы воссоздать снова.
И снова.
И снова.
И снова…
Качалка. Рассказ на Хэллоуин
В Советском Союзе Хэллоуина не было. Поэтому мы просто так напивались и с ума сходили. Не по графику.
И вот как-то в качалку нашу, что по улице Ёлочной (была такая в дебрях Большого Фонтана), в нашу же сплочённую сугубо мужскую компанию (я не в счёт, я принцесса) пришла одна такая. Не принцесса. Королевна. Её вроде как любил Костик, который и учредил эту качалку на втором этаже административного корпуса железнодорожного профилактория. На паях с тамошним главврачом. Типа для физиотерапии. Ну и на первом этаже сауна была. По вечерам-ночам, и с женщинами пониженной социальной ответственности. Только тогда они иначе назывались: проститутки. Вот такая в административном корпусе была круглосуточная физиотерапия, да.
В сауне Костик и выловил эту фею. А мужик он был видный, хотя и тупой как сто подвалов. Жёны у него были, и бывшая, и текущая. Сразу две. Так он ещё и любовницу завёл для полного и окончательного… не знаю чего. Чтобы полностью с чем-нибудь вскорости покончить, вероятно. Или… Короче, чем меньше у человека внутри – тем больше конструкций ему нужно снаружи. Как недостроенное здание в лесах. Теперь я так подобных людей воспринимаю – как нечто незавершённое. Взрослый мужчина, не могущий определиться с любимой женщиной или её отсутствием – несовершенен, незавершён. А тогда я считала Костика всего лишь слабым на передок, не соотнося это с его далёкой от безупречности мужской инженерией. Я и сама тогда была далеко не завершённой. Поэтому приятеля своего не осуждала. Да и сейчас не осуждаю. Какой смысл осуждать всего лишь строительный материал? В осуждении чего бы то ни было и кого бы то ни было в принципе нет никакого смысла, если всё происходит по обоюдным согласиям и в рамках уголовного кодекса.
Жёны Костика тоже внимания требовали, так он эту свою королевну иногда с нами бросал. А иногда она и сама притаскивалась. Дожидаться Костика в качалке было безопасней всего. В каком другом месте и на отлуп можно было нарваться. И от Костика. И от жён.
Девушка была как положенная. По одесскому яркая. Аутентичные одесситы, особенно одесситки – очень яркие, сошедшие прямиком из рассказа Аркадия Аверченко «Костя Зиберов»: понтовитые, шиковатые, лиловый галстук (в случае королевны нашего Костика – лиловые лосины), жёлтые ботинки (у нашей – повязка на волосах «вырви глаз»). Я-то одесситка ненастоящая. Нет-нет, родилась я в Одессе, но мама и папа – из России. Так что по сравнению с девицей я была скромным серым воробьём. Не могу не процитировать Аркадия Тимофеевича: «Среди горячей, сверкающей декоративной природы юга Костя Зиберов был красив, уместен и законен со своими ярким, живописным костюмом, размашистыми жестами, необычными оборотами языка… В Петербурге он казался сверкающим павлином среди скромных серых воробьёв». Я по рождению воробей. Так что на месте была наша павлиниха, а вовсе не я. Она была на месте. Уместна. На Ёлочной в дебрях Большого Фонтана, что в Одессе. И вела себя соответственно.
В зал без макияжа – ни-ни! Очень глупа. Болтлива, что трещотка. А самое ужасное: по любому поводу-вопросу своё мнение имела, что в сочетании с выдающейся глупостью приносило немыслимые плоды. Иногда в гробовой тишине высосет из потного воздуха качалки вопрос – и давай его иметь. Да так что уши у всех вянут. И голос такой ещё. Болгаркой по рельсе. И прилипчивая очень. Из таких, которые ни на трамвай в одиночестве не пойдут, ни в туалет не сходят. Ещё одна совершенно несовершенная конструкция, неосознанно ищущая опор вовне. Будто наедине с собой разваливается, разрушается.
Парни мои джентльмены были. Говорят ей: чего без дела языком мелешь? Пухловата ты, матушка. Откровенно говоря: толстовата. Пока молодая – ладно. Но время-то обратного хода не имеет. Так что, давай, тоже будешь качаться!
Примус вдруг за ней приударять стал. Ну как приударять. Нежен с ней. Внимателен. Говорит и показывает. Ручки-ножки правит ласково. Я не то чтобы там чего. Никакой ревности. «Ревность это такая страсть, которая со рвением ищет то, что причиняет страдания». Как справедливо замечено всё в том же романе Владимира Дудинцева «Белые одежды». Страсти к страданиям у меня не наблюдалось, соответственно – и рвения к поиску оных. К тому же у меня свои романы. Но чтобы Примус – и такая тупая бабофигура?! Наша-то, если что, должна быть лучше всех! Я его в этом смысле никогда не подводила! Ни за один мой роман ему не было стыдно! Он меня, во всяком случае, не стыдил. Вероятно, как личность довольно завершённая, тоже не имел страсти к поиску страданий. Или умел их использовать, не обнажая, как умеет толковый архитектор играть пространством и материалами.
Ну и я не показываю Примусу примерно ничего. Свобода воли и половых взаимодействий. А Костик уже и рад сплавить свою королевну. И заметив такое внимание Примуса к ней, говорит мне: ты Примусу передай, мол, зелёный свет! Ещё и проставлюсь! Поляну богатую накрою!
Я передала. Как не передать?
И вот прихожу как-то в качалку. Запашина стоит даже для качалки слишком. Даже если они хором перед этим вагоны с тухлой рыбой разгружали.
– Чем так убойно смердит?! – вежливо интересуюсь.
Примус свысока кидает:
– Вечно вашему высочеству всё не так и не то! Вот есть же классные тёлки, которых всё устраивает!
И королевна наша возлежит на станке для прокачки ножек, хихикая премерзко. Хотя победа надо мной ни одну настоящую по самые пересыпские корни одесситку не могла бы обрадовать. Павлины не замечают воробьёв. Она просто всегда хихикала. Большей частью глупо, иногда и премерзко. А Примус ей любовно вес грузит, типа пора переходить на новый уровень.
Я стою как оплёванная. Не ею, это бы ладно. Им! И отправилась в противоположный угол зала. Совет да любовь. К тому же в противоположном углу и воняет меньше. Я уже злорадно думаю, как королевна Примусу на новом уровне пердуна подпустит, если её и на старом нехило воздусями распирало. Жрать не надо перед залом! Говна всякого тем более. Понятно, что именно от неё воняет. Больше не от кого. Парни очень чистоплотные, они бы со стыда сгорели. Примус и посреди тренировки может в душ сгонять. И не один раз. У него тренировки долгие. Да чего о нём, пусть теперь с новой подружкой забавляется! Действительно! Не век же ему меня ждать! Я вообще на днях замуж выхожу, между прочим! Алё, гараж! Не ку-ку ли вы, девушка?! Оставьте парня в покое. Хочет павлина – пусть будет ему павлин!
И тут раздался нечеловеческий рык королевны в жиме. А потом лая матерна смешалась со звуками падающих тел. Некоторые из тел достигали центнера, так что звукоряд был знатный.
Я тоже туда. Примус натурально ошарашен. Оглушён. Потрясён! Кто из кавалергардов и гренадеров чувств-с не лишился – визжат как девчонки. Только басом и без продыху. Жизненная ёмкость лёгких позволяет. Ну и не все из медина. Политех ещё! А королевна сидит на станке, тяжело дышит. Примус с трагическим надрывом шепчет ей:
– Боже мой! Слишком большой вес! Я же не знал, что у тебя мочеполовая диафрагма ни к чёрту! Я предположить не мог, что у такой молодой девки мышцы тазового дна ни туда, ни в Красную Армию! Всё! Всё, к чертям, вывалилось! Кишечник, матка, мочевой пузырь! Всё! Все внутренние органы! Вся, научно сказать, спланхнология налицо. То есть – на полу! Нет! Ты только вниз не смотри! Ты пока в шоке, пока боли не чувствуешь – живая ещё!
И мне командует:
– Скорую! Вызывай Скорую! Реанимационную бригаду!
Я слова сказать не успела, как королевна вниз глянула. Потому что если кому-то сказать не глядеть на пол, первым делом он глянет именно на пол! Все мы выросли на красной обезьяне, и попытках не думать о ней.
Глянула она вниз – и с копыт.
Я тем, кто остался в живых, ору:
– Идиоты! Вы что забыли, что Примус санитаром в морге судебки работает?!
Больше мы королевну не видели. Костик проставился. Безо всяких там тыкв.
А вы Хэллоуин празднуйте, как положено. С тыквами. С театрализованными представлениями и маскарадами. В искусстве главное – душа! Особенно если бюджета нет или был, но уже распилили по дороге, а то и так просто просрали. Вот тут самое время к таланту воззвать. Если талант к тому времени ещё не пьёт самолично со всеми святыми.
Санавиация, лифт и вера
Но самый идиотский розыгрыш, очень опосредованным участником последствий которого мне довелось стать, уже будучи взрослой и замужней, и даже заведующей отделением, – состоялся не на Хэллоуин, и даже не на первое апреля, а на Новый год.
Был в урологическом отделении нашей многопрофильной больницы любитель пошутить. Причём пошутить прямо, без изысков, со всей сокрушительной силой незамысловатого армейского юморка. Например, прибить тапки. Белые моющиеся такие тапки. Весело же! Коллега переоделся весь в пижамку и халатик. Где мои тапки? – а вона, в углу стоят. Моторика, шаг, доктор на полу, морда в кровь – очень смешно, короче.
Ещё этот любитель пошутить виртуозно умел имитировать голоса. Ему надо было в клоуны, или Пугачёвой в мужья. Но он зачем-то стал урологом. Талантливым урологом. Кандидатом, а со временем – и доктором наук. Оперирующим хирургом и в целом – очень надёжным товарищем. Что не мешало ему иногда бывать полным дураком. Исключительно от переполняющей его витальной энергии, не иначе. От заводного характера. От шутовского взгляда на любую ситуацию. Это как раз он автор шутки, увековеченной в моей «Акушер-ХА!», когда девица-интерн мужика в рентген-кабинет вела, крепко держа за причинное место[3].
И вот однажды этот шутник позвонил урологу, маститому-именитому, буквально за полчаса до Нового года. И сказал голосом ответственного и надёжного диспетчера, что вызов по санавиации. И без маститого-именитого никак. Собирайтесь, сейчас машина подъедет. Вышел маститый-именитый, глухо матерясь. Постоял-покурил в ночи морозной под салюты и ураканья. Позвонил с мобилы в соответствующую службу – сказали, что никаких вызовов нет. Плюнул – и обратно домой отправился. По дороге в лифте застрял. Там и провёл новогоднюю ночь. В соответствующей лифтовой службе потому что никто не отвечал. И мобила села. А когда он уж колотить и орать устал – тут и утро наступило. Его вытащили, и он к нам завалился. Злой как чёрт.
Первым делом, конечно, домой, к жене. А жена злая как сто тысяч чертей. Он ей сперва не звонил – чтобы не отвлекать, не беспокоить, ибо гости и вообще, чтобы не портить праздник. А она как раз звонила – когда у него уже мобила села. И даже в соответствующие службы звонила. Там ей и доложили, что никаких вызовов-выездов-вылетов в район, тем паче с участием маститых-именитых, не было. И жена ему и отрубила: пусть, мол, отправляется туда, где всю новогоднюю ночь шлялся. В лифт он идти не захотел, и пришёл к нам.
Так что осторожней с розыгрышами.
И верьте мужьям. Мужчины – существа незамысловатые. Если он всю ночь сидел в лифте – он честно скажет, что сидел в лифте. Если он скажет, что всю ночь был у любовницы – значит, всю ночь был у любовницы. И мне совершенно непонятно, почему в ответ на первое женщины злятся и орут «иди, где всю ночь шлялся!», а в ответ на второе смеются и говорят: «а, ну понятно! Работа…»
Непременно перечитайте рассказ Аверченко «Ложь», и в обязательном порядке четвёртый эпизод из «Жизни Берегова». Это что касается веры в мужей. А что касается розыгрышей, упомянутых в этой истории и историей выше – они, конечно же, совершенно дурацкие. Но как уныла была наша жизнь, и воспоминания о ней – которые немаловажная часть жизни, – если бы мы постоянно были невыносимо умными и нестерпимо правильными.
Колготки в сеточку
Примус давно там, где «а на небе встретят Сашка да Илья». Там вряд ли читают книги, но если сочтены все шаги, пусть роман «Коммуна» таковым не считается и на небесах к рассмотрению не принимается. Мне самой часто кажется, что Примус никогда не покидал меня. Он в каждом мужчине, в каждом, кто вдруг рассмеётся, как он; вдруг тряхнёт буйной крупной умнейшей головушкой; вдруг коснётся моего сердца… не знаю, чем касаются сердец; и сердец ли. Слова так жалки, так несовершенны. Вдруг тембр голоса, или окликнет в толпе кто-то: Танька!.. Я оглянусь, это не меня, но шальная тачка, не остановившаяся на «зебре», успела пронестись. Он во всём, что забавляет меня, что меня удерживает или подталкивает. Во всём, что оберегает и не позволяет. Что радует и смешит.
У меня невероятный ангел хранитель.
Жаль, что для этого пришлось умереть человеку.
Смешливая и нежная, тактичная и обаятельная, мудрая и ласковая, мощная незыблемая твердь и разъятая ветром росная паутинка, вечная любовь моя, я никогда больше не надевала таких колготок.
В далёкой юности, посреди всего прочего, я мечтала о колготах в сеточку. Мои молодые люди и даже кандидат в первые мужья не догадывались преподнести мне такой подарок. А просить я никогда не умела. Равно и намекать. С мужчинами вообще намёки не работают. То есть, вот если стоять и тупо лить слёзы, глядя на уродливые босоножки – ни за что не догадается. Всё на свете переберёт, включая конец Вселенной через пять миллиардов лет. Но ни за что не догадается купить тебе уродливые босоножки. Или, вот:
– Ой, посмотри какая розовая курточка!
– Где?!
– Да всё уже, проехали. Нигде. Ты мне жизнь поломал.
А как попросить или хотя бы намекнуть на жажду колгот в сеточку? И просто вот так взять и купить их – было негде. Но я, наконец, решилась, и крутая однокурсница, дочь главного врача Еврейской больницы, отвела меня в гнездо спекулянтов. И там, в гнезде, я купила колготки в сеточку. И ещё тушь «Пупа». И ещё – цельный купальник. Ну как – цельный… В бассейн в таком не пойдёшь, а был уже ноябрь месяц. На колготы в сеточку, тушь «Пупа» и цельный купальник я потратила всё. И повышенную стипендию, и зарплату санитарки оперблока травмы. Хочешь похудеть? – Спроси меня как!
И надо же их куда-то выгулять! Срочно! Колготки эти. Явно не на занятия и не на работу. Значит, срочно надо в кабак. А будущий первый муж в рейсе. Значит, срочно же надо с пацанами. В Одессе в ноябре ещё можно в таких колготах.
С чем?! Ну ладно, джинсовых коротких юбок у меня было. И даже косуха была уже как положенная, правильная, а не турецкая кожаная куртка «из залуп». И вот принарядилась я. Произведу, – думаю, – фурор!
Иду по улице, холодно. Синяки оглядываются. Собаки воют. Старушки вслед плюют.
Примус как узрел, сразу вердикт вынес:
– Мечта эпилептика!
И, помолчав, добавил извиняющимся тоном, мягко так:
– Слушай… Я иногда ору, что ты шлюха. Но я совсем не то имею в виду. Не надо так! Не надо так буквально всё воспринимать. Мир полон прекрасных вещей. Море, там. Закаты. Рассветы. Пожалуйста, больше никогда так не делай. Это… Это… Это…
И Примус выдавил из себя страшное слово: безвкусица. А он знал, что это больно. Что это куда страшнее шлюхи. Шлюху он вынести ещё мог. Безвкусная шлюха – это было уже, пожалуй, слишком. Перебор. Даже для любви.
– Нет-нет-нет! – поспешно сказал он, увидав что я готова зареветь. – Мы сейчас выпьем и… И нормально будет, нормально. То есть – прекрасно, прекрасно! Я хотел сказать: ты прекрасна.
И, помолчав, падла, добавил с хохотком:
– Даже когда выглядишь, как безвкусная шлюха.
Это нанесло мне страшную психологическую травму. Полагаю, непоправимую. Потому что с тех пор я так ни разу и не купила и не надела чёрных колгот в сеточку. А те в тот же вечер порвались.
Тушь «Пупа» обладала удивительным свойством: слезать с ресниц. Она не размазывалась, как и было обещано. И не расплывалась. Она сползала лохмотьями.
Вот купальник я носила довольно долго. Он даже первого мужа пережил. Не физически, конечно же. В смысле – оставался со мной много дольше. Или я оставалась с ним. Ну и стоил он дороже всего остального. Девяносто пять рублей. Да. Шальные деньги. При повышенной стипендии в пятьдесят пять.
Но каждый раз при виде чёрных колгот в сеточку моё сердце сжимается, ёкает. И чувства я испытываю весьма противоречивые. Взаимоисключающие. Вроде как упущенная мечта. Но и – безвкусица, дешёвка. Я же убедилась, что безвкусица и дешёвка! – но… мечта! Дешёвая безвкусная мечта. Буквально помню, как я спускалась в них по лестнице, ужасно гордясь ими и страшно пугаясь выхода в мир. Они оставили мне это чудовищное восхитительное чувство обладания, ожидания, страха. И пусть оправдались только страхи, но обладание и ожидание тоже навсегда со мной.
Нет, я смотрела на себя в зеркало перед выходом. В зеркало, впаянное в тело трёхстворчатого шкафа, – и уже тогда понимала, что настолько невыносимая пошлость может нравиться только дальнобойщикам.
А, может, просто тогда у меня нужных уродливых туфелек не было?
Тетрафармакос
Однажды в нашей молодой компании завелась дева, практически демоническая женщина, прямиком из рассказа Тэффи. Она умела говорить слово «тетрафармакос». И не просто злоупотребляла им, а создавалось впечатление, что никаких других слов она и не знает. Сидим мы, скажем, в кафешке на Тринадцатой Фонтана. Подгребает наша дева, видит: мы мороженку захлёбываем тёплой водкой. И она такая:
– Ах! Тетрафармакос!
И глаза закатывает восторженно.
Или с пирса кто сиганёт с переворотом, она опять же:
– Тетрафармакос!
И в ладоши лупит.
Очень была восторженная, таинственная, очень всех нас любила, и пыталась поразить. И вот как-то Примус после очередного её «тетрафармакоса» с пирса и сбросил. Прям в празднично-вечерней одёжке. Умела она неуместно нарядиться даже на пляж.
Я ему:
– Примус! Ты с ума сошёл?!
А он только плечами пожал и довольно равнодушно промолвил:
– Чего?! Зло легко переносимо! В данном случае – ею. Благо легко достижимо. В данном же случае – для нас. Плавать она умеет, так что о смерти беспокоиться нечего. Богов бояться – на море не ходить!
* * *
Раньше легче было отучить людей произносить слова, значения которых им неизвестны. Нынче эти люди в коучи выбились, в психологи, в журналисты, в общественники. Рубрики ведут, семинары, вебинары и тренинги. Что тут скажешь?! Только одно:
– ТЕТРАФАРМАКОС!
Хотя тетрафармакос – это уже четыре. Не считая тире и восклицательного знака.
Не забудьте значение слова «тетрафармакос» в словаре посмотреть. Пардон, в поисковике.
И я бы хотела смеха
Давняя история. Очень давняя. На земле ещё было Черноморское Морское Пароходство. И на судах, приписанных к оному, были официальные судовые врачи. То есть описываемые события происходили в глубокой древности, и для многих сопоставимы только с гибелью Византии или восстанием на броненосце «Потёмкин».
На судне умер врач. Дело было в Индии, корабль стоял на рейде, по случаю длительных местных культовых праздников никто ничего не делал. Никаких разгрузок-погрузок-движения судов, и таможню/санврача порта/полицию и прочие местные профильные службы даже советский консул не смог материализовать. Праздники. И знаменитая индийская неторопливость.
Сорок дней тело врача пролежало в холодильнике судна. Затем был не менее неторопливый квест по переправке груза-200 на родину.
В Одессу тело покойного попало на сотый день после смерти, на неделю позже самого парохода. Хоронили в закрытом гробу. Все так устали ждать похорон, что никто не плакал, а на поминках и вовсе развеселились. И вместо вспоминать «каким он парнем был», рассказывали байки о коммуникациях с соответствующими индийскими службами. Мертвеца так задержали ещё и потому, что в одном из доблестных индусов в погонах вдруг проснулся Пуаро (не такой шустрый, как бельгийский, а с индийским орнаментом), и он решил завести дело «След от укола» (почувствовавший себя плохо ввёл себе кардиопрепарат, врач всё-таки).
Публика за поминальным столом приходила в прекрасное настроение. Вдова наготовила кутьи, а подвыпивший больше прочих боцман, содрогнувшись при виде традиционного ритуального блюда, задвинул речь:
– В жизни я проклятый рис в рот не возьму! Сорок дней на рейде постылым рисом давились! Мы же пришли, а они там не работают! Мы же пришли, а у нас только рис остался! Мы же пришли, думали – затаримся! Мы же пришли – из Аргентины шли! – всё в ноль! Тушёнки ни банки! Ничего! Только твой в морозилке лежит. Веришь, поглядывали!
И тут вся команда грохнула, да так заразительно, что вдова не выдержала и рассмеялась.
Терапия одиночеством
Однажды в моей жизни был пустой Новый год. Сразу после окончания института. Казалось бы, такая бурная жизнь – и выход в беспросветное одиночество.
Я встречала Новый год одна. Я считала, что ужасающе несчастна. У меня было куда пойти, но это всё были суррогаты. Толку заглушать себя грохотом и мишурой? А нажраться (не думайте о еде) я могу и самостоятельно. Меня звали туда; и ещё вот сюда; а те хотели вытащить насильно; а вот эти – хотели воспользоваться случаем, мексиканских кузенов у нас, слава яйцам, на тысячу лет вперёд заготовлено. Но я всем сказала, что уезжаю, убываю, оставьте меня в покое; вы не те, с кем возможен покой, а мне сейчас необходим именно он (последнее я не озвучивала). Тем более первого января я уезжала ранним утром. Это было необходимым и достаточным поводом избавить себя от ненужных людей и бессмысленной суеты, сохранив реноме приличного человека.
Мне казалось, что я буду страдать и выть в подушку. Под бессмысленно работающий телевизор. Но я с огромным удовольствием выпила всего полбутылки водки. Да, тогда для меня эта доза была лишь «всего». В компании наверняка выжрала бы уже две, и возглавила какую-нибудь фракцию.
Я очень пыталась выдавить из себя слезу. Но вдруг поняла, что бесконечно счастлива. И в наступившем за тем одиноким не-праздником году я оборвала старые связи и сожгла старые письма. Всё напалмом выжгла.
Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною; и Дух Божий носился над водою.
И сказал Бог: да будет свет.
И ко мне подошли и попросили закурить…
Вскоре «и ко мне…»
И стал свет.
И увидел Бог свет, что он хорош; и отделил Бог свет от тьмы.
Потому что хранилище, тьма его, пыль его – иногда должно быть зачищено в ноль, в пустоту.
Считайте, что это послание счастливого человека тем, кто кажется себе несчастным. Вот сейчас, в сию минуту. И в этом кажущемся несчастье он цепляется за грохот и мишуру. Не надо, человек! Не цепляйся. Это всего лишь с полок тёмного пыльного хранилища на голову тебе падают ненужные вещи, не твои люди, не твоя земля.
Тебе нужна эта не твоя бездна?
Иногда надо отойти в сторону и даже не смотреть. Или как написано в сказках: не оглядываться. Ты оглянешься, человек, и они утащат тебя в не твою жизнь, в не твою вселенную.
Не грусти! Ты не один! Может, впервые в твоей жизни ты не один! Ты впервые наедине с собой. Ты – первый после Бога. Возможно, ты и есть – Бог. Купи себе мандарин и бутылку водки! Даже если ты читаешь это не в канун Нового года. Каждый твой день – твой персональный Новый год. Твой и Бога. Больше никого нет. И ещё неизвестно, есть ли Бог, кроме тебя. Тебе и только тебе выбирать, каким Богом ты будешь.
Даже если сейчас не Новый год, начинай провожать не-твоё и не-себя! Не затягивай. Стань для себя первым. Как минимум – первым после Бога.
Медведь
Давным-давно, когда мне жаждалось денег, а красотой не то не было принято широкомасштабно пользоваться, не то я одарена альтернативно, я устроилась санитаркой в отделение травматологии. Вот тут я точно альтернативно одарённая. Сказали: место есть только в ургентной травме; окинули меня так красноречиво и многозначительно с головы до ног; хмыкнули и приняли.
Не сразу приняли. Для начала надо было заведующего травмой изловить. А Фигаро ж тут, Фигаро там. И целый заведующий. А я – всего лишь жалкая студентка второго курса. И даже ещё хуже – в санитарки, будучи студенткой, хочу. Ни в какие ворота! Ладно бы ещё парень, после армии, живущий в общаге – это всем понятно. А тут – городская девочка, отличница. Сорок пять кэгэ вместе с тапками. Какая из неё, к чертям, санитарка в травме?!
Уже не помню, почему старшая сестра отделения не подошла для согласования в санитарки моей более чем скромной персоны, но точно помню: нужен был прям целый заведующий. Может как раз именно потому, что студентка медицинского института, правила-требования жёстче, справка из деканата, такое всё. В общем, надо было, чтобы заведующий отделением официально не возражал. Точнее: одобрил.
Мне сказали: ты заведующего травмой сразу узнаешь, он ростом под два метра, здоровенный такой брюнет, лохматый. Как увидишь медведя – это он, не ошибёшься. Предупредили: характер у медведя скверный, под горячую лапу лучше не попадать. Я тогда ещё не знала, что у всех серьёзных ответственных людей характер непременно скверный (то есть кажется таковым), и что в своё время чаша сия даже и меня не минует, и байки о моём скверном характере будут передаваться из уст в уста. Но сейчас, бог мой, мне семнадцать лет, и я ужасно боюсь медведя!
И вот, гоняю за ним по всей больнице. По последним данным видели его в приёмном покое, гони туда. Гоню.
В приёмном – больница большая, – как всегда Чистилище. Кто-то крючится, кто-то ломится, кто-то тихо не отсвечивает. Один изгвазданный мужичок в свежем крепком хмелю орёт как невменяемый, левой рукой баюкая правую. Голосит, мол, плохо ему, умирает он. А на него, вишь, ноль внимания, и все ему и за всё ответят!
И вдруг посредине этого разгула чешет – да, не соврали, – двухметровая лохматая брюнетина, размером с танкер, такого хрен с кем перепутаешь. И выражение лица его представляет ядрёную смесь отрешённости, ненависти ко всему человечеству и очевидно: всех бы в гробах он видал, включая меня, эту больницу, этот город, это море, и, возможно, даже эту Солнечную систему. Ну а мне что делать? Догоняю его – он как раз мимо пьяного скандалиста движется. Я его за полу халата дёргаю: дяденька, а дяденька?! В сказках медведи не убивают маленьких девочек. А тут, в коридоре приёма явно не жизнь, а сказка!
Медведь начинает ко мне разворачиваться – и тут взгляд его падает на плакальщика-скандалиста и фиксируется. Последующее заняло секунды, может, три. Много – пять. На слоумо надо в кино показывать: без здрасьте, как зовут, и прочих прелюдий, берёт Медведь в одну лапу правую руку мужичонки, другую лапу ему подмышку, и резко на себя дёргает чётким выверенным движением. Одномоментно звук раздаётся: КЛАЦ!
Мужик только и успел хавальник разинуть пошире. Для мата. А вот ругнуться уже не успел. Разулыбался во всю пасть и глаза его, дотоле преисполненные отчаянием, болью, страхом и ненавистью, – залил свет.
А заведующий дальше пошёл, без единой вообще эмоции. Позабыв и про мужика и про меня. Так что пришлось мне в тот день за ним ещё погонять.
Грязненький пьяница, шепча благодарности как водится боженьке, поковылял на выход. Может, домой. Может, к ларьку пивному. Плечо-то ему вправили. Сам заведующий, отменный широко известный специалист. Ханыге это, что правда, всё равно было.
Медведь-заведующий отличным мужиком оказался, к слову. Работать под его началом было огромным удовольствием. Он меня многому научил. Замечательный был человек. Как все со «скверными» характерами.
Ангел
Когда деревья были выше, и шприцы не были одноразовыми, в погоне за материальными благами устроилась я санитаркой в ургентный оперблок крупного отделения травматологии огромной больницы.
И вот в одно прекрасное утро, в ряду других прекрасных утр, мою законную тележку санитарки прихватила диет-сестра для своих нужд. А мне смену надо завершить и сдать. Сутки выдались безумные. Жара адская. И вот тащусь я по больничному двору, без тележки, сгибаясь под тяжестью ноши. Даже нош: за одним плечом у меня мешок с биксами, за другим – мешок с ампутированной ногой.
«А мне семнаааадцать лееет».
И сил нет уже никаких. Потому что я – хрупкая блондинка! Натуральная! Потому что я принцесса, а не полицейский! И не бурлак. И не грузчик!
И села я на клумбу, мешки сбросив. И зарыдала. Потому что долбанутая на всю голову! Кому и что ты доказываешь, принцесса?! Кому нужен весь этот самостоятельный героизм?! Ну ладно, маме-папе хочется показать, какая ты независимая. Но зачем же дядям, которые готовы оплачивать твоё безбедное существование? Пока другие хрупкие блондинки сражаются за спонсоров, ты тащишь по больничному двору в адскую жару два мешка заплечных. В одном гора биксов с металлическими инструментами и шприцами стеклянными, в другом – нога человечья, ампутированная!
И подходит тут ко мне сантехник-завхоз, он же – ответственный за всё. Бухой уже с утра пораньше. Мы из-за него весь спирт закрашивали синькой, зелёнкой и марганцовкой. Но никакие синьки-зелёнки не мешали ему протирочного спирта выпить. Ургентность! – кто уследит? И потом, несмотря на свой термоядерный неизбывный алкоголизм, был он человеком добрым, ответственным, а что важнее – незаменимым на ряде позиций. Так что протирочного спирта мы ему не особо жалели. Он без протирочного спирта и существовать уже не мог, честно говоря. Протирочный спирт уже прочно был встроен в его биохимию, посерьёзней молекулы воды у прочих.
Подходит он ко мне, и срывает с этой же клумбы чахлый цветочек. И преподносит. Торжественно преподносит, будто белый офицер барышне, а не совковый сантехник санитарке. И говорит прочувствованно-прочувствованно:
– Такие девочки не должны плакать! Никакие не должны! Но жизнь такая сука!
Взвалил на себя два мешка моих. Легонечко так. Так что даже не взвалил, а будто взлетели они сами по себе, двумя белыми крылами за его спиной легли, будто родился он с ними, с крыльями этими, для меня тяжкими, а для него – естественной незаменимой частью анатомии, физиологии и судьбы. И в ЦСО[4] понёс. Напевая:
– Что им с того, что твой кузен-кондуууктор наследный принц Уфы и Костромы…
Следом другой мешок отнёс в патанатомку. А я за ним бегала, улыбаясь. Сжав в ладони чахлый стебелёк, будто величайшую драгоценность. Да, так и бегала, с блаженной нелепой улыбкой, какая бывает только когда ты абсолютно счастлив. Что кажется странным, учитывая что меньше четверти часа назад ты волокла мешок с человеческой ногой, и рыдала на клумбе, не в силах вынести ношу.
Абсолютное счастье – это конец. Титры. Которые никто не смотрит.
Размятый в руках стебель. Запах свернувшейся крови, дезинфицирующих растворов, перегара и пота. Ноль. Ничто. Чёрный квадрат. Междумирье.
…И снова покатилась картинка.
Гельминты
Признаться честно, в юности я была до крайности тупа (я и теперь временами…)
И как-то в году дай бог памяти 1989-м, а может и 1990-м. Но точно до августа 1991-го… В общем, как-то подходит ко мне один дядя. И говорит буквально следующее:
– Один очень серьёзный товарищ (господ уже-ещё опять-снова не было – прим. моё) в вас очень заинтересован.
Я моментально загордилась и думаю: не удивительно! Я одна из самых умных студенток (и даже студентов!) курса, вот только Примус, сука, Ленинскую стипендию подрезал! Ну да ладно, ему нужнее. Если совсем честно – он и умнее, тварь! Но вслух вида не подаю, лик делаю надменный. А про себя продолжаю мыслить, чай, заметили где надо мою работу о гельминтах и поверхностно-активных веществах, и я теперь не только какую-то жалкую всесоюзную грамоту ВДНХ получу в составе группы товарищей, а и ещё каких-нибудь ништяков (о грантах тогда не слышали, но я уже видела себя минимум Складовской-Кюри или хотя бы Верой Гедройц с санитарным поездом подмышкой).
– И что, – интересуюсь, – за товарищ? И откуда он про меня узнал?
Сама же чуть ни трескаюсь по швам от важности. Так и жду оды моим гельминтам! В смысле – работе об оных.
– Видел вас в прошлую пятницу в ресторане, очень уж вы ему в душу запали.
«Ого! – продолжаю размышлять, – слава о моих гельминтах уже по одесским кабакам разнеслась! Чую, срежу Примуса на следующем заходе с ленинкой!»
– Серьёзный товарищ делегировал меня уточнить, чего вы хотите.
– Хочу! – отвечаю, – Ленинскую стипендию!
Делегат на меня посмотрел, как на безмозглую, и спрашивает:
– Это сколько?
– Сто десять рэ! Каждый месяц!
– Я уполномочен предложить вам сразу пятьсот рублей в месяц, это помимо накладных расходов; квартиру в Питере, и мерседес. Для начала.
– Почему в Питере? – только и нашлась я.
Гонец пожал плечами и сказал:
– В Одессе мой товарищ начальник лицо слишком видное и сильно женатое. Но в Питере у него тоже полный фарш. И он довольно часто там бывает. Соглашайтесь. Обеспечите себе будущность. (Так и сказал «будущность», не будущее, это особенно врезалось в память – прим. моё.) Из вуза в вуз перевестись – по щелчку. То есть, по звонку. Документы сами по воздуху перенесут. Ему нравится, что вы учитесь в медицинском, и будущий врач. Это не просто комнатная собачка. Вы не просто красивы. Вы умны и с характером. Это его и привлекает.
Пока я молчала (посланец, видно, полагал, что я прикидываю хрен к носу; а я просто была шокирована тем, что нормальные женщины чуют на подходах), он проникновенно заверил:
– Квартира в центре. Ваша! И машина – ваша. Всё покупается на ваше имя, с соответствующим документальным оформлением в вашу собственность.
Товарищ посол акцентировал притяжательные местоимения. Полагая их для юной девицы невероятно притягательными. Да, я с ним согласна. Кабы в голове моей не было так пусто, в смысле того, что мне предлагали. Во мне сейчас погибал учёный!
– А гельминты?! – В отчаянии воскликнула я.
– Привезут из-за любой заграницы самую фирму! – Солидно заверило доверенное лицо.
И ещё про малолетних дур
– Когда мне было восемнадцать, за мной ухаживал главврач санатория, где я летом пахала. Только я не поняла, что он за мной ухаживал.
– ?
– Он как-то обход обходил в административном корпусе накануне заезда, с главной сестрой. Вопли, рыки, грохот. Дверь в мой кабинет распахивается. И тут он орать перестал. И, такой, ко мне как к маленьким деткам: «ой, кто это у нас здесь?!»
– И дальше?
– А дальше он меня стал по вечерам к себе в кабинет звать, коньяком поить. Главная сестра злющая ходила, шипела: какого он тут торчит, старый мудак?!
– А сколько ему было?
– Полтинник.
– Угу. Как мне сейчас. И?
– Ну и я себе коньячок попиваю…
– А он?
– За своим столом сидит, таращится умилительно.
– А ты?
– Коньяк пью, хохочу, болтаю…
– То есть как всегда. И?
– Слушай! У меня даже мысли не возникло! Я же с детства по коленкам у взрослых дядь! Иван Иваныч, Юрий Сергеевич, ну они умерли к тому моменту, а я ж привыкла к суррогатным папам! Чего ж себе отказывать в приятном наставническом внимании?!
– И когда ж прозрение настало?
– Да вот только сейчас!
– Через тридцать лет. Нормально для тебя. Что, даже ни разу не…
– Ни разу! Всё лето коньяком поил и с трёх метров глядел. Однажды в кабак пригласил. Я с Германом пришла. Потому что ну просто не поняла.
– А Германа-то хоть предупредила?
– Сказала, как есть. То есть, как считала. То есть правду сказала.
– Которая не всегда истина, ага. И что же сказала?
– Что главврач в ресторан зовёт, типа смена закончилась. Я ж думала, там вся санатория будет. А оказались мы втроём!
– Ты, твой первый муж и главврач санатория. Угу. И?
– И весь вечер они друг на друга глядели.
– И?
– И мне тогда показалось, что мужчинам женщина не нужна!
– Потому что ты пила, болтала и хохотала? Упивалась собой?
– Практически захлёбывалась! Но мы сейчас не об этом! Я вот не понимаю: два взрослых мужика! Одному полтос, другому тридцатничек. С ними сидит восемнадцатилетняя дура…
– Сама ж сказала: мужчинам женщина не нужна!
Нетолерантное
Давным-давно, когда я училась в медицинском институте и даже очень рано ненадолго вышла замуж – позже расскажу почему, – в мире ещё не все стройным хором одобряли однополые отношения. Неразвитые были. Не такие развитые, как сейчас. Ещё цеплялись за устаревшие межгендерные связи, ещё влачили рабские представления о разнополой любви.
Когда не только деревья были выше, а и мужчины были непродвинутые и стремились подсадить закабалённую женщину совка на иглу своего одобрения, было на земле (и на большой воде) ЧМП – Черноморское морское пароходство. Давно его уже нет. Сопредельная территория, избавившаяся от ига проклятой Российской империи, и её мерзкого последыша Совка, чтобы два раза не вставать избавилась заодно и от огромного количества объектов как экономической, так и культурной ценности. А в описываемую мною дремучую пору ещё было процветающее Черноморское морское пароходство, созидателем которого по праву считается Михаил Семёнович Воронцов (и не только пароходства, но и экономического чуда Российской империи – города и понятия Одессы, ныне утраченных; остались лишь анекдоты, причём не самого хорошего качества). И были в ЧМП, кроме всего прочего, и красивые большие белые пассажирские пароходы.
И сидела я как-то на одном из таких больших белых пароходов, в хорошей компании. И не просто на пароходе, понимаешь, где-то в проходе. А прямо в капитанской каюте. Мой первый свёкор был капитаном этого большого белого круизного лайнера. В каюте сидели ещё большие взрослые дяди, они выпивали, чего-то говорили. Возможно, даже что-то важное и архиважное решали. А мне становилось всё скучнее. И я тоже выпивала. И мне захотелось внимания. И присела я к своему первому свёкру на колени – у нас были более чем дружеские отношения, ещё одна «фигура отца», если угодно современницам, наглухо укутанным поверхностной дешёвенькой и бездарной психологией для масс. А он продолжил выпивать и дискутировать, придерживая меня в особо экспрессивные моменты своей жестикуляции, как придерживал бы любимую кошку. Не мешала я ему ни выпивать, ни ораторствовать. Наоборот, прямо чувствовалось, что всё это сильно деловое ему легче и приятнее, когда он меня почёсывает за ухом и в прочих кошачьих местах.
И только один новый в компании важный дяденька вдруг замолчал на глушняк. И даже протрезвел. Через некоторое время все отметили это странное обстоятельство.
И, такие: ты чего?!
А он, такой: не, я всё понимаю, комплавсостав «пассажиров», всё можно, везде побывали, скоро всему конец, и Горби вы на этом самом пароходе уже водили в прогулоны. И все знают, что Славка женился на том, на ком женился чисто чтобы из вечных старпомов в капитаны, наконец, вырваться! Но он же нормальный всю жизнь был! Нормальный бабник! Если обрыдло баб е… если утомил женский пол – ок, ладно! Я всё пойму! Но нахера публично Древний Рим устраивать?!
Все, такие: в смысле?!
А он только стакан сам-без-ансамбля до дна: гульк-гульк-гульк! – и ходящим ходуном подбородком на меня указывает (а я всё у свёкра на коленях сижу). В наступившей гробовой тишине мой первый свёкор только и смог вымолвить:
– Она – девочка. Жена моего пасынка.
Тут все и грохнули дружно. Чуть пароход не развалился.
Мужика отпустило. Но перекрикивая наступивший гвалт, он орал, утирая слёзы:
– А жопа где?! А сиськи?! Почему в плечах косая сажень?! Косичку бы хоть отпустила… Предупреждать надо!
* * *
Теперь-то мальчиком с косичкой, сидящим на коленях у седого капитана, никого не удивишь. И не возмутишь. А если кто возмутится – рискует стать нерукопожатным.
Тогда вот наоборот было. И все неясные моменты было принято сразу выяснять. Потому что хоть и были мы закабалены с ног до головы и обратно – но боялись друг друга меньше. Можно сказать и вообще не боялись. Во всяком случае, в смысле отношений между мужчинами и женщинами – страха не было. Я знаю, о чём говорю: после второго курса я развелась с внуком первого секретаря компартии Одесской области (читай: правителя) и профессора; и ничего мне за это не было. И не только потому, что первый секретарь был бывшим, а профессор хоть и была действующим анатомом, но госэкзамен по анатомии уже был сдан. Не поэтому. И не потому, что люди были добрее. Люди никогда не бывают добрее или злее. Но люди бывали свободнее. И порядочней. И не заставляли любить и одобрять то, что тебе не нравится. И никто никому не запрещал говорить, например: я не люблю тебя. Или: они мне не нравятся. Или: мне не нравится, что все лгут, хотя я и знаю, что все и всегда лгут, но мне не нравится, что уничтожают малейшую свободу говорить правду, убеждая в том, что всё это прожжённое ложью бесчестие и есть величайшая свобода.
Пойти или остаться?
Учиться в медицинском институте очень сложно. Учёба в медицинском институте занимает всё твоё время. А уж если решиться на абсолютную автономность и устроиться санитаркой в ургентный оперблок отделения травматологии – времени в принципе ни на что не остаётся. Поэтому студенты медицинского института женятся друг на друге. В смысле: одни студенты – женятся, а другие – за них замуж выходят. За тех, которые женятся. Нетолернатно всё было, да. Потому считаю своим долгом дополнительно разъяснить. Ну и круг поиска сужается, когда жениться можно только на женщинах, а выходить замуж – только за мужчин. Вот такая сложная ситуация. И так ни на что времени нет, так ещё и пол накладывает ограничения. Вот такой ужас чудовищного тоталитаризма был.
Я особо никакого замужа не искала. Хотя мама регулярно говорила, что надо. Не прямо сейчас, конечно же. Можно через год-другой. Чтобы максимум – через три – уже и ребёнок. Потому что сама мама первого ребёнка родила в двадцать один. Для этого забеременеть надо не позже двадцати. А мне уже семнадцать. Годы идут. Надо срочно искать. Что правда, мама была не очень последовательна, потому что после регулярно-периодических речей на тему замужества и детей, она периодически-регулярно говорила, что необходимо учиться, учиться и ещё раз учиться – и потому никаких мальчиков! Иногда мама периодически говорила: никаких мальчиков! – и регулярно о том, что осталось всего три года до окончательной утраты стоимости на рынке женского счастья. Довольно часто мама рассказывала историю о дочери своей подруги, которая вот тоже всё училась, училась и ещё раз училась – и так замуж и не вышла! А потом оказалось, что уже старость – двадцать семь лет! – и ей пришлось срочно родить ребёнка от первого попавшегося любовника, старенького сорока девятилетнего профессора. Который, разумеется, не бросил семью. Теперь дочь подруги – дряхлая мать-одиночка с младенцем.
Двадцать семь казались пугающе древними. Каким-то невозвратными. Возрастом, прекращающим все возможности. Мама так их произносила, что единственное день рождение, которое меня страшно напугало, пришлось как раз на двадцать семь лет. Ни до, ни после – я о возрасте не беспокоилась. А вот к двадцати семи стала готовиться за месяц. Похоронное платье, гробовые, такое всё, чтобы по-людски. Чего смеётесь?! Вы попробуйте пожить в двух взаимосключающих установках:
1) Учись, никаких мальчиков!
2) Заучка, умрёшь старой девой!
Я подумывала, что в двадцать успею от кого-то быстренько забеременеть, знания по биологии были достаточными, чтобы понимать: для этого замуж не надо. А пока семнадцать – так ещё и поучусь. Мама почему-то (несмотря на историю с дочерью подруги) думала, что без замужества дети невозможны, но я решила преподнести ей приятный сюрприз – показать, что это не так. Но решила ещё поучиться, три года есть.
И тут профессор-анатом, которая вела нашу группу, решила эту дилемму за меня. Познакомила со своим внуком, за которого я вскоре и вышла замуж. Я прожила с ним год, и поняла, что учиться интересней. Замужество при целом ряде преимуществ обладает не меньшим рядом недостатков. Статус разведённой женщины делает свободней. В принципе. И от мамы. А с детьми торопиться вряд ли стоит, чтобы мама ни говорила. Мамы чаще всего живут сразу в нескольких взаимоисключающих парадигмах. Такой у мам дар.
Но я ни секунду не жалею о своём первом, для меня – совсем детском браке. Потому что у моего первого мужа, очень достойного и тогда взрослого для меня молодого человека, была совершенно гениальная бабка.
Чтобы поближе с ней познакомиться, стоило сходить замуж.
Да и вообще, когда у тебя совершенно ничего нет, вопрос «пойти или остаться?» – не стоит. Сходи. И возвращайся. Всё, что тебя не убивает – делает смешливей.
Опять же, опыт.
Санитарный поезд
Бабку моего первого мужа – со всем курсом, – призвали на войну. Курс был четвёртый. Медицинского института.
Ещё вчера ты едва сдал все теоретические дисциплины, только пришёл в клинику, жалом водишь со страхом – бац! – санитарный поезд.
Войну она закончила капитаном медицинской службы. Уже командуя этим самым санитарным поездом. Долгое время работала хирургом. Потом ушла в анатомию. Защитила кандидатскую, позже – докторскую. Стала профессором. Заведовала кафедрой.
Ещё она была женой первого секретаря сперва Винницкого, а затем и Одесского обкома партии. Казалось бы! Но – нет. В Нине всегда была жуткая скупость. Тряпку пыль вытереть рви на четыре куска. Десятка сторожу вивария, чтоб забил лисичку для работы по сравнительной анатомии поджелудочных? Окститесь! Я и сама лисичку вальну.
За спиной у неё все посмеивались. И за скупость и за жёсткость. За вечную никчёмную бережливость. В шкафу выходят из моды и тлеют подарки секретарей дружественных подразделений заграничных соцблоков в виде шуб – она ходит в старомодном ветхом шушуне. Царю всея одесской области и на пенсии положен персональный водила – увольте! Павлик, бегом на трамвай! И Павел Пантелеевич бегом как миленький, помахивая авоськой, в которой слегка помрачневшая капуста – подешевле.
Я долгое время не понимала, чем так глянулась бабке. Господи, это же она меня со своим внуком свела! Кругом такие партии, а я, вишь, нищая девчонка, мама учитель, папа инженер. Не иначе за неземную мою красоту.
Вот хрен! Очень жаль любой женщине осознавать, что версия о неземной красоте – не рабочая.
Уже когда мы разошлись, причём рыльце в пушку у меня, ничего в раннем замужестве интересного нет, как бы ни был хорош избранник. А если уж у вас шило в небезызвестном месте!..
Так вот, уже когда мы развелись, и я нечаянно встретилась с бабкой – Одесса город маленький, а Медин – и того меньше, она меня позвала чай пить. Чай у неё тоже всегда такой был, из кипятка в основном. С веником. И сказала мне бабка моего первого мужа:
– Ты не слушай, чего там моя дочка голосит. Ты ж её сына вроде как обидела.
– И вашего внука.
– Это да. Но ты мне всё равно нравишься. Ты бы смогла командовать санитарным поездом.
Вот оно! «Ты бы смогла командовать санитарным поездом».
Если подумать: это лучшее, что мне сказали за всю мою жизнь. Все. Все и за всю жизнь.
Нина нежадная была. Понимание этого пришло позже. Просто ей всю жизнь не хватало перевязочного материала, медикаментов и еды для раненых. Она не была скупой, злой и сугубой. Просто она всю жизнь так и командовала санитарным поездом. Её по жизни – в виде заспинных пересудов, – преследовал этот «случай с лисичкой». Которая, как вы понимаете, всё равно бы погибла во благо науки. Но я знаю, что Нине не десятки жалко было. Её навыков хватало на то, чтобы лисичка моментально ушла в лисичий рай. Она просто не доверяла сторожу.
Они часто никому не доверяли. Но верили в себя. Зачастую до неверия в остальных.
Спасибо им всем, что нам не довелось командовать санитарными поездами.
Однажды я её спросила, что заставило стать анатомом. Когда специализация была по хирургии.
– Специализация была в бою. Я, конечно, стала хирургом. Но анатомом, в том числе, заставила стать первая ампутация. Я не очень хорошо знала анатомию, мерзавка. Не как Пирогов, прямо скажем. Первая ампутация, да. Когда ты понимаешь, что от тебя зависит.
– Что?
– Всё. Ампутировать сейчас – или подождать. Выше или ниже. Так или эдак? А единственный взрослый, зрелый хирург – занят. И ты остаёшься один на один с судьбой человека. После войны я стала анатомом. Поработала ещё, конечно, хирургом. Но после войны я стала анатомом. Чтобы знать. Чтобы точно знать. Чтобы понимать. Чтобы научать других до без сомнения. Это невозможно: без сомнений. Но я несомненно знаю, я несомненно учу. Я несомненно на своём месте. Мои студенты знают анатомию так, что хотя бы этим сомнениям места не остаётся.
Она около двадцати лет после войны работала хирургом. Но время для них не имело значения. Для них абсолютно всё и всегда было «после войны». Они остались «после войны», навсегда оставшись на войне.
Тридцатипятитомник «Опыт советской медицины в Великой Отечественной войне» я в детстве читала, как захватывающий роман. В юности перечитала как зловещее повествование. В зрелости – как героический профессиональный эпос. Страшный и прекрасный как все эпосы.
Военные врачи, сутками не отходившие от столов, разучившиеся плакать, но не разучившиеся смеяться; военные врачи, пропустившие через себя немыслимое количество боли, умиравшие с каждым пациентом и воскресавшие со следующим – для следующей боли – вечная вам благодарность. Война не деформировала вас. Просто выучила всё переводить на корпию. Спасибо вам за мир, выучивший нас всё переводить на сорта сыров и колбас. Вам было не до выражений лиц – и мы теперь вглядываемся в каждую харю, не задели ли нас.
Нас не деформировал мир. Мы просто так осатаневшие. От того самого прекрасного недеформированного мира.
Мирного неба нам всем над нашими дурными головами.
Страшная шапка
Бабка моего первого мужа перед тем, как заняться наукой, долгое время была хирургом. Уже после того, как прошла всю войну военным врачом.
Послевоенное время. Её муж – ответственный партработник. Как-то ночью раздаётся стук в дверь. Не тихий интеллигентный стук, какой бывает, если ты врач. Уж непременно. Сама таких стуков наелась. Могут тихо постучать в три часа ночи, и попросить тебя, врача акушера-гинеколога высшей квалификационной категории, кандидата медицинских наук и заведующую отделением до кучи, укол бабуленьке сделать. У бабуленьки давление и ей срочно нужно сделать укол. А многочисленная семья уколы делать не умеет. Извиняясь, плечиками пожимают:
– Не Скорую же вызывать. Неловко людей отвлекать. Из-за ерунды. Вот, к вам, по-соседски.
И не взволнованный стук, суматошный такой. Когда кому-то действительно плохо, не до церемоний.
Наглый стук, осознающий свою власть. Такой, что хуже грохота. Зловещий. Властный стук, что сразу бьёт под дых фатальностью, бессилием, невозможностью избежать.
Открывают. На пороге серьёзные люди в серьёзных формах. Ответственный партработник стал собираться.
– Отставить! – Говорят. – Мы не за вами. Мы за вашей женой.
Нина собралась, она санитарным поездом командовала, ей на любые сборы времени требовалось чётко по нормативу: пока горит спичка. Нет, дети, не каминная. Обыкновенная спичка.
Посадили её в серьёзную такую чёрную машину, известную как «воронок». И повезли. На дом к куда более ответственному партработнику. Партработнику из серьёзных внутренних органов. Не тех, что спланхнология. А тех, что органы внутренних дел.
– Жена беременная. Делай аборт.
– Я – хирург, – проблеяла молодая ещё Нина.
– Ну и ку-ку ли? – уточнил куда как более ответственный муж, нежели Нинкин.
– Э-э-э… – продолжила блеять Нина. – Здесь?
– Что «здесь»?!
– Здесь делать?
– Здесь.
– И-ик-икструменты… – стала заикаться Нина.
– Говори какие.
Нина сказала. Через час ей привезли инструменты. Жена помрёт – расстреляем всю семью, детей – в детдом. Кто узнает – посадим всю семью, детей в детдом.
В такой уютной дружественной и приспособленной для абортов атмосфере кухни квартиры куда более ответственного партработника из самых внутренних органов внутренних дел, Нина делала его жене аборт. Нина, которая прежде ничего не боялась. И ничего не боялась – после. Нина, оперировавшая под бомбёжками. Нина, прошедшую всю войну – никогда такого страху, как на той кухне, не испытывала. По её собственному признанию. Уже в конце восьмидесятых она рассказывала мне эту историю. Шёпотом. У неё руки ходили ходуном. Она прятала их в древнюю страшную кособокую вязаную шапочку. Она никогда не носила эту шапочку. Ни разу не надела. Но она её хранила. Эту шапочку связала ей та самая жена куда более ответственного партработника из органов внутренних дел. Именно тогда Нина приняла окончательное решение: заняться наукой анатомией, стать анатомом. Когда она мучительно вспоминала топографию малого таза у женщин, держа в руках кюретку, с потной от липкого страха спиной и взмыленным от хтонического ужаса седалищем.
Под утро серьёзные люди в серьёзных формах на серьёзной чёрной машине привезли Нину домой. И она упала. Не в обморок, а просто вошла домой – и упала на пол. Сразу за порогом. В коридоре. И несколько часов не могла встать. Ноги не слушались, а вокруг большого затылочного отверстия крутился демон, которому она не позволяла проникнуть в мозг. На это и уходили все силы. Покуда демон не понял, что не сможет войти – и издох на пороге.
В течение многих десятилетий муж Нины думал, что её возили на допрос. Она даже ему не могла сказать. Не имела права. Берегла семью.
Почему с этой страшной шапкой расстаться не могла – точно знаю. Хоронить надо мертвецов. Издохших демонов надо держать при себе. Чтобы не воскресли.
Психиатрическое СНО
На втором курсе я увлеклась психиатрией.
На самом деле эта наука, равно ремесло и искусство, интересовали меня с самого раннего детства по ряду причин.
Одна из них, пожалуй, ведущая: мой родной дядя, мамин старший брат, был шизофреником. И личностью скорее легендарной, нежели живым человеком из плоти и крови. Для меня. Он был первенцем бабушки и дедушки, и бабушка была уже откровенно не юна, когда вышла замуж за моего деда, и в положенный срок родила. Пожалуй, сейчас женщину слегка за сорок прогнали бы по всем положенным тестам антенатальной диагностики. Несмотря на то, что соучастник сотворения плода был довольно молод, ему было двадцать пять лет. Время было непростое. Нет, время никогда не бывает простым, но тогда оно в очередной раз было архисложным. Но, «времена не выбирают, в них живут и умирают». Не случись с Российской империей войн и революций, мои прародители не имели бы шанса встретиться, и я не писала сейчас эти местами забавные, местами печальные заметы. По той причине, что меня бы попросту не существовало. Но они встретились, полюбили друг друга, я очень надеюсь, что они именно полюбили друг друга, а не моя потрясающая бабушка – тогда ещё не бабушка, – просто использовала молодого человека идеологически верного происхождения и ещё более идеологически верной службы для того, чтобы выжить. А даже если и использовала, так на что женщине красота, ум и витальность? В любом случае, она его любила. Если и не сразу, так полюбила потом. Зная и помня свою великолепную бабку, могу с твёрдой уверенностью утверждать: она бы никогда не разделила постель с тем, кто был ей не по нраву. Так что как минимум для начала мой будущий дед, тогда совсем ещё молодой человек, был ей симпатичен. Что для начала более чем необходимо и достаточно.
И в 1937-м году у них родился первенец. Они не назвали его ни Арленом[5], ни Больжедором[6], ни Виленом[7], ни Марксэном[8], ни даже Светославом[9]. Они назвали его старорежимнее некуда, одним из немногих древних славянских имён, принятых русской православной церковью: Святослав. Как шутила бабка: в честь Великого князя новгородского и киевского Святослава Игоревича, прямого близкого потомка Рюрика. А, может, она и не шутила. Малыш вышел на удивление славным, дома его звали Яся. Он очень рано выучился читать, писать, считать и рисовать. И не было того, что не удавалось бы Ясе, причём без особого труда. В пять лет он слагал стихи на любую тему, причём импровизируя; освоил гитару, две – семиструнную и шестиструнную; в семь написал первую картину маслом; был отдан во все доступные престижные школы – где, впрочем, не задерживался по причине чрезмерной своенравности. А в четырнадцать лет он сбежал из дома. Куда вернулся, уже окончив высшую мореходку, судоводительский факультет. Бабка родила ещё троих детей, каждый из которых был хорош, и собой, и талантами. Но её сердце, как мне теперь кажется, всегда принадлежало первенцу. Точнее сказать: половина её сердца всегда болталась в карманах её шального Яси, совершенно ему ненужным. А вторая половина была накрепко приварена к несгибаемому дедову духу, он и питал её той неизвестной субстанцией или волной, что мы называем душой. Иногда казалось, что бабушки и вовсе нет, что она растворена в деде. Иначе бы она и не жила. Что именно он с завидным упорством и постоянством вновь и вновь воссоздаёт её каждое утро, не давая исчезнуть, уйти, «уснуть и видеть сны». Что эта красивая, талантливая, деятельная, всегда со вкусом одетая элегантная женщина – была бы пустой оболочкой, если не поглощающая всю её память и боль любовь мужчины, берущего всё на себя. Возможно, именно поэтому у неё не существовало возраста. Нельзя было сказать, что она молодо выглядит. Но никому бы и в голову не пришло, что она стара. Она была идеальной женщиной без возраста, которую способна сотворить лишь любовь мужчины. А первая половина её сердца принадлежала канувшему Святославу, в котором будто воссоздалось всё то, чего судьба её лишила. И не просто воссоздалось, но ещё и добавило, ибо склонность к точным наукам – а без математики судоводителю никуда, – это от деда.
Дальше начинались какие-то и вовсе мифы, сказания и легенды, апокрифы и откровенные сочинения. Святослав стал капитаном в довольно молодом возрасте, быстро пройдя путь всех положенных помощников. И вот как-то раз, когда его судно разгружалось в Индии, он… просто исчез. Как корова языком слизнула. Надо понимать, это было судно под советским флагом, в СССР в загранку, да ещё и капитаном пускали только очень проверенных людей, проверенных по всем инстанциям и параметрам. Включая психиатра. И при каждом капитане был помполит[10], или по-сухопутному: парторг. А по-честному: соглядатай, стукач, опричник органов. И на заграничных берегах капитан без помполита не мог к писсуару подойти. Но времена – временами, а люди – людьми. Помполит – тоже человек, и, кстати, вовсе не обязательно плохой. Да и Святослав Андреевич был человеком сатанинского обаяния, и любой, кто с ним общался хотя бы несколько минут, был готов идти за ним на край света, без малейших колебаний доверив ему свою жизнь. Я, разумеется, понятия не имею, каков был помполит этого судна, и что его связывало с капитаном, моим дядей, но ясно только одно: исчезновением он своего помполита подвёл под монастырь. Командование судном взял на себя первый помощник, так положено по штату. Судно ждать не может. И в положенный срок после всех положенных скандалов, связи с советским консульством и попыток расследования, оно снялось с рейда и пошло в порт приписки или куда дальше по расписанию. Не суть.
Суть: Святослав пропал в Индии. В самый мохеровый расцветно-застойный совок. К слову, никаких ужасов это семье не принесло. Дед как работал, так и продолжил. Никого никуда не вызывали, а если куда и вызывали, то, вероятно, никаких репрессий не последовало. В конце концов мой дед в юности работал в НКВД[11], ага, там он и повстречал свою жену, мою будущую бабку, когда в связи с постановлением ЦИК[12] и СНК[13] СССР от 27 декабря 1932 года «Об установлении единой паспортной системы по Союзу ССР и обязательной прописке паспортов» стали перетряхивать всех жителей города Москвы, а среди них – и «недобитых», «в целях очистки населённых мест от укрывающихся антиобщественных элементов». Моя будущая бабка была из дворян, её семья погибла в семнадцатом, в имении, ей удалось выжить, потому что она в тот момент была в Москве, и, поняв, что дело пахнет керосином, просто ушла из дома, и устроилась в Большой театр швеёй, прикинувшись простой деревенской девчонкой. И пятнадцать лет никому дела не было до её происхождения. А тут нашлись люди, сообщили, куда следует, что сильно грамотная для крестьянки. Языки знает, шитьё самое сложное умеет. Или, может, кому-то было нужно место главного костюмера, которое она и занимала к тому моменту. Кто знает. Возможно, моя будущая бабка кому-то сильно не нравилась, потому что мало кому нравятся красивые, умные, талантливые, волевые, цельные, своенравные люди. Ей повезло, в неё влюбился молоденький следователь, совсем мальчишка, вчера из деревни. И жили они долго, и даже, я очень надеюсь, счастливо. Хотя бы временами. Пока смерть не разлучила их.
Вот только дети доставляли бабушке не только много радости, но и очень много боли. Наверное, так поступают все дети со своими матерями. Возможно, не в такой амплитуде, на которую был способен её первенец, Святослав, её маленький гениальный блистательный, как она сама, Яся.
Через несколько лет он вернулся из Индии. Я не знаю, как это было возможно. Может, и были какие-то подробности, но кто такое обсуждает с детьми, кто такое вообще обсуждал в те годы. Он вернулся похудевший, загоревший, с идеально прокаченным поджарым телом, и заперся в одной из коморок дома бабушки и дедушки. Дед сурово молчал и с сыном не общался. Но и не выгонял. Бабка держала лицо, но, подозреваю, много плакала в одиночестве. Он нигде не работал. Что ни удивительно. Чудом было уже то, что он вернулся. Кто бы его принял на работу? И какую? Что и как было с его документами – мне тоже неизвестно. Когда он появился в доме, мне было три года, жили мы в своей квартире, к бабушке и дедушке приезжали по выходным. Летом – чаще. Мне со Святославом было запрещено общаться, но дети – очень любознательный народ. А взрослые – всегда заняты. Разумеется, я проникла в каморку Святослава. Сперва он меня не замечал вовсе. Да мне и не надо было. Мне было интересно наблюдать. Он писал, рисовал, иногда отрывался и делал комплекс тогда совершенно загадочных для меня упражнений. Мне из них было знакомо только одно: он стоял на голове. Это не пугало, дед тоже стоял на голове. Однажды Святослав заметил меня, и просто и естественно сказал:
– Прогуляемся?
И мы сходили на море. Оно было совсем рядом, бабушка и дедушка жили на Шестнадцатой Фонтана. Мы гуляли недолго, но когда мы вернулись, был ужасный скандал. Моя мама кричала и плакала, бабушка и дедушка пытались её урезонить. Святослав заперся в каморке. Больше меня к нему не пускали.
В следующий раз я с ним встретилась, когда мне было пять лет. И эта история немного похожа на историю с Диком из моего романа «Большая Собака». Я играла во дворе, из дому послышался страшный шум, даже грохот. Моя мама звуком отрезала небеса от тверди. Я страшно перепугалась за маму и бросилась в дом.
Святослав огромным гаечным ключом крушил всё, что попадалось на пути. Мама стояла на подоконнике и визжала. Дед с верёвкой в руках подкрадывался к Святославу сзади, подавая маме невербальные команды заткнуться. Бабка слилась с белой стеной, и, глянув на неё, я поняла сразу и навсегда, что такое «безысходное страдание». Я и слов-то таких не знала, и значений их и близко не понимала. Но сразу поняла и приняла в себя. Как принимают не упаковку, не обложку, не коробочку, но суть. Как принимают дар или проклятие. Кто бы ещё объяснил разницу. Увидав меня, дед застыл. Его взгляд мне тогда подарил понятие «охотник». Моя мать осчастливила меня неприятием паники. А Святослав… Святослав одарил меня вселенским ужасом и абсолютным же бесстрашием перед ним. Да, именно одарил. Потому что кто бы ещё раз объяснил всегда одну разницу, ага.
Святослав крушил не стены и не стёкла. Он вступил в битву с непознаваемым и необъятным. Это было чудовищно. Было чудовищно, что он сражается с этим один-одинёшенек. Я подошла к нему и сказала:
– Дядя Яся, я хочу помочь тебе.
Святослав пронзил меня безумным взглядом, и выронил гаечный ключ. Дед бросился на него с верёвкой. Бабка, чья тень моментально отделилась от стены, схватила меня и унеслась. Мать наконец-то перестала визжать.
Меня даже не наказали. Отправили к соседям.
На следующий день Святослав исчез.
Я была мала, и мир отвлекал меня ежесекундно, так что о Святославе я не вспоминала. Был и не стало.
Уже когда я подросла, мне сказали, что он «сидит в сумасшедшем доме». Так и сказали: сидит. Не лечится, не живёт. А сидит. У него тяжёлая неизлечимая и неконтролируемая форма шизофрении. Он бывает опасен. И в доме завелась ещё одна легенда, которая в изложении моей матери становилась всё цветистей и обрастала подробностями. Бабушка очень страдала от маминых пересказов. Она молчала или уходила. Но никогда не останавливала её. Возможно, моя мама тоже бы сейчас страдала от того, что я пишу. Но моя мама умерла. Потому я могу позволить себе это писать. Мне кажется, что впервые я начала понимать чужие страдания, когда увидела глаза Святослава, бросившего гаечный ключ. Он уходил с поля битвы. Он терял вселенные. Он сознательно шёл на их гибель, хотя мог спасти. Но он перестал сражаться за миры, чтобы спасти одного-единственного ребёнка. Мне так казалось. И кажется. И даже если это иллюзия, я не хочу с ней расставаться. Потому что эта иллюзия – один из самых прочных моих якорей, реальных якорей.
В больницу он «сдался» сам.
Прошло много лет. И уже учась в медицинском, я записалась в студенческое научное общество на кафедре психиатрии.
И каково было моё удивление, когда одним из первых пациентов в качестве «очень интересного и удивительного случая» профессор представил нам именно… моего дядю. Я не узнала его, не потому что смутно помнила. Я помнила его очень хорошо, его внешность была впечатана в мой геном, да и прошита в моей зрительной памяти: у бабушки был альбом фотографий, в бархатной зелёной обложке. И там хранилось несколько фотографий Святослава, в разных возрастах. Я очень хорошо изучила его лицо и стать. Он был красив, как все дети бабушки и дедушки. Но он был самый породистый. Особенно хорош он был в белом капитанском кителе, и хотя это были фотографии семидесятых, и китель был советского торгового флота – он выглядел как русский дореволюционный офицер. Такую скульптуру лица и осанку трудно не запомнить, ещё тяжелее перепутать. За пятнадцать лет, прожитых в психиатрической клинике, он почти не изменился. И даже в больничной робе выглядел как аристократ. Он постарел, но не так, как можно было бы предположить. Он стал ещё суше и твёрже. Но он не опустился, не расползся. Я не представляю, как это возможно. Генетика, не иначе. Да и к тому же пациента называют не только по имени, но и по фамилии. А встретить двух Святославов Андреевичей с фамилией моего деда в одной психиатрической клинике – невозможно.
Темой нашего научного семинара были галлюцинации и бред при шизофрении, и профессор представил Святослава, как уникального пациента, который не укладывается в известные и хорошо изученные схемы, вытекающие из не менее хорошо изученных причин. Уникальность пациента заключалась в том, что у него было слишком много зрительных галлюцинаций. Зрительные галлюцинации и сами по себе не слишком распространены, их вариативный ряд и вовсе не многообразен. Вот в этом смысле представленный нам пациент и был уникален. Мало того, он предчувствовал, когда его «заглючит», и сам говорил врачам, когда и как ему корректировать дозу препаратов, а когда переводить в специальный блок и от греха колоть магнезию подкожно, потому что смирительную рубаху он рвёт.
– Обратился самостоятельно пятнадцать лет назад, – зачитывал нам историю болезни профессор, – потому что стал, с его собственных слов, социально-опасен, и чуть не убил маленького ребёнка. Выписываться не желает, потому что его обострения непредсказуемы, часты, с сезонами не связаны. А с чем связаны – неизвестно. Резюмируя: форма шизофрении одна из самых тяжёлых, а может быть и ещё тяжелее, просто названия ей ещё не придумали. Потому имеем законное право его не выписывать. К тому же он очень помогает в больнице, часто руководит ремонтом, здесь постоянно что-то надо ремонтировать, сам рукастый; привёл в порядок архив; рисует всю наглядную агитацию; уже много лет пишет все квартальные отчёты. Очень умный мужик, так что живёт на привилегированном положении, отдельная палата со всеми удобствами, перепланировал и сам перестроил из заброшенной кладовой. Да к нему не только медсёстры, но и врачихи клинья подбивали. Но мужик не по этому делу.
Дальше Святослав поделился с нами своими видениями. И их предполагаемой природой. На что профессор качал головой, и Святослав сказал ему: да-да, понимаю, сейчас выгляжу как натуральный шизофреник. И они оба рассмеялись. Видимо, у них это была старая шутка.
Я сидела ни жива, ни мертва. Я была пришиблена. Воскликнуть: ой, а вы знаете? Он мой дядя! Мой родной дядя! – было бы как-то слишком. И мне было стыдно. Мне очень долгое время, всё моё детство и юность, было очень стыдно, что мой родной дядя – шизофреник. Мама очень боялась, что я тоже ношу в себе ген шизофрении, и он вот-вот манифестирует. Потому за любой стишок, причём не то что собственного авторства, а за любой слишком длинный «и вообще не по возрасту» выученный стишок, меня могли немедленно отвести к психиатру. Похвально, что мама так переживала. Даже когда врачи ей говорили, что если и да, то шизофрения так рано не манифестирует. И к тому же это как-то глупо. Вдруг кричать про дядю. Хвастаешься или жалуешься? Так что лучше помолчать. Чаще всего больше одного раза на заседаниях СНО «интересных пациентов» не показывают.
Было уже поздно, когда мы разошлись. Меня познабливало, хотя стояла тёплая бархатная одесская осень. Я вышла во двор психиатрической лечебницы, спряталась за мощным стволом дерева, чтобы мои товарищи разошлись, не заметив меня. Я приложила к пылающим щекам ледяные ладони и замерла. Я была не в настроении контактировать с кем бы то ни было. Ни на какую из тем. Сейчас счастливо хохочущая группка пойдёт на трамвайную остановку, они уедут, и тогда я выйду и пойду домой пешком. Мне надо долго идти в одиночестве. Сквозь свой мир. Только так я наведу в нём порядок. Невозможно навести порядок из трамвая, болтая с приятелями.
