Читать онлайн Черный шлейф атаки бесплатно
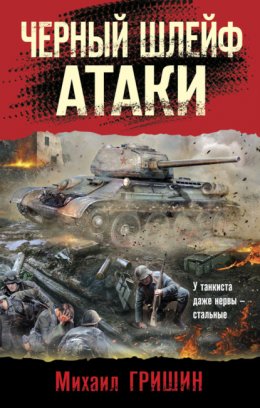
© Гришин М.А., 2023
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2023
* * *
Памяти моего дяди,
Гришина Михаила Андреевича,
механика-водителя «тридцатьчетверки»,
сгоревшего в танке в 1943 году
в сражении под Ленинградом,
ему было всего лишь 19 лет.
Глава 1
Григорий сидел на холодной броне танка Т-34, жмуря нагловатые в синюю крапинку глаза, с удовольствием играл на трофейной губной гармошке.
Руки у парня по-мужски крупные, со сбитыми костяшками, с выпуклыми обгрызенными ногтями на пальцах, на которых не успевают заживать заусеницы. Крошечная гармоника полностью помещалась в широких ладонях, он держал ее бережно, словно хрупкого воробышка. Из-под кожаного шлемофона, сдвинутого на затылок, торчал вихор волос цвета соломы.
Час назад их танковый полк при поддержке пехотинцев выбил из села Молодцово отчаянно сопротивлявшихся немцев. Батарея противника размещалась в укрытии среди саманных хат и за время долгого изнуряющего боя, в деревне не осталось ни одного целого дома. Вокруг виднелись лишь дымившиеся обугленные остовы с кое-где уцелевшими печными трубами. От горевшего возле кирпичных развалин заброшенной церкви фашистского танка клубами валил едкий смрад, заволакивая копотью низкое небо. В толстой броне зияла оплавленная пробоина, проделанная подкалиберным снарядом, выпущенным экипажем Гришки. Полдневное апрельское солнце едва проглядывало сквозь черную пелену, смотрелось мутным темным диском. Пахло снегом, сырой землей, горелым металлом и бензином.
Губную гармошку Григорий раздобыл в бою под Мценском. Был ноябрь 1942 года. Тогда их полк прямо с марша взял деревеньку, и фашисты, не ожидавшие столь стремительной атаки советских войск, сдались практически без боя. Григорий так же сидел на броне, устало свесив между колен тяжелые натруженные руки, равнодушно наблюдал за пленными немцами. Они толпой, похожей на сбитое овечье стадо, медленно двигались с опущенными головами, шаркая по мерзлой дороге подошвами подкованных сапог.
Дул пронзительный леденящий ветер, приятно холодивший распаренное боем лицо. Немцы же зябко кутались в воротники серых, мышиного цвета шинелей, очевидно, с проклятьем вспоминая тот поганый день, когда они доверились Гитлеру, напали на мирный Советский Союз.
Тем удивительнее для Григория было видеть, как один из фрицев, высокий и худой, с опущенными на уши отворотами суконной пилотки, вынул из кармана шинели губную гармошку и, не боясь, что к ней примерзнут заиндевевшие губы, заиграл какую-то немецкую мелодию. Солдаты, шедшие до этой минуты понуро, подняли головы, шаги их стали намного увереннее.
Григорий недовольно спрыгнул с танка, быстро подошел к фрицу. Немцу было лет сорок, он был носатый, с впалыми щеками, неопрятно заросшими колючей щетиной.
– Дай сюда, – потребовал Гришка и протянул темную от въевшегося машинного масла широкую ладонь. – Нечего хороший инструмент марать своей фашистской музыкой, ферштейн?
– Я, я, – заискивающе залепетал фриц и трясущимися от страха руками отдал гармошку. Руки у него были в рыжих пятнах, неприятно заросшие жесткими рыжими волосами. – Битте, битте!
– То-то, – удовлетворенно пробормотал Григорий, окинул пленного угрюмым взглядом, вернулся на танк.
До войны Григорий слыл на деревне первым гармонистом. Особенно любил он исполнять песни на стихи Сергея Есенина, любил так, как только может любить их человек, всю свою сознательную жизнь проведший в деревне, среди душистых лугов, тенистых лесов и озер с чистой ледяной водой. Григорий брал в руки «тальянку», чувствуя, как по всему телу пробегает приятная легкая дрожь, бережно растягивал расписные меха, начинал играть, негромко, с надрывом напевая, сам чуть не пуская скупую мужскую слезу. Это у него выходило настолько проникновенно, что девчата, пришедшие на посиделки, рыдали, не стесняясь, обнимали и целовали гармониста под ревнивые взгляды других парней.
Такая тяга к поэзии самобытного, к тому же своенравного поэта чуть не закончилась для Григория трагедией. Однажды его вызвали на комсомольское собрание в Саюкинскую МТС, где присутствовал инструктор из райкома, специально приехавший для этого на мотоцикле. Он долго и нудно выговаривал ему за распространение чуждых советскому строю «упаднических религиозных настроений», требовал повиниться и впредь отказаться от исполнения подобных песен, чтобы остаться в передовых рядах прогрессивной молодежи.
Григорий, ошарашенный мыслью, что легко может лишиться комсомольского билета, целый час горячо убеждал приезжего инструктора, что Есенин самый настоящий пролетарский поэт и ничего крамольного нет в его стихах «Ты поила коня из горстей в поводу». Но на всякий случай все-таки пообещал впредь эту песню на людях не петь. Ему поверили, дело спустили на тормозах, приняв во внимание, что Григорий числился в передовиках производства, имел семь классов образования. Крамольными словами этот бездушный инструктор посчитал строки:
- В пряже солнечных дней время выткало нить.
- Мимо окон тебя понесли хоронить.
- И под плач панихид, под кадильный канон,
- Все мне чудился тихий раскованный звон.
Думать о том, что на него донес кто-то из своих ровесников-сельчан из зависти или по другой причине, не хотелось. Григорий беззлобно усмехнулся, вспомнив то несправедливое собрание, блеснул из-под чуба светлыми озорными глазами, принялся с еще большим воодушевлением поочередно себе подыгрывать и негромко напевать:
- Заметался пожар голубой,
- Позабылись родимые дали.
- В первый раз я запел про любовь,
- В первый раз отрекаюсь скандалить.
Из башенного люка показалась грязная рука с большим ключом, следом – голова в потертом шлемофоне и широкое улыбчивое лицо, измазанное техническим маслом. Это был заряжающий сержант Илькут Ведясов, двадцатилетний уроженец из Мордовии, веселый, не в меру добродушный, отчего к нему все обращались по-товарищески Илька. Он тыльной стороной свободной руки провел под вздернутым носом и принялся ключом оживленно отбивать на броне ритм, качая в такт головой, часто моргая глазами с белесыми ресницами.
Ободренный дружеской поддержкой, в грохоте которой голос Григория практически затерялся, парень шутовски прикрыл глаза, мотая головой, запел совсем громко, словно находился на сцене:
- Поступь нежная, легкий стан,
- Если б знала ты сердцем упорным,
- Как умеет любить хулиган,
- Как умеет он быть покорным.
На импровизированный концерт обратили внимание другие танкисты. Даже всегда сдержанные и молчаливые мужики в годах не смогли сдержать улыбок, глядели на развлечение молодежи с одобрением. Каждый из бойцов в душе с болезненным откровением понимал, что завтра для них может уже никогда не наступить.
Расположившись на броне своих танков в самых живописных позах, они стали слушать, время от времени отпуская в сторону артистов ласковые слова, сдобренные крепкими выражениями.
– Братка, – сказал немного погодя Илькут, обращаясь к Григорию, – дальше заправляй здесь сам. Мне надо еще патронник проверить. А то явится командир и взбучку нам такую задаст, мало не покажется. – Он последний раз грохнул ключом по броне, скрылся в люке.
Зрители с сожалением стали помаленьку расходиться. Григорий остался один, продолжая играть, но уже без прежнего воодушевления. В отличие от большой громоздкой «тальянки», которую с собой в танк не возьмешь по причине небольшого в нем пространства, крошечная гармоника, выглядевшая как детская игрушка, легко умещалась в кармане комбинезона. Удобно и практично.
Гришке недавно исполнилось девятнадцать, значился он в отделении механиком-водителем среднего танка Т-34. Думать о смерти в его годы было бы неправильным и пустым занятием, хотя и в его юной жизни бывали случаи, когда смерть подбиралась настолько близко, что явственно ощущался ее обжигающий холодок. Вот и сегодня костлявая напомнила о себе, пролетев мимо в виде снаряда, который лишь опалил горячим воздухом, коснувшись мощной брони металлической махины. Только слаба она против материнского оберега – миниатюрной иконки Николая Чудотворца и листочка из ученической тетради в клеточку с молитвой «Живый в помощи», – зашитого им в подкладку гимнастерки под комбинезоном.
Размышления Григория прервал хриплый голос, явно обращенный к нему, в котором явственно проступали презрительные и сожалеющие нотки:
– Эй, музыкант, не противно тебе фашистскую мерзость мусолить?
Около танка приостановился высокий красноармеец в замызганной снизу грязной шинели, с карабином и вещмешком за спиной. Левая рука у него была перебинтована и покоилась на перевязи у груди. Он едва ли не враждебно смотрел из-под каски с вмятиной в боку на Григория, впалая щека у него дергалась, мелко дрожали черные усики. Было видно, что раненая рука невыносимо болела, и от этого красноармеец находился в плохом настроении.
Всегда находчивый и развязный, Гришка в этот раз ответил без шуток, обстоятельно.
– Не бойся, братка, у меня с этим делом строго. Я эту гармошку два дня в спирте вымачивал, прежде чем играть на ней наши советские песни.
Его товарищи тоже приостановились, с интересом прислушиваясь к разговору.
– Ты гляди-ко, – удивился другой красноармеец, – живут же люди, спирт тратят ведрами. А тут до того продрог, что хоть бы малую стопку в рот принять для сугрева. Все бы польза нашему брату пехотинцу была.
– Э-эх, – вздохнул с горечью рябой парень. – У этих танкистов все не как у людей. Пошли, хлопцы.
Красноармейцы снова двинулись по разбитой танками дороге, оскальзываясь сапогами в раскисшей грязи.
Глядя на уставших, измотанных в тяжелых боях людей, которые сегодня вместе с ними яростно сражались бок о бок против лютого врага, Григорий вдруг почувствовал к ним сострадание. Как будто его была вина в том, что враг оказался силен, дошел почти до столицы родины Москвы, и теперь его приходилось выдворять с потом и кровью.
– Эй, царица полей! – окликнул он и, когда красноармейцы в недоумении обернулись, обнадеживающе громко сказал: – Попрошу минутку внимания!
Он проворно поднялся, сунул голову в люк, что-то невнятно сказал внутрь, затем выпрямился; в руках у него была алюминиевая видавшая виды мятая фляжка.
– Держи, пехота!
Высокий, с усиками, красноармеец, даром что был с одной рукой, на лету ловко подхватил здоровой рукой фляжку с плескавшейся в ней ценной жидкостью. Глаза его обрадованно блеснули. Он неуклюже прижал забинтованной рукой фляжку к груди, открутил пробку, прижмурив от удовольствия глаза, сделал маленький глоток, затем передал фляжку товарищу, другому красноармейцу. Фляжка со спиртом, бережно передаваемая из рук в руки, обошла по кругу из семи человек и вернулась к своему хозяину.
Зная, насколько трудно обстоят дела со спиртом и какое он имеет значение для человека на войне, никто из красноармейцев не посмел проявить чрезмерную жадность, фляжка опустела ненамного. Вскоре повеселевшие красноармейцы отправились дальше.
– Бывай, парниша! – обернулся, отойдя шагов на десять, раненный в руку боец, поднял над головой здоровую, сжатую в кулак. – Но пассаран! Они не пройдут! Теперь и до Берлина шагать не так будет скучно, хоть сейчас в бой!
Вокруг него все засмеялись, о чем-то оживленно заговорили, удаляясь все дальше и дальше, пока поредевшее отделение не скрылось за дымившимся фашистским танком.
Григорий опять было собрался сыграть что-нибудь бодрое для души, но в эту минуту из проезжающей мимо полуторки, гремевшей деревянными бортами, прямо на ходу из кузова выпрыгнул молоденький танкист в двубортной зимней куртке и шлемофоне. Он в знак благодарности помахал водителю, торопливыми шагами направился в сторону Григория и его танка.
Это был стрелок-радист, старший сержант Леня Бражников, коренной москвич. Они были ровесники. Но в отличие от крепкого деревенского жителя Григория, у Лени были красивые тонкие черты бледного лица, отчего он выглядел как артист кино и театра. Ленька об этом знал и почему-то стеснялся. Что, однако, не помешало ему добровольно уйти на фронт со второго курса технического института.
Григорий еще издали приметил в его синих пронзительных глазах, по-девичьи опушенных густыми ресницами, веселые огоньки. Ленька по-детски счастливо улыбался, со значительным видом похлопывал по карману куртки. Сегодня в бою у них отказала радиостанция, когда вражеский снаряд по касательной ударил в башню. Срочно требовалось станцию исправить, и пару часов назад командир отправил стрелка-радиста на попутной машине в электротехнический взвод за радиолампой.
Вспомнив этот бой, Григорий невольно пошевелил крутыми плечами, основательно намятыми сапогами командира. Даже выпростал из воротника шею и покрутил головой, чувствуя, что плечи болят до сих пор. Командир танка оказался довольно сообразительным мужиком, руководил боем в отсутствие неисправного переговорного устройства своеобразно: поставил на плечи механика-водителя свои ноги в сапожищах и попеременно давил той ногой, в какую сторону следовало повернуть. В этом отношении, конечно, повезло заряжающему Ведясову: сунул ему командир кулак под нос, значит, будь добр зарядить пушку бронебойным снарядом, а если растопыренные пальцы, значит, осколочным.
– Сияешь, как начищенный котелок, – сказал, широко улыбаясь, Григорий как только Ленька подошел. – Надо думать, не вхолостую съездил? А то наш лейтенант мне плечи так оттоптал, будто цыганочку станцевал. Да не просто станцевал, а с выходом, – пошутил он и спрыгнул с брони на землю, в талый грязный снег.
Ленька достал из кармана теплую рукавицу, вынул из нее бережно завернутую в ветошь радиолампу, показал Григорию.
– Вот она, родная, – сказал он ласково, с любовью разглядывая лампу со всех сторон, и, заметив, что Григорий тянет руку, испуганно прижал лампу к груди. – Еще уронишь!
– Трясешься над своим хозяйством, как курица-наседка над цыплятами, – беззлобно засмеялся Григорий и дружески хлопнул товарища по плечу. – Давай, налаживай свой аппарат.
Ленька, скинув куртку, остался в одном комбинезоне и полез в танк через люк механика-водителя, а Григорий пошел вокруг приземистого корпуса грозной машины, скрупулезно исследуя каждый болт, каждую заклепку, чтобы своевременно обнаружить неисправность и предотвратить возможную поломку в бою, тем самым сохранив себе и товарищам жизни.
– Михайлов, – окликнул его голос мужчины, скрытого танком, – Бражников вернулся?
– Так точно! – отозвался Григорий, монтировкой выковыривая застрявший в траках булыжник, неизвестно в каком месте подцепленный. Казалось бы, что значит для танка какой-то булыжник, а ведь из-за него запросто может при повороте оборваться гусеница. – Он уже занимается радиостанцией.
Из-за танка вышел лейтенант лет двадцати шести. Это был их командир Петр Дробышев, низкорослый, сухой и жилистый белорус. В мирное время он работал шахтером-проходчиком на Кузбассе. Там у него сейчас остались жена Лиза и двое малолетних детей – сын пяти лет Вовка и трехлетняя дочь Нюрка. Оттого, что Дробышев большую часть времени проводил под землей, должно быть, и был он характером угрюмый, молчаливый, вид имел суровый.
Лейтенант только что вернулся от командира роты. Походка у него была такая, что ни с кем не спутаешь, из-за нее его узнавали издалека все танкисты полка, а может, и дивизии. Он ходил, как будто втыкал свои кривые, как у кавалериста, ноги в землю, чтобы крепче на ней стоять. Дробышев был одет в танкистскую куртку, зато в пилотке, небрежно сдвинутой на правую сторону, что без слов говорило о том, что лейтенант находился в волнительном состоянии. Офицерский планшет болтался на ремне на боку, как и кобура с наганом. Он молча взял у Григория монтировку, постучал в броню.
– Свистать всех наверх! – рявкнул хриплым простуженным голосом Дробышев, и Григорий невольно подобрался.
Внутри раздался крепкий матерок Илькута, а вскоре появился он сам.
– Слушаю! – козырнул он, увидев рядом с Григорием рассерженного командира. Следом из люка механика-водителя высунулся по пояс Ленька, он тоже увидел Дробышева с недовольным лицом и торопливо выбрался на броню, затем спрыгнул на землю, став по стойке «смирно». – Слушаю, товарищ лейтенант!
Бегло оглядев экипаж, Дробышев, бурча что-то невнятное себе под нос, раскрыл планшет, вынул карту и, смахнув рукавом с наклонного бронированного листа пыль, разложил ее на нем, тщательно расправил ребром коричневой зачерствелой ладони. Волнуясь и непроизвольно дергая от этого головой, стал зло говорить, тыкая пальцем в карту:
– По сведениям нашей разведки, за этим лесом, где находится высота 33,3, неприятель укрепляет линию обороны. Наша цель ночью, прикрываясь грохотом полковой артиллерии, незаметно подобраться к лесу и затаиться до утра. А на рассвете мы пойдем в атаку, и должны мы фрицев свергнуть с этой высоты, как Михаил Архангел дьявола. А сейчас с минуты на минуту подойдут машины с горючим и боезапасом, пополняем свой боезапас, заправляемся и… с богом. – Он впечатал крепкий кулак в броню, как бы наглядно подкрепляя сказанные слова. – Всем ясно?
* * *
Солнце, едва различимое за плывущими темными от гари и копоти облаками, иногда вовсе скрывающееся за дегтярно-черными клубами дыма, валившими от горевшего фашистского танка, медленно уходило на запад, туда, где за лесным массивом засели немцы, готовившиеся к обороне.
Покинутая жителями деревня заполнилась красноармейцами, военной техникой, проехали несколько машин медсанбата. На площади, неподалеку от толстой раскидистой березы, низко нависшей оголенными ветками с прошлогодними сережками над обелиском с красной звездой, где покоились комсомольцы, погибшие в Гражданскую войну от рук бандитов, разместилась полевая кухня. Возле нее возился степенный пожилой грузин с усами, как у Буденного. Он кашеварил с видимым удовольствием, негромко напевая грузинскую застольную песнь «Сулико».
Пряный аромат распаренной каши распространялся по деревне, смешиваясь с прогорклыми запахами, свойственными войне, словно навечно въевшимися в некогда чистый свежий воздух. Но голодные бойцы в этот момент никакие другие запахи кроме запаха разваренной каши не замечали.
– Скоро обед, – заявил Илькут, развернув вздернутый нос по ветру, раздувая широкие ноздри. – Ох и наемся я, – сказал он мечтательно и звучно сглотнул слюну. – Проголодался, аки голодный пес.
– На войне еда для солдата первое дело, – поддержал его Григорий, тоже принюхиваясь к запаху. – На голодный желудок особо не навоюешься. От этого рука ослабевает, и удар получается квелым. Слабый боец – никакой это не боец, а самый что ни на есть… трутень.
– Ленивец, – подсказал Ленька и виновато улыбнулся. – Есть такие животные, которые еле-еле двигаются, как все равно неживые.
– Вот-вот! – обрадованно воскликнул Григорий. – Его я и имел в виду.
Но поесть в ближайшее время товарищам было не суждено: на полуторках подвезли бочки с горючим и боекомплекты.
– Накрылась наша каша, – тяжко вздохнул Илькут, расстроенно махнул рукой и полез в кузов, где аккуратными рядами лежали ящики со снарядами. И вдруг оттуда весело закричал, лукаво сверкая лучистыми глазами: – Налета-ай, подешевело! Давайте, давайте, хлопцы, поворачивайтесь! Не то за себя не ручаюсь, зашибу!
– Черт мордастый! – по-дружески ласково обозвал парня Григорий, с улыбкой подставляя плечо под ящик. – Наваливай!
– Михайлов, не дури! – остудил его пыл лейтенант Дробышев. – Не хватало еще, чтобы ты спину себе сорвал. Вдвоем выгружайте. Охламоны!
– Так точно, товарищ командир, – игриво подмигнул товарищам Григорий, – охламоны и есть!
Так с шутками и прибаутками, жизнерадостно щеря крепкие здоровые зубы, они дружно выгрузили боекомплект. Потом с тем же зубоскальством скатили с кузова другой полуторки по наклонным бревнам на землю две двухсотлитровые бочки с дизельным топливом. Впереди предстояло самое муторное дело, при упоминании о котором у каждого танкиста неизбежно сводило скулы: ветошью отмывать в емкости с соляркой снаряды от пушечного сала. Занятие это было не тяжелое, но по времени затратное и нудное, требующее отменной выдержки и терпения: в боекомплект их танка входило 100 выстрелов. Даже заправка полных баков по сравнению с этим делом казалась легкой. А ведь там приходилось вначале наливать из бочки в ведро, а затем через воронку лить горючее в баки. После такой работы комбинезон танкиста со временем становился блестящим от въевшегося в него масла и дизельного топлива и жестким, как скафандр. И в этом пропитанном газойлем обмундировании парням приходилось воевать и жить. И надо сказать, что свою работу на фронте они выполняли честно и ответственно. Они были до крайности уверенными в том, что сражаются за правое дело, были готовы в любую минуту совершить солдатский и человеческий подвиг. И в этом были уверены не только танкисты, но и солдаты и офицеры других родов войск.
Незадолго до заката танковый полк был готов к маршу. В ожидании приказа экипажи неотступно находились у своих танков. Расположившийся на броне экипаж лейтенанта Дробышева, уставший за год с небольшим от ожесточенных боев и бессонных ночей, вполголоса вел неторопливые разговоры о мирной довоенной жизни.
– Очень я планеризмом тогда увлекался, – рассказывал Ленька, как всегда стеснительно улыбаясь, глядя куда-то вдаль, должно быть, мыслями находясь сейчас в своей Москве, где-нибудь на Пречистенке или на Моховой. – И задумал я сделать такой моторчик к планеру, чтобы был он как настоящий, со всеми соответствующими техническими характеристиками, да чтоб мог полезную нагрузку нести с собой на подвеске. И чтобы управлялся он по радио. Полтора года голову ломал, чертежи готовил, почти уже все придумал, оставалось в жизнь воплотить, а тут война началась. Я и подумал, чего же это я буду пустыми делами заниматься, когда моя родина в опасности. Закончится война, тогда и доделаю. Может даже, за это время что-нибудь и новое придумаю, так сказать, усовершенствую свою модель.
– Птицу видно по полету, – сказал Григорий и дружески приобнял товарища за хрупкие плечи, – а будущего великого конструктора по его неординарным мыслям.
Лейтенант Дробышев, который сидел, широко расставив ноги, опираясь руками на замасленные колени, вспомнив что-то свое, сокрушенно качнул головой в шлемофоне, со вздохом сказал:
– Сынок мой, Вовка, тот большой любитель всякого зверья. Прямо обмирает об них, должно быть, ветеринаром будет, когда вырастет, а то и самим дрессировщиком. До войны обещал их с сестренкой Нюркой свозить в Москву и сводить в зоопарк и цирк, где всяких животных дрессируют. Да и самому охота на это представленье поглядеть. Вот закончится война, обязательно свожу. Да и мою жинку, мамку их, с собой возьмем, пускай вместе с ребятками порадуется.
В общем разговоре не принимал участие лишь заряжающий Ведясов. Основательно проголодавшись, он сидел на броне, поджав под себя ноги, как буддийский божок, и с чувством скреб в котелке алюминиевой ложкой, с аппетитом уплетая за обе толстые щеки холодную кашу. На зубах у него хрустело недоваренное пшено. Смотреть, как он управляется с кашей, было одно наслаждение. Тщательно выскребав дно котелка, Илькут с удовольствием облизал ложку и сыто сказал:
– Вот теперь порядок в танковых частях.
Вечером, когда сумерки окутали местность, поступил приказ выдвигаться.
– В машину! – коротко отдал команду Дробышев, и боевой расчет быстро занял свои места.
Григорий зафиксировал приоткрытый люк зубчатой планкой, подключился к исправно работающему переговорному устройству. У танка была четырехскоростная коробка передач, переключавшаяся довольно тяжело. Услышав в наушниках команду «Вперед!», Григорий помог себе коленкой включить первую передачу. 12-цилиндровый двигатель, не оборудованный глушителем выхлопа, взревел, и грозная махина, клацая гусеницами, двинулась в ночь. Одновременно с движением колонны открыла беглый огонь полковая батарея, где-то за лесом глухо захлопали разрывы снарядов.
Григорий, пристроившись за головным танком, глядел усталыми, воспаленными от недосыпа глазами в его корму, освещенную узким лучом фары. Когда проезжали мимо продолжавшего чадить немецкого танка, чей мрачный силуэт чернел даже в ночи, Григорий безжалостно пообещал, чувствуя в своем еще не успевшем очерстветь молодом сердце справедливый гнев:
– Мы еще набьем вам, гады, ваши поганые морды, можете даже не сомневаться!
Глава 2
По небу ползли дождевые рваные облака, а казалось, что движется синяя пятнистая луна. Иногда она надолго скрывалась за огромной, в полнеба, черной тучей, и тогда в лесу наступала кромешная тьма. Только слышно было, как в вышине хозяйничал промозглый ветер, безжалостно трепал макушки столетних сосен, вросших кряжистыми коричневыми корнями в песчаный склон, кое-где еще покрытый ноздреватым потемневшим снегом, присыпанным отжившей старой хвоей.
Около одного из таких крутых склонов, впритирку прижавшись правой стороной к его отвесной стене, стоял замаскированный сосновыми лапами танк лейтенанта Дробышева. Экипаж дремал, неловко устроившись на своих боевых местах. Не спалось лишь одному Григорию, несмотря на бессонные ночи и сильную усталость.
Он прикрывал глаза, и перед его мысленным взором тотчас удивительно ярко возникала картина теперь уж далекого декабрьского дня 1941 года. Тогда он и еще шесть парней из его села уходили на фронт. Был сильный, под сорок градусов, мороз, по снежному насту мела поземка, немилосердно кружила, грозясь перейти в метель. Они овечьим гуртом брели по целине, сокращая путь, чтобы успеть к означенному времени на железнодорожную станцию, расположенную в двенадцати километрах от села. Шли с молчаливой сосредоточенностью, каждый в душе переживая долгую разлуку с родными, невольно думая о том, что не всем будет суждено вернуться в родные края.
Ветер насквозь продувал старенькую стеганую телогрейку, подпоясанную лохматой веревкой, чтобы не задувало снизу, снег летел в глаза, набивался в щели между заиндевевшим лицом и ушанкой, туго стянутой под подбородком тесемками.
Григорий вспомнил, как мать всю ночь корпела над его одеждой, заботливо накладывая мелкие аккуратные стежки на заплаты размером с его ладонь, и что-то далекое, но родное мягко коснулось его сердца. Он с шумом вздохнул, рядом зашевелился стрелок-радист, и Григорий затаил дыхание, желая хоть еще чуточку продлить хрупкое, как мираж, видение.
Через минуту он снова увидел мать, девятилетнюю сестренку Люську и младшего семилетнего братика Толика. Они провожали Григория до околицы, как провожали и другие сельчане своих уходивших на войну сынов.
Мать шла, покачиваясь, будто пьяная, с безвольно опущенными руками, простоволосая, со сползшим на плечи пуховым платком, и ее успевшие поседеть раскосмаченные волосы, припорошенные поземкой, печально развевались на ветру. Подле нее неуклюже переставляла ноги в отцовских валенках Люська. Она была укутана поверх пальто в теплую шаль настолько, что виднелись лишь ее заплаканные глаза. Сестренка старательно размахивала руками, чтобы не отстать.
Толик, похожий в своем перешитом ватнике на крошечного мужичка с ноготок, часто спотыкаясь, крепко держался за руку старшего брата, сбоку преданно заглядывал в его лицо. У Толика все время сползала на глаза ушанка, он ее поспешно поправлял, все так же неотрывно продолжая смотреть на Григория.
У околицы, когда прощались, мать заголосила, как будто предчувствуя, что они никогда не увидятся. От ее нечеловеческого крика у Григория по коже продрал мороз, он закусил губу и прибавил шаг. Еще какое-то время Толик бежал рядом с ним, потом отпустил его руку, остановился. Григорий на ходу обернулся. Толик сиротливо стоял один посреди белого безмолвного поля и неуверенно, прощально помахивал поднятой над головой ручонкой в заледенелой варежке. Поземка медленно заносила его снегом.
– Братка, родненький, возвращайся! – донес ветер до Григория тоненький мальчишечий голосок, и у Григория от жалости подкатил ком к горлу. Он с трудом сглотнул его, ответно помахал рукой, осиливая ветер, крикнул:
– Вернусь! Жди, братишка!
Затем прихватил горсть снега и, просыпая на грудь, туго перехваченную ремешком брезентового вещмешка, с поспешной жадностью стал хватать его ртом. Потом отвернулся и побежал догонять своих товарищей, сердцем чувствуя, что этот пронзительный крик сохранится в его голове до конца его жизни.
Григорию не было восемнадцати. Положение на фронте складывалось очень тяжелое, Красная армия отступала, враг стоял под Москвой. В короткие сроки следовало призвать новое пополнение, обучить военному делу. До дня его рождения оставалось три месяца, и военный комиссар, замотанный напряженной работой, валившийся от усталости с ног, должно быть, от безысходности и мрачного предчувствия наступающей беды рассудил по-своему: мол, отучится парень по ускоренной программе на танкиста, а там подойдет и год его призыва в армию.
Григорий стал известен на весь район ранней весной, когда отличился на севе яровых в своем колхозе, за один световой день выполнив двойную норму. О его трудовом подвиге было написано в передовице в районной газете «Трудовая новь» и, что немаловажно, с черно-белой, пускай и не четкой фотографией, где его грязная улыбающаяся физиономия за рулем трактора с радостью смотрела на читателей. Полученную им красную грамоту с портретами Ленина и Сталина мать аккуратно вставила в самодельную рамку и поместила в простенке, украсив ее чистым рушником, будто икону. А рядом повесила на гвоздике вырезанный из газеты его портрет. Вот тогда-то Григорий как тракторист и прославился, а комиссар, видно, это не забыл: Родина нуждалась в танкистах.
Так Григорий Михайлов оказался в поселке Сурок Марийской АССР в учебном лагере. Курсанты жили в самой настоящей тайге в тяжелых, невыносимых условиях: в огромных землянках на сто человек размещалось триста. Внутри находилась одна печка из железной бочки, которая не могла натопить помещение, стоял лютый холод, доходящий до двадцати градусов. Вместо досок на нарах были настланы жерди. Самым тяжелым временем была зима 1941–1942 годов. Многие солдаты не выдерживали, были побеги и самоубийства. Но самой страшной проблемой был голод. Солдатский рацион состоял из утренней похлебки из чечевицы, картофельных очисток, кружки кипятка. В обед – суп с чечевицей, каша, буханка хлеба на четверых.
– Стро-о-ойсь! – раздался однажды ранним утром зычный голос дежурного, показавшийся Григорию отчего-то испуганным. Эхо от него еще долго металось по лесу.
Из землянок стали поспешно выскакивать солдаты в зеленых ватниках, курсанты в длинных шинелях. Вскоре несколько тысяч человек выстроились на плацу, от их тяжелого дыхания над головами на морозе клубился белый пар.
Из штабного барака вышла небольшая группа людей. Впереди, грозно сдвинув брови, стремительно шагал невысокий военный в звании Маршала Советского Союза. Григорий без труда опознал в нем Климента Ефремовича Ворошилова, который на тот момент был ответственным за формирование запасных частей и подготовку пополнений для фронта.
Легендарного полководца он видел впервые, все внимание сосредоточил на его ладной фигуре, не заметив другую группу, состоявшую из командного состава учебного центра, включая писарей. Они шли раздетые, в одних гимнастерках, конвоируемые автоматчиками. Двое были вообще в нательных рубахах, опущенных поверх галифе. Офицерские ремни с латунными звездами отсутствовали, и ледяной ветер трепал на арестованных широкие просторные подолы гимнастерок. Григорий насчитал девятнадцать человек.
Среди них находился и командир их полка подполковник Чванов, упитанный, с румяными щеками низкорослый мужчина. Еще вчера он распекал курсантов забористым матом, придравшись к ним из-за какого-то пустяка. А то, что у парней от недоедания просто не было сил, во внимание не принималось.
Все они сейчас выглядели потерянно, шли, не поднимая обнаженных голов, хмуро глядя под ноги. И даже мороз, пробиравший до костей не шелохнувшиеся ряды красноармейцев, вряд ли был замечен ими после жаркого до одури помещения офицерского барака.
Арестованных выстроили в ряд перед солдатами. Григорий всмотрелся в их серые, словно покрытые пеплом лица и вдруг каким-то неведомым прежде ему внутренним взором увидел, что все они уже не живые, а самые настоящие мертвецы. Жутко было вот так стоять и смотреть на мертвых людей, которые еще на что-то надеялись. Он болезненно поморщился, перевел потухший взгляд на Ворошилова.
Маршал стоял, широко расставив ноги, заложив руки в перчатках за спину, сверля холодными, немигающими глазами неровную линию обреченных людей.
– Что ж вы, мерзавцы, творите! – вдруг резким фальцетом выкрикнул он и с чувством погрозил кулаком. – Когда весь трудовой народ, как один, встал на защиту нашей советской родины, находятся еще такие мерзавцы, которые думают только о своей требухе. Зажрались, сволочи! Разжирели на народных харчах! Страна ждет от вас пополнения, ждет, что вы обучите военному делу простых людей, оторванных войной от созидательного труда. А вы вместо боевой подготовки для них, когда на фронте каждый солдат на счету, когда враг практически стоит под стенами Кремля, устроили здесь между солдатами соревнование на выживание. Вы все прожрали и профукали, вместо того, чтобы поддержать русского воина, поднять силу его духа. От вас люди бегут, как будто с царской каторги. Дармоеды! – Ворошилов нервными движениями вытер кончиками перчаток обслюнявленные уголки губ, затем коротко взмахнул рукой, сухо скомандовал автоматчикам: – Расстрелять мародеров по закону военного времени.
Маршал круто развернулся и с чувством выполненного долга, в сопровождении старших офицеров, быстрыми шагами направился к черной легковой машине, поджидавшей у штаба.
За его спиной прозвучали хлесткие, похожие на быстрые удары палками по дереву, автоматные очереди, многократным эхом откликнувшиеся в голом заснеженном лесу.
Подполковник Чванов вздрогнул от смертельного удара пули в грудь, в то самое место, где еще вчера у него находился орден боевого Красного Знамени за Халхин-Гол. Гимнастерка на миг вспухла, из рваной раны тонким фонтанчиком брызнула кровь. Вмиг посиневшее лицо у него болезненно сморщилось, ноги подкосились, мужчина довольно медленно опустился на колени, постоял так, глядя исподлобья затухающими глазами на красноармейцев, будто ища у них сочувствия, и повалился на бок, плотно прижавшись тугой щекой к мерзлой земле.
Высокий офицер в звании майора подпрыгнул одновременно с тем, как у него быстро расплылось на белой исподней рубахе яркое красное пятно, упал навзничь, бессильно царапая скрюченными пальцами жесткий снег. Несколько раз дернул ногами в хромовых сапогах и затих.
Кто-то уже недвижно лежал, глядя невидящим взором в блеклое небо. Старший политрук соседнего батальона продолжал скрипеть зубами, катаясь по снегу, прижимая окровавленные руки к животу, словно он внезапно занемог. Еще один офицер страшно дергался в предсмертных конвульсиях, пока его равнодушно не добил худой автоматчик с лицом, обезображенным от осколка, полученного на фронте.
Вскоре снег на большом пространстве был от крови черного насыщенного цвета. Горячий тошнотворный запах исходил от скорбного места. Первое убийство на глазах Григория и обильно смоченный кровью своих советских людей снег подействовали на парня угнетающе. Более ужасающей картины ему еще видеть не приходилось. Справляясь с охватившим его волнением, Григорий вернулся в землянку, сдерживая рвотные позывы.
– Так им и надо, сволочам! – услышал он возмущенный голос знакомого курсанта, который от постоянного недоедания еле волочил ноги. – Они же хуже фашистов.
Григорий молча забрался на свое место, укрылся шинелью и, отвернувшись к стене, сделал вид, что уснул: многое ему надо было переосмыслить.
Его сосед, лопоухий паренек родом из-под Рязани с самым обыкновенным именем Ванька, который очень гордился своим земляком поэтом Есениным и сам пробовал писать стихи, пару раз обращался к Григорию с пустыми вопросами, желая вызвать на разговор, как видно, тяготясь увиденным, но скоро отстал. Григорий слышал, как притихший Ванька что-то принялся нашептывать себе под нос, шурша потрепанной тетрадью, черкая карандашом на бумаге.
«Стихи пишет», – догадался Григорий и невольно улыбнулся, подумав, что из Ваньки запросто может выйти настоящий поэт, как его любимый Сергей Есенин. А он после войны будет у себя в деревне гордиться тем, что лично был с ним знаком. Так он вскоре и заснул по-настоящему, под приятные мысли о Ваньке Затулине, будущем великом поэте Руси.
Курсантов в этот день больше не беспокоили, было похоже на то, что сегодня вдруг стало всем не до них. Григорий впервые писал письмо домой, не спеша, излагая во всех подробностях свой военный быт, часто привирая, чтобы в далекой родной стороне о нем не волновались. Письмо вышло длинным, складным, он даже внизу приписал четверостишье из нового сочинения Ваньки, как бы заранее приучая своих домочадцев к великому поэту, чтобы потом никто не говорил, что Григорий врет.
- Угрюмый лес, одетый белым снегом,
- Землянки наши, крытые в накат.
- Учебный центр, и мы с моим соседом,
- По полигону с Гришкой водим грозный танк.
На другой день в лагере произошли заметные изменения. Кормить стали намного лучше, и красноармейцы оживились, особенно молодые, которые из-за своего возраста только набирались сил.
Большие изменения коснулись и учебного процесса танкистов. Боевые машины запасного полка, выводимые для обучения механиков-водителей вождению, теперь стали одновременно использоваться для занятий с командирами орудий и заряжающими по огневой, а с радистами-пулеметчиками – по радиоподготовке.
Так само собой сложился их славный экипаж. Правда, командиром у них стал тогда еще младший лейтенант Дробышев из соседнего учебного центра, находившегося за двадцать километров от них в поселке Суслонгер. К этому времени на фронте сложилась особенно тяжелая обстановка. Доучивать Дробышева времени не осталось, и бывшего шахтера-проходчика уже после четырех месяцев учебы поспешно назначили командиром нового экипажа.
В конце февраля их погрузили в товарняк и отправили в Нижний Тагил на завод № 183 за танком. Пребывание в одном учебном лагере парней сблизило, несмотря даже на то, что заряжающий Ведясов и стрелок-радист Бражников успели проучиться с Григорием какой-то месяц. Тем не менее они успели сдружиться, а время, проведенное в дальней дороге на Урал, еще больше укрепило их армейскую дружбу. Молодые, еще не обстрелянные танкисты теперь старались держаться крепкого плеча товарища. А когда по прибытии на место увидели, что другие экипажи формировали прямо на заводе после получения танка, стали дорожить своей дружбой настолько, что любой из них был готов отдать жизнь за друга.
* * *
Новенький танк Т-34, выкрашенный свежей зеленой краской, поджидал их на заводском дворе. Над цехами, выглядевшими огромными мрачными коробками, плыли низкие тяжелые облака, касаясь высоченных кирпичных труб. Время от времени в узкий просвет между облаками, ярко вспыхивая, бил пучок солнечного света, и стальная громадина тускло отсвечивала бронированными боками.
Парни восторженно смотрели на грозный танк и не могли поверить, что они теперь его хозяева. Одновременно было любопытно и боязно самостоятельно управлять боевой машиной, зная, что теперь их жизни взаимосвязаны: живучесть танка зависела от искусства экипажа, а их жизни – от его огневой мощи и от толщины брони. Григорий с непривычной для себя нежностью погладил шершавый бок танка, будто приласкал котенка.
– Бра-а-атка! – певуче сказал он со вздохом, обернулся и вопросительно взглянул светлыми глазами на командира.
– В машину! – хриплым голосом скомандовал Дробышев, без слов догадавшись о невысказанных мыслях механика-водителя.
С горячим проворством, словно борзые щенки, молодые танкисты забрались внутрь, где принялись уже с профессиональной дотошностью исследовать такое знакомое и в то же время незнакомое оборудование. Они знали, что каждый танк, каждая танковая пушка, каждый двигатель имеют свои уникальные особенности, которые можно выявить только в процессе повседневной эксплуатации. Ни сам командир Дробышев, ни заряжающий Ведясов не знали, какой бой у пушки, а механик-водитель не знал, на что способен дизель.
– А вот мы сейчас проверим его в деле! – воскликнул отчаянный Григорий и, на секунду задержав палец в воздухе, с силой вдавил в кнопку стартера.
Мотор радостно взревел, казалось, что он только и ждал этой минуты, черный клуб дыма вырвался из выхлопной трубы, железная махина вздрогнула и, послушная рукам Григория, грохоча гусеницами, резво побежала на заводской полигон. Там командир с Илькой отстреляли четыре снаряда, привыкая к пушке, а радист-стрелок расстрелял по мишеням три пулеметных диска.
– Пулемет что надо, – показал Ленька большой палец, по-мальчишечьи радостно улыбаясь.
Григорий, взглянув на него озорными глазами, весь подобрался, как будто перед прыжком, от души вдавил сапог в педаль газа. «Тридцатьчетверка», до этого двигавшаяся с равномерной скоростью, как будто на миг чуть присела, затем передняя часть приподнялась над дорогой ладони на три, и танк заметно ускорил бег; проворнее закрутились гусеницы, кроша комья мерзлой земли, перемешанной со снегом. Позади танка брызгами летела по сторонам грязь.
Совершив пробег на пятьдесят километров на разных скоростях, чтобы проверить машину на прочность, экипаж своим ходом отправился на железнодорожную станцию. Там танки погрузили на платформы, и состав отправился на фронт.
По прибытии к месту назначения Григорий с товарищами были неприятно поражены, увидев, что знакомые экипажи, сформированные на заводе, распались, так и не вступив в бой. Их заменили опытные танкисты, которые потеряли свои машины в кровавых сражениях и, согласно уставу, были направлены служить в пехоту.
Один из таких танкистов, дядька на вид еще не старый, но уже потрепанный войной, очевидно, с первого дня успевший нахлебаться всякого, – и жарких боев, и отступления, и окружения, – с тяжелыми рабочими руками, которые висели плетью вдоль его длинного нескладного туловища на коротких ногах, подошел к ним. У него было красное обезображенное огнем худое лицо, правая щека все время дергалась от нервного тика. Попросив у Дробышева закурить, он не ушел сразу, а прислонился узкой спиной к танку и, свертывая из газетного клочка цигарку, часто мигая и нервно дергая обожженной стороной лица, каким-то булькающим голосом сказал:
– Вижу, вы парни не обстрелянные, зеленые ишо, много чего не знаете. Так вот я вам скажу, глядя на проклятущую войну со своей колокольни, так сказать, успев кое-что уразуметь своей головой. Сберегайте машину, добрая у вас машина, подходящая для любого боя, с немецким тигром может сражаться на равных, а по скорости и маневрированию намно-о-ого превосходит его. Но более всего берегите друг друга, не дай Бог ранят кого, после госпиталя редко кто возвращается в свой экипаж, а то и в свой полк. А вы, ребята, как я погляжу, надежные, успели притереться. Это дорогого стоит. А то ведь бывает как? Собранные кое-как экипажи пригоняют танки с завода, а воюют на них другие, которые и дым и рым успели пройти. А этих в пехоту отправляют. Часто такое происходит, на моей памяти это уже шестой танк у меня.
Бывалый танкист послюнил края цигарки, с наслаждением затянулся, не сразу прикурив от отсыревших в кармане спичек, пыхнул клубами табачного дыма в тусклое небо и пошел к своему танку. В его усталой походке чувствовалась непреодолимая сила человека, крепко уверовавшего в свое предназначение разбить фашистскую нечисть и встретить День Победы в Берлине.
Слегка волнуясь за то, чтобы этот по-настоящему прожженный в боях танковый ас не подумал о нем как о совсем уж деревенской бестолочи, Григорий, с трудом сглотнув слюну, возвысив голос, сказал вслед:
– Так как же мы сможем его уберечь, ежели в жаркое сражение вступим? Тут с какой стороны ни погляди, а все от везенья зависит.
Танкист остановился, с живостью обернулся. Некое подобие улыбки мелькнуло на его задубелом, кирпичного цвета лице, и он с неожиданным теплом, которого вряд ли кто от него ожидал, ответил:
– Экипаж танка обязан действовать в бою смело, дерзко и решительно.
Он несколько раз подряд затянулся, докуривая цигарку, потом с сожалением посмотрел на крошечный окурок и, не в силах с ним расстаться, обжигая губы, еще раз сделал короткую затяжку и бросил его под ноги.
– Бывайте, парни, Бог даст, в Берлине свидимся, – сказал он, по-молодому блеснув глазами, растоптал окурок сапогом и пошел, но вдруг опять приостановился, обернувшись, сдержанно сказал: – А еще должна быть у стоящего танкиста сообразительность.
Его последние слова, скорее всего, относились к командиру танка младшему лейтенанту Дробышеву. Но Григорий тоже имел кое-какую сообразительность, а уж про дерзость и говорить не стоило.
Однажды в соседней деревне, куда они явились с приятелем Вальком миловаться к девушкам, местные парни хотели их побить, чтобы отвадить ходить к чужим девкам. Вдвоем против четверых им ни за что было не устоять, тем более Валек был мелкорослый и слабосильный. И тогда Григорий быстро и незаметно выхватил у курящего приятеля цигарку, крепко зажал ее в кулаке, стерпев боль от ожога, выставил перед собой ее острый обслюнявленный конец и с отчаянной решимостью выкрикнул:
– Всех кончу!
Было полнолуние, светлая газетная бумага блеснула, будто настоящее лезвие. Этого оказалось достаточным, чтобы задиристые, но трусоватые парни тотчас разбежались. Вот смеху-то было.
Через неделю экипаж младшего лейтенанта Дробышева участвовал в первом для него бою. Он произошел неподалеку от деревни Мясной Бор. Боевые действия велись на сравнительно небольшом участке Ленинградского фронта.
Григорий, не имевший боевого опыта, в душе сильно переживал, боясь за последствия своих необдуманных и, может быть, даже где-то нерасторопных действий. По значимости механик-водитель был в экипаже вторым после командира. Но если трактористом Григорий был довольно умелым, с легкостью разбирался в моторе, то как механик-водитель танка он себя чувствовал еще не совсем уверенно. Все же танк и трактор – разные машины, как по конструкции, так и по скорости передвижения. Да и по обзорности они тоже несравнимы. В тракторе у тебя все на виду, только успевай поглядывать по сторонам да любоваться на прелести окружавшей тебя природы. А в его «тридцатьчетверке» находился устаревший триплекс с установленными под углом вверху и внизу зеркальцами из полированной стали, искажающими изображение. Разобрать что-либо через него, особенно в прыгающем танке, было практически невозможно.
И все же, несмотря на всю разницу между танком и трактором, Григорий надеялся на свои профессиональные навыки тракториста. Что ни говори, а именно они крепко помогли ему в освоении сложного устройства всех механизмов танка. Пригодились для правильного выполнения на нем различных боевых приемов: движение в атаку на максимальной скорости, ведение интенсивного огня, в особенности с ходу, непрерывное наблюдение за полем боя, ориентирование, маневрирование под огнем противника с использованием складок местности, укрытий и нанесение ударов во фланг и тыл его огневых точек, избегая лобовых атак.
Но трудно было представить, как все сложилось бы на самом деле, не получи перед боем Григорий письмо из дома. В нем мать сообщала, что его отца Михайлова Андрея Лукьяновича убили 21 января сего года, всего и пожил-то он после 41-го дня своего рождения каких-то восемнадцать ден. Дальше почерк заметно изменился, когда она писала о том, что похоронили ее соколика 300 метров юго-западнее города Холм, «и если тебе, сыночек, доведется быть в тех местах проездом или еще какой оказией, не поленись заехать к отцу на могилку и передать ему низкий от меня с детками поклон…». В этом месте мать, очевидно, заплакала, потому что бумага была в пятнах с желтыми разводами от высохших слез.
И такая ярость охватила всегда миролюбивого добродушного Гришку, что он готов был сию минуту ринуться в самый жаркий бой, ни капли не страшась умереть. Вся его сущность в этот момент требовала мести за отца, который в своей недолгой жизни только и делал, что трудился как вол то на колхозном поле, то в своем хозяйстве, чтобы прокормить семью. Григорий сам не заметил, как нервно стал стучать кулаком, сжатым с такой силой, что побелели костяшки пальцев, по краю блестевшей от постоянного соприкосновения с мерзлой землей гусеницы.
– Эй, братка, – окликнул его Илькут, который уже с минуту с тревогой наблюдал за другом, за тем, как у него кривилось, по-видимому, от мучительных дум, но сдерживаемое из последних сил, чтобы не заплакать, лицо, – вести из дома неутешительные?
– Отца убили, – с надрывом в голосе ответил Григорий.
– Ничего, Гриша, – тотчас отозвался Илькут, сдвинув грозно свои белесые брови так, что у него поперек лба пролегла глубокая складка, и многообещающе процедил сквозь широкие зубы, которые обычно бывают у добрых людей: – Они у нас завтра кровавыми слезами умоются за все те беды, которые натворили на нашей советской земле.
Григорий сам не понял, что с ним в тот день такое произошло на поле боя: он словно видел себя со стороны, превратившись в одно целое с танком. Наверное, так чувствовал себя кентавр из греческой мифологии, рассказ о котором как-то ему довелось прочитать в книге учителя по истории Серафима Федоровича. Только там это была мешанина из человека и коня, а тут из человека и танка.
Григорий отчетливо слышал, как в башне Илькут заряжал орудие, по звуку определяя, какой снаряд загоняется, затем щелчок клина затвора, весившего более двух пудов, перекрывавший рев двигателя, лязганье ходовой части и звуки боя. Услышав лязганье закрывающегося затвора, Григорий, не дожидаясь команды «Короткая!», выбирал ровный участок местности для короткой остановки и прицельного выстрела. А еще у него было такое чувство, как будто он летел впереди танка, сверху обозревая поле боя, а не смотрел через забрызганный грязью триплекс, в который и без того ни черта видно не было.
Последнее, что Григорий запомнил, был фашистский пулеметчик. Он лежал в окопе рядом с убитым вторым номером и строчил по советским бойцам из ручного пулемета. Пулемет от выстрелов трясся у него в руках, отчего у фашиста то и дело сползала на его жесткие прищуренные глаза каска. Он ее поспешно поправлял и опять продолжал стрелять.
Ленька в это время перезаряжал свой пулемет, чуть замешкался, и Григорий направил танк прямо на немца. Тот произвел длинную очередь, – слышно было, как в броню ударяли пули, – потом немецкого пулеметчика охватил страх, он вскочил, оставив исправное оружие на бруствере, пригибаясь, побежал, отчаянно размахивая руками от надвигавшего на него советского танка. Немец был молодой и бежал довольно прытко. На какую-то долю секунды, прежде чем оказаться под гусеницами, он оглянулся, Григорий успел разглядеть его чисто выбритое лицо и нос с горбинкой. В его прежде холодных глазах плескался животный ужас.
После жаркого боя, когда Григорий осматривал машину, он заметил застрявший в гусенице окровавленный кусок человеческого мяса. Ему нестерпимо сильно захотелось взглянуть на убитого им фашиста. Григорий пошел к тому окопу, шаря глазами по трупам погибших красноармейцев, которые лежали вперемешку с немецкими солдатами. Немца, точнее то, что от него осталось, он обнаружил неподалеку от его окопа, – недалеко же фашист успел убежать. Все что теперь напоминало о молодом завоевателе, так это грязные сапоги с торчавшими из них белыми, словно обглоданные собаками, костями да исковерканная смятая в блин железная каска. Останки были глубоко вдавлены в жирную глинистую землю. Сожаления к раздавленному им живому человеку не было, как будто разум отключился и не хотел воспринимать жуткую действительность.
– Да и никакой ты вовсе и не человек, – брезгливо пробормотал Григорий, – а самый настоящий живодер и палач, пришедший на чужую землю убивать русских людей и их детей.
За тот первый бой Григорий был представлен к награде, медали «За отвагу». И в тот же памятный день заряжающий Ильяс Ведясов услышал рассказ Григория, который, должно быть, от тоски по дому неожиданно разоткровенничался и поделился с ним самым сокровенным, тем, что едва ли не полгода трепетно носил в своем сердце, боясь расплескать от чужого равнодушия. Мучительно морща прокопченное лицо, сбиваясь, путаясь от волнения, Григорий поведал о том, как его провожали на фронт самые близкие люди, и о словах братика Толика при расставании. Илька, сильно впечатленный услышанной историей, где-то сумел раздобыть белую краску и широкими буквами ветошью крупно написал на башне танка: «БРАТКА!»
– Гриша, – сказал он с сочувствием, – пускай теперь наш танк так и называется: «Братка». Чтоб фашисты знали, что пощады они от нас ни в жизни не дождутся. Мы им горло перегрызем за своих оставленных дома беззащитных братишек и сестренок, которые сами еще не в силах отомстить им за все их поганые дела.
…Внутри танка воздух был пропитан запахами солярки, отработанного масла, давно не стиранной одежды и тяжелым духом немытых тел самих танкистов. Григорий выбрался наружу. В лицо тотчас пахнуло освежающим ветром, сон пропал окончательно. Широко раздувая ноздри, Григорий с удовольствием втянул пресный запах снега.
Над немецкими позициями время от времени взлетали ракеты, освещая окрестность белым дрожащим светом. Когда свет мерк и наступала непроглядная темень, немцы начинали беспорядочную стрельбу. Чувствовалось, что неприятель нервничает и сильно озабочен предстоящим наступлением русских. «Интересно, – машинально подумал Григорий, неприязненно глядя на запад, – догадываются они, что атака будет на рассвете? – И сам ответил себе: – Догадываются, сволочи, иначе бы так не волновались».
Дождь начался неожиданно: вначале упали редкие крупные капли, с глухим щелчком ударяясь в оголенные ветки деревьев, в колючие сосновые лапы, в шлемофон. Дождь с каждой секундой шел все сильнее, и вскоре весь лес наполнился монотонным ровным шорохом. Это был первый весенний дождь.
В танк возвращаться не хотелось. Григорий, утопая по колено в снегу, который еще лежал под деревьями, стал под высокую раскидистую сосну, прижавшись спиной к ее шершавому стволу. Сняв шлемофон, он подставил ладонь под капли, просачивающиеся кое-где сквозь зеленые пахучие лапы, набрал в пригоршню холодной воды и с наслаждением умыл ею лицо. Немного спустя снег стал с тихим шорохом оседать, как будто земля с облегчением вздыхала после морозной зимы.
«Это хорошо, земля напитается водой, а значит, и урожай в этом году будет богатым», – с крестьянской сметливостью подумал Григорий.
Он вспомнил, как по весне пахал свой тамбовский чернозем, и грачи важно ходили по пахоте следом за трактором, выискивая червей. А в высоком ослепительно синем небе пел жаворонок, снизу видимый крошечной трепыхающейся точкой. Этой же весной в колхозе впервые за три года будут сеять без него и без других ушедших на фронт мужиков, будут как-то обходиться без мужчин, надеяться теперь слабосильным бабам и немощным старухам не на кого, кроме как на себя.
От этих мыслей Григорию стало грустно, стало жаль погибшего отца и других павших в сражении красноармейцев, которым никогда уже не вернуться домой. И еще неизвестно, сколько погибнет советских людей, пока Красной армии удастся разгромить эту фашистскую орду, чтоб людям всех национальностей на нашей многострадальной земле дышалось вольготно и счастливо. Григорий был твердо уверен, что после войны настанет удивительная жизнь.
Глава 3
Огромный филин неожиданно взлетел с сосны и скрылся в лесу, бесшумно размахивая крыльями. Сверху на Григория с разлапистых веток ручейком полилась вода, проникая за шиворот, холодя спину. Он зябко поежился, укутываясь в куртку.
– Бузотер, – восхищенно произнес Григорий.
Скоро его слуха коснулся далекий тревожный крик улетевшего филина, потом он еще пару раз угрюмо гукнул и затих. Не успел Григорий подумать о том, что осторожную птицу, по всему видно, что-то спугнуло, как тотчас расслышал сквозь убаюкивающий шорох дождя слабое чавканье множества ног по грязи. С каждой минутой оно нарастало, и наконец ближайший лесной массив заполнился сплошными тягучими звуками, как будто рядом усердно месили глину.
Он надел шлемофон, напряг зрение, вглядываясь в загустевшую темноту между деревьями. Когда глаза немного пообвыкли, разглядел длинную колонну красноармейцев, которые шли, оскальзываясь, по дороге, безжалостно развороченной танковыми траками.
– Твою мать! – выругался кто-то приглушенно, одновременно с хрустом не успевшей как следует еще намокнуть ветки и кому-то пожаловался: – Сапог чуть не продырявил. Он у меня и так на ладан дышит.
Григорий вышел из-за сосны.
– Кто тут? – окликнул его хриплый голос, к нему подошел низкорослый офицер в блестевшей от дождя каске, прикрывая полой мокрой плащ-палатки ППШ. – Капитан Жилкин, – представился он и спросил: – Где тут у вас командир полка находится?
Привычным жестом, отработанным до автоматизма, Григорий небрежно приложил ладонь к виску, приветствуя старшего по званию, и совсем не по уставу ответил:
– Сейчас организуем.
Он ловко запрыгнул на броню, стукнул кулаком в приоткрытый люк на башне, громко позвал:
– Товарищ лейтенант!
Тяжелый люк приподнялся, и оттуда высунулось помятое, с мешками под глазами лицо Петра Дробышева.
– Что надо? – спросил он недовольным заспанным голосом.
– Тут товарищ капитан интересуются нашим командиром.
Дробышев хмуро взглянул на прибывшего офицера, потом оглядел ближайшие ряды мокрых красноармейцев и, с неохотой выбравшись на броню, спрыгнул в грязь. Под сапогами хлюпнуло, и жидкая грязь брызнула в разные стороны.
– Мне командир нужен, – в очередной раз пояснил капитан, здороваясь с Дробышевым за руку. – Нас прислали десантом на танки.
– Пошли, – коротко сказал неразговорчивый Дробышев и повел капитана за собой.
Тот на ходу оглянулся и чуть не упал, зацепившись ногой о гребень закрутевшей грязи, осекаясь, торопливо скомандовал своим бойцам:
– Р-разойдись! – и с надрывом закашлял, прикрывая рот широкой ладонью, провонявшей жгучим мужским потом. От тяжелой фронтовой работы она настолько им пропиталась, что, должно быть, не отмыть и за полгода.
Основательно вымокшие и безмерно уставшие за время долгого перехода красноармейцы торопливо направились под деревья. Там было немного суше, не так сильно лило, как на открытой местности, и можно было передохнуть.
– Тамбовские есть кто? – крикнул Григорий, сложив ладони рупором.
– Есть! – тотчас отозвался кто-то из темноты, и к нему рысью подбежал молодой красноармеец, неловко вскидывая ноги в больших тяжелых сапогах, придерживая двумя руками автомат на груди. На его юношеском лице сияла белозубая улыбка, глядел он на Григория глазами, полными неожиданного счастья, что повезло встретиться на фронте с земляком. На загнутых вверх белесых ресницах дрожали дождевые капли. – Рассказовский я, – с ходу оповестил он и, видно в темноте Григорий показался ему намного старше, уважительно спросил: – А вы откуда?
– Саюкинский я, братка, – ответил Григорий, в груди у него от радости перехватило, голос заметно дрогнул: – Дай-ка я тебя обниму!
Он порывисто притянул к себе парня, который довольно охотно подался навстречу, обхватив Григория со спины крепкими руками. Он сделал это настолько быстро и доверчиво, что у Григория невольно мелькнула мысль о том, что молодой красноармеец, по всему видно, недавно из дома и еще не отвык от материнской заботы. А тут вдруг встретился на войне почти родной человек, который в мирное время проживал от него всего в каких-то пятнадцати километрах.
– Давно на фронте? – спросил Григорий, отодвинул парня за узкие плечи на вытянутые руки, с удовольствием стал разглядывать его открытое, с легким чернявым пушком над верхней губой, бледное лицо, еще не опаленное войной, не успевшее огрубеть.
– Не-а, – простодушно ответил паренек, с улыбкой глядя на земляка, как видно побывавшего не в одном сражении, заметив под его распахнутой танкистской курткой блеснувшую медаль «За отвагу». – Три месяца как из дома, завтра первый бой. Страшно, конечно, да человек ко всему привыкает. Такие вот дела.
– Зовут-то тебя как? – спохватился Григорий. – Меня Гришкой.
– Славик, – по-мальчишески запросто представился парень, – Славик Каратеев.
– Ничего, Славик Каратеев, – обнадеживающе сказал Григорий, – Бог не выдаст, свинья не съест. Главное – не раскисать раньше времени.
– Я не раскисаю, – смутился Славик, – да только все равно как-то боязно.
– Это само собой, – согласился Григорий. – Все мы люди, все мы человеки. – И вдруг неимоверно оживился, затормошил его за плечи, заглядывая в глаза, спросил, проявляя повышенный интерес: – Ты лучше расскажи, как там у нас на малой родине? В Саюкино случайно не был?
– Не-а, – замотал головой Славик и виновато улыбнулся. – Как-то не довелось.
Григорий, по всему видно, был готов к такому ответу, поэтому нисколько не расстроился, а наоборот, принялся сам с готовностью вспоминать о том, как однажды они с отцом побывали в Рассказове на колхозной ярмарке.
– Осень в том году была воистину золотая, самое настоящее бабье лето, всюду паучки летают на паутинках, солнце светит. А воздух – одно удовольствие. Прозрачный до сини, до хруста в легких, дышишь и надышаться не можешь, всю жизнь вот так им бы и дышал. Тепло, бахчи и зерновые убраны, с полей все вывезли, любо-дорого глядеть вокруг, пахота простирается до горизонта. Мы с отцом тогда возили на колхозной полуторке на ярмарку тыквы, желтые, крупные, а сладкие, что твой арбуз. А людей на ярмарке сколько было, страсть Божья. Мы все распродали и решили походить по рынку, прицениться к разным вещам. А еще задумали матери расписной платок купить к празднику, к Октябрьской революции, порадовать ее. Долго мы бродили, а у меня обувь была старенькая, потрепанная, специально надел, чтобы хорошую сохранить в свежести, потому как она должна была впоследствии перейти моему младшему братику Толику. Ходили мы, значит, с отцом, ходили, у меня вдруг возьми и отвались у одного ботинка спереди подошва. Иду как какой-нибудь дореволюционный беспризорник, а моя обувь есть требует, хлопает безобразно раззявленным носком. И смех и грех. Стыдоба, да и только. И вот видим, у северного выхода будочка такая крошечная примостилась у забора, а в ней сидит сапожник и молоточком постукивает по колодке. «Мил человек, – говорит ему отец, – ты бы вошел в наше положение, оставил бы пока свое не срочное занятие, а пришил бы моему сыну Гришке оторванную подошву». Ну, мужик в наше положение вошел, по-быстрому оторванную подошву починил, и мы еще полдня не могли уйти с ярмарки, уж больно нам понравилось разглядывать разные товары.
Славик, внимательно выслушавший своего земляка, живо поинтересовался:
– Гриша, а не помнишь, сапожника того случайно не дядя Митя звали?
– Сапожника-то? – переспросил Григорий, затем нахмурил лоб, честно напрягая память, и вдруг обрадованно воскликнул: – Он самый и есть! Дядя Митя! Точно!
– Сосед мой по улице, – удовлетворенно заулыбался Славик. – Наши дома прямо впритирку стоят. А жену у него зовут тетя Марфа. Мы у них частенько козье молоко покупали маме. Она на Арженской трикотажной фабрике работала, а там всюду пыль от овечьей шерсти, вот свои легкие и испортила. Кто-то и научил маму пить парное козье молоко. Не знаю, как она теперь там без нас с отцом будет обходиться.
Дальнейший их разговор стал вертеться вокруг общего знакомого дяди Мити, каждый старался припомнить какую-нибудь новую интересную деталь из жизни сапожника, который и знать не знал, что вдруг стал самым родным человеком для двух встретившихся на фронте парней. За разговором они не заметили, что перестал идти дождь, лишь изредка то в одном месте, то в другом с деревьев срывались крупные капли и с чмокающим звуком падали в лужи.
Красноармейцы, все это время прятавшиеся под разлапистыми соснами, стали потихоньку выходить из леса на поляну. Они подходили по одному или мелкими группами, и скоро Григорий со Славиком оказались в плотном кольце товарищей по оружию. Бойцы стояли в терпеливом молчании, словно сговорившись, стараясь ничем не выдать своего присутствия. Они с тихой задумчивостью улыбались, прислушивались к чужому разговору, очевидно завидуя молодому солдатику, которому сильно повезло встретить на фронте земляка, а доведется ли им, еще неизвестно. Время от времени кто-нибудь из них осторожно скручивал цигарку, закуривал и аккуратно пускал дым вверх. Если же сизое облако чуть дольше зависало в безветренном воздухе, курильщик тотчас испуганно разгонял его ладонью, чтобы случайно не прервать разговор в самом интересном месте.
Тем неожиданнее для них было появление лейтенанта Дробышева и капитана Жилкина. Красноармейцы с видимым сожалением стали оборачиваться на приглушенные мужские голоса, внутренне досадуя, что оторвали от прослушивания приятной беседы, которая велась между их боевыми товарищами.
Офицеры приближались торопливыми шагами, что-то жарко обсуждая: Дробышев рубил воздух ребром ладони, а пехотный капитан, соглашаясь, кивал, нервно приглаживая на непокрытой голове потные волосы правой рукой, держа в левой руке каску. Автомат у него болтался на груди. Еще не дойдя до толпившихся бойцов, Жилкин на ходу нахлобучил на голову каску, принялся громко раздавать команды, энергично размахивая короткими руками.
– Взводные, ко мне! Остальные – по отделениям бегом на танки! Сидеть как церковные мыши и ждать команды!
Красноармейцы, шурша мокрыми плащ-палатками, разбрызгивая сапогами грязь, перемешанную с дождевой и талой водой, с хлюпающим топотом побежали к замаскированным ветками танкам.
– Пошел я, – встрепенулся Славик, хоть по лицу было видно, что расставаться ему не очень хотелось. – А то командир ругаться будет.
Они крепко обнялись, уже как родные люди, и Славик побежал догонять товарищей из своего отделения. Шагов через пять он обернулся, помахал рукой, с надрывом крикнув:
– После боя увидимся, Гриша!
Григорий провожал глазами его невысокую, по-мальчишески угловатую фигуру в длинной плащ-палатке, хлеставшей мокрым низом по голенищам сапог, до тех пор, пока она не растворилась в темноте.
– Михайлов! – окликнул, увидев Григория, Дробышев. – Дуй тоже в машину, готовьтесь, через полчаса атакуем неприятеля.
Григорий полез в танк, а сам Дробышев остался и с хмурым видом стал наблюдать, как размещается на броне пехотный десант, прикрепленный к их полку. Григорий забрался внутрь, будить Леньку ему не хотелось, слыша, как он сопит во сне, сладко причмокивая губами. «Вот ведь сурок, – беззлобно подумал Гришка, – дрыхнет, как будто у себя дома. Впрочем, так оно и есть. Танк теперь надолго наш общий дом».
– Бражников, – негромко позвал стрелка-радиста Григорий, тронув его за плечо, – царствие небесное проспишь.
– Я, Гришенька, туда не тороплюсь, – вдруг бодрым голосом ответил Ленька, как будто и не он только что посапывал во сне. – У меня на этот счет собственные планы имеются.
– Вот и возьми тебя за рубль двадцать, – от души захохотал Григорий. – На все у тебя есть верный ответ.
– С кем поведешься, – скромно ответил Ленька, явно намекая на неунывающий характер самого Гришки. – А нам с тобою еще вместе воевать до-о-олго придется, так что привыкай.
Услышав громкий разговор и хохот Гришки, проснулся заряжающий Ведясов. Он прикорнул, неловко примостившись на бугристых снарядах, отчего его упитанное тело затекло до бесчувственности. Бурча под нос что-то нелицеприятное в свой адрес, он полез из башни размяться на свежий воздух, но наверху внезапно был встречен раздраженным окриком Дробышева и юркнул обратно, моментально забыв о своих страданиях.
– Чего это он так на меня взъелся? – не понял Илькут и обиженно запыхтел, как медвежонок, который однажды повстречался им прошлым летом в лесу. Тот тоже недовольно пыхтел, когда его окружили любопытные танкисты, смеясь, потешаясь над неповоротливым мишкой, пока не раздался рев матерой медведицы, и лишь тогда его оставили в покое, предупредительно забравшись от греха подальше на танк.
– Скоро бой, – ответил, посмеиваясь, Григорий. – Так что времени на раскачку у тебя не осталось.
– Это другое дело, – сразу приободрился Илькут. – От такой приятной новости у меня прямо руки зачесались. Сейчас мы зададим немцам жару.
Влез в танк лейтенант Дробышев, занял свое командирское место. Он закрыл за собой люк, но не на защелку. Затем расстегнул брючный ремень, деловито привязал его к защелке, а другой конец раза три обмотал за крюк, державший боезапас на башне. Эту хитрость придумали бывалые фронтовики, чтобы в случае поджога танка успеть его моментально покинуть: ударил головой вверх, ремень соскочил, распахнул люк и выскочил наружу.
У механиков-водителей тоже была своя незамысловатая, но действенная в бою уловка: оставлять люк приоткрытым на ладонь. Тогда и обзор становился лучше, и боевое отделение проветривалось от пороховых газов, которые неминуемо скапливаются внутри. Григорий был наслышан о том, что бывали случаи, когда танкисты в затяжном жарком бою теряли сознание, отравившись угарным газом, особенно заряжающие. Он и сам однажды чуть не брякнулся в обморок, когда все люки были задраены, как положено. Избороздив на своем танке не одну сотню километров фронтовых дорог, побывав в самых горячих сражениях, Григорий теперь считал себя опытным механиком-водителем и охотно перенимал у танковых асов все чудачества, которые могли хоть как-то сохранить жизнеобеспечение танка и его экипаж. Даже подсказал стрелку-радисту, как надо подточить разъем у переговорного устройства, чтобы он свободно выскакивал из гнезда, если вдруг придется срочно покинуть подбитый танк.
* * *
Несколько минут, оставшиеся перед боем, тянулись невыносимо долго, казалось, что время вдруг по непонятной причине остановилось. От этого нервы у всех были напряжены до предела, люди только и думали о том, чтобы поскорее поступила команда атаковать неприятеля. Танкисты сидели, не шелохнувшись, с молчаливой сосредоточенностью.
Григорий невольно прислушивался к стуку своего сердца, глухо бившемуся в широкой груди, кровь мощными толчками пульсировала по жилам, отдаваясь в виски. Широкие ладони, крепко охватившие рычаги управления, потели, и он поминутно вытирал их о комбинезон.
Ленька приник к пулемету, слившись с ним в единое целое, как будто целился в невидимого противника, готовый в любую секунду нажать спусковую скобу.
Заряжающий Илькут чему-то про себя улыбался довольно странной улыбкой – одной стороной лица, что было не похоже на него, всегда добродушно настроенного. Да и весь его вид не располагал к приятному разговору.
Вслушивающийся в тишину в наушниках Петр Дробышев сидел, насупившись, весь уйдя в себя, похожий в своем черном обмундировании на галку, которая вот-вот взлетит при малейшем звуке.
Долгий рассвет тоже наступал крошечными порциями. Вначале на востоке забрезжила робкая заря, едва подсветив иссиня-аспидное небо над лесом, потом немного зарозовевшая кайма стала медленно наплывать на лесной массив, отжимая блеклые серые тени, и вот уже по вершинам сосен блеснул первый солнечный лучик, заиграл золотыми искрами в дождевых каплях, похожих на росу.
Когда первый снаряд с пугающим свистом пронесся над головами, будто распарывая небесное полотно надвое, все вздохнули с облегчением: и танковые экипажи, прильнувшие к триплексам, и красноармейцы, неудобно примостившиеся на броне танков.
– Вперед! – хрипло заорал Дробышев, словно не надеясь на ларингофон, вложив в этот крик всю энергию, которая накопилась за последние минуты перед атакой. – Больше ход! – И тут же с мальчишеским азартом, совсем не свойственным его угрюмому характеру, вновь закричал: – Жми, Гришка!
Взрывая гусеницами податливую, напитанную водой землю, танки, выстроившись в боевую линию с интервалом метров двадцать пять, быстро спускались по пологому холму к подножью высоты, имевшей стратегическое значение, которую необходимо было занять в кратчайшие сроки.
Там на высоте уже часто вздымались черные фонтаны, и оранжевый огонь, окутанный серым пеплом и дымом, блестящим лезвием пронзал предутреннюю мглу. Это был самый настоящий ад на земле. Но немцы тоже не молчали и под шквальным огнем советской дальнобойной артиллерии впопыхах огрызались, лупили из пушек в сторону приближавшихся советских танков.
В какой-то момент снаряд разорвался прямо по курсу, почти впритирку перед танком Григория, и он физически ощутил всю его мощь – взрывной волной танк качнуло так, что если бы не стиснутые зубы, он точно бы прикусил себе язык. В лобовую броню ударили крупные оковалки земли, ошметки грязи.
– Врешь, не возьмешь! – с веселым упрямством орал Гришка, ловко лавируя между разрывами. – Мазилы чертовы!
Он хорошо понимал, что открытая пологая местность, по которой сейчас двигались их танки, простреливается вдоль и поперек и спрятаться среди голого склона с редкими кустами мелкого боярышника некуда. Но еще в начале атаки, когда Гришка выехал из укрытия в лесу, он в одно мгновение успел охватить зоркими глазами поле предстоящего боя, запомнить ориентиры, где можно укрыться. А укрыться можно было, только спустившись вниз, где располагалась лощинка и неглубокий овражек, переходящий в балку. Туда он теперь и стремился.
– Осколочный! Без колпачка! – сквозь шипение и звуки разрывов бубнил в шлемофоне хриплый голос лейтенанта Дробышева, и спустя пару секунд донесся ответ заряжающего Ведясова:
– Осколочный! Готов!
И вновь раздался хриплый голос командира, но уже обращенный к механику-водителю:
– Меньше ход!
Григорий сбавил обороты, танк резко замедлил скорость, и тотчас раздался выстрел из пушки. Железная махина дернулась, изрыгая смертоносный подарок в сторону фашистской линии обороны.
– Влево! Недолет! – с сожалением доложил Гришка командиру и прибавил скорость, чтобы не попасть под ответный огонь. Следующий снаряд угодил точно в цель, как детскую игрушку опрокинул орудие вверх колесами, взрывом разметал орудийную прислугу. Гришка видел, как фашистский расчет, поднятый взрывной волной, посеченный осколками вместе с земляными комьями разлетелся в окружности метров на десять. От земли поднялся в закопченное небо черный дым, заволакивая то, что еще могло остаться от этих недочеловеков. Не скрывая охватившей его радости, Гришка доложил в ларингофон ликующим голосом: – Верно! Цель подбита!
Ленька повернул к нему сияющее лицо, показал большой палец.
Солнце поднялось над лесом, но ненамного. Оно еще касалось самых высоких сосен, но воздух уже успел слегка прогреться, в низину змеиным хвостом вполз белесый туман, скрыв от глаз Григория овражек и примеченную им лощинку.
Природа без должного почтения относилась к людским судьбам, дождь и теплые испарения от сырой земли сделали свое черное дело, ни капли не заботясь о том, что исход боя в какой-то мере мог зависеть от нее. Впрочем, и люди так же относились к природе-матушке. Они без меры начиняли землю металлом, бездумно уничтожая взрывами величественные красоты гор, лесов, лугов, огромные пространства первозданной природы, коверкая в своей ненависти друг к другу все то прекрасное, что могло хоть как-то оказать положительное влияние на человеческие души и тем самым положить конец ужасной войне.
«Не ко времени туман, ой, не ко времени», – с тяжким сожалением подумал Гришка, когда его танк нырнул внутрь плотного молочного облака, разом лишив его нужных ориентиров. В распаренное лицо через приоткрытый люк тотчас брызнули освежающие мелкие водянистые капельки, и перед глазами впереди танка заплясали сияющие разноцветные звездочки клубившегося тумана.
Он, конечно, мог продолжать двигаться прямо, вслепую, рассчитывая на то, что немецкая артиллерия его тоже не видит. Но робкие надежды на войне не имеют под собой крепких оснований и не всегда оправдываются. Тем более в отличие от него, окутанного туманной мглой, как непроницаемым коконом, фашисты на высоте находились в более выгодных условиях. Им не надо было разглядывать танки внизу, они просто били шквальным огнем из всех орудий по колышущему в низине молочному сгустку, в котором заблудились неприятельские танки, ослепленные неожиданно упавшим туманом.
Снаряды с каждой секундой ложились все ближе, все яростнее становился огонь вражеской артиллерии: немцы торопились использовать выгодную ситуацию на полную мощь, не дожидаясь, когда советские танки вновь выйдут на видимый простор и накроют их позиции ответным огнем.
Григорий сбавил скорость, стараясь нащупать ту самую лощинку, которая вела к мелкому овражку, переходящему в балку, и по ней выйти немцам в тыл. Чтобы ощутить гусеницами тяжелого танка пологую лощинку, не прозевать ее, надо было иметь высокую квалификацию. От нечеловеческих усилий, связанных с перенапряжением, у Григория на переносице выступили капельки пота, темные обветренные руки побелели до крайности, словно были перепачканы в муке, из прокушенной нижней губы мелким ручейком бежала кровь. Тут обостренный слух Григория отчетливо расслышал громкие протяжные голоса: «Ура-а! За Родину! За Сталина!».
Это неожиданно вступила в бой пехота, как видно, рассчитывавшая под покровом тумана добраться до передовой линии немецкой обороны и тем самым вывести из-под шквального огня танки.
«Зря это они, – мимоходом подумал Григорий, болезненно поморщился, душой переживая за неопытного Славика. – Держись, зема!»
И в этот момент Григорий каким-то седьмым чувством, не иначе как данным свыше, – видно, не зря мать ему иконку Николя Чудотворца с собой положила – понял, что он в лощинке, даже расслышал, как ему показалось, негромкий плеск воды ручейка, стремительно бегущего по дну.
– Поворот вправо! – доложил он командиру и в двух словах объяснил ему свой план.
Дробышев моментально сориентировался в новой обстановке, дал команду стрелку-радисту передать взводному о своих действиях.
– Сокол, Сокол, я Гранит! – волнуясь, закричал в рацию Ленька. – Вправо иду по оврагу в тыл противника. Я Гранит, прием!
– Гранит, я Сокол, – отозвался их взводный капитан Петрачев, – идем за вами, включи задние огни, прием!
Григорий пялился в сгустившийся туман с такой силой, что со стороны было страшно глядеть на его вытаращенные глаза. Казалось, что еще секунда-другая, и они вывалятся наружу.
Ленька испуганно бросал на механика-водителя косые взгляды, но молчал, зная, как невыносимо трудно Гришке в эту минуту.
Танк двигался медленно, равномерно раскачиваясь, будто плывущая по волнам лодка. Время от времени траки оскальзывались, крутясь вхолостую, царапая суглинок гусеницами с намотавшимися на нее комьями вязкой глины. Григорий вел танк с превеликой осторожностью, сильно переживая за исход боевого рейда, рискуя не выехать из балки, которая мигом станет для его взвода западней. А уж если немцы случайно узнают о столь безрассудном маршруте бесшабашных русских танкистов, то им всего лишь стоит подбить головной танк, и тогда ловушка точно захлопнется.
У Григория от волнения пульсировала синяя жилка на виске. Он прислушивался к себе, стараясь интуитивно, но больше по звуку мотора, по сцеплению гусениц с поверхностью, определить самое выгодное место, где без опасения застрять можно будет выехать из балки. Судя по времени и скорости передвижения, они должны были находиться позади немецкой батареи или, в крайнем случае, с левого фланга.
Туман поредел, но совсем не рассеялся, была надежда на то, что они все-таки успеют незаметно выбраться из балки наверх, где уже ничто им не помешает атаковать фашистские позиции. Гусеницами левого борта Григорий наконец почувствовал пологий склон, покрытый мелкими камнями подсушенной ветрами пористой земли. Преодолеть этот небольшой участок для танка труда не составляло.
– Поворот влево! – с облегчением сказал в переговорное устройство Григорий. – Выбираемся из балки!
Лейтенант Дробышев, похоже, тоже переволновался, потому что, когда давал указания стрелку-радисту, у него настолько сильно пересохло горло, что он едва просипел слова.
– Сокол, Сокол, я Гранит! – вновь принялся кричать в рацию Ленька, подрагивая своим щупленьким тельцем от возбуждения. – Идем вверх, атакуем неприятеля с тыла! Я Гранит, прием!
– Гранит, я Сокол! Вас понял! – моментально отозвался взводный капитан Петрачев, весьма довольный, что их опасный до безрассудства рейд завершится скоро и, по всему видно, ожидаемым успехом. – Атакуем неприятеля!
Педантичные по характеру немцы и мысли не могли допустить, что советские танки рискнут подобраться к их позициям со стороны балки, настолько узкой, что там не только нельзя развернуться, но, по их рациональной мысли, и проехать невозможно. Поэтому когда из балки, скрытой остатками сизого тумана, вдруг как из преисподней, натужно ревя мощными моторами, вырвались прямо к артиллерийским позициям несколько танков, на ходу стреляя из пушек, поливая все живое вокруг огнем из пулеметов, фашисты, оказавшиеся в непосредственной близости, от охватившего их мистического ужаса даже не стали сопротивляться, а поспешно подняли дрожащие руки.
Григорий с ходу раздавил не успевшую вовремя уехать бронемашину, проутюжил окопы с залегшей пехотой, затем наехал на поверженное дальнобойное орудие, и его танк гордо застыл, поводя башней по сторонам, выискивая новую цель.
Красноармейцы, прижатые на склоне плотным огнем неприятеля, поспешно вскочили и побежали к высоте, закрепляя успех, во все горло осатанело крича:
– Ура-а-а!
Глава 4
Небольшой участок земли, обозначенный на фронтовой карте как высота 33,3, после ожесточенного боя выглядел до того жалко, что у слабохарактерного человека от его вида невольно наворачивались горестные слезы. На что уж Гришка успел наглядеться за полтора года войны всякого и малодушием не страдал, но и он страшно кривил черное от копоти лицо с грязными потеками пота на щеках, стоя на вершине холма, на броне своего танка, страдальческими глазами оглядывая местность.
Дерн с кое-где пробившейся молодой травкой на самой макушке холма был начисто выворочен взрывами, и обнаженная земля, начиненная острыми металлическими осколками от снарядов и гранат, была перемешана в черную крутую грязь, будто перемолотая огромными жерновами. Глубокие, в полный рост обвалившиеся окопы с длинными бугорками осыпавшихся брустверов, обтянутые колючей проволокой, тянулись вдоль и поперек высоты, словно морщины на лице старого человека, а дымившиеся воронки, густо испятнавшие пологий склон по обе стороны холма, выглядели как рябая испорченная внешность у больного после выздоровления от оспы.
Опрокинутые взрывами советской артиллерии и раздавленные советскими танками, валялись немецкие орудия, еще недавно грозные и неприступные. И всюду на земле в самых необычных позах лежали трупы немцев. Восточный же склон высоты, откуда шло наступление советских войск, был усеян трупами наших бойцов.
В разных местах горели четыре танка Т-34. Один танк с зияющей в башне оплавленной пробоиной стоял поперек, другой с разорванной гусеницей кособоко притулился у кустов боярышника. Механик-водитель и заряжающий, не успевшие покинуть подбитый танк, лежали в разных местах на броне, убитые немецкими пулеметчиками. У третьего танка была снесена башня, которая валялась неподалеку. И лишь у четвертого танка не было заметно каких-либо видимых повреждений, кроме охваченных огнем полупустых баков с горючим и кормой. Горел он жарко, черная копоть, клубясь и сворачиваясь в спираль, с бушующим ревом поднималась к небу.
На поле боя серыми тенями бродили красноармейцы похоронной команды, собирая убитых. По их неторопливым и расчетливым движениям чувствовалось, что они привыкли к своим неприятным обязанностям и спешить им, собственно, было некуда.
– Спите спокойно, парни, – пробормотал Григорий, губы у него задрожали, и он, скорбя по погибшим товарищам, медленно стянул свой шлемофон, застыл, понуро свесив голову, глядя ввалившимися, красными от перенапряжения глазами на валявшуюся в грязи возле гусениц покореженную фашистскую каску с черной свастикой в белой окружности. – Мы отомстим.
Опираясь на руки, из башенного люка выбрался Илькут. Мельком посмотрев на Григория, он молча разместился на башне, удобно свесив ноги в пыльных сапогах. Неторопливым движением стянул с головы шлемофон, устало вытер тыльной стороной ладони запотевший лоб, затем провел рукой по мокрым волосам и посмотрел в низкое небо, на плывущие рваные облака, в просветы которых время от времени выглядывало весеннее солнце.
– Хорошо, – сказал он негромко, не поворачивая головы, как будто обращаясь к самому себе, но явно с расчетом отвлечь Гришку от горестных мыслей, помолчал и вновь продолжил, мечтая вслух: – После войны обязательно стану пчеловодом, заведу пасеку и буду бесплатно снабжать медом всю округу. А ульев у меня будет по числу наших погибших на войне товарищей.
– Много же тебе потребуется ульев, – рассеянно ответил Григорий. – Так и земли не хватит.
– А это ничего, Гришенька, – проникновенно сказал Илькут, и Григорий по его голосу безошибочно определил, что заряжающий Ведясов лишь делает вид, что духом он крепкий, а на самом деле ему так же плохо, как и Григорию, а может, и во сто крат хуже. – Государство поможет, не может оно не понимать, что не для себя я стараюсь, а для всех советских людей. А вы с Ленькой и командиром будете приезжать ко мне в гости, а я вас буду угощать нашим мордовским необыкновенно вкусным медом. Такого меда, как у нас, больше нигде в Советском Союзе нет, – хвастливо заявил Илькут, и его широкое лицо расплылось в довольной улыбке. – Сам убедишься.
– А ведь мы с тобой, можно считать, земляки, – немного оживился Григорий, понимая, что жизнь продолжается и не все дела еще поделаны, чтобы скорбеть душой без конца; так и самому недолго оказаться в числе покойников. – Раньше на нашей тамбовской земле жили ваши мордовские племена. А потом вы ушли дальше на восток, а мы поселились на освободившихся землях. У нас даже мордовские названия остались, Моршанск, Пичаево, река Цна, и еще много других.
– То-то я думаю, что это мы с тобой так сразу подружились! – засмеялся Илькут, щуря на друга слегка раскосые, опушенные белесыми ресницами глаза. – У тебя самого лицо круглое, будь здоров. Нашенское лицо, родное!
Глядя на ухмыляющуюся физиономию друга, Григорий нервно хмыкнул раз, другой и вдруг оглушительно громко захохотал, запрокинув голову, но как-то невесело, с надрывом, как будто через силу.
Из люка механика-водителя по пояс высунулся Ленька, все это время находившийся внутри, с недоумением уставился на товарищей.
– Прекращайте ржать, – сказал он с превеликой досадой и, болезненно поморщившись, отвернулся, когда мимо на брезенте двое красноармейцев проволокли по грязи обгоревшие тела погибших танкистов. – Совесть поимейте, пожалуйста.
Интеллигентный, чувствительный Ленька, обладавший тонкой душевной организацией, так и не смог привыкнуть к смерти товарищей, гибель их всегда принимал чересчур близко к сердцу.
– Семи смертям не бывать, – довольно холодно ответил вдруг посерьезневший Григорий, – а одной не миновать. Сегодня их хоронят, – он кивнул себе за спину, очевидно, подразумевая танкистов, чьи трупы только что проволокли, – а завтра нас будут хоронить. Теперь что же, раньше времени махнуть рукой на свою жизнь? Нет уж, дорогой наш товарищ Ленька, мы с Илькутом на это не подписывались. Будем продолжать жить и радоваться до тех пор, пока нас самих вперед ногами не отнесут и не закопают в какой-нибудь подходящей для этого дела воронке. А все время горевать, так и сердце себе можно надорвать, а оно, чай, не железное, разорвется на мелкие части, не успеешь и фашистам как следует отомстить за все беды, которые они натворили на нашей земле. Верно я говорю, Илька?
– Куда уж вернее, – охотно согласился с другом Ведясов. – По мне, так лучше уж умереть за правое дело от разрыва бронебойного снаряда, а не от разрыва сердца, как какая-нибудь жеманная гимназистка. Вот я и тороплюсь успеть пожить на белом свете на всю катушку. Ну-ка, Гришка, сыграй что-нибудь жизнеутверждающее на своей трофейной гармонике!
Не сводя хмурого, но уже начинавшего заметно теплеть взгляда с Ленькиного бледного лица, Григорий молча вынул из кармана губную гармошку, обтер ее о комбинезон на груди, выбрав более-менее чистое место, деловито облизал шершавым с белым налетом от грубой пищи языком сухие потрескавшиеся губы и прижал к ним музыкальный инструмент.
Над полем боя, где недавно безраздельно хозяйничала смерть, без разбора выкашивая ряды бойцов с той и другой стороны, неожиданно раздались протяжные чарующие звуки. На всех оставшихся в живых солдат повеяло чем-то далеким, но таким родным и душевным, что каждый, – будь то красноармеец или солдат вермахта, – в этот миг почувствовал себя частицей этого огромного светлого мира. Бойцы на минуту замерли в самых живописных позах, в которых их застигла необычная музыка. Они слушали, затаив дыхание, не шелохнувшись, словно боясь, что своим неосторожным движением могут как-то на нее повлиять и она оборвется так же внезапно, как и началась. Казалось, что сама природа в это время притихла, очарованная звуками.
Высокий молодой немец с пустыми глазами, одетый в грязную прожженную на спине шинель, сидел на лафете опрокинутого орудия. Возле него валялся покореженный снарядом пулемет. Опираясь локтями на острые колени, обхватив обнаженную голову со светлыми спутанными волосами растопыренными темными от пороха пальцами, он монотонно раскачивался. О чем думал этот сдавшийся в плен фашист, на что надеялся, придя на чужую землю с захватническими целями?
К нему с наганом в правой руке тяжело подошел танкист с обожженным лицом; левая щека, подверженная нервному тику, дергалась у него с пугающей периодичностью, а еще он время от времени контуженно дергал головой, будто указывал человеку куда-то в сторону. Он тоже слышал протяжные звуки губной гармошки, но, судя по его суровому непроницаемому лицу и поведению, особого чувства к музыке не испытывал.
– Поднимайся, – сказал он хриплым надтреснутым голосом и грубо пихнул фашиста сапогом в спину. – Шнель!
Молодой немец испуганно вскочил, вытянув руки вверх, с ужасом глядя на небритого с прокопченным угрюмым лицом русского танкиста, который смотрел на него тяжелым, немигающим взглядом.
– Пошел, – танкист стволом нагана указал фашисту направление и вновь поторопил: – Шнель, шнель!
Когда проходили мимо отдыхавших прямо на мокрой земле куривших пехотинцев, один из них, пристроившийся тощей задницей на немецкой каске, равнодушно спросил:
– Куда ты его?
– Это он, сволочь, моих братов из пулемета положил, – зло ответил танкист и от волнения несколько раз подряд дернул головой, – когда они подбитый танк покидали.
Пехотинец сочувственно вздохнул, пыхнул самокруткой, разгоняя ладонью у сморщенного лица густое облако едкого дыма, тоже со злобой сказал:
– В распыл его, суку.
У глубокой воронки танкист резко ткнул фашиста наганом в спину. Последние метры тот едва плелся на непослушных ногах, как видно, давно уж догадавшись, куда его ведут; ноги у него подломились, и немец сполз на дно воронки.
Он смотрел оттуда вверх на своего конвоира полными ужаса глазами, вытягивал дрожащие руки на всю длину, быстро-быстро бормотал:
– Гитлер капут, камрад! Гитлер капут!
С презрением глядя на унижающегося врага, который даже смерть не может принять достойно, а сразу обделался так, что запах достиг практически бесчувственного обожженного носа танкиста, он с отвращением сказал:
– Жидок ты, вражина, на расправу оказался. Так зачем же ты к нам пришел, кто тебя звал сюда? Жил бы у себя в Германии до ста лет, да и жил бы. Пил бы свое баварское пиво да жрал бы свои баварские сосиски.
– Гитлер капут, – как заведенный твердил фашист, вытаращив глаза так, что больше было уже некуда, и дрожал. – Гитлер капут.
– Сам знаю, что капут, – согласился танкист и стремительно, несколько раз, видно, все-таки сжалившись, выстрелил ему в голову, чтобы не мучился.
Фашист опрокинулся на спину, широко раскинул руки, конвульсивно выскреб каблуком сапога неглубокую ямку и затих, прикусив кончик вмиг посиневшего языка.
– Не надо было приходить, – буркнул танкист, сунул наган за голенище сапога, широкими шагами направился разыскивать пехотного капитана.
Горькое чувство недовольства собой, злую досаду испытывал этот человек, потерявший в бою очередной танк и половину экипажа. Надо было теперь идти на поклон к командиру полка, чтобы его – опытного вояку, горевшего не раз в танке, – не отправили воевать простым пехотинцем, а временно до прихода новых танков определили в мастерскую-летучку. Но сейчас было не время выдвигать свои условия, а надо было воевать там, где особо нуждались в людях. Утром, когда шли в атаку, он своими глазами видел, сколько полегло красноармейцев, и немцы обязательно предпримут контратаку, чтобы отбить оставленную высоту. У него не было никаких сомнений на этот счет, и он торопился разыскать капитана, зная по опыту, что сейчас дорог каждый человек как боевая единица.
Капитана Жилкина он отыскал на дальнем участке пологого склона, где особенно много полегло при наступлении пехотинцев. Тот стоял возле носилок, которые держали две худенькие медсестры в зеленых, подпоясанных ремнями ватниках и теплых штанах, с перекинутыми через плечо санитарными сумками с красными крестами посредине. На головах у девушек по-весеннему были надеты пилотки, прикрепленные к темным волосам заколками. Их слабосильные руки, цепко охватившие тонкими испачканными в земле пальцами отполированные тысячами ладоней рукоятки носилок, заметно дрожали от напряжения.
Жилкин задержался рядом с ними, по всему видно, встретившись по дороге, когда уже возвращался на высоту.
На носилках, неестественно вытянувшись во весь рост, лежал молодой красноармеец. На его цветущих губах пузырилась розовая пена, а из уголка приоткрытого рта с видневшимися внутри оранжевыми зубами темным бугристым валом медленно вытекала густая кровь. Парень силился что-то сказать, задыхался, хрипел, кашлял, вздрагивая телом и выгибая от боли спину.
Низко склонившись над раненым бойцом, Жилкин прислушивался к его слабому голосу.
– Товарищ капитан… это мой земляк… Гришка… играет, – говорил с короткими перерывами парень, едва заметно улыбаясь. – Мы с ним… ночью… перед боем… познакомились. Слышите, товарищ капитан? Вы передайте ему… что я раненый… но живой. Пускай он… не переживает. Помню… когда я маленький был… мама мне тоже… свирель на день рождения… подарила. Я знаю, что он играет… на губной… гармошке… но это все равно… на пастушью свирель… похоже. Он молодчина… мой друг.
– Товарищ капитан, – не выдержав, с укоризной обратилась к Жилкину вторая медсестра, наблюдавшая за этой сценой и испытывающая жалость к страдающему парню, – не мешайте нам выполнять свою работу. Нам надо срочно доставить раненого красноармейца в санчасть.
Жилкин послушно выпрямился, взял горячую руку парня в свою широкую ладонь, а другой ладонью накрыл сверху, с искренним сочувствием наказал ему выздороветь в кратчайшие сроки.
– Ты давай, Каратеев, лечись там, впереди нас Берлин ждет. Без тебя нам никак не справиться.
Увидев, как благодарно блеснули его глаза, Жилкин ободряюще подмигнул и осторожно, чтобы не причинить излишнюю боль, удобно расположил руку парня на носилках, затем стал по стойке «смирно» и четко отдал ему честь.
– Советская страна гордится тобой, рядовой Каратеев!
Стараясь ступать в ногу, что у них никак не выходила по причине накопившейся за долгое время боев усталости, девушки осторожно понесли тяжелораненого бойца в санчасть, заметно покачиваясь, время от времени оступаясь.
Жилкин проводил их горестным взглядом, испытывая щемящее чувство при виде широких голенищ их тяжелых сапог, которые были довольно велики и болтались, даже несмотря на теплые штаны.
– Товарищ капитан, – окликнул его со спины танкист, терпеливо дожидавшийся, когда он освободится, – разрешите обратиться?
Жилкин стремительно обернулся, уставившись сухими, ввалившимися от постоянного недосыпа глазами на чумазого, перепачканного в мазуте и солярке пожилого танкиста.
– Обращайся, – разрешил он и протяжно вздохнул, как видно, не совсем еще отойдя от разговора с раненым бойцом, который буквально вчера был у них ротным запевалой, имел громовой, как у сельского архиерея голос, а теперь лишь икал, поминутно схлебывая теплую сукровицу. – Говори, танкист, не томи.
– Без танка я остался, – с какими-то обреченными нотками в голосе сказал танкист и, багровея, сморщил свое и без того обезображенное огнем лицо, что однозначно говорило о том, что вынужденный разговор не доставлял ему удовлетворения, а говорил он, пересиливая себя, – и без экипажа.
– Твой? – спросил Жилкин, кивком указав на дымившийся танк, где на броне недавно лежали погибшие танкисты.
– Мой, – глухо ответил танкист и исподлобья тяжелым взглядом посмотрел на капитана. – Приказывай, куда мне определяться до распоряжения моего командования. Знаю, с бойцами у тебя большая прореха.
– К сержанту Потехину иди, скажешь, что от меня. Вон он копошится на вершине. Будешь у него вторым номером возле бронебойного ружья. Тебе привычно вражеские танки подбивать, заодно и за парней отомстишь.
– Кое-кому я уже за братов вязы свернул, – буркнул танкист, повернулся и, сгорбившись, размашисто зашагал к немецким окопам на высоте, где обустраивал свою огневую точку бронебойщик Потехин.
* * *
Григорий продолжал с чувством играть, стоя на танке, рассеянно глядя по сторонам. Все так же сидевший на башне Илькут слушал его с прикрытыми глазами, безвольно свесив между колен руки со сплетенными толстыми пальцами. В эту минуту он, должно быть, мысленно находился у себя на родине где-нибудь в мордовских лесах, потому что медленно покачивался вперед-назад и с видимым удовольствием, не открывая рта, мычал под Гришкину мелодию что-то свое, народное. Ленька Бражников задумчиво отошел к кусту вербы, сорвал гибкую веточку с проклюнувшимися зелеными почками и теперь заинтересованно ее рассматривал.
Низкие облака, подгоняемые ветром, уплыли далеко на запад, небо на восточной стороне постепенно стало чистым, но земля на высоте по-прежнему находилась в серой тени от дыма, клубами поднимавшегося от горевших советских танков. В теплом прогретом воздухе удушливо пахло горелой резиной и соляркой.
Григорий увидел коренастую фигуру капитана Жилкина. Он тяжело поднимался по склону, направляясь в его сторону. Каска болталась у него на поясе. Григорий оборвал на печальной ноте музыку, с охватившим его волнением стал наблюдать за подходившим капитаном, интуитивно чувствуя, что неожиданный визит связан, по всему видно, со Славиком.
Не услышав музыки, перестал мычать и Илькут. Открыв глаза, он с недоумением взглянул на Гришку, потом проследил за его взглядом и медленно поднялся, не сводя тревожных глаз с капитана.
– Гриша, что-то случилось? – спросил он вполголоса.
Григорий, не оборачиваясь, молча пожал плечами.
Жилкин шел торопливо, поминутно бросая исподлобья на Григория хмурые взгляды. Не дожидаясь, когда он подойдет настолько близко, что можно будет разговаривать с ним обычным голосом, Григорий поспешно сунул гармошку в карман комбинезона, спрыгнул с танка и пошел навстречу, стараясь еще издали по его глазам угадать о том, что капитан намерен сказать.
– Здорово, маэстро, – сказал, подходя, Жилкин, невесело улыбаясь одними глазами, и как старому знакомому охотно протянул небольшую, но крепкую ладонь, чувствительно сдавив широкую Гришкину кисть.
– С добром пришли, товарищ капитан, аль как? – сразу спросил Гришка, испытующе заглядывая в его глаза, отсвечивающие сухим, как у больного человека, нездоровым блеском.
– Тут с какой стороны поглядеть, – неуверенно ответил капитан Жилкин и скрюченными пальцами озадаченно поскреб свой тугой потный затылок. – Ранен твой землячок, тяжело ранен, но живой. Так что я добросовестно исполнил его волю, что просил твой дружок, то и передал.
– Товарищ капитан, – сказал Григорий голосом, в котором вдруг появились металлические нотки, – мнится мне, что-то вы недоговариваете. Выкладывайте все начистоту, раз уж заделались парламентером.
– Дело тут такое, сразу и не уразумеешь, – помолчав, ответил Жилкин и с тяжелым вздохом, низко опустив голову, со злостью пнул носком сапога попавшуюся ему на глаза немецкую гильзу от крупнокалиберного пулемета. – Возраст у него молодой, – сказал он сильно морща лицо, будто страдая от зубной боли, – может, все и обойдется, легкие у него пробиты.
Григорий по опыту знал о тяжелых, а часто печальных последствиях таких ранений и от бессилия чем-либо помочь доброму и наивному в своих незамысловатых рассуждениях новообретенному другу, который еще и жизни-то настоящей не видел, заскрипел зубами, непроизвольно сжав кулаки.
Жилкин грустно взглянул на него, сочувственно хлопнул по крутому плечу и, не проронив больше ни слова, направился к немецким окопам на вершине, где копошились его пехотинцы, по-хозяйски обустраиваясь на новом месте, готовясь к обороне.
С минуту постояв в тяжком раздумье, Григорий ожесточенно сплюнул и, как видно на что-то решившись, торопливо вернулся к танку.
– Илька, – сказал он озабоченно, – мне надобно смотаться в санчасть. Земляка своего проведать, разузнать, как там да чего.
– Да ты сдурел, Гриша! – моментально отреагировал на его слова Ведясов, округлив глаза, и непроизвольно сделал суматошные движения руками, словно отталкивая от себя Григория. – Дробыш узнает о твоей самодеятельности, он из тебя душу вынет. Самоуправство со всеми вытекающими. А то ты не знаешь?
– Дальше фронта не пошлют, – запальчиво сказал Григорий, – больше смерти не присудят. Навещу земляка и тотчас вернусь. Если командир спохватится меня, скажи, что до ветру ушел.
Григорий артистично схватился за живот, страдальчески сгорбился и побежал рысцой за кусты ближайшего боярышника, рассчитывая за его укрытием добраться до леса, где располагалась санчасть. Но не успел он в таком неудобном положении одолеть и половину пути, как вдруг из-за того самого злосчастного куста вышел сам Дробышев, застегивая на ходу ширинку. Увидев перед собой командира, Григорий растерялся, по инерции сделал несколько нерешительных шагов, быстро соображая, как удобнее соврать, чтобы не навлечь на себя справедливый гнев начальства. Не придумав ничего лучшего, он остановился, опершись на свои колени, продолжая нарочно глубоко дышать, равномерно приподнимая широкие плечи.
– Михайлов, – окликнул Дробышев, приняв близко к сердцу его мучительный вид, сильно переживая за здоровье своего механика-водителя, – эка тебя скрючило беднягу!
– Живот что-то скрутило, товарищ лейтенант, – ответил, болезненно морщась, Григорий. – Не иначе как понос.
– Ну, иди-иди, не ровен час, в штаны обделаешься, – поторопил его Дробышев, тая в уголках сухих обветренных губ улыбку. – Я подожду.
Он отошел шага на два в сторонку, вынул из кармана подаренный неизвестной девушкой потрепанный кисет, некогда красиво расшитый с вышитыми в уголке словами «Бойцу Красной Армии от работницы тыла!» и принялся ловко сворачивать цигарку, продолжая говорить:
– Надо нам, Гришка, закрепиться на этой высоте, так что придется выкапывать капонир. Сегодня фашисты вряд ли нас атакуют, нет у них такой привычки, чтобы на ночь глядя воевать, они народ практичный и зря на рожон не полезут. Горячее время завтра настанет. – И в нетерпении воскликнул, видя, что Григорий не спешит в укромное место за кусты: – Так какого же лешего ты стоишь?
В связи со сложившимися новыми обстоятельствами далее ломать комедию не имело смысла, Григорий с видимым облегчением выпрямился.
– Кажется, отпустило. Такое чувство, как вроде вновь народился.
Дробышев внимательно пригляделся к нему, недоверчиво произнес:
– Сдается мне, Михайлов, что мутишь ты что-то. А вот что, никак не пойму. Ты баламут известный.
– Напрасно вы, товарищ лейтенант, меня в чем-то подозреваете, – поспешил оправдаться Григорий, напустив на себя оскорбленный вид, но сильно довольный в душе высокой оценкой своего закаленного в боях неунывающего характера.
– Бабушка сказала, посмотрим, – многозначительно произнес Дробышев, доверительно приобнял Григория за плечи. – Пойдем, Михайлов, копать капонир.
Все это время Илькут и Ленька сидели на башне, удобно расположившись, как на трибуне амфитеатра, и с превеликим удовольствием наблюдали такую интересную картину. Открыто выражать свой восторг они опасались, чтобы не попасть под горячую руку Петра Дробышева. Временами командир был настолько крут, что лучше было держаться от него подальше во избежание непредвиденных для себя последствий от его сурового и нелюдимого характера. Поэтому парни изо всех сил старались не выказывать своего веселого настроения: они раздувались от смеха, пыжились, до боли лихорадочно стучали кулаками по броне, чтобы хоть как-то разрядить комичную ситуацию и не расхохотаться на виду у лейтенанта.
Но всякому терпению приходит конец, и, когда Дробышев по-дружески приобнял растерянного Григория, парни не выдержали, спрыгнули с танка на землю по другую сторону и, спрятавшись за броню, принялись громко хохотать, поминутно выглядывая из-за башни.
…Место для капонира выбирали всем экипажем. Выбирали долго, прикидывая расстояние до деревьев, видневшихся за дальними холмами, откуда должны были наступать фашисты, намечали ориентиры. Но последнее слово все-таки осталось за Григорием. Михайлов остановился, по его разумению, на самом удобном месте, у кустов без меры разросшейся вербы, немного на спуске, где издалека заметить спрятавшийся замаскированный танк практически было невозможно.
– Товарищ лейтенант, – сказал Григорий, удовлетворенный осмотром и своим выбором, – обзор у нас будет замечательный. Немцы как на ладони будут видны в отличие от нас. Да и опять же овраг под боком, если в контратаку пойдем, можно опять им финт ушами сделать…
– Опять хочешь рейд по балке устроить? – посмеиваясь, спросил Дробышев. – Вряд ли это вновь пройдет, немцы теперь ученые.
– А мы им, товарищ командир, тогда что-нибудь новенькое придумаем, – сказал Ведясов, с удовольствием потирая ладони, будто готовясь у себя на мордовском празднике Сабантуе к схватке с противником на кулаках. – У нас, сами знаете, за этим дело не заржавеет. Леня, я верно говорю?
– Ну, это само собой, – охотно поддержал товарища Бражников и величественно развел руками, они переглянулись и вновь оглушительно захохотали, очевидно, вспомнив недавнее растерянное лицо Григория.
– Отставить смех! – строго прикрикнул на парней Дробышев. – Лопаты в руки и за дело… пока энергия в вас кипит.
После этих слов новый взрыв хохота заряжающего и радиста-стрелка потряс теплый, провонявший бензином воздух. Взгляд Петра Дробышева моментально сделался мрачным, ничего хорошего не обещая расшалившимся парням.
С опаской поглядывая на командира, Илькут с Ленькой, быстро взяли штыковые лопаты, поспешно направились к вербам, не дожидаясь, когда командир рассвирепеет окончательно. Но по дороге они все равно продолжали дурачиться, заговорщицки толкая друг друга плечами, всхлипывая от сдерживаемого смеха.
– Как дети малые, – с досадой пробормотал Дробышев, проводив их долгим взглядом.
И хоть смотрел он сурово и неприступно, Гришка заметил в его темных глазах усмешливые искорки, означавшие, что на парней он не в обиде и за любого из них готов сложить свою голову.
– Смешинка в рот попала, и уже никакие они не бойцы, а самые настоящие раздолбаи, – все же сказал он с раздражением, отчаянно махнул рукой и направился за ними, держа лопату посреди черенка, как копье.
Посмеиваясь, Григорий закинул лопату на плечо, пошел следом, невольно прислушиваясь к негромкой матерщине раздосадованного командира. От ее замысловатой витиеватости, которой с необыкновенным искусством владел бывший шахтер, он лишь удивленно покачивал головой.
Не знавшая плуга целинная земля на вершине оказалась глинистой, слежалась за века настолько плотно, что отколупывалась мелкими комьями, размером не больше спичечного коробка.
Первым вонзил в землю острие лопаты слабосильный Ленька Бражников и тотчас разочарованно присвистнул, поочередно оглядывая членов экипажа округлившимися глазами.
– Да тут экскаватор нужен.
– Вот что значит технически подкованный человек, – сказал Ведясов, хитро прищурив свои и без того узкие глаза так, что на их месте остались лишь две крошечные щелочки. – Все бы ему технику применить, совсем руками не хочет работать. Другие вон трудятся и ничего, нюни никто не распускает.
Он величественным жестом повел по сторонам, указывая на танкистов их полка, которые возились в разных местах холма, прямо на глазах углубляясь в землю, как большие кроты, и некоторые из них уже успели выкопать по колено.
– Экскаватор справился бы в тысячу раз быстрее, – упрямо повторил Ленька, как видно, не собираясь сдавать свои позиции технически отсталому Илькуту, привыкшему ковыряться у себя в Мордовии в земле. – Вот в чем дело.
