Читать онлайн Собиратель реликвий бесплатно
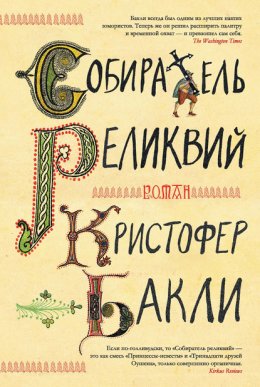
Christopher Buckley
The Relic Master
© 2015 by Christopher Taylor Buckley
© В. А. Шумов, перевод, примечания, 2020
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2020
Издательство ИНОСТРАНКА®
* * *
Анне Спрингс Клоуз, с любовью
Даже зуб собаки излучает свет для тех, кто ему искренне поклоняется. Предмет поклонения наделен силой…
Айрис Мердок. Море, море. Перевод М. Лорие
При нынешней испорченности нравов тот папа может считаться благонравным, который не превосходит своей порочностью других…
Франческо Гвиччардини. История Италии. Том 2. Перевод М. Юсима
Рим, 2017 год
В папской гробнице XVI века обнаружен саван, «идентичный» туринской плащанице
Ватикан, 28 августа
При реставрации гробницы папы Льва X в римской базилике Санта-Мария-сопра-Минерва найдено полотно, поразительно напоминающее Туринскую плащаницу, которую многие считают погребальным саваном Иисуса Христа.
Находка обнаружена две недели назад, однако до сих пор от Ватикана не поступило никаких заявлений или комментариев, благодаря чему множатся разнообразные домыслы. Слух о находке разнесся незамедлительно, и теперь толпы паломников и любопытствующих осаждают обычно тихую базилику.
Источник в Ватикане, пожелавший остаться неизвестным, сообщает, что находка представляет «существенную проблему». Он также добавил, что остается неясным, как обнаруженный холст, обладающий удивительным сходством с Туринской плащаницей, попал в гробницу Льва.
Папа Лев X, представитель династии Медичи, скончался в 1521 году. Этот понтифик периода протестантской Реформации, согласно характеристике, данной ему в XX веке одним из исследователей, был «вальяжен и ленив, как персидский кот». Из-за своей безудержной распущенности и порочности он не пользуется уважением представителей официальной церкви, а его ошибочная тактика в отношении протеста Мартина Лютера против продажи индульгенций послужила толчком движению Реформации, в результате которого Европа на полтора столетия погрузилась в пучину межконфессиональных конфликтов.
По сообщениям наших корреспондентов, папа Франциск выразил «крайнюю озабоченность» фактом обнаружения еще одной плащаницы в усыпальнице своего предшественника. Исторически позиция Католической церкви в отношении самой знаменитой христианской святыни всегда была двусмысленно-осторожной: подлинность плащаницы формально не признавали, но и не отрицали.
После того как в 1988 году результаты радиоуглеродного анализа подтвердили, что Туринская плащаница изготовлена примерно в 1260–1390 годах, Ватикан официально объявил полотно подделкой, однако вместе с тем заявил, что плащаница тем не менее достойна почитания на правах «символа», и официально утвердил несколько приписываемых ей чудесных исцелений.
Несмотря на это, многие христиане продолжают считать Туринскую плащаницу подлинной, а результаты радиоуглеродного анализа ошибочными, и появление еще одной плащаницы, практически идентичной Туринской, представляет для них не меньшую проблему, чем для официальной Церкви.
Ватиканская Конгрегация по канонизации святых – подразделение Папской курии, занимающееся верификацией и охранением священных реликвий, – объявила сегодня, что поручает монсеньору Сильвестру Прангу (О. И.) «доскональное и тщательное исследование» так называемой плащаницы Льва Х.
Член ордена иезуитов Сильвестр Пранг защитил докторскую диссертацию по клеточной и молекулярной физиологии в Йельском университете. По заявлению Ватикана, взять интервью у доктора Пранга можно будет после публикации отчета, ожидаемой в следующем году.
Часть первая
1. Базель, 1517 год
Дисмас, может, и прикупил бы фалангу святого Фомы, однако справедливо усомнился в продавце.
Начать с того, что запрашиваемая цена была непомерно низкой. Фаланга пальца, вложенного в рану свежевоскресшего Христа, запросто ушла бы за сорок, а то и за пятьдесят гульденов. Продавец же просил всего пятнадцать. Подозрения Дисмаса усилились, когда, обнюхав кость, он не учуял благоуханного аромата. Настоящие мощи непременно ласкают обоняние. И наконец, вопросы вызывал предлагаемый ассортимент: язык (цельный) Антония Падуанского, мирница с молоком Богородицы, камень из scala santa – лестницы Пилатова дворца, пучки соломы из sacra incunabulum – святых яслей в Вифлееме, а вдобавок – стружка с вериг святого Петра. Подозрительно широкий выбор.
Исходя из опыта, Дисмас был склонен больше доверять поставщикам, специализирующимся в определенной сфере. Например, на реликвиях времен Великого гонения. Или на brandea – предметах, находившихся в непосредственном контакте с членами Святого семейства. Реликвии, имевшие отношение к святой Анне – матери Непорочной Девы, нынче были особенно в ходу.
Самым же красноречивым свидетельством стало то, что, когда Дисмас, поблагодарив продавца, собрался уходить, тот немедленно сбросил цену до пяти гульденов. С каждым годом на Базельской ярмарке святынь подобное бесстыдство встречалось все чаще и чаще.
На Рыночной площади, у подножия новой Ратуши с ее прекрасными разноцветными аркадами, Дисмас огляделся. Вокруг бурлила торговля. Палаток и навесов тут было, наверное, триста с лишком.
Два соседствующих ларька рекламировали шипы Тернового венца. Дисмас улыбнулся про себя: не самое удачное расположение. В последние годы экспонентов значительно прибавилось, и торговцы размещались как могли. Предзакатный ветерок трепал флажки и зазывные холстины. На одной предлагался Спас Нерукотворный, на другой – убрус, еще на одной – стопа Магдалины (цельная). Цельные конечности всегда продавали с особой наценкой.
На северной стороне площади, у рыбных рядов, очень удачно расположилась жемчужина сезона – рыбацкая шаланда, принадлежавшая, как уверяли, святому Петру в его доапостольские, галилейские рыболовные дни.
Положение Дисмаса в сообществе перекупщиков реликвий обеспечило ему доступ на закрытый показ. Начальная цена в три тысячи гульденов была экстравагантной, даже если бы артефакт был аутентичным, в чем Дисмас сильно сомневался. С лупой в руках он, к ужасу продавца, полез под днище, где и обнаружил поражения, типичные для личинок солоноводного древоточца. Отряхиваясь, он с укором посмотрел на продавца:
– Странно, не правда ли? Следы заражения морским древоточцем на пресноводном рыболовном судне.
Маклер прокашлялся и отвечал, что, видите ли, лодка немного постояла в Средиземном море, в Иоппии, перед тем как… эмм… быть погруженной на корабль до Марселя.
– Хм. Ну что ж, спасибо, что позволили взглянуть.
Досадно, думал Дисмас, лодка могла бы украсить двор Замковой церкви Виттенберга. Или клуатр Майнцского собора. Покупатель-то для нее найдется. Какой-нибудь новоиспеченный богемский дворянин богато раскрасит ее и запустит в ров. Со временем она ему надоест, и его чада начнут разыгрывать на ней знаменитые морские баталии. В конце концов она прогниет и затонет, а хозяин станет говорить, что с самого начала сомневался в ее подлинности.
Размеру артефактов нынче уделялось все больше внимания. В прошлом году англичанин по имени Арнульф Тьюксберийский доставил в Базель аж три верблюжьих мумии, уверяя, что это те самые верблюды, на которых волхвы привезли в Вифлеем свои дары – смирну, золото и ладан. Дисмас тогда еще шутливо полюбопытствовал, почему Арнульф не привез заодно и Путеводную звезду. Ситуация и вправду выходила за всякие рамки.
Который год подряд приезжает он на ярмарку святынь? Первый раз – в 1508 году. То есть почти десять лет назад. От этой мысли он почувствовал себя стариком, ибо, что ни говори, неумолимая арифметика подсчетов означала, что ему уже, увы, за тридцать.
Он вспомнил, как в первый раз стоял на этой площади, практически на этом самом месте. Палаток и балаганов тогда было вчетверо меньше. Кто бы мог представить такой бурный рост! Беспрецедентный взрыв популярности пришелся на 1513 год, настоящий annus mirabilis[1], а последние четыре года оказались для Дисмаса почти до неприличия прибыльными. И все благодаря горячему желанию (а вернее – сладострастному вожделению) двух его главных заказчиков, стремящихся во что бы то ни стало приобрести как можно больше реликвий.
Дисмас купил у разносчика жареную колбасу и кружку пива, отыскал тенистое местечко и сверился с перечнями заказов.
Перечень от Фридриха включал четыре дюжины позиций. Альбрехтов, как обычно, был намного обширней – почти три сотни. Альбрехт, хотя он ни за что бы в этом не признался даже Дисмасу, своему главному поставщику, всеми силами пытался обойти Фридриха, чья коллекция насчитывала свыше пятнадцати тысяч святынь. Дисмас вздохнул. Велико было искушение управиться с делом одним махом, ухнув весь бюджет Альбрехта в байдак святого Петра. В отличие от Альбрехта, перечень Фридриха, как и следовало ожидать, выдавал куда более разборчивого покупателя. Фридрих искал качество, Альбрехт – количество.
«Св. Варфоломей – челюстные фрагменты, зубы, фрагменты черепа (лицевая сторона)».
Фридрих был одержим святым Варфоломеем. Ненасытно. В его коллекции уже имелось более сорока мощей апостола, включая кожу лица целиком. Варфоломей проповедовал христианство, и за это его заживо освежевали по приказу армянского царя. Теперь апостольский эпидермис красовался в Виттенберге, в усыпанном драгоценностями ковчеге.
Касательно маниакальной страсти Фридриха к Варфоломею существовали разные теории. Одна объясняла это тем, что Варфоломей покровительствует переплетчикам, а Фридрих был известным библиофилом. Более дерзкая теория объясняла это снобизмом, ибо из всех апостолов Варфоломей был единственным благородных кровей, хотя никаких подтверждений этого в Писании Дисмас найти не смог. Порой, когда Фридрих был в подходящем расположении духа, Дисмас подтрунивал над ним по этому поводу.
В списке Фридриха присутствовала и святая Афра. С ней всегда было непросто, с этой Афрой. Фридриха она интересовала в рамках его текущего увлечения германскими святыми. Начинала она проституткой в римском храме Венеры – там, где ныне стоит Аугсбург. Потом приняла христианство. Когда она отказалась отречься от своего нового бога, ее увезли на остров посреди реки Лех, привязали к столбу и уморили дымом. Фридрих хотел заполучить ее мощи, потому что Афра была мученицей времен Великого гонения, устроенного Диоклетианом, а диоклетиана издавна была его страстью.
Дисмас редко предлагал Фридриху какую-то конкретную реликвию, если только речь не шла о чем-то крайне необычном или эффектном. Познания Фридриха в данной сфере были широки и академичны. Он начал собирать святыни в 1493 году, во время паломничества в Святую землю, и всегда четко знал, чего хочет. К счастью для Дисмаса, хотел он немало. На сегодня его коллекция уступала лишь ватиканской, насчитывавшей порядка двадцати шести тысяч предметов. Но в том, что касается святынь, конкурировать с Ватиканом просто не имело смысла.
Тем не менее Дисмас подозревал, что Фридрих все-таки пытается конкурировать с Римом. Ну а в том, что Альбрехт конкурировал с Фридрихом, сомнений не было вовсе. В отличие от Фридриха, Альбрехт легко поддавался внушению, особенно если товар был, что называется, у всех на слуху. Когда в моду вошли славянские мученики IV века, Альбрехт срочно откомандировал Дисмаса прочесывать побережье Адриатики, с тем чтобы полностью захватить новый рынок. Фридрих же был выше этих суетливых метаний. Фридрих сам задавал тон.
Дисмас вернулся к перечню.
Святая Агата, покровительница кормилиц. Молодая и красивая сицилийка, девственница, которую возжелал римский консул. (Невзрачным христианкам, которых никто и никогда не домогался, невероятно повезло.) Агата дала консулу от ворот поворот и была предана в руки палачей. Ей отрезали груди, которые чудесным образом выросли снова. В ярости консул приказал зажарить ее на углях. Фридриху хотелось заполучить сосок, но за недоступностью сгодилась бы и любая другая часть Агаты.
Потратив месяцы на поиски, Дисмас доложил Фридриху, что предложение сосков Агаты нулевое. Однако ему удалось обнаружить оплавленное золотое колечко, которое, как утверждалось, было у нее на пальце, когда она приняла свой ужасный, но святоносный конец на мангале в Катании, в лето двухсот пятидесятое от Рождества Христова.
Что же до святой Афры, с ней тоже пришлось порядком повозиться. В конце концов удалось обнаружить фрагмент ее пателлы. Учитывая, сколько сил и времени потратил Дисмас на исполнение этих двух заказов, можно было запросить комиссионные больше обычных. Но Дисмас не стал этого делать, хотя запросто выставил бы тройную цену на заказ, поступивший от Альбрехта.
Дисмас сверился с перечнем Альбрехта. Оружие. Альбрехт был падок до ножей, кинжалов, топоров – словом, до всего, что использовалось для причинения святых мук. Одним из его главных сокровищ был молоток, которым приколотили к кресту стопы и кисти Иисуса.
Артикул: «Маврикий – меч». Тот самый меч, которым усекли голову святого Маврикия – Фивейского легионера. Во время карательной операции против взбунтовавшихся гельветов полководец приказал своим солдатам принести жертвы римским богам. Маврикий и другие новокрещенцы из числа легионеров воздержались. Командир приказал устроить децимацию – казнь каждого десятого легионера. Не самый эффективный способ поднять боевой дух в разгар кампании. Когда новокрещенцы снова отказались, децимацию провели повторно. После третьего отказа полководец приказал перебить весь легион.
Найти меч было непросто, но Дисмас был в добрых отношениях с одним торговцем из Санкт-Галлена, который сообщал ему, что, возможно, удастся раздобыть, по крайней мере, обломок крыжа.
Дисмас двинулся дальше по перечню Альбрехта. Как – опять? Да, так и есть, еще одна стрела святого Себастьяна. Альбрехт питал особую слабость к вероотступникам из числа римской солдатни. В этой категории святой Себастьян был образцом совершенства и правил безраздельно. Вдобавок он состоял в Преторианской гвардии – личной охране императора Диоклетиана. С Себастьяном получилось забавно, ибо расстрельную роту лучников он как раз и пережил. Возможно, они сжалились над ним и целились мимо жизненно важных органов. А когда император узнал, что его бывший телохранитель по-прежнему жив (хоть и основательно перебинтован, надо полагать) и продолжает христианские богослужения, он в бешенстве приказал рубить того на куски, пока не помрет окончательно и бесповоротно, а потом бросить в Большую Клоаку – римский сток для нечистот. Себастьяновы стрелы всегда пользовались спросом, и не только у Альбрехта. За годы своей карьеры охотника за святынями Дисмас видел их столько, что хватило бы на всю римскую армию.
Дальше в перечне стоял предмет, которым некогда бряцал еще один римский вояка. Копье Судьбы. Дисмас вздохнул.
Раз за разом он терпеливо втолковывал архиепископу, что «единственное и истинное» Копье Судьбы достать попросту невозможно. Да, лавки торговцев реликвиями ломились от «единственных и истинных» копий судьбы – их были десятки, сотни. Однако, как Дисмас уже отмечал, наконечник того самого копья, которым с наибольшей долей вероятности был проколот бок Христа, находится в подземелье собора Святого Петра. В Риме. С 1492 года, когда константинопольский султан Баязид подарил реликвию папе Иннокентию VIII, дабы несколько умалить склонность понтифика к Крестовым походам. Дисмас сказал Альбрехту, что нет ни малейшей надежды, что Лев X – нынешний папа – согласится расстаться с таким сокровищем. С другой стороны, зная Льва, есть шанс, что он может согласиться на продажу копья. Но заломит астрономическую цену. Все это Дисмас объяснил Альбрехту, но тот в ответ лишь выразил сомнение в том, что ватиканское копье – это действительно настоящее Копье Судьбы. Иначе говоря, добудь мне копье, любое копье.
В Базеле Дисмасу за неделю предложили по меньшей мере десять «единственных и истинных» копий судьбы. За одно из них просили всего двадцать пять гульденов. Какой вздор. Дисмас слишком уважал себя, чтобы пойти на такое, даже ради соблазнительной возможности раз и навсегда вымарать Копье Судьбы из перечня Альбрехта.
За годы торговли реликвиями Дисмас ни разу не купил и не продал ни одной заведомой подделки. Разумеется, имея дело с реликвиями, невозможно быть абсолютно уверенным в провенансе. Никогда доподлинно не знаешь, действительно ли перед тобой большой палец святого Контумация Сурского или железный прут от жаровни, на которой заживо запекли святого Лаврентия. Остается лишь блюсти профессиональную честь и отвечать самому себе на определенные вопросы. Источает ли реликвия благовоние? Прошла ли она ордалию? Приносила ли чудесные исцеления? И наконец, позволил ли сам святой ухищение своих мощей из предыдущей обители, в профессиональной среде называемое «перенесением»? В этом была своя логика. Святые живы духом и после смерти. Ни один из них не допустит, чтобы его мощи были перенесены из одних рук в другие, если сам не пожелает такого перенесения.
Весьма полезным было знать, насылал ли святой наказание за неуважительное обращение с его мощами. Именно так поступил, к примеру, святой Амфиан: он наслал паралич на молодую женщину, которая присела помочиться у его гробницы. Ей пришлось сидеть в унизительной позе до тех пор, покуда весь город во главе с епископом не вымолил у святого прощение.
Таким образом, любому уважающему себя охотнику за святынями оставалось полагался лишь на собственные здравомыслие и добропорядочность. И как это ни прискорбно, в последнее время расплодились жулики, шарлатаны, искатели и торговцы с самыми сомнительными репутациями. Прибыло их сверх всякой меры и здесь, в Базеле.
Дисмас поделился своей печалью с мастером Шенком – главным распорядителем ярмарки святынь. Шенк согласился: да-да, разумеется, все это весьма прискорбно. И предложил Дисмасу, благо тот пользовался уважением среди коллег, выступить на эту тему перед участниками ярмарки. Шенк пообещал все организовать. Дисмас сможет поделиться своими тревогами с другими маклерами и торговцами в заключительный день ярмарки, во время прощального приема, между стаканчиком вина и сырной закуской.
Хитрец Шенк хлопнул Дисмаса по спине и улыбнулся. Блестящая идея.
Дисмас остался один, мысленно сокрушаясь, что позволил загнать себя в ловушку. Выступать на тему профессиональной этики? Перед этим сборищем? С тем же успехом можно проповедовать целомудрие в борделе. Но делать было нечего.
Дисмас уныло поплелся в сторону Ратуши.
– Дисмас?
– Маркус! Ты ли это?
Они обнялись так крепко, как обнимаются только мужчины, которым довелось сражаться плечом к плечу. Их последней совместной битвой стал разгром под Чериньолой, где они дрались на стороне французов. Испанцы уступали им в численности, но принесли на поле брани нечто новое, ужасное и шумное под названием «порох».
Когда все было кончено, из отряда в девяносто бойцов уцелело лишь шестнадцать человек, включая Дисмаса и Маркуса. Трупы их товарищей остались лежать посреди поля, провонявшего гарью и пропитанного кровью. Доспехи погибших были странным образом изрешечены, из дыр сочилось. Дисмас счел это знамением близящегося конца света, оставил карьеру наемника и принял постриг в первом же монастыре.
– Как тебя сюда занесло? – воскликнул Дисмас. – Надеюсь, не мощами промышляешь?
– Боже упаси! – скривился Маркус. – Помогаю одному толстозадому банкиру охранять его золотишко. А после этого с меня хватит. Поеду домой. В кантоны. Деньжат-то поднакопил. Найду там себе краснощекую девку с большими титьками и ляжками белее сливок.
– Для этого дела ты уже староват, – рассмеялся Дисмас.
– Староват? Да у меня болт крепче арбалетного! А ты-то что тут делаешь? – Маркус оглядел старого друга с головы до ног и сказал с подозрением: – Выглядишь не бедно. Признавайся-ка, кого пустил по ветру? Боже милостивый, только не говори, что заделался одним из этого отребья! – Он показал себе за спину, на толпу торговцев мощами.
– Именно. И буду тебе признателен, если ты не станешь называть меня отребьем. Я порядочный человек.
– Порядочный! Коробейничаешь щепой Креста Господня? Молоком Богородицы? Отвечай, сколько ты выручил за свою бессмертную душу?
– Посмотрите на этого сторожа золотой кубышки! Я человек уважаемый.
– Погоди, ты ведь подался в монахи…
– Было дело. График работы не устроил.
– Ну ладно, – сказал Маркус. – Я готов слушать твои россказни, но выпивка за твой счет.
– Слушай, мне тут в одном месте надо речугу толкнуть. Давай встретимся позже. Выпивку я обеспечу. Как обычно. Потому что уж твои-то россказни можно слушать, только основательно надравшись.
– Речугу толкнуть? Перед этим сбродом? О чем ты собираешься им вещать? О методах разграбления могил?
– Представь себе, о реформе. В нашем деле. Про которую они слушать не захотят. Может, тебе есть смысл пойти со мной, сегодня мне охрана не помешает.
– У меня есть чем заняться, кроме как слушать твою нагорную проповедь. Давай до вечера. «Красный боров». Рядом с башней Святого Альбания.
Настроение Дисмаса заметно улучшилось, однако радость быстро испарилась, когда он вошел в шумный и душный зал, где галдели сотни торговцев реликвиями. Мероприятие было закрытое, вино и пиво лились рекой.
Шенк завидел его и подошел. От частых и неумеренных возлияний лицо распорядителя ветвилось красными прожилками, словно спелое яблоко. Он был в прекрасном расположении духа: объем сделок в этом году снова вырос, побив прошлогодний рекорд. Шенк постучал молотком, чтобы утихомирить собрание, похвалил присутствующих и объявил, что ярмарка прошла успешно и что ему приятно находиться среди стольких старых и новых друзей. «От этих новых друзей одни неприятности», – подумал Дисмас.
Затем Шенк заговорил о большой ответственности, которая лежит на представителях сообщества.
– И вот именно на эту тему перед нами выступит одна небезызвестная персона, и даже не персона – персонаж! – фыркнув, произнес он и довольно захрюкал над собственным остроумием. – Персонаж, которого все хорошо знают, уважают и ценят повсеместно, а особенно там… – Скрючив большой палец, он потыкал за спину, на север.
Дисмас шагнул вперед, надеясь положить конец этим разглагольствованиям, но благодушие Шенка, подогретое вином, было неукротимо. Он продолжал заливаться про «Дисмаса-персонажа, Дисмаса-легенду, поставщика святынь ко двору его преосвященства архиепископа Бранденбургского и Майнцского Альбрехта, поставщика святынь ко двору курфюрста Саксонии Фридриха Мудрого, а до этого – Дисмаса-бойца из числа швейцарских наемников-райзляуферов».
– Поэтому сердить его не советую, иначе он отрежет вам яйца! – предупредил Шенк.
– Я сейчас тебе яйца отрежу, если не заткешься и не сядешь на место, – сказал Дисмас под раскаты смеха.
Однако же Шенк не унимался, продолжая потчевать собрание рассказами о том, как Дисмас начинал свой путь в ремесле, о его пребывании в Святой земле, о том, как он стал первым, кому удалось раздобыть скелет одного из младенцев, умерщвленных солдатами Ирода, причем с полным набором косточек. Слушатели негромко переговаривались и уважительно кивали.
– Этот скелет находится теперь в коллекции Фридриха в Виттенберге, – добавил Шенк и перешел к годам, проведенным Дисмасом в катакомбах под Римом. – Этот кашель! Вы слышали, как он кашляет? – Шенк воспроизвел кашель Дисмаса. – Это кашель римских катакомб!
Одобрительный гул, аплодисменты.
Не выдержав, Дисмас положил руку Шенку на плечо:
– Я считаю, наш старина Шенк – самая истинная реликвия на ярмарке.
Смех в зале.
– Внимание, – сказал Шенк, – сейчас нам прочтут назидание, поэтому наполните-ка поскорей стаканы и прикройте руками уши!
Дисмас понимал, что нет никакого смысла рассказывать про этические аспекты ремесла пьяной ораве с кошельками, полными гульденов. Лучше всего просто сказать…
– Итак, коллеги, год у нас с вами выдался хороший, поэтому предлагаю за это и выпить. Но в будущем давайте хотя бы попытаемся, хоть самую малость, помнить о том, что призвание у нас особое, по сути – сакральное призвание, так что…
Перед ним простиралось море стекленеющих взоров.
Дисмас с трудом выдавливал из себя слова:
– Как братство профессионалов, мы… мы… – (На него таращились пьяными глазами.) – Словом, мы должны блюсти определенные стандарты, вот и все.
Тишина. Недоумевающие взгляды. Господи, о чем он вообще?
Дисмас втянул в себя воздух:
– На этой неделе я видел несколько артефактов, которые, если говорить откровенно, не отвечают самым высоким стандартам.
– Если ты так трясешься над своими стандартами, то что можно сказать про твоего Тецеля? – крикнул кто-то из толпы.
Одобрительный рокот голосов.
– Это не мой Тецель, – ответил Дисмас. Тецеля он ненавидел всей душой, но тут надо было аккуратно подбирать слова. – Можете взять его себе.
Кое-где в зале раздались смешки. Торговля индульгенциями волновала всех.
– Он работает на твоего архиепископа Альбрехта!
Дисмас примирительно воздел руку:
– Мой Тецель? Мой Альбрехт? Дружище, что прикажешь делать мне, если архиепископ Майнцский нанимает брата Тецеля, чтобы тот продавал для него индульгенции? Я всего лишь торговец мощами, как и вы. Мощи привлекают паломников. Паломники приносят деньги. Это наш бизнес, мы сами его выбрали.
– Вот и славно! – выкрикнули откуда-то. – Но если угодно читать мораль на тему стандартов – читай ее Тецелю.
– Читать мораль? Монаху-доминиканцу?
Смех.
– Не он ли заявлял, что его индульгенции вызволят из чистилища любого, даже того, кто посягнет на Непорочную Деву?
Все притихли. Мысль о плотских утехах с Богородицей возымела отрезвляющее действие.
– Если Тецель говорил что-то подобное, то ему самому нужна индульгенция, – ответил Дисмас. – А мне срочно нужна выпивка, пока вы, засранцы, не вылакали все до капли.
Человек, приставший к Дисмасу с расспросами, проводил его до дверей. Выяснилось, что его зовут Витранелли, он родом из Милана и специализируется на минеральных реликвиях: кусочки Крестного пути, по которому Иисус шел на смерть, камень, на который Он наступил перед тем, как вознестись на небо, булыжники, которыми побивали святых… В почтительной манере Витранелли объяснил, что допытывался не из дерзости, а лишь потому, что мастер Дисмас наверняка не станет отрицать, что торговля индульгенциями по всей Европе и особенно в Бранденбурге – возмутительна.
Миланец казался добрым малым. Дисмас ответил ему, как один профессионал – другому.
– Поверьте, меня тошнит от Тецеля. Но что я могу сделать? Он работает на Альбрехта. Альбрехт – мой заказчик. Важный заказчик. Вы читаете своим заказчикам нотации касательно их работников?
Витранелли пожал плечами, как типичный миланец:
– Меня беспокоит, что Тецель погубит всю нашу торговлю. Рано или поздно кто-нибудь скажет: «Довольно! Настало время выгнать менял из храма, почистить конюшни…» И что тогда с нами со всеми будет?
Дисмас кивнул. Сам он все это понимал. Другой его важнейший заказчик, Фридрих Саксонский, считал омерзительным бесстыдный сбыт индульгенций Альбрехтом и Тецелем. Фридрих не позволил Тецелю заниматься торговлей на саксонской земле, но Тецель открыл лавочку в двух шагах от границы. Фридрих пришел в бешенство, но поделать ничего не смог: Тецель, действуя на территории Бранденбурга, находился под протекцией Альбрехта.
Витранелли выразился в том смысле, что Фридрихово «омерзение» есть не что иное, как зависть под маской напускного благочестия. Папа Лев издал буллу, дающую Альбрехту право торговать индульгенциями (разумеется, половиной выручки следовало делиться с Римом). Помимо того, булла аннулировала продажу индульгенций на всей остальной территории Священной Римской империи, включая и земли Фридриха. Теперь, чтобы выкупить себя или близких из чистилища, необходимо было приобрести индульгенцию именно у Альбрехта. Тем не менее все остальные, и Фридрих в их числе, продолжали продавать индульгенции, однако их индульгенции, не имея официальной санкции Рима, считались совершенно бесполезными. Это тот еще бизнес!
Дисмас признал справедливость замечания синьора Витранелли касательно продажи индульгенцией Фридрихом, как ни больно было соглашаться с уроженцем Милана в дискуссии об этике. Он обратился к нему доверительным тоном:
– Вам наверняка известна сложившаяся ситуация. Бранденбурги, семейство Альбрехта, жаждут власти. Как можно больше власти. Они пытались вытребовать архиепископский чин для крошки Альбрехта, но Альбрехту тогда было всего двадцать три, слишком нежный возраст согласно каноническому праву. И что же? Они все-таки получили папское произволение в обход церковного устава! Но такое произволение, – продолжал Дисмас, – стоит кучу денег. Поэтому они отправились к аугсбургскому банкиру Якобу Фуггеру. Фуггер ссудил деньги. Произволение было приобретено. Потом появилась возможность прикупить Майнцское курфюрство. Это уже серьезная власть – место одного из семи князей-выборщиков Священной Римской империи, решающих, кто будет императором. Желая заполучить и этот титул для крошки Альбрехта, Бранденбурги снова отправились к Фуггеру за золотишком. На этот раз им понадобилась двадцать одна тысяча золотых дукатов. И теперь Альбрехту нужно продавать индульгенции, причем продавать помногу и ударными темпами, чтобы расплатиться с Фуггером по ссудам. В результате появился брат Тецель со своим балаганом. Предполагалось, что папа римский употребит свою половину выручки от продаж индульгенций Альбрехтом на перестройку собора Святого Петра, в мраморе и с огромным куполом. – Дисмас улыбнулся. – Но как у вас в Милане, так и у нас здесь всем прекрасно известно, что у папы есть и другие статьи расходов: любимый слон-альбинос Ганно, охотничьи виллы, банкеты, увеселения и сопутствующие им услады плоти, рядом с которыми Петрониев «Сатирикон» покажется великопостным затворничеством. В итоге – все работают на Фуггера.
– Который германец, – заметил Витранелли с ноткой триумфа в голосе.
– Да, германец, – согласился Дисмас. – Я и не утверждаю, что корыстолюбие – исключительно итальянская черта. Но имел ли это в виду Господь, говоря «ступайте и множитеся»? – Он пожал плечами. – Это уже вопрос для богословов, а не для зачуханного торговца костьем вроде меня.
Синьор Витранелли с улыбкой признал, что, несомненно, пути Божественной благодати не доступны людскому пониманию. Придя к этому выводу, собеседники снова наполнили стаканы и выпили.
– А что касается германского стяжательства, – сказал Дисмас, – то, разумеется, у них есть Фуггер. Да, Фридрих являет свои реликвии публике. Да, люди платят деньги за честь поклониться им. И покупают индульгенции. И убеждают себя в том, что это сократит их пребывание в чистилище. Но деньги, которые Фридрих зарабатывает на индульгенциях, он тратит на строительство университета и замковой церкви, а не на слонов и банкеты. Университет же сто́ит того, чтобы на него взглянуть. И вот что я вам скажу, синьор: и Фридрих, и остальные правители германских земель с каждым днем все с большей неохотой отправляют свои гульдены и дукаты на другую сторону Альп, папе Льву Десятому, чтобы помочь тому рассчитаться за весь его мрамор.
– А много у Фридриха реликвий?
– Тысяч пятнадцать. Возможно, больше.
Витранелли состроил уважительную мину:
– Солидный заказчик. А у вас ведь еще и второй есть!
– Я не жалуюсь. Они оба очень разные. Для Альбрехта реликвии лишь способ извлечения выгоды. Фридрих же любит святыни ради святынь. И когда я разыскиваю для него что-то, я… – Он расплылся в улыбке. – Я не люблю слово «миссия»; поверьте, три года в Святой земле кого хочешь от него отучат. Просто, когда я ищу что-то для Фридриха, у меня возникает какое-то благостное чувство… А с Альбрехтом все иначе… Я не знаю, как это объяснить. Я пьян, коллега.
Витранелли поднял кружку:
– За святые косточки.
– За святые косточки, – повторил Дисмас под стук олова.
А потом отправился в «Красный боров», разыскивать Маркуса.
2. Рейн
Из Базеля Дисмас двинулся в Майнц. Он предпочел бы поехать сперва в Виттенберг, через Нюрнберг, и таким образом навестить своего друга Дюрера, провести приятный вечерок-другой в любимом борделе «Сады Эдема», выспаться в собственной постели, а потом продолжить путь в Виттенберг, ко двору Фридриха, но Альбрехту не терпелось как можно скорее заполучить свои приобретения, о чем он известил Дисмаса. Так что сначала пришлось отправляться в Майнц.
Путешествие вниз по Рейну было не особенно утомительным, если бы не бесконечная череда самозваных сборщиков дорожных податей, требовавших плату. Дисмас зафрахтовал ялик с просторным грузовым отделением и нанял четырех коренастых гребцов-швабов: в это время года воды в реке мало и течение не такое шустрое. Маркус согласился составить Дисмасу компанию. Что ж, человек с его навыками в дороге никогда не помешает. Если попутный ветер продержится, а швабы не станут отлынивать, то не пройдет и недели, как они будут в Майнце.
Под конец первого дня пути Дисмас и Маркус сидели на юте и смотрели на восточный берег. Солнце все еще заливало бронзовым светом прибрежную листву, за которой темнела хвойная чащоба Шварцвальда.
– Нужно было все же купить Петрову плоскодонку для твоего архиепископа, – говорил Маркус, протирая арбалет промасленной ветошью. – Тогда не пришлось бы нанимать это корыто.
Дисмас хмыкнул:
– Вряд ли архиепископу понравились бы морские черви.
Маркус с помощью краникена натягивал тетиву арбалета.
– Было время, – сказал Дисмас, – когда ты взводил его не кряхтя, будто старый дед с недельным запором.
– Заткнись и правь своей шлюпкой, умник.
Маркус продолжал крутить ручку краникена. Тетива натягивалась, пока не вошла в зацеп ореха. Дисмас хорошо помнил этот арбалет. Маркус не желал расставаться с любимым оружием. Под Чериньолой, перед тем как испанские аркебузиры открыли огонь и все понеслось в тартарары, именно из этого арбалета он сделал воистину чудесный выстрел через все поле, засадив болт прямехонько в прорезь забрала капитану испанских кавалеристов. Между прочим, капитан на всем скаку несся в атаку!
Помимо того, Маркус был чрезвычайно ловок и проворен с перезарядкой. Не успеешь и сосчитать до пятидесяти, как он уже посылал в цель три болта. С пикой и алебардой у него тоже получалось неплохо. И с палицей, и с топором, и с мечом. Да и вообще с любым оружием – Дисмас видел его в деле.
– Надеюсь, в отличие от дряблых жил, с глазами у тебя пока все хорошо? – спросил Дисмас, привычно подтрунивая над приятелем.
Маркус вскинул арбалет на плечо и направил его в сторону восточного берега, в половине фурлонга от лодки. Дисмас не мог разглядеть, куда именно он целился.
Маркус надавил на спусковой рычаг. Тетива со щелчком высвободилась. Болт, свистнув, понесся вперед. Спустя миг металл ударил по древесине, послышались голоса. Маркус опустил арбалет и самодовольно ухмыльнулся. Дисмас повернул руль к берегу, в направлении выстрела.
Показался маленький рыбацкий поселок с церквушкой. Голоса становились все громче. Кучка селян стояла на берегу, потрясая кулаками и инструментом. Немного погодя Дисмас повернул лодку бортом к берегу. Причаливать к толпе разгневанных пейзан не было смысла. Он приказал швабам сушить весла, но не расслабляться.
Теперь можно было разобрать, что кричали с берега. Их обзывали чертями, исчадьями ада, богохульниками, жидами.
– Маркус! Что ты натворил?
Маркус указал на часовню. Сперва Дисмас ничего не понял. А потом разглядел:
– О господи!
Арбалетный болт торчал в центре деревянного креста на крыше часовни. Точно посередине, на пересечении вертикали и поперечины.
– За работу, – приказал Дисмас швабам. – Живо.
Селяне бежали вдоль берега и швырялись камнями. К ним присоединился и священник.
Дисмас выправил на середину реки. Крики постепенно затихли. Опускались сумерки.
– Кто там насмехался над моим зрением?
– Ты греховодник. Как можно выбрать церковь в качестве мишени?!
– Заметь, с движущегося судна.
– За святотатство отправляют на костер. Чего ради ты такое удумал?!
– Ну а тебе-то что? Ты в этих краях важная птица.
– Я официальный поставщик святынь ко двору архиепископа Майнцского и Бранденбургского. Как ты думаешь, что он скажет, когда услышит, что по пути к нему я стрелял по церквям из арбалета?
Дисмас продержал швабов на веслах затемно. Швабы ворчали и требовали приплаты.
На ночь они встали на якорь у западного берега. Съели холодный ужин из колбасы, сыра и хлеба. Потом Дисмас и Маркус лежали на палубе, накрывшись медвежьими шкурами, передавали друг другу бутылку бренди и смотрели в ночное небо.
– Я не особо религиозен, – сказал Маркус.
– Я заметил.
– А ты превратился в набожную старуху. Не хватает только черной шали и четок на шее.
– Раньше ты был богобоязненней. Всегда, бывало, перекрестишься перед сражением. И во фляжке у тебя была святая вода. Однажды ты ее даже выпил.
– Так ведь жажда мучила!
– Все равно это кощунство. Ничего удивительного, что ты докатился до стрельбы по церквям.
– Теперь в моей фляжке бренди.
Они молча смотрели на звезды.
– Моя богобоязнь осталась под Чериньолой, – вздохнул Маркус.
– Отринуть Бога из-за пороха?! Да Господь с самого Сотворения мира, в мудрости своей, поставляет нам средства для взаимного истребления: ослиные челюсти, пращи, мечи, арбалеты… Так почему вдруг не порох? Может, Господу просто не терпится, чтобы мы как можно скорее перебили друг друга. И тогда настанет конец света. Да и Всевышнему меньше забот – не надо нас убивать.
– Ты когда-нибудь читал Библию?
– Да, конечно. На латыни. Ну, кое-какие места.
– А что делать тем, кто не знает по-латински?
– Так ведь священники рассказывают, о чем написано в Библии.
– А почему у нас не может быть Библии на немецком?
– Ну, потому что ни Моисей, ни Иисус, ни остальные по-немецки не говорили.
– Ну и хрень же ты несешь, Дисмас.
– Да не знаю я, черт возьми, почему нам не разрешают Библию на родном языке. Должна же быть какая-то причина. А, пусть в этом богословы разбираются. И вообще, Маркус, стрелок-то ты хороший, но дремучий ужасно.
– Ладно, доктор богословия, тогда объясни-ка мне про эти индульгенции.
– Ну, тут все просто. Индульгенции позволяют сократить срок, назначенный нам в чистилище после смерти. Купить их можно у Церкви. За один дукат, в зависимости от текущего рыночного курса, тебе скидывают, скажем, пятьдесят лет в чистилище. Покупать индульгенции можно как для себя лично, так и для своих близких. Что тут непонятного-то?
Маркус покачал головой, а Дисмас продолжал:
– И с реликвиями так же. Если поклониться определенной святыне или совершить паломничество, то тоже получаешь индульгенцию. Когда нет денег на покупку индульгенции, можно совершить паломничество. Или отстоять, например, пятьдесят месс. Да что угодно. Неужели не понятно? По-моему, Церковь придумала очень толковую и полезную схему.
– Что ж, читатель Библии по-латински, ответь мне на такой вопрос, – сказал Маркус. – Где в Библии описана эта твоя схема получения денег от запуганных верующих? Что, сидели как-то Иисус с апостолом Петром, а Иисус вдруг и говорит: мол, запоминай, как добывать финансы на содержание моей Церкви. Если к тебе придет человек и скажет: «Я согрешил», отвечай: «Ничего страшного! Дай мне дукат, и я скощу тебе пятьдесят лет в чистилище». Так, что ли?
Это заявление Дисмас счел весьма неблагочестивым. С другой стороны, он никак не мог вспомнить, где именно в Новом Завете Иисус излагает принципы продажи индульгенций. Но где-то об этом непременно должно говориться.
Маркус продолжал изливать свои претензии:
– Почему тех, кто хочет перевести Библию на наречие, понятное людям вроде нас с тобой, сразу же отправляют на костер?
– Да потому, что люди вроде вас непременно истолкуют Библию неверно! Слушай, ну не знаю я. Зачем ты задаешь мне эти вопросы? Тебе неймется почитать Библию? Это, разумеется, пойдет тебе на пользу. В Майнце я найду учителя латыни, а заодно и исповедника. Такого, у кого в достатке времени, чтобы выслушать обо всех твоих прегрешениях, багряных и пурпурных.
– Я тебе скажу, почему переводчиков отправляют на костер. Потому что боятся.
– Чего?
– Того. Если мы сможем читать сами, то посредники станут не нужны. Это же как любая коммерция, где наживается посредник. А зачем нужен посредник между нами и всей этой чертовой небесной братией?! – Маркус показал на звезды.
– Чертова братия в аду, Маркус, а не на небесах, – простонал Дисмас. – И не говори о Господе в таком тоне. Это неприлично. И не умно. Вдруг Он услышит?
– Как ты не понимаешь? Все упирается в контроль над нами. Попы, твой архиепископ Альбрехт, не говоря уже про этого жирного флорентийского содомита в Риме…
– Ты имеешь в виду его святейшество папу римского? Как бы нашу лодку не шибануло сейчас небесным огнем.
– Именно его. Он хуже всех остальных. Если Господь – это Солнце, а вся эта компания стоит между ним и нами, что тогда получается? Получается, что мы в тени, во мраке.
– Какой изящный аргумент! Господь – Солнце, да. Однако напомни мне, где ты получал диплом доктора богословия? Не в Гейдельберге, часом?
– Ты что-нибудь слышал о человеке по имени Коперник?
– Слышал, – ответил Дисмас. – Альбрехт говорит, что он еретик.
– Это потому, что Коперник утверждает, будто Земля кружится вокруг Солнца? Да, этот краковский бедолага точно кончит на костре.
– Ну а откуда твоему ляху известно, что Земля кружится вокруг Солнца, а?
– Оттуда, что дремучий тут ты, а он – ученый.
– Да что ты говоришь! Полагаю, что и чертов порох, который чуть не прикончил нас под Чериньолой, придумал какой-нибудь ученый. Тоже, скажешь, прекрасное изобретение, да?
– Ладно, ответь мне вот на такой вопрос: а откуда папе римскому известно, что Солнце кружится вокруг Земли?
– Да мне-то как знать такое? – застонал Дисмас. – Может, Господь сам ему рассказал. А что до кружения, то у меня уже голова идет кругом и от бренди, и от твоих бредней. Спать пора.
Остаток пути до Майнца они сторонились церквей.
Маркус не собирался задерживаться в Майнце. На дворе стояла осень, и ему непременно хотелось двинуться в путь, в кантоны, до первого снега.
– Давай со мной? – предложил он.
Предложение было заманчивым, но…
– Не могу. Надо доставить все это добро Альбрехту. А оттуда – дальше, в Виттенберг.
– Эх, вся эта торговля костьем, Дисмас… Не знаю, как-то это не очень правильно.
– А раньше мы зарабатывали на жизнь убийством. Это было правильно?
Маркус ощерился:
– А вот это решай со своей богословской братией. Но если ты уверен, что конец света близок, подумай, хотел бы ты, чтобы Господь застал тебя за торговлей святыми мошонками?
Дисмас рассмеялся:
– А где бы ты хотел, чтобы Господь застал тебя?
– В койке. На девке.
3. Альбрехт
– А! Мастер Дисмас, – приветствовал своего поставщика святынь двадцативосьмилетний Альбрехт, архиепископ Майнцский и Бранденбургский, в окружении свиты выплывая в лоджию.
На его длинноносом лице застыло серьезное выражение, из-под тяжелых век глядели угрюмые глаза, губы были укоризненно поджаты. Несмотря на молодость Альбрехта, его щеки уже обвисли первой, но явно не последней парой бульдожьих брылей.
К Дисмасу он обращался с преувеличенной вежливостью, в манере, свойственной аристократам при общении со своими поставщиками, следуя максиме «noblesse oblige»[2]. К этому Дисмас привык. Вот уже шесть лет Альбрехт был его заказчиком, из числа тех, кто никогда не устанет напоминать, как вам несказанно повезло иметь его заказчиком. Дисмас подыгрывал, хотя все это кривляние начинало его утомлять. Еще больше раздражали беспрестанные попытки Альбрехта разнюхать о приобретениях Фридриха. Дисмас отвечал туманно.
– Ваше преосвященство. – Дисмас с поклоном облобызал сапфир (размером с перепелиное яйцо) на указательном пальце Альбрехта.
Раскланиваясь со свитой, Дисмас приметил Пфефферкорна – агента Фуггера. Говорили, что Бранденбурги задумали укрепить благосостояние Альбрехта, на этот раз добыв ему кардинальскую шапку. Страшно представить, как дорого им это обойдется. Дважды архиепископ, курфюрст, а теперь еще и кардинал. Это сделает двадцативосьмилетнего Альбрехта примасом Германии, одним из самых могущественных людей в империи. Дисмас заметил про себя, что только аристократы знают свой точный возраст. О собственном он мог лишь догадываться.
Появился брат Тецель – с одутловатым лицом, совершенно лысый, за исключением седых волосинок на макушке, одиноким облачком зависших над отполированным куполом черепа. Тецель вел себя деловито, ему не терпелось исследовать базельские покупки Дисмаса, чтобы установить, сколько дней, месяцев или лет избавления от чистилища обеспечит каждая реликвия. Дисмас вспомнил Маркуса с его вопросами. Тот еще бизнес!
Свита состояла из стайки монсеньоров, клириков разбором помельче и разного чиновного люда. Над ними высилась голова Дрогобарда – верховного маршала Майнца. Альбрехту он служил в самых различных качествах: командующим кардинальской гвардии, главой шпионской резидентуры, помощником инквизитора, тюремным суперинтендантом, старшим палачом… Дивный набор должностей и еще более дивное жалованье.
Посреди соборной пощади темнело свежевыжженное пятно. Приготовления к следующему костру уже шли полным ходом. У Дисмаса не было оснований опасаться Дрогобарда, однако и пересечься с ним в его профессиональной ипостаси тоже не хотелось бы. На приветствие Дрогобард ответил сдержанным кивком.
А это еще что?
Среди сопровождавших Альбрехта Дисмас увидел двоих, чья павлинья экипировка была ему настолько же хорошо знакома, насколько неприятна: пестрые колеты, вышитые дублеты, широкополые шляпы с вычурным плюмажем. В руках щеголи держали алебарды, наточенные до бритвенной остроты.
Дисмас подавил вздох. Черт возьми. Германские наемники-ландскнехты. Что эта шваль делает в свите архиепископа?
Хоть одеваются они по-шутовски, шутки с ними плохи. В бытность наемником-райзляуфером Дисмасу не раз приходилось с ними сталкиваться. Отдавая должное их боевым качествам, он считал себя вправе презирать самих ландскнехтов. Варвары, неспособные покаяться в жестокости. Верные только собственному кошельку. За сходный гонорар они перерезали бы горло Иисусу, спящему в колыбели. Ирод нанял бы их для избиения младенцев.
На ледяной взгляд Дисмаса ландскнехты отвечали ухмылочками. «Знают ли они, кто я, – гадал Дисмас, – или же это типичная ландскнехтская наглость?»
Реликвии разложили на столах, расставленных вдоль парапета лоджии. Тецель поднес к глазам мирницу с багряным порошком и скривился:
– Это что?
– Кровь. Святого Киприяна.
– И какую же сумму его преосвященству предлагается за это выложить?
Высокомерие Тецеля не оскорбляло, а вызывало насмешку.
– Мне она обошлась в пятнадцать гульденов. Его преосвященству известно, что у него нет никаких обязательств касательно выкупа не только данной реликвии, но и всего, что здесь представлено, если их преосвященство посчитают, что это не отвечает стандартам качества.
– Ну, будет, будет, брат Иоганн, – осадил Тецеля Альбрехт. – Это все совершенно лишнее, совершенно. Мы с радостью принимаем карфагенского епископа-мученика на наше попечение. Дисмас, а что насчет святой Агаты и этой, как ее?.. святой…
– Афры. Вон на том столе, ваше преосвященство.
– Вот видите, Тецель? Очень хорошо, Дисмас, очень хорошо.
Альбрехт с Тецелем прошествовали к соседнему столу – осмотреть и обсудить. Тецель рассматривал обе реликвии на свет.
– Целомудренные. Мученицы. К тому же – от руки Диоклетиана…
Альбрехт, дожидаясь заключения Тецеля, нетерпеливо кивал. Тот вернул реликвии на стол и потер подбородок.
– За кольцо можно будет предлагать индульгенцию на десять лет или на двадцать, смотря по обстоятельствам. За мощи Афры… – Тецель раздраженно повернулся к Дисмасу, недовольный тем, что приходится самому выпытывать сведения, которые поставщику следовало предоставлять загодя. – Что это за кость?
– Пателла.
– Я не анатом, – фыркнул Тецель.
Дисмас указал на свою коленную чашечку.
– Ага! Та самая кость, на которую она опиралась, вознося молитву в миг принятия мученичества.
– Возможно, – отвечал Дисмас, – но нельзя сказать наверняка. Не так ли, брат Тецель? Известно лишь, что ее привязали к столбу и уморили дымом.
– Да, да, да… – досадливо отмахнулся Тецель и объявил Альбрехту: – Пятьдесят лет.
Архиепископ и продавец индульгенций переходили от стола к столу, определяя ценность каждой реликвии: платишь такую-то сумму за право поклониться такой-то реликвии – и с твоего срока в чистилище списывается определенное количество лет.
Они задержались у обломленной рукояти меча, усекшего голову святого Маврикия. Альбрехт жестом пригласил поучаствовать в оценке Пфефферкорна – Фуггерова агента.
Фуггер держал монополию на управление папскими финансами. Он посредничал в переговорах между Альбрехтом и Римом о том, какую долю от продажи индульгенций Альбрехт должен высылать в Рим. Помимо этого, он занимался и другими контрактами, связанными с индульгенциями.
К примеру, папа Лев запросил с Альбрехта двенадцать тысяч дукатов за право выдавать индульгенции по факту оплаченного поклонения мощам двенадцати апостолов. Просто грабеж! По тысяче дукатов за апостола?! Альбрехт сделал встречное предложение – семь тысяч. По числу смертных грехов. Сошлись на десяти. Злые языки болтали, что сумму контракта, скорее всего, привязали к числу заповедей.
Надо сказать, ценообразование при продаже индульгенций – сложный и специализированный процесс. Однако же в своем роде довольно объективный. Платить за отпущение грехов полагалось всем, даже королям и королевам. И архиепископам. Для них цена устанавливалась в двадцать пять золотых флоринов за каждую индульгенцию. Для аббатов, настоятелей соборов, графов, баронов и прочих аристократов – двадцать. Дворяне помельче платили по шесть флоринов. Бюргеры и купечество – по три. Люди скромного достатка платили флорин. А так как наш Отец Небесный постановил, что Царство Божье открыто и для бедноты, то неимущим предоставлялась возможность заработать индульгенцию постом и молитвой. Ведь молитва не стоит ничего! Крестьяне легко могли молиться во время работы, а поститься им и вовсе не составляло труда, ибо они и так всю жизнь постились в той или иной форме.
Альбрехт, Тецель и Пфефферкорн закончили обсуждать рукоять меча святого Маврикия. Тецель сказал, что представит реликвию в своем ближайшем шествии.
Не питая никаких симпатий к Тецелю, Дисмас понимал, что тот является внушительным «персонажем», как сказал бы Шенк. Разносторонняя личность: Великий инквизитор Польский, верховный уполномоченный по выдаче индульгенций в германских землях империи и, как и подобало монаху-доминиканцу, талантливый проповедник.
Технология Тецеля была такова: он входил в город во главе торжественной процессии, неся на вышитой подушке папскую буллу, санкционирующую выдачу индульгенций. Посреди городской площади устанавливали большой кованый сундук – бух! – и брат Тецель начинал проповедовать под звон монет. Он даже сочинил подходящую присказку, которая была широко известна:
- Лишь денежка – дзынь! – в сей сундук упадет,
- Душа из чистилища тут же взойдет.
Все это Дисмас не раз имел возможность наблюдать. То еще представление. Он даже мог вспомнить эту, прости господи, проповедь почти дословно:
Внемлите ныне! Господь и святой Петр взывают к вам! Задумайтесь о спасении душ своих и близких ваших, здравствующих и усопших. Ты, священник! ты, благородный муж! ты, торговец! ты, дева! ты, почтенная матрона! ты, юнец! ты, старик! – придите ныне к церкви вашей, к церкви Святого Апостола Петра. Покаянием, исповедью и лептой малой всяк обрящет полное отпущение всех прегрешений его. Внемлите голосам усопших ваших, голосам родных и друзей ваших, молящих вас, плачущих: «Сжалься, сжалься над нами! За лепту малую ты нас от страшных мук избавишь!»
Разве не хотите вы этого? Внемлите, внемлите голосу усопшего отца, взывающего к сыну, голосу усопшей матери, молящей дочь: «Мы выносили тебя, выходили, вскормили и взрастили, оставили тебе земные богатства наши. Как же можешь ты так жестоко и бессердечно оставить нас, когда лишь малая толика тех богатств дарует нам освобождение? Покинешь ли ты нас во пламени? Презришь ли случай всего за четверть флорина получить индульгенции, через которые наши бессмертные души обретут дорогу в райскую обитель свою?»
Помимо прочих талантов, Тецель весьма гибко управлялся с теологическим аппаратом, что позволило плуту ввести новый вид индульгенций. Их приобретение загодя давало покупателю полное отпущение еще не совершенных грехов. Сам Иисус подивился бы такой оборотистости! Подобная практика, правда, имела своих оппонентов, равно как и сенсационное заявление Тецеля, что папская индульгенция может вызволить человека из чистилища, даже если он – Господи, помилуй! – надругался над целомудрием Пресвятой Девы Марии.
Дисмас долго ломал голову, пытаясь разобраться в чисто технических аспектах. Ведь даже если допустить, что нашелся бы лиходей, способный помыслить о таком чудовищном злодеянии, то каким образом человек, живущий пятнадцать столетий после Христа, может вступить в плотские отношения с Непорочной Девой, учитывая к тому же, что после смерти Она во плоти вознеслась на Небеса? Дисмас решил больше не думать об этом: пусть богословы разбираются.
Альбрехт, Тецель и Пфефферкорн завершили аттестацию. Совокупная ценность 296 реликвий, привезенных Дисмасом из Базеля, составила 52 206 лет отпуска из чистилища и обещала его преосвященству неплохую прибыль на вложенный капитал.
Монсеньор Генк, смотритель соборной коллекции, объявил, что теперь собрание его преосвященства содержит более шести тысяч реликвий общей ценностью 9 520 478 лет досрочного освобождения из чистилища.
– Мы довольны вами, мастер Дисмас, – объявил Альбрехт, – и приглашаем вас разделить с нами скромную трапезу. Нам с вами надо многое обсудить.
Они сидели вдвоем в кабинете Альбрехта, под люстрой из оленьих рогов.
– Путешествие из Базеля прошло хорошо?
– Да, ваше преосвященство. По реке путешествовать легче. Прекрасное время года. Красиво. Листва и все такое.
– Да. Останавливались по дороге?
– Только на ночевку.
– Никаких… инцидентов?
– Обошлось без приключений. Слава Богу.
– Именно, – покивал Альбрехт. – Слава Богу. Тем более с таким грузом, как ваш. Мы поинтересовались, так как получили депешу. Из верховий.
– Вот как?
– Нападение. На храм.
– Хм. Как нехорошо.
– Очень. И представьте, это произошло, когда вы плыли по реке. А что, если бы напали на вас?
– Да… Но вот же я, жив-здоров, – улыбнулся Дисмас. – А позвольте осведомиться, какого рода нападение?
– Богомерзкое. Святотатственное осквернение.
Дисмас покачал головой:
– Ужасно.
– Поистине возмутительно. Из арбалета.
– Восхитительное вино, ваше преосвященство. С вашего виноградника?
– Мы рады, что вам нравится. Возьмете несколько бутылок с собой.
– Ваше преосвященство слишком добры.
– Дальше – в Виттенберг? К дядюшке Фридриху?
– Как ваше преосвященство видят, к вам я явился в первую голову.
– Мы этим польщены, Дисмас.
– Я почел это за честь, ваше преосвященство.
– Почему бы вам и нас не называть дядюшкой?
Ну вот, снова-здорово. Когда речь зашла об осквернении церкви, сердце Дисмаса забилось чаще. С легкой улыбкой он сказал:
– Как можно? Ваше преосвященство – князь церкви!
– Пока нет. Скоро. Бог даст.
– Курфюрст Фридрих значительно старше вашего преосвященства. Да коли на то пошло, я и сам старше вашего преосвященства. Мне было бы неловко называть вас дядюшкой.
– Тогда зовите нас кузеном, – сказал Альбрехт в нетерпении. – Заметьте, Дисмас, как мы изъявляем вам наше расположение.
– Милость ваша повергает меня в смятенье, ваше преосвя… кузен.
– Только не зовите меня кузеном на людях.
– Разумеется.
– А что вы везете дядюшке Фридриху?
– Об этом вам лучше его спросить, кузен.
– Но я-то спрашиваю вас.
– В таком случае, и на правах кузена, я должен искренне признаться, что мне неловко отвечать. В той же мере, в какой мне было бы неловко отвечать курфюрсту Фридриху, спроси он меня, что я привез вам. Это вопрос профессиональной этики.
– Ах, Дисмас. Вы сегодня чересчур швейцарец.
Дисмас улыбнулся уголками рта:
– Я заметил, мой кузен держит ландскнехтов?
– А? Ах, ну конечно! Вы же из райзляуферов! Мы и позабыли про эту кровную вражду между наемниками. Неужели ландскнехты действительно такие ужасные? Согласитесь, на вид они довольно милы. И просто обожают прихорашиваться! Дрогобард рассказывал мне, что все свое жалованье они спускают на наряды и безделушки. Прямо как швейцарские гвардейцы в Риме.
Дисмас невольно стиснул зубы, а потом сказал:
– При всем уважении, папские гвардейцы берут начало от райзляуферов, которые не имеют ничего общего с ландскнехтами, хвала Небесам.
– Ну же, ну же… И ландскнехты, и райзляуферы пользуются репутацией лучших наемных убийц во всей Европе. У вас много общего.
– Как будет угодно вашему преосвященству.
– Да не дуйтесь вы так, Дисмас. Гнев – смертный грех.
– Возможно, брат Тецель продаст мне индульгенцию.
– Ох, да что с вами такое сегодня? Выпейте еще вина, оно остудит вашу горячую гельветскую кровь. – Альбрехт наполнил кубок Дисмаса. – Между прочим, говорят, что в Базеле предлагали лодку – лодку Рыбаря. Это правда?
– Лодку предлагали. Но я очень сомневаюсь, что она когда-либо принадлежала святому Петру. Бессовестная подделка. Причем халтурная.
Альбрехт вздохнул:
– Она бы прекрасно смотрелась в клуатре, в центре двора. Поистине восхитительно.
– Неужели кузену хочется, чтобы я приобретал для него подделки?
– Нет, конечно. Но согласитесь, выглядело бы великолепно.
– Если когда-нибудь мне встретится истинная лодка святого Петра, я обязательно куплю ее для вашего преосвященства. Какую бы цену за нее ни просили.
Альбрехт смотрел в окно, разделенное пилястрами-средниками.
– Оставим лодки, Дисмас. Чего нам действительно не хватает – это плащаницы.
Дисмас подавил стон. Еще одна старая песня.
– Но не какой-то там плащаницы, – уточнил Альбрехт. – Мы, разумеется, имеем в виду ту самую плащаницу – истинный погребальный саван Господа нашего Иисуса. – Он перекрестился.
– Как я уже говорил кузену, я видел много «истинных» плащаниц. Нынче в Базеле я насчитал четырнадцать.
– И ни одна не… – грустно вздохнул Альбрехт.
Дисмас покачал головой. Ему стало почти жалко Альбрехта.
– Не подумайте, что я неотесанный мужлан, но в любую из них я бы, не задумываясь, высморкался. Нынешнее бесстыдство продавцов переходит всяческие границы. И как ни прискорбно, должен сказать, что это представляет серьезную угрозу вашему, равно как и курфюрста Фридриха, похвальному энтузиазму в отношении святынь. Совместно вы вдохнули новую жизнь в древнее ремесло. Но спрос опережает предложение. Цены растут. Появляются жулики. Фальсификаторы и надувалы. Это печально. Нет, возмутительно. В Базеле я говорил об этом с мастером Шенком. Вот увидите, Шенк, сказал я ему, если так будет продолжаться, люди потеряют всякое доверие к рынку. Мошенники выживут порядочных. И тогда что?
Дисмас говорил с таким чувством, что забылся и чуть было не ляпнул: «Если только сначала ваш Тецель не доконает нас своим позорищем».
Альбрехт не слушал. Мысли его витали где-то по ту сторону оконных пилястр.
– А вот у герцога Савойского плащаница есть.
– Есть. В Шамбери. Я ее видел. Давно.
– И?
– Из всех так называемых истинных погребальных плащаниц Господа нашего у этой – самое, так сказать, безупречное происхождение. Сперва она явилась в Лире, во Франции. В тысяча триста тридцать пятом году, если не ошибаюсь. Принадлежала она тогда кавалеру Жоффруа де Шарни – рыцарю с прекрасной репутацией. Но он был тамплиером, а когда речь идет о реликвиях, добытых тамплиерами в Святой земле, всегда следует быть настороже. Насколько я помню, эту плащаницу вскоре заклеймили как фальшивку. Местный епископ, некто Пьер д’Арси. Да вы и сами знаете, как это делается.
– Не знаю. Расскажите, как же это делается?
– За возможность увидеть плащаницу платили хорошие деньги. Поэтому, несмотря на обличения епископа, де Шарни продолжал ее выставлять. Столетие спустя его внучка Маргарита подарила плащаницу правителям Савойи, герцогам Савойским. Те выстроили для реликвии святилище – церковь Сен-Шапель в шамберийском замке. Там плащаница и пребывает по сей день.
– А что вы о ней думаете? – отрешенно спросил Альбрехт.
– Я бы сказал, что она более искусной работы, чем прочие виденные мной «истинные» плащаницы. На многих даже краска толком не высохла. Возможно, святыня и в самом деле настоящая, но у меня все же есть сомнения.
– Какие?
– Во времена Господа нашего Иисуса иудеи хоронили мертвых, оборачивая их в две холстины: одна – для тела, а другая – для головы. В Евангелии от Иоанна головная холстина упоминается как «плат». А Шамберийская плащаница состоит из цельного холста, на котором видно изображение тела с головы до ног.
– Не следует опираться только на Евангелие от Иоанна, – хмыкнул Альбрехт. – Нам кажется, Дисмас, тут вы ошибаетесь.
– Познания вашего преосвященства намного обширнее моих. Мне же приходится полагаться лишь на свой профессиональный опыт, да еще вот на… – Дисмас коснулся пальцем кончика носа.
– Согласится ли герцог ее продать?
– Маловероятно. Это же золотая жила… то есть стабильный источник дохода, – с заминкой объяснил он. – Савойя – герцогство небогатое, а деньги герцогу нужны. Он регулярно выставляет плащаницу напоказ. Паломники приходят. Монархи приезжают.
Альбрехт снова уставился в окно:
– Его прозвали Карлом Добрым. За что?
– Говорят, он хороший человек. Заботится о бедноте, не притесняет подданных. Ему и самому непросто, из-за постоянных вторжений французского короля.
– В таком случае его надо называть Карлом Многовторгаемым, – сказал Альбрехт. – А вашего дядюшку Фридриха прозвали Мудрым. Неужели он настолько мудр?
– Учености ему не занимать, это верно. Владеет пятью языками, помимо греческого и латыни, строит университет. По слухам, его главный богослов – большой ученый. Монах-августинец. Лютер. Якобы очень благочестивый человек.
– Я тоже владею пятью языками. Помимо греческого и латыни. Деда Фридриха звали Фридрихом Кротким, брат – Иоганн Постоянный, племянник – Иоганн Великодушный. Кто придумывает все эти прозвища? Там еще у него был взбалмошный кузен, как его? Георг Бородатый! – Альбрехт улыбнулся. – А как, Дисмас, станут называть нас?
– Альбрехт, кардинал Бранденбургский. А со временим, глядишь, и Его Святейшество папа Альбрехт.
– Папа из германцев? Да скорее Судный день настанет! Но вернемся к плащанице. Если евангелист Иоанн прав, говоря об иудеях и их погребальных платках (хотя чтобы жид да раскошелился на вторую холстинку – это уже чудо), значит Шамберийская плащаница – подделка.
– Именно так я и рассуждал.
– А из этого в свою очередь следует, что где-то есть и подлинная плащаница.
Дисмас наморщил лоб:
– Ну, может быть, но… Один вопрос: какова все-таки вероятность того, что Господь Бог вообще оставлял нам такой сувенир на память о себе?
– Большая. В доказательство того, что он восстал из мертвых. Разыщите нам ее, Дисмас. Разыщите, и мы озолотим вас. Вы же знаете, мы – ваш лучший заказчик.
– О таком заказчике, как ваше преосвященство, можно только мечтать.
– И вы слишком распыляетесь, Дисмас. Перебирайтесь-ка в Майнц и работайте эксклюзивно для нас. Видит Бог, у Фридриха уже довольно мощей – не замок, а костница. Перебирайтесь, Дисмас. Не пожалеете.
Эту увертюру Дисмас слышал не раз.
– Щедрость вашего преосвященства не умещается в границы разумения ничтожного грешника вроде меня.
– Вы испытываете наше терпение, Дисмас. Отправляйтесь в Виттенберг. Отправляйтесь к своему так называемому дядюшке Фридриху.
Альбрехт поднялся и протянул руку для лобызания.
В дверях Дисмас спросил:
– Кого сжигают?
Альбрехт уже что-то писал за столом.
– Хм? – сказал он, не поднимая головы.
– К столбу фашины сносят. На площади. Говорят, у вас в последнее время много сожжений.
Альбрехт продолжал писать.
– У нас снова была вспышка чумы. Дрогобард утверждает, что публичные казни способствуют поддержанию духовности. Жиды у нас почти закончились, поэтому в последнее время все больше ведьмы. Эти-то, Бог даст, не закончатся. Счастливого пути, Дисмас. Осторожнее в Тюрингенском лесу – там пошаливают разбойники. И кланяйтесь от нас дядюшке Фридриху. Мудрому.
4. Фридрих
Дисмас предпочел бы отправиться в Виттенберг через Нюрнберг, чтобы оставить заработанные деньги у своего банкира, мастера Бернгардта, переодеться и навестить Дюрера, но времени на это не было. До Дня Всех Святых оставалось совсем ничего. Этот праздник был самым важным в календаре Фридриха: его галерея святынь открывалась для посещения публикой. Вдобавок базельские приобретения Дисмаса требовалось поместить в оправы.
В Виттенберг Дисмас прибыл двадцать седьмого октября, спустя семь дней после отъезда из Майнца. Будучи при золоте, Дисмас всегда путешествовал под видом монаха. Сама по себе монашья ряса, разумеется, грабителя не остановит, а вот припрятанная в повозке и всегда остающаяся под рукой алебарда – другое дело.
Клемп, дворецкий Фридриха, встретил Дисмаса тепло и с радостью. Здешняя прислуга неизменно окружала его заботой и гостеприимством, в отличие от Майнца, где он в лучшем случае удостаивался небрежного кивка, подчеркивающего его невысокий статус, а теперь еще и был вынужден сносить ухмылочки ландскнехтов.
– Курфюрст что ни час спрашивает: ну где же мой племянник Дисмас? Он ведь даже выслал вам навстречу верховых. Вы с ними разминулись?
– Я ехал севером. Чтобы обогнуть Тюрингию.
– Пойдемте же, он в галерее. Небось привезли нам всяких чудес?
– Пару-тройку. Святая Варвара. Палец ноги.
– Не может быть! – Клемп всплеснул руками. – Последняя из Четырнадцати святых помощников? Ах, как он обрадуется!
– Между нами говоря, Клемп, он так долго донимал меня этим пальцем, что я уже готов был оттяпать свой и выдать за Варварин.
Клемп захихикал. Милый старикан. Они направились в галерею.
– Господин, посмотрите, кто к нам приехал!
Фридрих стоял к ним спиной. Согнувшись, опираясь на две трости, он рассматривал что-то в витрине. Подагра и камни положили конец его охотничьим дням: он здорово растолстел.
Курфюрст медленно повернулся. Задолго до встречи с Фридрихом Дисмас видел его портрет работы Дюрера. Фридрих был запечатлен в молодые годы: бородач с выпученными глазами и перебитым носом. Не зная, что это портрет Фридриха по прозвищу Мудрый, вполне можно предположить, что изображен некто по прозвищу Безумный.
Фридрих призывно раскинул руки. Дисмас едва смог его охватить. Словно с медведем тискаешься.
Фридрих разомкнул объятья и оглядел Дисмаса с ног до головы:
– Это что же теперь – брат Дисмас? Распрощались с греховным прошлым?
Дисмас все еще был в монашеском наряде.
– Клемп, найдите этому горе-иноку приличную одежду. И пришлите нам вина.
Клемп метнулся прочь.
– Ну, блудный наш, – загремел Фридрих, – вы в курсе, что до Всех Святых осталось четыре дня?
Дисмас рассказал про свой окольный путь. Принесли вино. Фридрих втиснул тушу в кресло. Кресло заскрипело.
– Вы прибыли из Майнца.
– Его преосвященство архиепископ приказали кланяться.
– Хм. Альбрехт собирается прикупить кардинальскую шапку. Такими темпами у Бранденбургов скоро не останется ни гроша.
Дисмас угостил Фридриха рассказом про Тецеля и его сеанс оценки мощей.
Фридрих покачал головой:
– Брат Мартин вне себя от ярости. Просто жаром пышет. Вот-вот взорвется по поводу Тецеля и его индульгенций. А этот Тецель тот еще шельмец. Уселся едва ли не у меня на границе и глумится надо мной. Я ведь не могу запретить своим подданным свободное передвижение. Если им хочется набивать сундук Альбрехта своими гульденами – это их дело. – Он отмахнулся от невеселых мыслей и продолжал уже с улыбкой: – Ну, племянничек Дисмас, что привезли своему старому дядюшке Фридриху?
Дисмас вручил ему палец святой Варвары. Глаза Фридриха набухли влагой. Он не спросил, сколько Дисмас заплатил за палец. Ему было не важно. Вместе они поместили палец в галерею, рядом с мощами других Святых помощников. В галерее Фридриха было сто семнадцать золотых и серебряных дарохранительниц, а Святые помощники имели для него особое значение, так как жили в Рейнской земле во время Черного мора. У раки с их мощами молились об избавлении от лихорадки и внезапной смерти, о прекращении головных болей, о горловых хворях, опухолях, туберкулезе, семейных раздорах, предсмертных искушениях и прочих невзгодах. С прибытием Варвариного пальца коллекция мощей Помощников наконец-то стала полной. Теперь молитвы, сказанные здесь, будут иметь еще бо́льшую силу, нежели раньше. И разумеется, цену на здешние индульгенции Фридрих сможет повысить. Деньги пойдут на кирпич для строящегося университета.
Следующие дни Фридрих и его поставщик реликвий провели в галерее, расставляя остальные базельские приобретения.
В галерее Фридриха было восемь залов. В первом хранились мощи святых девственниц, во втором – великомучениц, в третьем – святых исповедников (почетное место тут занимало ребро святого Себальда), четвертый и пятый, где размещались мощи мучеников, были забиты едва ли не под потолок и, признаться, и впрямь походили на костницы.
– Это напоминает оптовый склад, дядюшка.
Здесь главным экспонатом была мумия невинноубиенного младенца, привезенная Дисмасом из Святой земли.
В шестом зале хранились мощи святых апостолов и евангелистов, в седьмом – реликвии ветхозаветных патриархов, пророков, Святого семейства, Рождества и служения Христова. Тут была и солома из святых яслей, и полоска холста, в который пеленали новорожденного, и прядь из бороды Иисуса, и большой палец святой Анны, матери Марии, – самая первая реликвия, приобретенная Фридрихом на Родосе в 1493 году, когда он возвращался из паломничества в Святую землю.
Восьмой зал – святая святых галереи – служил хранилищем для реликвий страстей Христовых: кусок веревки, связывавшей Его руки, когда Он стоял перед синедрионом и Пилатом; обломки палки, которую Ему дали как шутовской посох; жила из плети, бичевавшей Его; пропитанная уксусом губка, что подали Ему на Кресте; обломки гвоздей, пронзивших Его стопы и запястья; и самая священная из святынь – щепа от Креста. Для Фридриха самым большим сокровищем был шип из тернового венца. Не просто шип, а именно тот, что впивался в лоб Иисуса. Трудно было, находясь в восьмом зале, не поддаться смятению чувств; редко кто из паломников оставался здесь на ногах, и почти никто не сдерживал слез.
Трапезничали в Виттенберге дважды – утром и с наступлением вечерних сумерек. В канун Дня Всех Святых, когда все приготовления были закончены, Фридрих пригласил за свой стол Дисмаса, а также личного секретаря и конфидента Спалатина и придворного живописца Лукаса Кранаха.
Оба были знакомы Дисмасу. Ему нравился добродушный и остроумный Спалатин, который в беседе проявлял ученость без всякого намека на высокомерие. Спалатин обожал сплетни. С Кранахом все складывалось непросто: художник был неприветлив, обидчив, сух и весьма тщеславен, но при этом, бесспорно, обладал большим талантом и поразительным трудолюбием. Ему принадлежала чуть ли не половина Виттенберга, так что, возможно, самомнение его и было извинительно.
Их отношения не заладились несколько лет назад, когда Фридрих поручил Кранаху составить каталог коллекции святынь. В то время коллекция насчитывала (всего-то) пять тысяч предметов, но Кранах был не в восторге от такого задания. Он предпочитал писать портреты и расписывать алтари. Однако же поручения покровителя до́лжно исполнять. Свою досаду Кранах вымещал на Дисмасе и, донимая его бесконечными расспросами об аутентичности той или иной реликвии, презрительно фыркал и хмыкал. Однажды они едва не подрались из-за листочка Неопалимой купины. Еще одним предметом препирательств стал зуб святого Иеронима. С тех пор Кранах поостыл и относился к Дисмасу с угрюмым незлобием. Дюрер, друг Дисмаса, тоже получал заказы от Фридриха. Изредка. Насчет Кранаха-живописца у Дюрера было собственное мнение – не слишком высокое. Дисмас не чувствовал себя достаточно компетентным, чтобы высказывать свое, но работы Кранаха казались ему качественными.
Вполне возможно, Дюреру просто не давали покоя деньги. Кранаху, придворному живописцу, доставался не только почет, но и жалованье, составлявшее, как поговаривали, пятьдесят гульденов, не считая собственно гонораров за работы. Дюрер уверял, что Кранах таких деньжищ не стоит. Дисмаса забавляли обличения Дюрера. Одно слово – художники.
Стол ломился от яств. Неудивительно, что дядюшка Фридрих так раздался вширь. Кушанья на огромных подносах шли бесконечной чередой: оленина, кабанина, фазаны, бекасы, карпы, крабы, щуки, сельди, треска. Сыры, яблоки, сливы. Дисмас, неделю питавшийся по-походному, теперь объедался. Вино лилось рекой. Спустя некоторое время он почувствовал, что вот-вот лопнет.
Когда подали сласти, один из помощников Спалатина с великой озабоченностью вошел в трапезную и что-то зашептал ему на ухо.
– Во всеуслышание, – приказал Фридрих.
– Ваше сиятельство, брат Мартин…
– Ну?
– Он…
– Да говорите же!
– Он вывесил манифест, ваша милость. На дверях замковой церкви.
5. Дюрер
– Что за манифест?
– Довольно длинный, ваша милость. У меня не было времени дочитать до конца. Это… В общем, тезисы обличения – так, кажется, их называют… Против брата Тецеля. Девяносто пять тезисов.
– Я как знал, что он замышляет что-то вроде этого, – простонал Спалатин.
– Девяносто пять? – улыбнулся Фридрих. – Неужели двери нашей церкви настолько поместительны?
– Мог бы и предупредить, – вздохнул Спалатин. – С позволения вашего сиятельства…
Спалатин с помощником вышли, оставив Фридриха, Дисмаса и Кранаха молчать втроем.
Когда Дисмас закончил свой рассказ, Дюрер вздохнул:
– И это как пить дать вызвало солидное несварение у Фридриха. – Он коснулся кистью холста на мольберте. – Ему поставили клистир?
Дисмас сидел у большого окна в мастерской Дюрера.
– По-моему, вся эта история его лишь позабавила. Только Спалатин всполошился.
– Значит, Лютер их просто вывесил? Или все-таки приколотил гвоздями?
– Про гвозди рассказывают любители дешевых сенсаций. На самом деле он оклеил двери страницами памфлета.
– Забава будет недолгой. За такое отправляют на костер.
Дисмас покачал головой:
– Не в Виттенберге. Фридрих не любит костров. У него даже собственного палача нет, приглашают со стороны.
– А я согласен с Лютером. От индульгенций за версту разит жульничеством. Да и с какой стати германские народы должны платить за римские соборы?
Дисмас встал и потянулся. Из-за спины Дюрера взглянул на мольберт с портретом. С холста смотрел банкир Якоб Фуггер, заимодавец Альбрехта.
– Он и вправду такой статный или ты набиваешь себе гонорар?
– Сходство один в один. Он и впрямь хорош собой. Я не приукрашиваю своих заказчиков. Не то что некоторые в Виттенберге.
Дисмас хохотнул:
– Ненадолго же тебя хватило. Вот уже и подпустил шпильку бедному Кранаху.
– Бедному Кранаху? Ха-ха. Он так беден, что аж позвякивает на ходу. Над каким шедевром он нынче корпит? По слухам, он теперь не удосуживается писать собственноручно, только ходит по мастерской и командует подмастерьями: побольше синего там, немного желтого сям…
– По крайней мере, он не сует автопортреты в каждую картину, как ты. Неделю назад я был с Фридрихом в его галерее, у него там висит твое «Мученичество десяти тысяч».
– Бесспорный шедевр.
– Да, очень мило. Но даже при свечах я с десяти шагов могу узнать твое лицо. Картину надо было назвать «Мученичество десяти тысяч с Альбрехтом Дюрером точнехонько посередке».
Это было знаменитое полотно Дюрера, на котором изображались изуверские и разнообразные казни десяти тысяч солдат-христиан на горе Арарат от рук персидского царя Шапура по приказу императора Адриана. Или Диоклетиана. Никто точно не знал. Дюрер поместил себя в центре полотна, рядом со своим другом Конрадом Цельтисом, который умер незадолго до начала работы над картиной. Дюрер утверждал, что ввел себя в число персонажей исключительно в качестве дани уважения покойному товарищу. Дисмас же подозревал иные мотивы.
– Так прямо и висит среди святынь?
– Да, Нарс, так и висит.
Дисмас прозвал приятеля Нарсом в честь Нарцисса, образца самовлюбленности, за склонность Дюрера к автопортретам и помещению своего изображения в другие картины.
– Только не подпускай к ней Кранаха, он обязательно захочет ее улучшить.
Меховой палантин Фуггера Дюрер писал жженой умброй. Тема осквернения дюреровских работ Кранахом всплывала постоянно. А началось все много лет назад. Император Священной Римской империи Максимилиан – в то время главный покровитель Дюрера – заказал иллюстрации для своего печатного молитвенника. По причинам, которые так и остались неясными, Дюрер бросил работу. Ее завершил Кранах. Стонов и причитаний было столько, будто Кранах выплеснул в лицо Дюреру ведро краски. Но даже это надругательство не шло ни в какое сравнение с той вопиющей наглостью, которую Кранах позволил себе следом. Он осмелился завершить портрет Максимилиана, начатый Дюрером. Этого простить было невозможно. Никогда. Одно слово – художники.
На издевки Дисмаса Дюрер, фыркая, отвечал: «Я пишу прекрасное, где бы я его ни нашел. И если я нахожу его в зеркале – так тому и быть».
Нарс был симпатичный малый: высокий и стройный, с копной рыжих кудрей; борода и усы были аккуратно подстрижены на итальянский (ну еще бы!) манер; рыцарские скулы, чувственный рот и глаза с поволокой, как у влюбленного юнца. Взгляд его – и в жизни, и на портретах – неизменно ускользал от смотрящего. Дисмас относил это на счет меланхолии. Дюрер истово верил, что находится под влиянием Сатурна. Мрачного Сатурна.
– Да там едва можно разглядеть, что это мы с Цельтисом, – сказал Дюрер.
Он наверняка бросил эту реплику, чтобы поддержать разговор о себе самом. Дисмас улыбнулся и подумал: «Ладно, Нарс. Давай еще немного поговорим про тебя».
– Ну а в «Поклонении волхвов»? Ты же вывел себя в образе волхва! А в «Празднике четок» над заалтарной полкой в венецианской церкви Святого Варфоломея? Стоишь, голубчик, у всех на виду с бумажкой в руках, на которой по-латински изложена похвальба, что, мол, написал картину всего за пять месяцев. Хотя сам прекрасно знаешь, что за семь. Всякий стыд потерял. Каждый твой Христос все больше и больше походит на тебя самого! – Дисмас накинул плащ. – Хватит. Фуггер твой и так уже красавец, любо-дорого посмотреть. Заплатит двойную цену, не сомневайся. Пойдем выпьем. А потом заглянем в «Сады Эдема». У меня женщины не было с тех пор, как Карл Великий сидел на троне.
– Я бы на твоем месте поостерегся. Я недавно рисовал одного человека с французской язвой… – Дюрер передернулся. – Мерзкая штука. Да и вообще… То чума, то французка… Ох, несдобровать нам!
Чума приходила в Нюрнберг регулярно. У Дисмаса она отняла жену и детей, у Дюрера – мать, с которой они души друг в друге не чаяли. Чумы Нарс боялся до судорог и при слухах об очередной вспышке бежал через Альпы в Италию. Впрочем, не только поэтому. В Италии он еще и учился. Дисмас советовал ему не корить себя за смерть матери. Ведь не потащил бы он старушку через Альпы? И все-таки…
– В приличных борделях за этим следят, – заметил Дисмас.
– На-ка, посмотри. – Дюрер подошел к комоду, вытащил стопку толстых листов и передал Дисмасу.
– Черт, – поморщился тот.
– Все еще собираешься в «Сады Эдема»? Я рисовал с натуры. Но близко не подходил.
Дисмас не без доли злорадства увидел, что на гравюре «Сифилитик» изображен ландскнехт, расфуфыренный, как обычно. Болезнь была в поздней стадии. Сочащиеся гноем мерзкие язвы покрывали лицо, руки и икры. Один зажиточный женевец, пораженный той же заразой, на коленях умолял Дисмаса добыть мощи праведного Иова, которого христианство определило покровителем сифилитиков. Также считалось, что помогает риза Богородицы.
– Я бы его пожалел, не будь он ландскнехтом, – сказал Дисмас, возвращая гравюру.
Дюрер поглядел на свою работу:
– Даже в этом плачевном состоянии он оставался спесивым говнюком. – Он спрятал листок и спросил тоном заговорщика: – А знаешь, у кого еще французка?
– У папы?
– Нет. У папы – поганый свищ. Нет нужды рассказывать, как он его заработал.
Дисмас скорчил рожу:
– И знать не хочу. А тебе-то откуда известно?
– Мне Рафаэль рассказал.
– Кто?
– Дис, твое невежество поистине не имеет равных. Рафаэль, живописец.
– Один из твоих итальянских дружков, что ли?
– А французка – у императора. И он от нее помирает.
– Это всем известно, – сказал Дисмас. – А последнюю новость слыхал? Он поехал в монастырь в Фюссене. Говорят, в ужасном виде, весь рот в язвах. Но черпал своей кружкой из общей чаши со всеми монахами, а им приходилось тоже черпать оттуда. Вот повезло-то, да? Ну, Максимилиан свое заслужил. Он развратник хуже Тиберия.
– Нельзя ли чуть попочтительнее? Он все-таки мой покровитель.
– Тогда найди себе другого покровителя. У меня вот, например, нет покровителей в гнойных язвах. – Дисмас вздохнул. – Мне что-то расхотелось в «Сады Эдема». А после нашего разговора, наверное, больше никогда не захочется. Но выпить надо по-всякому. Пошли.
Дюрер жил в Тиргартнертере, у подножия замка. Как обычно, приятели пошли в «Жирного герцога» и сели в углу, где потише.
Дюрер хандрил. Дисмас пил пиво, Дюрер – бренди, одну кружку за другой.
Вдруг он сказал:
– Если император действительно помирает, то мне нужен новый покровитель.
– Вечно ты переживаешь из-за денег. Ох, ради всего святого, ведь ты – Альбрехт Дюрер. С голоду не помрешь.
– А ты знаешь, сколько ртов я кормлю? Детей нет, но есть братец Ганс с семейством. И все как один прожорливы. И родственники Агнессы. И прислуга. И подмастерья. И покупка материалов. Поверь, я очень завишу от Максимилиановой пенсии. И от этих рук. – Он вытянул перед собой руки, словно для осмотра. – Все время немеют. А глаза? Что будет, когда я ослепну, а?
– В таком случае, может, тебе все же следует приукрасить портрет Фуггера? Я готов попозировать.
– А какое жалованье платят придворному живописцу? Ну, этому халтурщику Кранаху?
– Фридрих со мной это не обсуждает. Да и что тебе Кранах, Нарс?
– Говорят, он получает двести гульденов в год. Двести! Я за Агнессой столько приданого взял.
– Вряд ли ему столько платят. Но живет он недурственно, это да. Вдобавок, столуясь у Фридриха, голодным не останешься.
– Мне бы так. И это какой-то Кранах! Нет в этой жизни справедливости. Вот и приходится уповать на следующую.
– Слушай, сходил бы ты к мастеру Бернгардту.
– Этот банкир твой, что ли?
– Он гений. Дай ему гульден, он превратит его в дукат, а дукат – в алмаз. Благодаря ему мое состояние выросло в четыре раза.
Дюрер пожал плечами:
– Я поговорю с Агнессой. Деньгами занимается она. Теми, что остались.
– М-да, разговоры у нас – лучше некуда, – вздохнул Дисмас. – Сифилис, папские свищи, полудохлый развратник-император, а теперь вот нищета и голодная смерть. О чем бы нам еще поговорить? О казнях? Поехали со мной в Майнц, а? Там у них каждый день кого-то жгут.
В конце концов Дисмас сумел заставить Дюрера улыбнуться, рассказав, как огорчился Альбрехт, когда выяснилось, что Дисмас не купил ему поддельный байдак святого Петра.
– Но больше всего он хочет плащаницу.
– Плащаницу? Я сварганю ему плащаницу! – От выпитого язык Дюрера начинал понемногу заплетаться. – Такую плащаницу… такую прекрасную плащаницу, что Иисус захочет вернуться с небес и снова в нее замотаться.
– Не говори так, Нарс.
Дюрер грохнул кружкой о стол:
– Эй, Магнус! Шевели своими жирными булками и неси мне еще бренди. И этих твоих конских ссак для моего друга Дисмаса.
– Альбрехту не нужна твоя плащаница, – объяснил Дисмас. – Он хочет ту, что в Шамбери.
Кабатчик Магнус, огромный малый, по счастью терпеливо сносивший шутки в адрес своих тылов, подошел и плеснул бренди в кружку Дюрера.
Тот перегнулся через стол к Дисмасу:
– Знаешь, мы с тобой могли бы недурно подзаработать.
– Мне уже не нравится твоя задумка.
– Все равно слушай. Я делаю плащаницу, а ты продаешь ее своему горе-архиепископу. Двадцать пять процентов – твои.
– Неслыханная щедрость. Как поживает Агнесса?
– В манду Агнессу.
– Я не прочь, но она твоя жена. Нарс, я пытаюсь переменить тему.
– А что такого? Ты же презираешь Альбрехта…
– Я ни разу тебе не говорил, что презираю Альбрехта.
– Да ладно, ты сто раз выражался в этом духе. Он свинья. Не такая свинья, как папа, но тем не менее – свинья. А Тецель? Вот кто настоящий подонок! Эх, на костер бы его…
Дюрер осушил кружку и начал колотить ей по столу. В таверне притихли. Дюрер вскарабкался на стол и распрямился на нетвердых ногах.
– Нарс, сядь! – велел Дисмас.
Дюрер воздел кружку:
– За брата Мартина Л-лултера. Лу-лур…
Все уставились на него.
– Ну же! Вы! Все! Пейте! За Мартина Лу-те-ра. Во! Смерть папе-содомиту!
– Эй! – крикнул кто-то. – Думай, что несешь!
К ним подковылял Магнус:
– Мастер Дюрер. Прошу вас. Не надо скандалов.
Дисмас дергал Дюрера за штанину:
– Нарс, слезай оттуда.
– Магнус, еще бренди! Всем бренди! – Дюрер поднял кружку. – Пейте! Пейте за Альбрехта Дюрера!
– За кого? – переспросил кто-то.
– За Альбрехта Дюрера! Который подтирает задницу картинами Лукаса Кранаха!
Дисмас и Магнус стянули Дюрера со стола и дотащили до дверей.
– Ты великий человек, – бормотал Дюрер, наваливаясь на кабатчика. – Самый великий. Величайший! Величайший во всей… империи.
– Я доведу его до дома, – сказал Дисмас Магнусу.
Ночная прохлада приятно освежала.
– Лишь бы никто не кликнул стражу, – обеспокоенно заметил Дисмас.
– Насрать на стражу. Что они нам сделают?
– Нарс, нельзя залезать на стол в таверне и орать, что папа – содомит.
– Можно. Он же содомит. Л-лулт… Ой, я никак не могу его выговорить! Л-у-у…
– Ты пьян, Нарс.
– Тсс! Погоди, слушай, сейчас скажу. Лу-у-тер. Лутер теперь у нас папа. Дисмас?
– Что, Нарс?
– Я Лутера лублу.
– Ладно. Хорошо. Пойдем.
– Отведи меня к нему, я перед ним исповедуюсь.
– Нарс, брат Лютер – в Виттенберге, а мы – в Нюрнберге.
– Я хочу его написать. Сделаю его бессмертным.
– Полагаю, о своем бессмертии он уже позаботился. К тому же Кранах тебя опередил.
– Кранах? Кранах. Кранах – залупень!
– Тише, Нарс. О господи.
– Он и выглядит-то как залупень.
– Если не утихомиришься, я сдам тебя страже.
– А я буду сопротивляться, – сказал Дюрер, заваливаясь на забор.
Дисмас подхватил друга под локоть:
– Когда Агнесса увидит тебя в таком состоянии, ты пожалеешь, что тебя не сцапала стража.
6. Лодка Рыбаря
Весной Дисмас снова был в Майнце.
Зиму он провел в теплых краях, охотясь за реликвиями для Альбрехта, – последней модой были итальянские мученики VI века, но, помимо них, удалось отыскать и пару других редкостей: ребро святого Хрисогона и отличный фрагмент копчика святой Специозы, принесший, как уверялось, несколько первосортных исцелений. По обыкновению, Дисмас предоставил бы Фридриху преимущественное право покупки, но у Фридриха и без того было столько костей Специозы, что хватило бы на полный скелет.
К собору Дисмас привычно направился по переулку, ведущему в клуатр. Среди покаянцев и молельщиков за углом толпились паломники.
День был не праздничный. Что они тут делают? Разодранные рубища покаянцев пятнала кровь. Дисмас всегда полагал самобичевание вульгарным обычаем. Безрукие и безногие калеки ползли и перекатывались по булыжникам мостовой. Лица многих были обезображены язвами и голодом. Толпа осаждала вход в клуатр, где стояли на страже два ландскнехта – те самые, которых Дисмас видел прошлой осенью.
– Что происходит? – спросил он паломника.
– Лодка апостола Петра. Индульгенция на двести лет!
О господи, подумал Дисмас. Он пробрался через толпу ко входу. Ландскнехт алебардой преградил ему путь:
– А ты куда, паломник?
– Я не паломник. С дороги.
– Вход – десять крейцеров. – Окинув взглядом плащ и сапоги Дисмаса, ландскнехт признал его за состоятельного человека. – А с тебя – пятьдесят.
– Я прибыл по поручению архиепископа, и если ты не уберешься с дороги, то я засуну эту алебарду так глубоко тебе в зад, что она вылезет у тебя из башки и собьет шлем.
Второй ландскнехт шагнул к Дисмасу. Тот выхватил из-под плаща кинжал и приставил лезвие к горлу стражника:
– Не двигайся.
Ландскнехты замерли. Будучи не дураками, они смекнули, что человек, способный так вести себя с ландскнехтами, наверняка имеет какие-то полномочия, если только он не идиот или самоубийца. Из внутреннего двора их заметил какой-то клирик и заторопился навстречу, по-учительски распекая провинившихся:
– Что все это значит? Мастер Дисмас! Эй вы, оба, по местам! – рявкнул он на ландскнехтов. – Живо! Прошу вас, мастер Дисмас.
Дисмас вложил кинжал в ножны и вошел во двор клуатра. Ландскнехты недоуменно и гневно смотрели ему вслед.
– И зачем только его преосвященство держит этих подонков? – спросил Дисмас.
Клирик пожал плечами:
– Мне они тоже не по душе.
Посреди клуатра стояла лодка. Не та, что он видел в Базеле. Эта была одномачтовой, с высоко задранными кормой и носом. Поднятый парус обвис в безветрии замкнутого двора. Коленопреклоненные паломники, окружив лодку, касались остова и бормотали молитвы. Чуть поодаль стоял сундук для продажи индульгенций. Тецель вел бойкую торговлю.
– Помилуйте, что это? – спросил Дисмас.
– Ваша лодка, – удивленно ответил клирик.
– В каком смысле? – Дисмас недоуменно уставился на него.
– Лодка апостола Петра. Та, что вы купили для его преосвященства в Базеле прошлой осенью. Весьма популярна у паломников. Видели толпу снаружи? И так с первого дня. Его преосвященство очень довольны.
Альбрехт принял Дисмаса в кабинете, без посторонних.
– Кузен, мы по вам соскучились. Успешно перезимовали?
– Да, – отвечал Дисмас, с трудом сдерживаясь. – Привез несколько вещиц, которые наверняка заслужат одобрение вашего преосвященства.
– Вы нас ни разу еще не разочаровали, Дисмас.
Альбрехт был в приятном расположении духа, чему, несомненно, способствовал непрерывный звон монет, доносившийся со двора, – звук слаще китайских колокольчиков.
Кашлянув, Дисмас осведомился:
– Позвольте узнать, ваше преосвященство, что за мореходное средство стоит у вас во дворе?
– Невероятный успех, – улыбнулся Альбрехт. – Видели, какие толпы? Идут днем и ночью. Никакого покоя.
– Да, я видел. Однако, с вашего позволения, я спрошу еще раз: что это?
Альберт вздохнул:
– Ну же, Дисмас. Мы ведь не станем устраивать сцену, правда? Это так скучно. Вот, выпейте лучше вина. – Из серебряного кувшина он плеснул в кубок. – Лодка скопирована с мозаики Джотто. Не видели?
– Нет.
– Не глядите букой, Дисмас. Отлично выполненная копия.
– Прошу прошения, но было крайне неожиданно услышать от отца Неблера, что я приобрел ее для вашего преосвященства. В Базеле.
– А, и поэтому мы куксимся? Но ведь вы наш официальный поставщик святынь, так что вполне могли приобрести ее для нас. Гордитесь, Дисмас, это приобретение делает вам честь.
Дисмас ошалело уставился на Альбрехта.
– Если вы беспокоитесь по поводу вознаграждения, – продолжал тот, – то напрасно. Вы будете щедро вознаграждены. Как всегда.
– С позволения вашего преосвященства, это не имеет никакого значения. Я ни при каких обстоятельствах не соглашусь принять вознаграждение за это… эту…
– Дисмас, если она пробуждает в людях духовность, так ли уж важно, что это…
– Фальшивка?
– Импровизация.
– Ваше преосвященство, как ваш официальный поставщик святынь, я прилагаю массу усилий, чтобы…
– Да, да, да… Мы прекрасно осведомлены о вашем профессиональном самоуважении. И знаете почему? Да потому, что вы при каждой встрече нам о нем рассказываете. Нам что, предстоит сейчас еще раз прослушать ваше программное заявление?
В немой ярости Дисмас стиснул под столом кулаки. Какой чудовищный произвол. И его же теперь отчитывают! Альбрехт тем временем завел иеремиаду на другую тему:
– Зима у нас была непростая, Дисмас. Далеко не простая. И мы должны сказать, ваш дядюшка Фридрих не предпринял ничего, чтобы нам помочь. Нет, не так. Скажем прямо, мы удручены, Дисмас. Глубоко удручены.
Разумеется, имелось в виду дело Лютера. Даже за пределами империи, в Неаполе и в Венеции, до Дисмаса доходили новости о событиях на севере. Дюрер не ошибся, сказав, что протест Лютера очень быстро перестанет забавлять Фридриха. О богослове из Виттенберга заговорила вся Европа.
Альбрехт тем временем распалился:
– Этот сумасбродный августинец имел дерзость прислать мне свои мерзкие тезисы. Тезисы! Недурное название для бредней пьяного монаха. А к ним приложил подхалимское письмецо, именуя меня «Ваше блистательное величие», а себя – «fex hominum», дерьмо среди людей. Вот уж что правда, то правда! А затем имел наглость наставлять нас – нас! трижды архиепископа! – касаемо церковной доктрины в отношении индульгенций. Невероятная дерзость! Доминиканцы распространили памфлеты в защиту своего брата Тецеля и его совершенно законных методов, а что сделали виттенбергские студенты? Студенты вашего дядюшки Фридриха? Сожгли памфлеты! Все восемьсот экземпляров! И как же ваш дядюшка наказал такое вопиющее хамство? Очень просто – никак. – Альбрехт взъярился не на шутку. – Далее. Его святейшество потребовал у вашего дядюшки выдать Лютера доминиканцам для проведения дознания. Что делает ваш дядюшка? Снова ничего. Отказывает. Отказывает святейшему папе римскому! – Альбрехт осенил себя крестным знамением. – Когда его святейшество потребовал от Фридриха изгнать Лютера из Саксонии, тот снова отказался. А теперь? Теперь Фридрих говорит, что изгонит Лютера или передаст в руки уполномоченных органов в Риме только на том условии, если Лютеру будет вынесен обвинительный приговор как еретику. Но для дознания и суда он его выдавать отказывается! Это нечто вопиющее! – Альбрехт мученически заломил руки.
– Мне не по чину рассуждать об этих материях, – сказал Дисмас.
– Вы слишком скромны, кузен.
– Я обычный торговец мощами, ваше преосвященство, а не богослов, как вы.
– Так. А скажите-ка мне, любезный торговец мощами, понимаете ли вы, что произойдет с вашей торговлей, если не искоренить ересь, которую распространяет драгоценный монах вашего дядюшки? Как вы считаете, если исчезнут индульгенции, люди по-прежнему станут гоняться за ребром святого Себальда или за локоном святой Аполлонии? Думаете, у вас останется хоть один заказчик, а?
Об этом Дисмас уже задумывался. И Фридрих, несомненно, тоже. Защищая Лютера, Фридрих ставил под угрозу само основание, на котором покоится поклонение реликвиям, и рисковал обесценить свою гигантскую коллекцию. Поклонение святыням играло большую роль в торговле индульгенциями. Если индульгенции отменят, кто захочет ходить на поклон к святым костям?
Негодование и нападки Лютера росли и ширились соразмерно с обличениями, которые неслись в его адрес из Рима. Теперь он направлял свой гнев не только на индульгенции, но и на папский престол. Да еще в каких выражениях! В последнем памфлете он назвал собор Святого Петра «ненасытной базиликой» и заявил, что папа должен строить ее за свой счет, поскольку он богаче Креза.
Свои памфлеты он писал с бешеной скоростью. За ним едва поспевал печатный станок. Лютер отверг таинство епитимьи. Отверг существование чистилища. Отверг верховенство Рима. Земля содрогалась под его сандалиями.
Это было что-то невероятное. Папа римский, император Максимилиан и Альбрехт – три самых могущественных человека не только в Европе, но и во всем в мире – мечтали отправить его на костер. Но всякий раз, когда к вязанкам подносили факел, Лютер выхватывал его и поджигал царственные мантии. Как это удавалось простому монаху? Впрочем, его оберегал Фридрих, отказываясь выдавать своего саксонского подданного в руки сторонних властей. И что это сулило Фридриху? Ничего, кроме враждебности могучей тройки. Как ни парадоксально, Фридрих продолжал оставаться искренним католиком. Насколько известно, он не принимал ни один постулат еретической доктрины Лютера.
Выплеснув гнев, Альбрехт заговорил помягче:
– Вы собираетесь в Виттенберг?
– Сначала заеду в Нюрнберг. Я несколько месяцев не был дома.
– Заверьте нашего брата во Христе Фридриха в нашей непреходящей любви, – вздохнул Альбрехт. – Как поживает его коллекция? По-прежнему обширнее нашей?
– Числом обширнее, – ровным голосом ответил Дисмас, – но в ней ни единая святыня не превосходит блеском лодку вашего преосвященства.
– Он будет нам завидовать.
– Несомненно.
Альбрехт протянул руку для лобызания:
– Счастливого пути, Дисмас. Возвращайтесь к нам поскорее. Привозите чудесные находки. И вот еще что, Дисмас…
– Да, ваше преосвященство?
– Если отступничество Лютера укоренится, то вся коллекция вашего дядюшки, будучи обширнее нашей, и пострадает больше нашей. Напомните ему, что все его залы в одночасье утратят всякий смысл. – Подавшись вперед, он задул большую свечу на столе. – Так и передайте.
7. Катастрофа
Дорога до Нюрнберга тянулась бесконечно. Дисмас, угнетенный возмутительной показушностью Альбрехта, преисполнился самых скверных предчувствий. Кто знает, что ждет впереди? Скорее всего, Лютеру несдобровать даже под протекцией Фридриха.
Спору нет, Фридрих – влиятельная персона: правитель Саксонии, курфюрст, князь-выборщик Священной Римской империи. Но лишь один из семи. Еще одним был Альбрехт. Если император Максимилиан и вправду умирал от французской болезни – а сомневаться в этом не приходилось, – то неизвестно, станет ли его преемник так же сквозь пальцы смотреть, как Фридрих покрывает Лютера. Поговаривали, что трон Максимилиана унаследует его внук Карл, король Испании, более решительный, а вернее – непоколебимый поборник католической доктрины. Он вполне может сказать «довольно» и арестовать Лютера, не обращая внимания на Фридриха. И что тогда? Междоусобная война внутри империи? Выдержит ли ее Фридрих? Разумеется, нет. Эти раздумья тяготили Дисмаса без меры. Он чувствовал себя дряхлым старцем.
Наконец путешествие завершилось: ранним утром из тумана торжественно выступили зубчатые стены и величественные башни свободного имперского города Нюрнберга. Дисмас неожиданно понял, что истосковался по иным видам.
Пришла пора возвращаться в родные края, как сделал Маркус. В горы, в отчий Мюррен – крохотную деревушку на самой вершине огромных скал. Эта мысль, внезапная и пронзительная, наполнила его радостью. Дисмас невольно улыбнулся. Да, время настало. Он пришпорил коня в рысь.
Сначала он заглянет к своему другу Дюреру. Нет, сначала зайдет в баню, отмокнет в горячей ванне, переоденется в чистое, а потом – к Дюреру. Они славно поужинают, немного захмелеют – на этот раз не до такой степени, что Дюрер полезет на стол выкрикивать оскорбления в адрес папы, – после чего Дисмас наконец-то выспится на чистом белье в собственной кровати. А утром отправится к мастеру Бернгардту за своими сбережениями.
Он прикинул, много ли накопил. Согласно последнему отчету мастера Бернгардта – больше двух тысяч золотых флоринов. Приличная сумма. С лихвой хватит на всю оставшуюся жизнь. Для такого богатства нужна повозка. Дисмас чуть было не расхохотался. Да, он отправится домой, найдет себе добронравную милую девушку и напихает ей полное пузо ребятни. Построит дом и каждое утро будет глядеть на горы, на Эйгер и Юнгфрау, – вид, от которого всякий раз захватывает дух. Не надо гоняться за мощами и лебезить перед продажными архиепископами. Дисмасу давно не было так покойно и хорошо – с тех самых пор, когда Хильдегарда и дети были еще живы.
Дюрера он застал в добром здравии. Тот провел зиму в Венеции и с жаром рассказывал Дисмасу о какой-то новой технике, называемой chiaroscuro. Из его объяснений Дисмас лишь смутно понял что-то про контраст света и тени. Дюрер с гордостью показывал свои новые гравюры, и впрямь замечательные, а потом объявил, что пишет труд по математике – науке, в которой обладал глубокими познаниями.
Италия неизменно действовала на Дюрера освежающе, хоть он и осуждал моральный облик итальянцев. Его распирало от новостей. Наслушавшись омерзительных сплетен, в основном про причуды и странные наклонности папы Льва, художник лишь больше укрепился в своем уважении к Лютеру. Дюрер рассказал, как папа, удумав заполучить Урбинское герцогство для своего племянника Лоренцо, затеял войну, обошедшуюся в астрономическую сумму – восемьсот тысяч дукатов золотом. Это возмутило некоторых кардиналов, и они вознамерились отравить папу.
– Жаль, у них ничего не вышло, – вздохнул Дюрер.
Расправа над кардиналами была ужасной.
От папы беседа перешла к последней филиппике Лютера в адрес Рима; в ней он называл папу антихристом и, прости господи, «великой бесноватой вавилонской блудницей». Дисмас взял с Дюрера слово, что сегодня в «Жирном герцоге» обойдется без пьяных поношений.
Дюрер с содроганием вспомнил последствия прошлой гулянки: гомерическое похмелье и Агнессу, в неистовом гневе равную Медее. Друзья решили приятно провести время, на этот раз придерживаясь Сократовой умеренности.
За ужином Дисмас рассказал Дюреру про Альбрехта и его шарлатанскую лодку святого Петра. Упомянул он и об озарении, снизошедшем на него по пути в Нюрнберг, и о планах оставить торговлю реликвиями и вернуться в родные края. Он добавил, что эти счастливые мечты припорошены грустью, поскольку теперь приятели станут видеться реже, и пообещал устроить в доме комнату с большим окном, чтобы Дюрер, приезжая в гости, мог там рисовать.
Дюрер заявил, что в кантонах рисовать нечего.
– Кто мне будет позировать? Коровы?
Дисмас отвечал, что обязательно купит громадное зеркало, чтобы Дюрер мог писать свою любимую натуру.
Дюрер расхохотался. Ужин шел славно.
Потом Дюрер сказал:
– Слава богу, Агнесса не послушалась твоего совета и не отнесла деньги этому пройдохе Бернгардту.
– Ты о чем? – удивился Дисмас.
– Ты забрал у него свои сбережения?
– Покамест нет, а что?
Дюрер с ужасом поглядел на друга:
– Я думал… Ты так благодушен… Вот я и решил, что ты успел забрать деньги.
– Я же был в отъезде, Нарс. Только-только вернулся.
– Боже милосердный… – ошеломленно протянул Дюрер.
– Что случилось?
Дюрер подозвал кабатчика:
– Бренди. Две порции, и побольше.
Магнус ушел к стойке.
– Бернгардт в тюрьме, – сказал Дюрер.
– В тюрьме? За что?
– Вроде как за кражу.
– За кражу? Кого он… обокрал?
– Да всех, – пожал плечами Дюрер. – Всех, кто доверил ему деньги, чтоб он их выгодно вложил. Там список о-го-го какой. По крайней мере, ты в неплохой компании. Эрнст, герцог Брауншвейгский. Герлах фон Изенбург-Ноймаген. Бруно фон Изенбург-Бюдинген и прочие Изенбурги. Многие Шварценберги. Георг, герцог Гогенфельский. Ну и всякие Гогенцоллерны – Фрейнар, Генрих, Франц… – Заметив, как побледнел приятель, он решил хоть как-то его подбодрить: – Может, и Альбрехт фон Майнц держал у него деньги? Самое паршивое, что Бернгардт облапошил не только аристократов – на них-то насрать, они просто выжмут еще денег из крестьян и продолжат пить дорогое вино и развешивать гобелены. Говорят, что ему доверили свои деньги несколько монастырей. И Нойштадтский дом призрения. Ну не скотина ли? А еще – Фюртское общество слепых! Одно дело – воровать у толстосумов, – но у слепых?! Какая наглость! В аду его точно ждет теплое местечко… – Дюрер умолк и тронул Дисмаса за плечо. – Ты что, все деньги у него держал?
На казни мастера Бернгардта, состоявшейся две недели спустя, не было недостатка в зрителях. Все сходились в том, что отсечение головы – слишком великодушный способ доставки презренного мошенника Сатане. Поступали ходатайства о более продолжительных способах умерщвления. Для исполнения приговора намеревались пригласить заплечных дел мастера из Майнца. Среди изобретений, прославивших город, был не только печатный станок. Майнцский палач недавно предложил новый метод экзекуции под названием «большая марионетка». Уши, ладони и стопы приговоренного протыкали громадными рыболовными крючьями, к которым привязывали веревки, и подвешивали несчастного, заставляя его плясать в воздухе вплоть до наступления смерти. («Малую марионетку», позволявшую ногам жертвы касаться земли, использовали для пыток.) К сожалению, городской совет Нюрнберга посчитал, что применение этого способа станет нежелательной рекламой инноваций города-конкурента.
Герцог Гогенфельский, потерявший внушительную сумму, предлагал воспользоваться своей медвежьей ямой и услугами своего паладина Зигфрида. Другие настаивали на тлеющем костре, памятуя о недавнем сожжении ведьмы, которое растянулось почти на целый день благодаря совокупному эффекту крепкого ветерка и сырых фашин.
В конце концов верховный судья Нюрнберга возобладал над крикунами, требовавшими самого жестокого наказания, и, к шумному недовольству толпы, объявил казнь через обезглавливание. Впрочем, когда мастера Бернгардта вывели к Вороньему камню, присутствующие убедились, что пребывание мошенника в нюрнбергской темнице было не из приятных. Однако же это мало кого утешило.
Дисмас не присутствовал на казни. Он погрузился в чернейшую депрессию, две недели не вставал с кровати, почти не ел и не пил. Верный Дюрер приходил каждый день, а то и чаще, настойчиво стучал, но Дисмас не собирался открывать.
После того как Бернгардту отрубили голову, а четвертованный труп оставили на расклев воронью, тлетворный сон Дисмаса был прерван отчаянным стуком в дверь.
Дюрер с топором в руках истошно вопил, что если его не впустят, то он прорубит себе вход.
Дисмас поднялся и зашаркал к двери.
– Боже, ну и вонища у тебя! – ужаснулся Дюрер.
– Я тебя не приглашал. Уходи.
Дюрер распахнул окна настежь и принялся разгонять зловоние. Потом собрал платье и заставил Дисмаса одеться.
– У меня есть прекрасная новость. Но если я останусь здесь хоть на секунду дольше, то все заблюю. Идем.
Дисмас словно бы разучился ходить. Дюрер волоком дотащил его до бань, потом до цирюльни, где Дисмаса побрили и вычесали вшей, а оттуда отвел к себе домой. Агнесса встретила Дисмаса суровым взглядом:
– Ты и впрямь хотел, чтобы мы отдали свои деньги этой скотине?!
– Агнесса, охолони, – сказал Дюрер. – Лучше накорми его. Ты же видишь, он оголодал.
– Так ему и надо.
– Агнесса!
Агнесса вышла, сердито ворча себе под нос.
Дюрер провел Дисмаса в мастерскую, подальше от жены.
– Надо же, – притворно вздохнул Дюрер. – Кто же знал, что «Меланхолию» надо было рисовать с тебя?!
Гравюра повсеместно считалась одной из лучших работ художника. Дисмас не отреагировал на замечание.
– Так вот, ты готов выслушать благие вести? Или предпочтешь выпрыгнуть в окно и разбиться до смерти?
– Ну рассказывай уже.
– Вряд ли с моей помощью ты заработаешь столько же, сколько умыкнул у тебя этот подонок Бернгардт, но тебе вполне хватит на беспечальную жизнь в занюханном кантоне вместе с какой-нибудь смазливой пейзанкой. Дисмас, ты слышишь?
– Каждое слово, – рассеянно пробормотал Дисмас.
– Я намерен изготовить плащаницу.
Дисмас уставился на него:
– По-твоему, это благая весть?
– А ты продашь плащаницу этому поганому своднику, Альбрехту, – заявил Дюрер и, видя, что Дисмас осмысливает услышанное, поспешно добавил: – Только сначала решим, как поделить выручку. Не волнуйся, денег мы заработаем кучу, потому что я создам шедевр.
Дисмас уплетал кроличье рагу. Тяжелый нрав Агнессы не мешал ей отлично готовить.
– Не спеши, подавишься, – предупредил Дюрер, в четвертый раз наполнив миску приятеля. – Вроде как оживаешь. Рассказать тебе про казнь? Все явились поглазеть. Может, сделать гравюру? Разлетится в одночасье.
– Нет, – ответил Дисмас.
– Почему?
– Потому что не хочу услышать, что, перед тем как ему отрубили башку, он попросил священника о Божьем прощении. Не хочется думать, что Господь его простит. – Дисмас утер рот, залпом осушил стакан вина и откинулся на стуле. – Так вот, про твою задумку. Ты же знаешь, плащаниц – море. Я лично видел… ох, не помню сколько. Сотни.
Нарс презрительно фыркнул: так-то оно так, да только ни одна из них не вышла из-под кисти Альбрехта Дюрера. Несколько лет назад он пробовал писать темперой по льну, с превосходным результатом. Пересыпая рассказ математическими терминами, Дюрер начал объяснять пропорции человеческого тела. Затем завел бесконечную, но ученую речь о каком-то монахе-францисканце из Болоньи, который написал большой трактат о методах измерений и перспективе…
Дисмас делал вид, что слушает. Мысли его были заняты более прагматичными вопросами. Во-первых, холст. Он знал одного торговца в Аугсбурге, который снабжал изготовителей плащаниц палестинским льном характерного плетения, за свой вид называемого «рыбья кость». Собственно говоря, холст и являлся самым качественным элементом плащаницы. Дисмас хотел сообщить это Дюреру, но тот безостановочно вещал что-то о «трехосной соразмерности пространств». Улучив момент, Дисмас все же сумел встроиться в поток словес:
– Чем ты собираешься писать?
– Как это – чем? – Дюреру вопрос явно казался дурацким. – Кровью, разумеется.
– Человеческой?
Дюрер задумался:
– М-да, с этим материалом я никогда прежде не работал. Нужно будет ее развести, чтобы создать эффект старения. Возможно, понадобится ржавчина. Окись… Растертые в порошок железные опилки… – забормотал он себе под нос.
– Жаль, что не кровью Бернгардта.
– В свежей человечьей крови недостатка нет – головы-то рубят чуть ли не каждый день. Наймем какого-нибудь огольца, пусть посидит с ведром под эшафотом. Но действовать придется оперативно, иначе кровь свернется. Ключевым элементом будет холст.
– Да, я так и думал.
– Ты же понимаешь, – сурово изрек Дюрер, – что это будет не простая плащаница?
– Да, Нарс. Ты уже говорил. Это будет шедевр.
– Я не об этом. Нужно придумать легенду о том, откуда она взялась и как она оказалась у тебя.
– Это называется «провенанс».
– Спасибо, Дисмас, я в курсе.
– Шамберийская плащаница, на которой помешался Альбрехт, впервые упоминается в пятидесятые годы четырнадцатого века. Значит, наша теоретически должна появиться раньше. А ты умеешь подделывать документы?
– Ну ты спросил, – обиженно протянул Дюрер.
– Тоже мне, невинное созданье! Значит, я придумываю легенду, а ты стряпаешь соответствующую документацию.
– Похоже, мне придется все делать самому.
Дисмас ошалел от такой наглости:
– Сначала невинная крошка, теперь – мученик? Кто из нас двоих рискует больше? Давай так: я рисую плащаницу и сопроводительные бумажки, а ты едешь в Майнц и кладешь башку на плаху.
Дюрер фыркнул:
– Если уж Альбрехт готов выставлять напоказ лодку святого Петра, то к первоклассно исполненной плащанице у него навряд ли будут вопросы. Поэтому ты ничем не рискуешь, а вот мне предстоит огромный труд.
– Пятьдесят на пятьдесят.
– Семьдесят на тридцать.
– Тогда отбой. Я намерен продать душу дьяволу за достойную цену.
– Хорошо, – трагически простонал Нарс. – Ладно. Договорились. Мы все равно выкатим такой ценник, что Альбрехту придется взять еще одну ссуду у Фуггера. Предлагаю за это выпить. – Он наполнил кружки. – Говори тост.
– В первую очередь неплохо бы выпить за то, чтобы Господь простил нас, грешных.
– Честно говоря, это довольно упаднический тост.
– А как, по-твоему, Господь отнесется к нашей затее? Мы замышляем святотатство и жульничество.
– Пути Господни неисповедимы. А вдруг это часть Его замысла?
Дисмас вытаращил глаза:
– Надуть архиепископа, всучив ему фальшивый саван Христа? Часть замысла Господнего?
– А что такого? Альбрехт и сам дерьмо, и архиепископ из него дерьмовый. Одна только эта лодка его чего сто́ит! По-моему, вполне очевидно, что мы совершаем богоугодное дело.
– Ага, у меня вот-вот крылья прорежутся. Не пори ерунды, Нарс. Мы делаем это из самых низменных побуждений. Ради денег.
– Ну и что? Если тебя так мучает совесть, раздай свою половину нищим. Я свои денежки придержу. Кто сказал, что богоугодные дела делаются задаром?
Дисмас поднял кружку:
– За милость Божью, да пребудет она безграничной.
Выпили.
– Только без автопортретов, – предупредил Дисмас.
Дюрер закатил глаза.
– Нет-нет-нет, – сказал Дисмас, – не надо корчить рожи. Если на плащанице где-то окажется твое изображение, я не стану втюхивать ее архиепископу Майнцскому.
– За кого ты меня принимаешь?
– За талант первого порядка. И за нарциссиста на порядок выше.
– Выше первого порядка не бывает. Ты ничего не смыслишь в математике. Но ладно, договорились. Как будет благоугодно поставщику святынь при дворах Майнца и Виттенберга.
– По рукам. А теперь давай надеремся. В следующий раз случай представится не скоро.
8. Майнцская плащаница
Дражайший и всененагляднейший Дядюшка! С превеликим души трепетанием обращаю я к Вашему Всеблаготворству эти строки, дабы допревнести до высочайшего внемления весть о приобретении поистине причюдестном и всевосхитительном…
Дисмас бросил перо и выругался. Писатель из него был никакой, это правда. Вдобавок он чувствовал себя последней скотиной, адресуя это надувательство дядюшке Фридриху. Несколько раз он порывался изодрать лист в клочья, но напоминал себе, что если Дюрер прав, то Фридрих никогда не получит этого послания.
Он снова взялся за перо и продолжал:
Вы многажды соизъявляли хотение всемерное залучить какую-нибудь Истинную Плащаницу Спасителя Нашего. Я многажды обтружался утруждался поисканиями указанной вышеозначенной пресвятой святыни согласно всеублажению пожеланий Вашего Светлейшества оным образом изъявленных. И впрямь из самочестнейших устремлений декларировал противление свое…
Дисмас застонал. Проще было бы заплатить какому-нибудь щелкоперу, чтобы тот написал письмо за него. Но это исключалось.
…клеймил плащаницы которых встречал. Но теперь я думается сприподобился узреть ту самую холстину, в которой Спаситель Наш восположен был во Могилу Его.
Как это дело заимело быть место могли бы вопросить Ваше Многолюбие? Очень даже истинно. Я о том поведаю сейчастно. Всенесомненно Присномудрому дядюшке известен некий Бонифаций Монфератский, ославившийся заслуженно снискавший хулу в Четвертом крестовом походе в ранние годы тринадцатого века летоисчисления Христова? Воистину! То самое злозачатое предприятие когда христьянские италийцы вероломно и прецинично жестоко поубивали на смерть христьянских своих братьев, сестер, стариков, беременных женщин и невинных младенцев – возопиеше грех пурпурный! – во Граде Константиновом. И кроволитие то великое было долго и обильно, а жаднокровие свойное взалкаше пресытя предались они града разорению и святостей его ухищению. Истинно говорю, кощунственная хула и святотатство, имя тебе Четвертый поход!
Одной святостью из оных, доселе неведомая и неслыханная об, была истинная холстина погребальная Господа Нашего Иисуса Христа. С худолетья того 1204 года от Рождения Спасителя Нашего, под каковым имею ввиду я вышепомянутый поход крестовый, эта ИСТИННАЯ святая холстина имела место находиться в руках наследника ранее помянутого ранее многопаскудного Бонифация, который, Хвала Господу и всем святым, претерпел заслуженную кончину от руки равножадного до кроволития ему Болгарского Царя Калояна вскоре после. О чем мы возликоваше!
Саван Спасителя унаследовала дочь его Беатриса, маркиза Савонская, после и поелику передавался он по женской линии рода до тех пор паче…
Дисмас писал до глубокой ночи. Решив не удручаться безграмотностью, он дал волю фантазии в отношении фактологических аспектов провенанса. В заключение письма он предупредил дядюшку Фридриха, что уплатил «цену самую ненавистную» настоятелю каппадокийского монастыря, где якобы и обнаружил святейшую из святынь.
В постскриптуме он упомянул, что отбывает с драгоценным грузом из Нюрнберга в Виттенберг через неделю с даты письма, и извинился, что посылает такое конфиденциальное послание с императорским фельдъегерским курьером, ибо хочет, чтобы новость достигла Фридриха как можно скорее. Он подписался «Преданный Вам племянник», почувствовав при этом еще один укол совести.
Перечитав корявую вязь, точнее, липкие тенета криводушных заверений, Дисмас устыдился еще больше, но снова напомнил себе, что Фридрих письма никогда не увидит, так как предназначено оно исключительно для глаз другого его покровителя – Альбрехта Майнцского.
Дисмас свернул письмо в тугой свиток и, вместо того чтобы запечатать сургучом, перевязал шнурком. Снаружи он вывел: «СРОЧНО И СТРОГО КОНФИДЕНЦИАЛЬНО ЕГО ВЫСОЧЕСТВУ ФРИДРИХУ III БОЖЬЕЙ МИЛОСТЬЮ КУРФЮРСТУ САКСОНСКОМУ».
Крикливая адресация, несомненно, привлечет внимание диспетчера фельдъегерской службы, получавшего приличное содержание от главного шпиона Альбрехта. Письмо вскроют, скопируют слово в слово и вышлют копию срочным курьером в Майнц, а оригинал придержат и отправят в Виттенберг обычным ходом. Таким образом наживка для Альбрехта будет заброшена. Приятели решили, что это раззадорит Альбрехта много сильнее, чем если бы Дисмас просто заявился в Майнц с Нарсовой плащаницей на продажу.
А к тому времени, когда письмо доберется до Виттенберга, чернила, смешанные Дюрером, исчезнут. Хихикая, друзья представляли себе, как императорский курьер прибывает со сверхсрочным посланием для курфюрста, раскрывает сумку и вручает секретарю Фридриха девственно-чистый лист.
Дисмас понес написанное Дюреру. В последние недели Дюрер не пускал приятеля в мастерскую, а сам носа оттуда не высовывал. Приходилось переговариваться через закрытую дверь, и Дисмасу это надоело.
Еще больше его беспокоило, почему Дюрер так долго возится. Дисмас нервничал. С каждым днем плодились слухи о переговорах Альбрехта с Римом насчет кардинальства. Последнее архиепископство обошлось в десять тысяч дукатов золотом. Поговаривали, что за кардинальскую шапку папа запросил втрое, если не вчетверо, а значит, Альбрехту снова придется обращаться за ссудой к Фуггеру. Останутся ли у него деньги еще и на плащаницу?
Дверь Дисмасу открыла Агнесса – как обычно, в сварливом расположении духа. Она была чрезвычайно недовольна поведением мужа, который заперся в мастерской и едва выходил поесть, что было чудаковатым даже по меркам самого Дюрера. В мастерскую он жену не пускал. А она желала знать, в какую гнусность он снова ввязался. В том, что это гнусность, сомнений у Агнессы не было. Никаких.
Дисмас попробовал ее успокоить. Художники – народ особый, не как все нормальные люди. Очевидно, Дюрер испытывает приступ вдохновения и работает над чем-то потрясающим.
– И прибыльным, – добавил он.
Увы, рапсода не возымела успеха. Агнесса, громыхнув крахмальными юбками, унеслась в свои покои. Дуться.
Дисмас постучал кулаком в дверь мастерской и прошипел:
– Нарс, открой.
– Поди прочь.
– Кранах управился бы скорее.
Дверь распахнулась.
Впустив Дисмаса, Дюрер немедленно захлопнул и запер дверь.
– Еще не кончена.
Дисмас разглядывал холст на мольберте. Такой работы Дюрера он никогда прежде не видел. Невероятная тонкость и четкость прорисовки позволяла различить каждую ресницу, каждый волосок бороды. Это было похоже на замысловатое пентименто, проступившее на картине маслом, оставленной выцветать на солнце в течение полутора тысяч лет.
Лик завораживал. Ясно было, что при жизни человек претерпел ужасные муки, но посмертный образ источал предвечную умиротворенность. В изображении сквозили черты его создателя, но сходство было мимолетным. Должно быть, Дюрер сдерживал себя изо всех сил!
– Что скажешь?
– Хорошо, Нарс. Правда хорошо.
– Еще несколько штрихов. Потом сложим в осьмушку – так проще перевозить. И надо будет еще подпалить края.
– Подпалить?
– Для достоверности.
– Зачем?
– Кто из нас знаток реликвий? Если плащаница существует с тридцать третьего года от Рождества Христова, то без подпалин не обойтись.
– Хорошо. Только не спали дотла.
Большим и указательным пальцем Дюрер бережно потер уголок холста:
– Не бойся, все будет отлично. Так сколько запрашиваем?
Дисмас окинул полотно оценивающим взглядом:
– Две сотни дукатов.
– Две сотни? За это?!
– Хорошая цена, Нарс.
– Уж лучше даром отдать. Я всю душу сюда вложил!
– Твоя душа прекрасна, спору нет. – Дисмас снова поглядел на плащаницу и вздохнул. – Ладно, попробую слупить триста. Но не гарантирую.
Дюрер скрестил руки на груди:
– Пятьсот дукатов и ни пфеннигом меньше.
– За такие деньги он потребует тело Христово.
– Ха! Он их за месяц отобьет. Истинный саван Христа! Народ повалит отовсюду. Магеллан развернется на полпути в Индию, чтобы посмотреть.
– Попросить пять сотен можно, но это не означает, что мы их получим.
– Пять сотен. И ни дукатом меньше, – заявил Дюрер, любуясь своей работой. – А Фридрих?
– Что – Фридрих?
– А он сколько даст?
– Тьфу на тебя! Как тебе только не совестно?! Я и так чувствую себя последней сволочью из-за этой вот… брехни. – Дисмас протянул Дюреру черновик письма. – А если твой фокус с исчезающими чернилами не сработает, я…
– Ладно, не зуди. Ты хуже Агнессы. – Дюрер прочел послание и хмыкнул: – Боже милостивый, ну и мерзкий же у тебя слог! Правописание, грамматика… Который год отираешься возле Фридрихового университета, а пишешь как последняя деревенщина.
– Прошу прощения, что это не соответствует вашим высоким стандартам, – парировал Дисмас.
– Что ж, сойдет и так, – хохотнул Дюрер. – Все равно Альбрехт обдристается от счастья, да так, что всю сутану обмарает.
– Остается лишь надеяться, что завязки архиепископского кошеля дадут такую же слабину, как архиепископское нутро.
9. Кесарю – кесарево
Спустя пять дней после вручения письма императорскому почтмейстеру Дисмас, тщательно упаковав сложенную в осьмушку плащаницу, неспешно направился в Виттенберг.
К середине второго дня пути, на подъезде к Байройту, за спиной Дисмаса раздался топот копыт. Шесть всадников, под началом Витца, лейтенанта Дрогобарда. Дисмас удовлетворенно отметил отсутствие ландскнехтов. Хороший знак. Альбрехт сообразил, что Дисмасу будет неприятно увидеть ландскнехтов в группе перехвата.
Дисмас с притворным удивлением оглядел отряд. Витц держался почтительно, однако же заявил, со всей мягкостью, на какую только способен солдафон, что архиепископ требует Дисмаса к себе. Безотлагательно.
– Зачем? – осведомился Дисмас.
Этого Витц сказать не мог. Дело государственной важности.
Дисмас изобразил замешательство. Он ведь направляется в Виттенберг. И тоже по делу государственной важности.
Витц стоял на своем. Не желая затягивать спектакль, Дисмас сказал, что раз дело и вправду такое срочное, то он, разумеется, согласен отправиться с ними к своему досточтимому покровителю.
После двух дней неустанной скачки они переправились через Рейн и устремились навстречу шпилям Майнца, сиявшим в лучах заката.
Дисмас гадал, чем Альбрехт объяснит свое бесцеремонное вмешательство в чужие планы. Вряд ли он, как обычно, воскликнет: «А, Дисмас!» – а потом заявит, что его шпионы перехватили послание Фридриху.
Во дворце архиепископа слуги спешно сгружали вещи с повозки Дисмаса. Кожаный футляр размером с большую Библию Дисмас оставил при себе. В футляре лежала плащаница.
– Дис-мас! Любезный кузен! Как мы рады вашему приезду! Вы не устали с дороги?
Дисмас опустился на колени, готовясь лобызнуть архиепископово кольцо.
– Бросьте, бросьте, все эти условности ни к чему, – сказал Альбрехт, поднимая его на ноги.
– Надеюсь, мой кузен в добром здравии? Лейтенант не смог объяснить, чем вызвана такая срочная необходимость в моем присутствии.
– Садитесь же! Вы, должно быть, утомились. Вина мастеру Дисмасу, – велел Альбрехт слуге.
Вино, и преотличное, немедленно подали и разлили по кубкам. Слуга удалился.
– Дисмас, до нас дошли сведения, что обнаружено кое-что интересное.
– Правда?
– Да. Плащаница.
– Неужели?
– С поистине великолепным провенансом, – улыбнулся Альбрехт.
– Любопытно.
– Судя по всему, ее происхождение относят к более ранней дате, чем появление Шамберийской плащаницы.
Дисмас с притворной неловкостью заерзал в кресле, хотя особенно притворяться и не приходилось.
– Невероятная новость. А позвольте полюбопытствовать, каким образом мой кузен добыл эти сведения?
– Ах, Дисмас, – снисходительно улыбнулся Альбрехт, – мы все-таки архиепископ Бранденбургский, Майнцский да еще и Гальберштадтский. Нам известно все, что происходит в наших владениях.
– Заботливый пастырь и впрямь должен приглядывать за паствой, – улыбнулся в ответ Дисмас. – Наверное, это очень утомительное занятие. Бескрайние угодья. Бесчисленные стада. Агнцы и козлища…
Альбрехт удивленно наморщил лоб:
– Неужели вас не взволновало это известие? Обнаружена священная реликвия, истинная погребальная пелена Господа нашего Иисуса Христа. – Альбрехт осенил себя крестным знамением.
Перекрестившись, Дисмас подтвердил:
– Разумеется, это потрясающая новость.
Теперь они смотрели друг на друга в упор.
– Бедный герцог Савойский, – вздохнул Дисмас.
– Почему это?
– Когда истинная плащаница будет явлена миру, то герцогская станет тем, чем и была с самого начала, – никчемным лоскутом. Кто же теперь потащится в Шамбери поклоняться отрезу холстины? Прощайте, паломники. Бедный герцог.
– Ага! Значит, мой кузен все-таки знает о новой плащанице?
Судя по смущенной гримасе на лице Дисмаса, он отчаянно старался не выдать тайну.
– Кузен, я попал в чрезвычайно щекотливое положение.
Альбрехт сочувственно кивнул:
– Ах, сын мой! Вы же знаете, что любовь наша к вам безгранична. Чем мы можем помочь? Доверьтесь нам, снимите бремя с души своей.
– Видите ли… упомянутая вами вещь… ну… Честно говоря, она при мне.
– Mirabile![3]
– Но, к сожалению, я должен уведомить моего кузена, что предмет этот просватан.
– Как это просватан?
– Обещан курфюрсту Фридриху.
Альбрехт впился глазами в кожаный футляр, покоившийся рядом с Дисмасом:
– Дисмас, нам до́лжно лицезреть ее.
– Может быть, вам лучше ее не видеть, кузен? Иначе вы только…
– Что?
– Я опасаюсь, что это воспалит в моем кузене алкание…
– Изъясняйтесь по-человечески.
– Жажду обладать ею. От нее исходит великая сила…
– Дисмас, мы настаиваем.
– Как будет угодно моему кузену, – вздохнул Дисмас.
У стены стоял длинный стол из монастырской трапезной. Дисмас обмахнул столешницу, бережно опустил на нее футляр, расстегнул ремешки и осенил себя крестным знамением. Альбрехт перекрестился следом. Дисмас благоговейно развернул плащаницу и отступил в сторону:
– Ecce homo[4].
Альбрехт ахнул.
Вечером они встретились за трапезой в покоях Альбрехта.
После осмотра плащаницы Дисмас, сославшись на усталость, оставил Альбрехта наедине со святыней, дабы распалить его алчбу.
Ужин подали превосходный. Изысканные яства следовали одно за другим, в сопровождении лучших вин из дворцовых погребов. Альбрехт то и дело наполнял кубок Дисмаса. Предвидя такой поворот событий, Дисмас загодя выпил плошку оливкового масла, чтобы умастить желудок и не опьянеть. Он притворился захмелевшим.
– Значит, плащаница обещана курфюрсту Фридриху?
– И да и нет. Да. Нет, – забормотал Дисмас. – То есть да. Можно сказать, обещана.
– Так да или нет?
Дисмас поднял кубок и заявил:
– А давайте выпьем? За Фридриха Мудрого, курфюрста Саксонии. За его здоровье, да будет оно долгим. И жизнь тоже.
– За Фридриха, – мрачно отозвался Альбрехт. – Так вот, плащаница. С какой стати она вдруг обещана Фридриху? Да и обещана ли? Мы не понимаем вас, Дисмас.
Дисмас на нетвердых ногах встал из-за стола, повернулся к плащанице и воздел кубок:
– А теперь за плащаницу… – Он сконфуженно осекся. – Кузен, а приличествует ли пить за саван Господа нашего Иисуса Христа? Вино достойное, спору нет…
– Да сядьте уже, Дисмас. – Альбрехт понемногу терял терпение. – Да-да, приличествует. За плащаницу. А скажите…
– Знаете, кузен, – перебил его Дисмас, – я всю свою мощедобытческую жизнь мечтал найти истинную плащаницу. И вот Всевышнему стало угодно, чтобы так оно и вышло. – Дисмас перекрестился. – И я предлагаю выпить за Господа Бога. Это приличествует, разумеется?
– Приличествует. Мы не сомневаемся, что Господь Бог возрадуется. А скажите, по какому праву Фридрих притязает на плащаницу?
– А ему всегда хотелось ее заполучить, – пожал плечами Дисмас и стукнул кулаком по столу. – И теперь он ее обретет! Винцо у вас превосходное, кузен.
– Я рад, что вам нравится. Вот, выпейте еще. Послушайте, вам ведь известно, что нам тоже всегда хотелось заполучить плащаницу. Совсем недавно мы просили вас договориться о приобретении шамберийской святыни.
– Совершенно верно. Просили. Да. Я помню. Да. – Он перегнулся через стол к архиепископу. – Вот что я вам скажу, кузен…
– Что?
– Как только я отвезу истинную плащаницу дядюшке Фридриху, то, если вам угодно, поеду в Шамбери, узнать, не согласится ли герцог Савойский расстаться со своей? – Дисмас рыгнул. – Ох, пардоньте. Сами понимаете, когда в Виттенберге выставят настоящую плащаницу, герцог Савойский сам захочет продать свою. – Дисмас погрозил пальцем. – Бьюсь об заклад, я сторгую ее за сходную цену. Скажу ему, мол, ваше савойство, теперь-то целый свет знает, что ваша плащаница – рухлядь, льняная тряпица, а настоящая – в Виттенберге. Нет, право, отличное винцо!
– Дисмас, послушайте нас. Нам не нужна савойская плащаница. Нам нужна вот эта. – Альбрехт указал на длинный стол.
– Знаю, знаю, – сочувственно вздохнул Дисмас. – Право же, мне жаль, что я пообещал ее дядюшке Фридриху, но теперь уж ничего не попишешь.
– Сколько он за нее предлагает?
– Дело-то не в цене, правда?
– Дисмас, я вас спрашиваю. Сколько?
– Ну, если спрашиваете, шесть сотен.
– Шесть сотен? – ошеломленно переспросил Альбрехт.
– Ага. Дукатов.
Альбрехт швырнул салфетку на стол:
– Фридрих согласился заплатить такую неслыханную цену?
– Угу, – кивнул Дисмас. – Плюс накладные расходы.
– Что за накладные расходы?
– Путь до Каппадокии и обратно – та еще одиссея. Знаете, сколько меркантильные венецианцы нынче дерут за место на корабле до Анатолии? А там надо платить караванщикам. И проводникам. Нанять охранника из мамлюков. И еще одного, чтобы охранял от первого. Жуткий край! Потом нужно платить каждому встречному и поперечному султану за разрешение…
– Да-да, мы понимаем, это, несомненно, затратное предприятие.
Альбрехт промокнул салфеткой испарину со лба, встал из-за стола и подошел к плащанице.
– Кузен, – робко окликнул его Дисмас.
– Что?
– Простите, но с вас пот ручьем…
– И что с того?
– Видите ли… Там же… святой саван Господень.
– Ох! – Альбрехт отступил подальше от стола. – Ладно. Пять сотен. И пятьдесят в счет накладных расходов.
Дисмас беспомощно всплеснул руками:
– Кузен, я же обещал ее Фридриху!
Альбрехт строго посмотрел на него:
– Кузен, вам известно, что творится в Виттенберге?
– Я же был в Каппадокии…
– С прискорбием сообщаю, что Виттенберг превратился в гнездилище ереси.
– Ох. Правда? Хм. Как скверно.
– Это чудовищно. Вынужден уведомить вас, что ваш дядюшка покрывает бесовского супостата нашей Святой Матери Церкви. Я имею в виду богомерзкого августинца брата Лютера, да смилуется Господь над его прокаженной душой.
– Да, я слыхал, что…
– Известно ли вам, Дисмас, что ваш дядюшка Фридрих отказался выдать Лютера братьям-доминиканцам для проведения дознания?
– Ай-яй-яй.
– Более того, он вообще отказывается выдать шельмеца кому-либо еще, хотя этого неоднократно требовали не только мы, но и его святейшество. Что вы на это скажете?
– Ну, я не теолог, но мне кажется это… некрасиво.
– И вы, Дисмас, собираетесь предать эту святейшую из реликвий в самое логово порока? – Альбрехт с благоговением взглянул на плащаницу и перекрестился.
Дисмас сконфуженно наморщил лоб. Затем лицо его просветлело.
– А вдруг она поможет очистить логово порока?
– Каким же образом?
– Ну, может, при виде плащаницы Лютер раскается. Или дядюшка Фридрих осознает свои заблуждения и выдаст Лютера вашим добрым братьям-доминиканцам.
– Мы не имеем права рисковать, Дисмас. И сейчас мы обращаемся к вам не как добрый кузен, а ex cathedra.
– Как это?
– Официально, Дисмас, по долгу служения. С нашей позиции архиепископа. Как полномочный представитель Святой Церкви.
– Вот оно что! Мне следует преклонить колена?
– В этом нет надобности. Слушайте, Дисмас. По совести мы не можем позволить вам увезти погребальную пелену Спасителя в Содом и Гоморру. Ни в коем случае. Таким образом, именем нашей Святой Матери Церкви мы, смиренный ее прислужник, вынуждены настоять на нашем праве владения этой святыней. Не беспокойтесь, с вами рассчитаются. Хотя, должен признать, пятьсот дукатов – воистину ошеломительная цена.
– Пятьсот пятьдесят. Там же накладные расходы.
– Как скажете. По рукам?
Дисмас неохотно кивнул:
– Что ж, грех ослушаться своего архиепископа. Так ведь?
– Тяжкий грех, – подтвердил Альбрехт.
– Значит, выбора у меня нет. Вот только что сказать дядюшке Фридриху?
– Господь всемогущий, наш Судия суровый, но правый, сам разберется с Фридрихом. А мы приложим все старания, дабы вернуть заблудшего агнца в лоно Святой Церкви.
– Бедный дядюшка Фридрих, – вздохнул Дисмас.
Альбрехт положил ему руку на плечо:
– Смиритесь. Плащанице предначертано остаться здесь. Господь вами очень доволен. Как сказано в Писании, отдавайте кесарю кесарево, а Божие Богу.
– Ну, тогда конечно… – кивнул Дисмас.
10. К чертям Чистилище
В Нюрнберге Дисмас прямиком направился к своему собрату-заговорщику – доложить о проделанной работе. Успех предприятия, по старой заговорщицкой традиции, отметили перворазрядной попойкой.
– И тут он говорит: «Отдавайте кесарю кесарево…»
Ха-ха-ха-ха!
Веселье правило бал за столиком в углу «Жирного герцога».
Дюрер покачал головой:
– Надо было просить больше. Я так и знал.
– Пятьсот пятьдесят дукатов – недурственно за день работы. А вот еще, слушай. Да послушай ты! Ты слушаешь или как?
– Да.
– На следующее утро я притворился больным с похмелья. А он стал убеждать меня, что мы сговорились за четыре сотни.
– Вот говнюк! Надеюсь, ты не…
– Нет, конечно.
Дисмас запустил руку в карман и вынул горсть золотых дукатов. Он высыпал их на стол, роняя один за другим, звенящим водопадом.
– И как ты объяснишь Агнессе, откуда взялись дукаты?
– Я об этом пока и не думал, – поморщился Дюрер.
– Купи ей что-нибудь милое.
– Помело?
Ха-ха-ха-ха!
– Лучше ожерелье. Как обычно, я за тебя уже все обдумал.
– Хрен с ним, с ожерельем. Я скажу, что император наконец заплатил мне за Ахенский алтарь.
– Ты расписывал Ахенский алтарь? А все говорят, что этот, как его там…
– Он самый и есть. Но ей-то откуда знать?
Ха-ха-ха-ха!
– Как же весело, Нарс! Все вокруг весело. Даже мне весело. А я, между прочим, родом из кантонов. В кантонах отродясь никто не веселился. На-ка вот, еще бренди… – Дисмас плеснул бренди на стол, промахнувшись мимо кружки.
– Ты мне здесь хлев не разводи! – попенял ему Дюрер и, обмакнув палец в лужу бренди, стал что-то рисовать на столешнице. – О! Новый материал, новая техника письма. Господи, я так многогранен!
– Что ты там рисуешь? Погоди, дай угадаю. Автопортрет. Точно! Очень похоже, кстати. Вылитый ты. Глаза такие же ясные.
– У тебя напрочь отсутствует чувство прекрасного. Но чего еще ждать от швейцарской деревенщины? Ты что, слепой? Это же портрет Альбрехта. В слезах!
Ха-ха-ха-ха!
Дюрер рыгнул.
– Художник запечатлел момент, когда выяснилось, что плащаница, приобретенная архиепископом за пятьсот пятьдесят дукатов, – подделка. Видишь, как бедняга убивается? Да и черт с ним. У него теперь есть работа Дюрера, которая ценнее любой истинной плащаницы.
Дюрер склонился над лужицей и спросил у нее:
– Ну что, доволен теперь, архидурачина?
– А с какой стати он обнаружит, что это подделка? – обеспокоился Дисмас.
– Я пошутил. А ты шуток не понимаешь. Кому-то из нас надо срочно выпить. Наверное, тебе. Или мне.
Дюрер полез в карман и тоже вытащил пригоршню дукатов. Он расставил их аккуратными столбиками по столу.
– Мои красивее твоих. Но на то я и художник. Глянь, как они мерцают в свете свечей. Вот она, истинная красота. Слышишь? Или опять замечтался об альпийских коровах? Какой же ты все-таки филистимлянин, Дисмас! Но – добрый филистимлянин. – Он снова занялся дукатами. – Я их напишу. И назову картину «Натюрморт с дукатами Альбрехта»!
Ха-ха-ха-ха!
– Кстати, – сказал Дисмас. – На каждом дукате должен быть твой портрет. Тогда у тебя будет великое множество автопортретов.
– Лучше расскажи, как он отреагировал на ценник.
Подражая голосу Альбрехта, Дисмас произнес:
– Должен признать, пятьсот дукатов – воистину ошеломительная цена.
– Между прочим, после твоего отъезда в Майнц я узнал, что Альбрехт берет взятки. От императора.
– Взятки? За что?
– Максимилиан помирает и хочет оставить трон внуку Карлу – испанскому королю. Поэтому последними оставшимися у него дукатами он подкупает курфюрстов, чтобы те голосовали за Карла. Если бы я только знал об этом раньше! Надо было просить тысячу. Две тысячи…
