Читать онлайн Каннибалы бесплатно
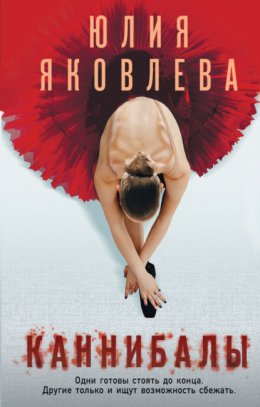
Актер: Трагедии, сэр. Убийства и разоблачения, общие и частные, развязки как внезапные, так и неумолимые, мелодрамы с переодеванием на всех уровнях, включая философский. Мы вводим вас в мир интриги и иллюзии… клоуны, если угодно, убийцы – мы можем вам представить духов и битвы, поединки, героев и негодяев, страдающих любовников – можно в стихах; рапиры, вампиры или и то и другое вместе, во всех смыслах неверных жен и насилуемых девственниц – за натурализм надбавка, – впрочем, это уже относится к реализму, для которого существуют свои расценки.
Том Стоппард. Розенкранц и Гильденстерн мертвы
© Яковлева Ю., 2020
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2020
Глава 1
1
Умирать мне не понравилось.
Обычно как себе это все представляешь: громкий хлопок, как в ладоши – и ты даже не понял, что он относился к тебе, как наступила непроницаемая, тихая бархатистая темнота.
Так я себе это представлял, когда вообще задумывался, как оно может кончиться, что называется, при исполнении.
Так вот, все оказалось совсем иначе. Жизнь, говорят, обманывает. Как выяснилось, смерть тоже. Во-первых, умирать долго. Во-вторых, больно. И тьма никак не наступает. Горели фонари в мокрых ореолах. Плескались на воде блики. Жирно отражался свет в мокром черном асфальте.
В Питере он всегда мокрый (хорошо, не всегда, а как правило). На фоне неба видны были еще более темные угловатые дылды с клювами: портовые краны. Вода плюхала. Со стороны погрузки стукало и лязгало – в питерском порту работа идет даже по ночам. На это, собственно, мы и рассчитывали, когда устроили им здесь засаду. Мы не ошиблись. Они пришли, как и говорил информатор.
Ошиблись мы только в том, что отгружали они вовсе не паленые сигареты без таможенных накладных. Никто не станет стрелять из-за сраных сигарет. Даже в питерском порту. Даже в… Это потом их все стали называть лихими девяностыми, а тогда это просто были девяностые. 96-й год, если совсем точно.
По-видимому, у меня было пробито легкое. Боль толчками хлестала внутрь из разорванной трубы вместе с кровью. Боль заполняла грудь. Я примерно понимал, что происходит: кровь устремлялась в полости, давила сразу на все – сосуды, нервные окончания. Как будто внутри тебя растет железное ядро. Странно: в такие моменты, оказывается, слушаешь одновременно внутри и снаружи – что происходит. А паники почему-то нет.
Только раздражение оттого, что в бок врезается острым краем поребрик, а позу не сменить – тело тяжелое и неповоротливое, как мокрый парус. Это не метафора: я и был мокрым – выстрел отбросил меня в лужу. Такую длинную глубокую лужу, из каких мудаковатые водилы любят окатывать пешеходов на краю тротуара. Подумал только: вот блядь. Но не из-за выстрела. Из-за лужи.
Потом врач мне объяснил, как так: в такие моменты в теле херачит адреналиновая помпа. Заглушает все. За что ей, конечно, большое спасибо.
Внутри я слушал, как распирает, растет железное ядро.
А снаружи слышал шаги. По мокрому асфальту. Жирный звук отдираемого пластыря.
Я лежал щекой на асфальте (спасибо, не в луже). Шершавом, уже согретом моим лицом. Я увидел ботинки. Коричневые, с манерными дырочками. Видно, итальянские. И так мне стало досадно! Что не взял гада, что будет он ходить в своих ботиночках… А умирать мне жалко не было. К этой мысли я давно привык: однажды все кончится, и возможно, это случится «при исполнении». В принципе, к мысли привыкаешь настолько, что больше не думаешь о смерти совсем. А зачем? – все равно работа такая.
Жизнь – такая. Не будешь же каждый день выходить из квартиры и думать: а если обвалится под ногами лестничный пролет? А если сорвется на голову козырек подъезда? Случайная машина вырвется из-за угла – с водителем, уснувшим на несколько мгновений, – последних в твоей жизни. И так далее. Возможно? Конечно. Но как правило, в жизни не случается ничего. Лестничные пролеты стоят, козырьки торчат, водители крутят баранку. И обычно везет. До сих пор, во всяком случае, как-то обходилось.
Штанины над фасонистыми ботиночками изменили угол. Он, видно, присел. Руки распахнули на мне куртку. Пушку свою он сунул себе под мышку, чтобы не мешала: я смотрел на длинный лунный блик на стволе. Руки его шарили по мне, порылись во внутреннем кармане. Вынырнули с бумажником. Щелкнула кнопочка.
– Мент, значит.
Видно, до сих пор он в этом сомневался. Видно, беспокоился: не другие ли братки подставу устроили. Ан нет, родная милиция. Удостоверение полетело на асфальт.
Опять мне стало досадно: знать бы, что налетим здесь на наркоту, привели бы с собой кавалерию, хрена бы они от нас ушли. Эх…
А потом он нашел в бумажнике еще что-то:
– Ишь.
– Что там? – нетерпеливый голос, еще один.
В ответ я услышал только тишину: видно, тот, первый молча поднял повыше бумажник, показал другому. Что еще за хрень? Не деньги же он мои показывает. Второй не сказал ничего. Но я опять услышал звук отдираемых репейников: тот, второй, приближался. Я заставил себя, плюхнувшись в луже как издыхающий тюлень, перевернуться на спину. Железное ядро внутри перекатилось тоже, так что в глазах у меня блеснуло от боли. Но теперь я видел харю первого. Уши-пельмени, сбитый нос, неандертальский лоб. Бывший боксер. Он изучал фотку в моем бумажнике.
Голос его странно дрогнул:
– Малявка есть, значит.
Я вспомнил: фотка. Вот на что они смотрели. На лицо. Пухлый и лысый, крошечные изящные черты, как будто вырезанные и вылепленные на щекастой булке. Все младенцы нелепы. Днем в управлении я поднял эту фотку с пола, сунул в бумажник, чтобы… да не важно. И к вечеру о ней совершенно забыл.
Но тут пушка из подмышки бывшего боксера снова перекочевала в лапу. Отверзлась щель рта:
– Так вот, это не из-за меня, это из-за тебя, дебила, малявка остается сиротой.
Шаги того, второго, зачавкали быстрее. Как будто быстрее закачался маятник, побежало последнее время, которое мне осталось в жизни.
Бывший боксер вытянул руку с пушкой. В темноте его кожаная куртка казалась обмазанной черной икрой. Я глядел и глядел на его харю. На маленькие глазки под низковатым лбом. На расплющенные уши. И это моя смерть?
– Уяснил?
Заминка длилась несколько секунд. Этого хватило. Я засек быстрое черное движение на самом краю моего глаза: взметнулся черный рукав. Затем в мозгу отпечаталась картинка: две фигуры. Одна в куртке, другая в пальто, складном, по фигуре. Некстати вспомнилось что-то школьное: человек в футляре. Первый направил пистолет на меня. Другой бесшумно и точно приложил дуло к уху-пельменю боксера. А дальше было, как я себе всегда представлял: негромкий звук хлопка в ладоши. И фигура в куртке как бы осыпалась, осела, завалилась, потом с кокосовым звуком треснулась рядом со мной об асфальт голова.
Увидел ли он потом тихую непроницаемую тьму? По его мертвому лицу было не понять. Пулей снесло большой кусок черепа. Кровь легла широкой черной лентой.
Человек в футляре, вернее дорогом пальто, подошел ближе. Какие у него были ботинки – не знаю. Но думаю, тоже хорошие. Ему всегда нравится лучшее – до сих пор нравится: лучшие бабы, лучшие тачки, лучшие шмотки, говна не надо. Я смотрел вверх, на небо без звезд. В Питере оно почти всегда закрыто облаками. Сил повернуть голову у меня уже не было. Он рассматривал мое лицо – без любопытства, но я заметил некое… смущение, что ли? И лацканы пальто.
Он присел на корточки. Опять посмотрел на фотку младенца в моем бумажнике. Отвел глаза. Смешно. Бандюки сентиментальны, да: котята, младенцы, мама родная, боженька – вот это все. Я не удержался. Почувствовал, как на губах надулся кровавый пузырь, лопнул, обдав мне глаза, щеки, лоб соленой мокрой пылью. Рот сразу наполнился кровью. В груди сипело. Но получилось – я расслышал собственный голос:
– Ты что, хороший человек?
Кровь теперь текла по подбородку. Он опять посмотрел мне в глаза. Обычная русская рожа. Как будто бы задумался над вопросом.
– Нет, – ответил он серьезно.
Я снова увидел пистолет. Добьет меня?
А потом край шарфа: он вытер им пистолет. Через шарф же – вложил в мою руку. Сжал вокруг рукоятки деревянные пальцы – мои.
– Я плохой человек, – подтвердил он мне. И пошел прочь. В другую сторону. Не туда, откуда сплошной мерцающей стеной уже летели с воем ментовские сирены.
Как ни крути, а он спас мне жизнь. Вот и познакомились.
Рассказываю об этом, чтобы объяснить, как вышло потом все остальное. Он все-таки спас мне жизнь. И он пожалел чужого ребенка. Это главное, что я хотел о нем знать все эти годы. А что еще нужно знать друг о друге? За что еще держаться, когда меняется вокруг – все?
Годами я думал, что, как все хорошие люди в нехорошем месте, он немного стесняется своей доброкачественности, скрывает ее от других, от упырей.
Я только сейчас понял: он мне тогда не соврал. Он вообще довольно честный. Без крайней необходимости не врет. Чисто для гамбургского счета: той ночью обманул его – я. Так уж вышло. Когда во рту полно крови, не поговоришь, поэтому скажем так: я ему не сказал правду. Про фотку в бумажнике, из-за которой он меня и пожалел. Но об этом я как-нибудь потом расскажу. Сейчас важно, что той ночью не обманул меня – он. Он тогда сказал чистую правду: он – очень плохой человек.
Но как же так получается, что мы всегда видим только то, что хотим увидеть? То, что ожидаем. Узенький клин вместо целой картины, да и тот – неверный. Не человека как он есть, не ситуацию, а то, чему нас уже научила жизнь. Ее ненужные уроки: то, что ты уже видел раньше, к чему привык. А не то, что есть на самом деле. Прошлое всегда побеждает будущее – так, что ли?
Вот где засада.
Как так выходит? Почему? А?
2
Бывают такие дни, когда через жопу идет все, думала Света. Просто такие дни. Собираешься выпить кофе, выкатить на работу, отстоять свое «здравствуйте, чем могу помочь» и «всего хорошего», так что от улыбок щеки начинают ныть.
Света нередко подумывала, что об ее тренированные щеки уже можно колоть орехи. Лучше об задницу бы так. Но на абонемент в фитнес-центре, даже со скидкой для сотрудников, денег не было. Можно, конечно, бегать – за улицу платить не надо. Но по утрам хотелось поспать. А по вечерам среди мерцающих огоньков многоэтажек бегать было страшновато. Получалось не бегать, а рыскать. Да и вообще, московский воздух вредно вдыхать полной грудью, она читала. Журнал советовал тренироваться в закрытых помещениях с кондиционером и очистителем. То есть отправлял в фитнес-клуб, на который денег нет.
То есть они были – на абонемент, тем более со скидкой для сотрудников. Но ведь понятно же, что одного абонемента мало. Он потянет за собой приличные трусы, спортивный лифчик, леггинсы и футболку от Stella MсCARTNEY, хорошие кроссовки, и сумку, в которую все это уложить. Хотя бы Adidas. Да, и полотенце: Calvin Klein. Как минимум. Выйдет дорого. Можно, конечно, все купить в H&M. Но – нельзя. Все же на виду.
Света проверяла шкафчики, вынимала и выкидывала брошенные там салфетки, прокладки, отлепленные пластыри, пустые бутылочки из-под шампуня, геля, лосьона. На руках – тонкие одноразовые резиновые перчатки, но все равно: «Вот свиньи! – всякий раз удивлялась она. – Богатые бабы, а такие засранки, неужели самим не противно?» Ей самой было бы противно. За собой надо убирать. На людях-то. На виду.
Света всегда была на виду. За стойкой ресепшен. В раздевалке, которую полагалось убирать каждые два часа. Мимо сновали голые тетки, нарочно сбросив полотенца, – себя показывали, других разглядывали. Очевидно, показывать друг другу футболки от Стеллы Маккартни было недостаточно. Мерялись, у кого больше титьки, у кого подтянутей задница. А кому еще показывать? Мужу-то все это давно надоело, предполагала Света.
Голые, тощие, с неестественно большими шарами впереди, они снова кричали друг перед другом: здесь я, посмотри на меня! Я существую… «Бедняги», – пробовала думать Света. Но сама себе не верила. Взгляды у теток были, как у щук. Неподвижные и исподлобья. Не от злобы, скорее всего. От ботокса, парализовавшего лицевые мышцы. Но выглядело, будто озлобленные.
Даже дома у Светы не получалось быть совсем одной: кухню, коридор, ванную и туалет она делила с соседкой Ирой. Ира тихая и симпатичная, но все равно: прокладку как попало не бросишь. Не то чтобы хотелось разбрасывать по дому прокладки. Дело в принципе. Прокладку Света туго скатывала, потом аккуратно заворачивала в упаковку от новой и только потом опускала в ведро – приличный зеленый сверток.
«Перед чужими – неудобно», – все детство наставляла мать.
Один раз Света нашла в шкафчике раздевалки толстое серебряное кольцо. Зажала в руке. Сунула под перчатку. Сердце бешено колотилось. Продолжала убирать, как ни в чем не бывало. Потом сунула скомканную перчатку в карман. Дома кольцо померила: велико. В Интернете нашла марку: дорого. Так оно с тех пор у нее и валялось дома. Больше ничего интересного в шкафчиках не попадалось.
Тот день начался с того, что сгорела кофеварка. Алюминиевая итальянская. В нужное время она не забулькала, не зашипела, а вокруг пояска пошли коричневые пузыри. Света остудила под краном, развинтила. Оказалось, сгорело резиновое кольцо. Видно, завинчивала детали слишком сильно. Или кофеварка была на самом деле не итальянская, а обычное китайское говно. Куплено-то в Москве, не в Италии.
Потом пришлось пропустить поезд метро – на «Алексеевской» люди стояли так плотно, нечего было и думать, чтобы ввинтиться в вагон.
Потом надо же было где-то выпить кофе? Завернула в стеклянную дверь на Тверской. Пахло хорошо. Но тетка впереди выбирала себе кофе с таким озабоченным видом, как будто такой и только такой кофе ей предстояло пить всю оставшуюся жизнь. Хотелось пнуть. Света дергалась, понимала, что опаздывает на работу. Уже опоздала. Но опоздать с кофе было все-таки чуть-чуть лучше, чем опоздать без кофе. Поэтому дождалась своей картонной чашечки. Тем более, может, все обошлось. В их фитнес-клубе самые ранние посетители обычно спешили – «чекинились», проводя клубной карточкой по терминалу. Им и ресепшен-то ни к чему.
И только когда она скинула куртку, нацепила бейдж, ринулась за стойку, на ходу собирая волосы в хвост резинкой, ей не повезло по-настоящему. Потому что именно в это утро явилась на тренировку Мадам. Большая Мадам. Владелица не просто именно этого клуба, а всей сети, и фанатка тренировок. Обычно она тренировалась у себя на Рублевке, ближе к дому. Но то ли в этот раз ночевала в городе. То ли назначила раннюю деловую встречу здесь же, в «Мариотте». То ли вообще развелась с мужем.
Нет, Света не была такой важной птицей, чтобы ее уволила лично владелица. Мадам взгрела менеджера Севу. И может даже, не из-за пустого ресепшена вовсе. Не только из-за него, во всяком случае: мало ли что еще в клубе было не так, как следовало. Сева выскочил с уже вздутыми на шее жилами. Распаленный невозможностью огрызнуться на босса, он обрушил нерастраченный пыл куда мог: на Свету.
И только тогда Света поняла, как давно и как много она хотела ему сказать. Ну а чего молчать, если уже все понятно? Свету понесло.
«Вот пусть тебя теперь папик кормит!» – вякнул ей в спину Сева. «И прокормит!» – огрызнулась она.
Урод.
На Тверской Света поразилась, как давно не видела Москву при дневном свете и в будний день. Легкость охватила ее. Огромный, почти непочатый день лежал перед ней. И чувство, будто сбежал с уроков. Сентябрьская хмарь казалась уютной, а не унылой.
Света нашла кафе посимпатичнее. Заказала кофе и яблочный штрудель в лужице ванильного соуса. Села за столик, расстегнула куртку. Сфоткала штрудель с кофе. Выложила в инстике. Подвинула к себе тарелку. Но легкость ушла. Света отковырнула вилкой кусок штруделя. Есть не хотелось. Беспокойство свербело – она ошибочно приняла его за голод.
Когда в Москве снимаешь квартиру и тянешь от зарплаты до зарплаты, на паузу встать нельзя. Даже на месяц.
Снова достала телефон. Вакансии в Москве.
Света не боялась. Москва тоннами пожирала такую вот мелкую рыбешку: везде требовались официантки, девчонки на ресепшен, продавщицы. Только и надо, что выбрать место посимпатичнее. В сетевых кафе всегда жутко воняет горелым маслом. В «Макдональдсах» противная публика. В ИКЕЕ орут дети и сухой воздух, от которого уже через час болит голова, – наверное, поэтому там всегда ссорятся пары. Света кликала, просматривала. Сохраняла подходящие в избранное. Варианты были. Это немного успокоило.
Потом пошла в кино. Отвлечься. В темноте мысли постоянно сворачивали к поиску работы. Точнее, денег. Но фильм понравился.
Потом потолклась в торговом центре. Съела салат. Еще раз убедилась, что сетевые кафе – нет, нет и нет. Померила охапку шмоток в «Заре». Пока в примерочной – хорошо. А вынесешь из магазина – сразу превращается в пластмассовую тряпку, как будто, оплатив, разрушаешь какую-то магию. Света не дала себя обдурить. Да и какой смысл покупать сейчас, если в январе будет сейл? Свалила шмотки продавщице с бейджем – пусть сама теперь вешает обратно. Но кстати, «Зара» – тоже вариант, если что.
На улице Света почувствовала, как на нее наваливается сразу все: Москва, сентябрь, длинный пустой день. Хотелось пить. Света увидела зеленую вывеску «Азбуки вкуса». Дорого, конечно. Но от бутылки минералки не разорится.
Света шла мимо полок с пустой корзиной на руке. Поглядывала на немногочисленных покупателей. Вот эта – одиночка-фитоняша. А этот явно собрался на свидание: в корзине болтаются сырная нарезка, виноград, коробка шоколадных конфет, – мужчина опустил к ним бутылку с блестящей розовой этикеткой. «Ну точно, кобеляж», – отметила Света.
Оглядела полки с бутылками. Надраться захотелось решительно и бесповоротно. Она сперва глядела на ценник. Ужасалась. Но кое-что нашлось.
На кассе прокатила карточку. Терминал зажужжал. Выпустил короткий чек.
– Недостаточно денег на счете, – холодно заметила кассирша, глядя ей куда-то в солнечное сплетение. Вслух обязательно? – рассердилась Света: теперь вся очередь знает: полезла, мол, со свиным рылом в калашный ряд.
Кассирша сделала движение рукой – отставить бутылку в сторону. Света почувствовала, что надраться теперь не просто хочется. А хочется смертельно.
– Подождите… Наличными.
Кассирша ждала, мечтательно глядя поверх кассы. «Чтобы принц из очереди залюбовался», – беззлобно подумала Света. Она принялась вылущивать из сумки, из карманов бумажки, монеты – сбрасывала на пластмассовое блюдце перед кассой. Телефон держала в руке, чтобы не мешал. Чувствовала, как краснеет. Деньги были мятые. Лицо кассирши стало еще мечтательнее. Видно было, что та едва скрывала злость, но неподалеку маячил супервайзер.
Телефон зазвонил прямо в руке, и хотя момент был самый неподходящий, Света ответила, не глядя на номер.
Кассирша принялась пересчитывать деньги. Расправляла в руках. Выклевывала монетки.
– Алло.
– Это Смирнова, – голос заполошный. Какие-то все нервные сегодня. – Ира не с тобой?
Светина соседка Ира подрабатывала у Смирновой нянькой. Не для самой тетки, конечно, для ее мелкого, Костика. Ответила трубке:
– Нет.
– А еще два рубля? – это уже кассирша. Тон как у прокурора. Света почувствовала жар от груди до лба. Выдавила, глядя на кассиршу в упор:
– Мне очень надо.
И соврала неожиданно для себя:
– Меня парень бросил.
Кассирша впервые поглядела ей в лицо.
– Пить – не надо, – пробормотала, но тихо, и смахнула деньги в кассу. Женская солидарность.
– Я Иру с утра не видела. А что? – ответила Света в телефон. Но Смирнова уже отрубилась.
Бутылка приятно звякнула в сумке, подсказывая, где ключи. Света отперла дверь. Дом был хороший – послевоенная сталинка. С высокими потолками и просторной шахтой-клеткой, в которой плавал обновленный недавно лифт. Нашли через знакомых знакомых. Поэтому не умереть как дорого. Но все равно пришлось снимать на пару. Света нашла квартиру, поэтому комнату выбирала первая: взяла хоть и с книжными полками (пыль!), зато большую, особенно понравились двери. Не дверь – а двери: две створки с окошками. Свете показались роскошью. И паркет елочкой. За окном, правда, трамвайное депо. Оно засыпало глубокой ночью и начинало тренькать снова – тоже среди ночи, но уже с другой стороны, заставляя вспомнить школьное из Пушкина: «одна заря сменить другую спешит, дав ночи полчаса». Не проблема: Света спала с затычками в ушах. Ире досталась комната поменьше. Просторная кухня в этой квартире заменяла гостиную: в углу даже стоял диванчик, видный в дверной проем прямо из широкого даже не коридора, а холла (тоже в книжных полках).
И сейчас на кухонном диванчике обнаружился их лендлорд Миша. Нога за ногу, руки скрещены на груди.
Света прижала локтем сумку с бутылкой.
– Привет, – хмуро поприветствовал он. И сразу перешел к делу: – Деньги где?
Вообще, Миша не досаждал. Деньги они ему оставляли на кухонном столе, в последний четверг месяца. Один месяц – Света. Другой – Ира. И только по тому, что вечером конверта не было, понимали, что днем побывал Миша. А так – не беспокоил. Ни идиотских внезапных инспекций, ни идиотских требований сохранить бабушкин сервант (квартира досталась уже без серванта – бабушка Миши была интеллигентной: журналисткой, переводчицей или типа того). Ни внезапных родственников, которым срочно надо «где-то» переночевать. Миша был клад. Портили его только реденькие бакенбарды на жирном бабьем лице – и какая-то неприятная самодовольная слабость: «потомственный москвич», как это определяла для себя Света, не уважавшая всю породу. Москва – город приезжих, зачем ей москвичи?
– Ира оставила, – ответила. В этом месяце должна была платить Ира.
– Да? Только что-то я ничего не нашел, – раздраженно сообщил Миша.
Света вошла – увидела: стол был пуст. Врет или нет? До сих пор не врал.
Миша поморщился:
– Ты всегда в ботинках по паркету ходишь?
Света посмотрела на пол.
– Извините.
Развязала шнурки. Вынула одну ногу, другую.
– Ира не оставила, – Миша сделал ударение на «не» и сразу занервничал – на губе показались капельки пота. Дело пахло выяснением отношений, а потомственный москвич Миша этого не умел и боялся. Вымирающий вид, давно поняла Света. Ботинки ему сними, как будто сам потом пол мыть будет, придурок.
Но Ира! Как это – не оставила? С Ирой все было в порядке. Обычно.
– В этом месяце Иркина очередь.
– Мне все равно, чья очередь. Я не хочу в это вникать. Я вообще не должен знать, как вы там между собой договорились, – Миша говорил слишком много и слишком быстро для хозяина положения, то есть квартиры. Что с него взять. Он и баки называл – долларами.
– Тысячу долларов, пожалуйста…
Вообще, Ира не подводила. Обычно.
– Сейчас, – успокоила его Света. Вынула телефон.
– Я ей позвоню. Она же очень аккуратная.
С этим Миша не спорил. Кивнул. И даже расплел свои толстенькие ножки. Теперь они стояли рядом, как две кегли.
Ирин номер был у нее среди «самых популярных». Нажала. Гудки. Голос оператора: абонент не отвечает. И голосовая почта.
– Не понимаю, – ответила механическому голосу Света. – Ира же обещала.
– Так поговори с ней! – взвизгнул Миша. Он понимал, что сейчас надо построже, но не умел орать.
Ира набрала опять:
– Вот, сами послушайте.
Оба послушали длинные гудки. Потом включилась голосовая почта.
– Хорошо, – сказал Миша недовольно. – Завтра.
И добавил – как будто внутри черепа голос ему сказал «Будь мужчиной!»:
– Мне все равно, чья у вас очередь платить. Чтобы завтра деньги были. Завтра я приду со слесарем и, если денег нет, поменяю замок.
– Деньги будут. Вы что, Иру не знаете, – заверила Света и подумала: «Вот засранец». А еще потомственный москвич с интеллигентной бабушкой. Дверь закрылась.
Она поставила бутылку на стол. Села на диван, еще теплый от Мишиной задницы.
Набрала Ирин номер. Длинные гудки. Голосовая почта.
– Ирка, привет, это Светка, ты где? Тут у Миши кипеж. Ты деньги приготовила? Ты где?
А потом вспомнила, что уже это спрашивала.
Просто бывают такие дни, когда через жопу – все. Нужно было срочно смягчить контуры мира. Положила телефон на стол. Стала искать штопор. Выдвигать ящики, надеясь, что интеллигентная бабушка пила. Зазвонил телефон.
Видно, Ира.
– Привет, – невольно пыхнул в трубку Миша. – Я опять поднимаюсь.
Вспомнил о манерах: предупредил. И даже дождался, пока Света сама отопрет. Не тыкал своим ключом, как будто в квартире нет чужого человека. Это в нем было все-таки хорошо.
Миша снял ботинки.
– Послушай, я подумал. Ты права. Это все-таки не очень на нее похоже.
«Он что, в нее втюрился?» – удивилась Света. Или из-за штуки так беспокоится?
– Я деньги найду. Не проблема.
Еще какая проблема. Но что она должна была сказать?
– Это понятно, – быстро вставил Миша.
«А мне вот нет», – подумала Света: где найти до завтра штуку баксов, она не знала. Миша кашлянул:
– Давай в полицию звонить.
– Да найду я деньги! Что вы сразу!
– Не в этом дело. Я по-человечески.
«По-человечески замок не врезают», – подумала Света. Но сказала:
– Да все в порядке.
– Давай лучше позвоним.
Сообразил – поправился:
– Я позвоню.
Света пожала плечами.
– Звоните, если хочется.
Миша вынул телефон. Нашел на сайте номер горячей линии, куда предлагалось звонить, если у вас ушла бабушка в маразме, сбежала дочь-подросток или еще кто-нибудь. Дождался ответа. Объяснил. Очевидно, там спросили: вы муж? Потому что Миша ответил: «знакомый», потом – «друг». Света показала жестом: громкую связь. Миша выпучил глаза – не понял, потом сообразил – включил:
– …взрослая – девица-то ваша, – недовольно вещал голос.
– Ну и что? Взрослый человек тоже может пропасть, – Миша не убеждал, тем более не приказывал, он мягко доканывал. «Тоже метод», – подумала Света.
– Нет оснований для розыска, – отчеканил голос, но, видимо, опомнился, что говорит с человеком и о человеке, смягчился: – По знакомым, родственникам – искали?
– Нам некому больше звонить, – вмешалась Света. – У нее тут больше никого нет, в Москве.
– Иногородняя? – перебил голос.
– Ну да, – Свету неожиданно для нее самой задело.
– Ну так к родне скорее всего укатила. А вам сказать забыла. Или не захотела. А вы нас от настоящих дел отвлекаете, – с укоризной проговорил.
– Конечно, – вмешалась Света. – В другом городе…
Гудки.
– Ну, наверное, они правы, – промямлил Миша. – Линия-то горячая, они должны действовать четко, быстро и по правилам. Давай ее родне на всякий случай позвоним?
– Да не знаю я ее родни! Что вы из-за тысячи долларов, в самом деле! Сказала же – найду завтра. Послезавтра в крайнем случае. Дайте мне чуть-чуть времени.
Миша посмотрел от нее. На лице у него будто со стуком опустилась картонная дверка, как в киоске.
– Хорошо. Послезавтра, – холодно сказал он. И на этот раз ушел.
Штопор нашелся. Телефон опять зазвонил. Света проверила кто. Смирнова, мамаша того мальчика. К которым Ира ходила вроде няни. Света ответила, чувствуя, как под желудком зарождается холодок:
– Алло.
Желудок тотчас свело: Смирнова плакала. Хлюпала носом и шумно дышала. Света испугалась.
– Вы что!?
– Ира… Ира…
Свете стало жутко.
– Ты прости… Везде ищем… Полиция и Лера. Ира с Костиком ушла гулять…
Сквозь хлюпанье сумела выговорить:
– И не вернулись.
3
Пропавший ребенок, да еще такой мелкий – Костик уже ходил, но еще толком не говорил – это, конечно, совсем другое дело. Костика искали и полиция, и – как выразилась его обезумевшая мать – Лера: отряд волонтеров «Лера», названный так по имени однажды пропавшего ребенка. «Лера» искала людей.
«Хорошо, что я не успела бахнуть», – подумала Света уже в метро. Свежий винный запах был бы ну совсем некстати. Чувак из «Леры» предлагал сам приехать за ее телефоном, но Света сказала: на метро-то быстрее. И ее не затруднит.
Лучше, чем сидеть одной и бухать от жалости к себе.
А теперь думала: наверное, он там всем говорит, мол, она сама тащится, думает, телефон ее тут сопрут. Стало немного стыдно. Но ненадолго. Света вообще считала стыд крайне непродуктивным чувством.
Ей представлялась просторная, бурлящая от людей комната. На форменных куртках – крупные буквы. Наверное, видела в кино.
Смирнова жила на проспекте Вернадского.
У метро к Свете тут же подскочил плотный дядечка:
– Вы Света? Я Олег, «Лера».
«А отчество?» – хотела спросить Света, она не любила фамильярность – слишком уж быстро та переходила в простое свинство. Но Олег уже пошел, бросив и ей:
– Идемте.
В квартире у Смирновых было тихо и пусто.
Света повесила куртку.
– Разрабатываем стратегию поиска, – объяснил Олег.
– Это что, все? – удивилась Света. Маловато.
– Группа работает от игровой площадки.
На диване хлюпала в бумажный платок Смирнова. Лицо красное, опухшее.
– Соберитесь, – почти сердито выговаривала ей девушка в свитере. – Сейчас нужно соображать ясно. Это главное, чем вы можете помочь Костику. Вы поняли?
Та кивнула.
Оттопырив зад, наклонился над столом парень, оперся на руки: перед ним лежал телефон.
– Работаем, – ответил из телефона усталый мужской голос и отключился.
– Полиция, – пояснил парень вошедшему Олегу без отчества. – Пока ноль.
– Дайте ваш телефон, – протянул Свете руку Олег без отчества. Другие что-то записывали со слов Смирновой: имена, номера. Проверяли адреса по карте Гугл.
Света отдала телефон. Вместе отошли к столу.
Он спросил пин-код. Просмотрел и выписал что-то из истории звонков. Проверил смс. Выписал. Нашел вотсап. Проверил, выписал. Комментировать свои действия или что-то Свете объяснять не считал нужным. Может, просто не мог тратить на это время. Свете стало скучно.
Она осторожно заглянула через стол. Олег без отчества скролил ленту ее фейсбука. Перебрался в Ирин. Хмурый. Брыли на щеках, брыли под глазами.
– У нее есть еще инстаграм. А у меня нет, – подсказала Света.
– Отлично, что вспомнили, – оживился тот.
Нашел Ирин профиль в инстаграме. Света вытянула шею. Но дядечка проворно вскочил, чуть не боднув ее снизу в подбородок. Заорал:
– Есть наводка!
– Нашли Костика? – в нос, с надеждой спросила Смирнова.
– Есть зацепка, – спокойно объяснила девушка в свитере: – Это очень хорошо.
«Вот работка, – не позавидовала ей Света. – Сиди и изображай тормоз, чтобы родственники не послетали с катушек».
Олег схватил свой телефон:
– Пятнадцать ноль семь. Сквер у театра. Люся, ты с семьей.
Девушка в свитере кивнула. Три мужика ринулись в тесную прихожую, стали натягивать куртки.
Света глянула – на экране улыбающаяся розовая мордочка Костика в синей шапке. Позади колонны. Театр, рано темнеющее осенью московское небо – фиолетово-серое.
А ей-то – куда?
– Идемте! – нетерпеливо позвал ее Олег – тот, с брылями. – Нужны все.
Она схватила с пустого стола свой телефон. Свернула инстаграм, сбросила картинку с Костиком.
В тесном жарком лифте Олег без отчества велел:
– Наберите еще вашу подружку.
Света с трудом выпростала руку – все тут же уставились на экран. Гудков на этот раз не было. Механический голос ответил сразу: «Абонент временно недоступен».
4
– Ничего не надо делать. Это же Попечительский совет театра.
– А председателю? – не поверил Борис, который только что принял полномочия, но еще не был ни на одном заседании.
– Особенно председателю, – веско подтвердил Востров, который эти полномочия вчера сложил – на плечи Бориса.
– В балете волочешь?
– Не очень, – признался Борис.
Это сильно приукрашивало действительность. Балет он не видел никогда. Так, только какие-то подскакивающие худосочные ножки и грибные шляпки юбок, трепыхающиеся в такт, на экране телека в 1991 году; но такой балет видели все, кто видел 1991 год. Ни разу не увидеть балет в Питере – общепризнанной столице российского балета – надо было, конечно, умудриться. Но тогда Борису было не до балета. Потом переехал в Москву, и стало некогда. Теперь балет догнал его сам.
Согласился Борис легко – еще один попечительский совет, подумаешь. Он уже числился в десятке разнообразных комитетов и советов, из которых с культурой была связана примерно половина. Все просто. Борис возглавлял «Росалмаз», а «Росалмаз» был компанией по добыче – как явствует из названия – преимущественно алмазов. Но вопреки названию, не только в России. В России компания платила налоги – официальные, в виде процента. И неофициальные, в виде спонсорской помощи десятку разнообразных учреждений: университетов, исследовательских центров, музеев, библиотек. Теперь вот добавился и театр.
Первая сумма Бориса не испугала. Речь в контракте шла о переводе некой артистки Беловой из театра, г. Петербург, в театр, г. Москва. Обе труппы были государственными, но назначением платежа был трансфер, как будто переводили не балерину из театра в театр, а футболиста из клуба в клуб. «Это в рублях?» – любезно сострил Борис, отвинчивая колпачок ручки «Монблан». Ему казалось, он слышал, что артисты зарабатывают мало: о слава, яркая заплата на бедном рубище, и так далее. Но импресарио Данилян, курировавший переговоры с балериной, перевод, условия, сделку, так вскинул на него глаза, что улыбка Бориса подмерзла. Стало ясно: в строку поэта вкралась ошибка, читать теперь надо «о слава, яркая зарплата». Борис размашисто расписался.
– Быть причастным этому событию – большая честь, – тряхнул его руку Данилян.
Борис ответил кислой улыбкой.
А потом на стол лег контракт на постановку балета «Сапфиры».
Директор театра и импресарио деликатно стояли позади. Борис разглядывал цифры. Перо «Монблан» зависло в воздухе.
– У президента тонкий вкус знатока, – подал голос директор.
Это было неприятное осложнение. Желание увидеть знаменитые на весь мир «Сапфиры» на русской сцене то ли сам выразил, то ли поддержал Виктор Петров. Тоже из Питера, президент посещал балет согласно протоколу: водил на спектакли высоких государственных гостей, продолжая советскую традицию, которая сама восходила к императорам.
Борис смотрел на цифры.
– Вы «Сапфиры» видели? – опять попытал директор.
Голос директора был вроде прутика, которым мальчишки щупают неподвижную кошку: сдохла? Или спит?
– Сапфиры – к алмазам. Красиво звучит, – осторожно ткнул прутиком и Данилян.
Борис ожил. Мысленно послал скоротечный рак и Вострову, и всей «Гидро», ускользнувшим от балета. Начертал свою подпись и звонко щелкнул колпачком.
Теперь Востров был рад ввести Бориса в курс дела.
– Сиди и слушай, что они там бормочут, – объяснял обязанности Востров. – Главное, не усни.
– А если меня о чем-нибудь спросят?
– Про что? – почти натурально изумился Востров.
– Не знаю… Про балет.
Петр не понимал, зачем Борис притащил с собой его. Значит, причины были?
Петр сидел в кресле рядом с Борисом, но всей позой давал понять, что он тут на заднем плане. Ему нравился задний план: никто. Идеально для наблюдения. На хозяина кабинета он не глядел.
Но замечал все.
В лицо можно вколоть филеры и ботокс, легкий загар придает лицу нечто благородное, как бронзе патина. Поди разберись, сколько Вострову лет на самом деле. Ровесник Бориса? Выглядел Востров лучше Бориса, надо признать.
Нет, по лицу ничего не прочтешь, кроме того, что у Вострова на это лицо есть деньги и время.
Не выдаст и тело. Для неказистого сложения есть дорогие костюмы. Кривые ли у Вострова ноги? Плохая осанка? Плоская задница чиновника со стажем? Отвислый живот? Все подхвачено, облачено, скрыто костюмом. С хорошим костюмом не нужно хорошей фигуры. С хорошим портным – не нужно хорошего вкуса.
Костюм Вострова был дорогим и хорошим.
Не выдают и волосы. Волосы можно пересадить. У Вострова волосы врезались в лоб густой щеткой. «Интересно, откуда ему их туда пересадили», – невольно подумал Петр, лицо его – в этом он был уверен – сохраняло доброжелательное выражение человека, не слишком цепляющегося за беседу, но и не совсем отключившегося. Беседу с Востровым вел Борис. Но говорил больше Востров. Слишком много говорил – это Петр отметил.
Голос – вот что выдаст всегда.
Востров вещал:
– Директор там прямым текстом заявляет: я вас не буду учить делать деньги, а вы нас тут давайте не учите делать искусство.
– Ну мало ли… Вдруг спросят, – не сдавался Борис.
– Всегда отвечай просто: да.
Могло показаться, что Востров, крепко сидящий за столом, – хозяин не только этого кабинета с шикарным панорамным видом на московские небоскребы, но вообще – хозяин положения. А Борис – так, присел на краешке стула.
– В смысле – да? – переспросил он.
Востров захохотал:
– Потому что если тебе там что-то скажут, то только одно: дай бабла.
Слишком часто Востров острил. Слишком часто улыбался… Кстати, зубы. У Вострова они были белыми и ровными, как туалетный кафель.
Неслышно вошла секретарь.
Петр оценил: новый московский консерватизм. Не девчонка-модель, респектабельная женщина лет пятидесяти, излучавшая собранность и компетентность, – в руках серебряный поднос. Обута в туфли на устойчивом каблуке, не блядские шпильки. На блюдцах сидели широкие чашечки. Тоже очень респектабельно: только тонкий белый фарфор.
Секретарша разлила чай. Борису (тот кивнул), Петру – которого обдало неплохими духами. Он разглядел неяркую помаду в морщинках у губ, брошь-ласточку на лацкане пиджака, на миг почувствовал себя внутри советской экранизации Агаты Кристи. Оставалось только кому-нибудь отпить глоток этого чая – и хлопнуться мордой об стол.
– Спасибо, – поблагодарил он.
Женщина кивнула с легкой улыбкой. «Вот такой должна быть идеальная бандерша», – подумал Петр. Секретарше Вострова тут же хотелось поведать самые тайные свои эротические фантазии – она респектабельно кивнет с той же полуулыбкой, и все будет на высшем уровне.
Секретарша поставила чашку перед боссом, потом вазочку с крышкой, удалилась, затворила дверь. На серебряных щипцах, на ложечках лежали солнечные блики. И не дотрагиваясь, можно было понять, что серебро тяжелое, родовитое.
– Красиво, – заметил Борис.
– Так и должно быть! – излишне радушно поддержал Востров: – А как же? Зачем это все, если не видеть вокруг себя красоту? Вот тот же балет. Балет – это прежде всего красота.
«Конечно, не это», – подумал Петр. Прежде всего в балете то, что президент Петров был из Питера. Петров любил балет, как положено любить Неву, корюшку и слово «поребрик». Питерским балетом можно было гордиться. Честно и перед всеми. Питерский балет был честен и безупречен. Петров гордился им с легким сердцем. Поэтому когда импресарио Данилян подбил балерину Белову затребовать себе шестизначный долларовый трансфер и квартиру в Москве, та поставила перед фактом театр. Театр – президента. Президент поморщился (он не любил в женщинах жадность), но превратил гримасу в улыбку.
Президентский звонок застал Вострова, главу «Гидро», тогдашнего председателя Попечительского совета театра, врасплох.
Прекрасно сейчас в Вострове было все: лицо, костюм, волосы, зубы. Только голос был слишком уж вальяжным.
– Балет вообще лучшее из искусств, – вещал Востров. – Во-первых, красиво. Во-вторых, все молчат. В-третьих, это как английский газон. Триста лет ухаживали, теперь только сиди и созерцай. Не лабуда какая-нибудь, типа современного искусства, когда приходишь с гостями, а там голый мужик бегает по галерее и всех за ноги кусает. Вот прям совсем голый, без трусов. Не знаешь, куда глаза девать… Нет. В балете такого нет. Можно прийти с женой. Можно привести гостей. Точно знаешь, что ничего такого не произойдет. Это было в‐третьих? Да. Тогда теперь в‐четвертых. В-четвертых…
Востров помешал ложечкой в чае. Чисто по инерции – привычка советского детства и советской юности. Сахара на подносе не было вообще.
– В-четвертых, это наша гордость. Мы делаем ракеты, чего-то там-то Енисей, а также в области балета мы впереди планеты всей. Все так. Вон иностранцы варежку как на наш балет разевают. Вот-вот. Это тебе не матрешки с икрой и водкой.
Петр поднес чашку к губам – задержал губы у края: чаем не пахло. Пахло мокрым банным веником. Какой-нибудь травяной сбор для здоровья, Востров пекся о своем теле изнутри тоже. Петр пригубил. Наблюдая поверх чашки за Востровым. За его белыми пухлыми руками. На ощупь наверняка рыхлые и влажные, подумал Петр.
– В-пятых, балет…
Голос – и руки. Руки Вострова сняли крышку с вазочки, серебряными щипчиками вынули припудренный коричневым шоколадный шарик (стопроцентное перуанское какао, пояснил хозяин), опустили на блюдце. И тогда стало слышно, что руки у Вострова дрожат. Меленьким дребезжащим звуком. Он его тоже услышал, спохватился – но постарался не подать виду: непринужденно поставил блюдце на стол. Чай плеснул через край. Рука поспешно цапнула и кинула в рот шоколадный шарик.
Лицо, костюм, волосы, зубы можно уладить. Но голос и руки выдают всегда.
Когда пробил час особого президентского доверия, денег на трансфер Беловой и постановку «Сапфиров» у Вострова, у «Гидро» попросту не оказалось.
Петр чуял, как со дна востровской души, как из глубокого подвала сыростью, тянет запашком страха.
Борис тоже его чуял.
– А как же хваленое московское хлебосольство? – улыбнулся Вострову. Кивнул подбородком на вазочку, которую хозяин не предложил гостям. Подмигнул Петру: – Перуанское какао.
Востров засуетился:
– Боюсь, это скорее лекарство, чем сласти. Китайские травы. В сутки по одной. Специальный рецепт. Составлено под генотип. Мне на здоровье, а другой съест – у него конвульсии начнутся. Остановка сердца может случиться.
Борис улыбнулся:
– Ну и повар у вас. Химик-фармацевт.
– Не повар. Мой кондитер. Повар со сладким не работает.
– Свой кондитер, – одобрил Борис. – Вот это я понимаю, роскошная жизнь.
Он не сказал «у вас в Москве», отметил Петр, но точно подумал. Борис жил в Москве почти пятнадцать лет. Но по-прежнему его «у нас» было в Питере. Петр и сам себя на этом ловил: не говорил «дома», говорил «в Москве» – жена обижалась.
Белые руки Вострова опять заплескались. Засуетились, перекладываясь с места на место, передвигая ручку, мышь, коврик для мыши, рамку, подпертую серебряной ножкой.
– Между прочим, свой кондитер есть у шахматного чемпиона Магнуса Карлсена. Не ради роскоши… – Востров постучал себя по лбу с низковато надвинутыми после пересадки волосами: – …ради мозга. И знаете что? Видел я Карлсена в аэропорту раз – пацан в толстовочке с капюшоном. Никакой роскоши.
К звенящему блюдцу Востров уже не рисковал прикасаться.
– Вот вы, питерские, не любите, когда мы в Москве…
– Мы все теперь в Москве, – перебил Борис. – Все теперь московские, делить тут уже нечего.
Востров на миг запнулся. Поглядел Борису в глаза. Взвесил сообщение.
– Вот именно! – нескрываемо обрадовался он.
– Прошли те времена, – закончил свою мысль Борис.
– Именно!
Востров сиял. И тут же помчался на зеленый свет. Заговорил о «временах», о «нас».
«Нет, он определенно слишком много трындит», – скептически наблюдал Петр. Жалко, что нельзя незаметно закрыть уши, как морской котик перед погружением.
– …Прошли, слава богу, те времена, когда в Москве взрывали да отстреливали.
– Это верно, – согласился Борис. – Прошли.
– Да? Ведь согласны? Это точно! Прошли!
Востров окончательно повеселел. Его несло:
– …Сейчас и сосок-то ни у кого нет. Где та «Метелица» теперь? Где Петя Листерман? Жена должна быть хотя бы актрисой. Дом от дизайнера. Дети в Англии учатся. Нет, так и должно быть. В Америке тоже отстрелялись. В 30-е.
«Начитанный», – отметил Петр.
– Кеннеди-папаша вон бухло толкал и стрелки забивал. А вот сынок его стал президентом. Так и должно быть, – повторил Востров, очевидно радуясь этому положению вещей. – Поколение гангстеров сменяется поколением политиков и бизнесменов. Закон природы.
При слове «природа» Востров с удовольствием поправил на столе серебряную рамку, стоявшую спиной к гостям. В стекле позади него Петр увидел размытое отражение фотки: юноша на фоне оксфордских шпилей. Сын, стало быть. Отражение было мутным, лица Вострова-младшего Петр не разглядел. За стеклом скребли войлочное небо гигантские шишки и параллелепипеды Москва-сити.
– Кстати, о делить, – неожиданно осадил себя на скаку Востров. Теперь уже и руки его стали руками барина. А руки Бориса, напротив, напряглись: резче обозначились костяшки. Востров прямо и открыто смотрел Борису в лицо. Такой открытый взгляд, что уже бесстыжий. – Я же говорил, вы зря дергались. – Тут же поправился: – Я – дергался… И царь пусть не думает, я…
Борис кашлянул – рука его лежала поверх другой, костяшки от напряжения стали белыми:
– А эта… Балерина эта. Что, правда хорошая? Посмотреть-то можно? За что хоть деньги такие.
Востров осклабился. Вынул смартфон. Стал искать картинку.
Только потому, что Петр смотрел на руки, на его, на Бориса, он увидел, что пока Востров водил носом по экрану (надевать очки было лень), левая рука Бориса легко упала в карман пиджака. Быстро вынырнула. Описала дугу над столом – как будто Борис просто встряхнул манжетами, оправляя зацепившую рукав пиджака запонку. И в вазочке Вострова появился еще один шарик. Шоколадный, припудренный стопроцентным перуанским какао. Совершенно неотличимый от остальных. Теперь уже и не понять – который прибавлен. Просто в вазочке чуть изменилась сложная геометрия одинаковых сферических тел.
Потом снова взяла блюдце с чашкой.
Будто левая рука Бориса жила своей, совершенно отдельной от хозяина жизнью. Сам хозяин приветливо смотрел при этом Вострову в лицо. Пил чай. Доброжелательно ждал.
Востров повернул к нему экран телефона:
– Триумф на гастролях нашего балета в Лондоне.
Петр поглядел на фото. Похоже, снято за кулисами после спектакля. Узнал футболиста Бэкхема с женой-селедкой. А между ними – худое, как будто покрытое мелом лицо: жирно обведены черным глаза, раздвинуты в улыбке ярко-малиновые губы, над сверкающей блестками головой каскад черных перьев. Маска, в которой странно сочетаются блядовитость и клоунада.
Борис посмотрел.
– О’кей.
Отпил чай.
Востров уже вещал дальше:
– Еще плюс в балете: собственная ложа у компании. Хочешь, сам с семьей ходи. Хочешь, сотрудников премируй. Хочешь, гостей приводи. Особенно иностранцев. Не на Красную же площадь их тащить. Ты смотри, еще вот так с гостями походишь. Потом сам ходить начнешь, не по работе. Втянешься. А потом тебя уже от балета за уши не оттащишь. Хоть диссертацию пиши.
Говорил и думал: так некстати вышло с этой сучкой балериной. И чего царю приспичило ее в Москву тащить? Трансфер оплати – раз. Зарплату ей пробашляй – два: а то в бюджете театра, видите ли, не заложено. Да еще и квартиру ей в Москве купи – три. Причем не говно в новостройке, а трешку возле театра, но чтобы в тихом переулке. В самом центре Москвы! И еще целый балет ей купи! «Сапфиры» эти сраные… Если бы не балет, никто бы никогда и не заметил, что со счетов «Гидро» деньги уехали погулять на маленький симпатичный остров в Карибском море, известном своей рыбалкой и офшорами. Востров ненавидел балет.
– Главное, что теперь между нами все ясно, – говорил он. – Я за полную прозрачность. Чтобы сразу увидеть проблему. А увидел – сразу на стол. На стол переговоров. И сразу решить. Прозрачность – основа доверия.
Было видно, что Востров очень доволен – собой и разговором. Лицо Бориса было приветливым – то есть не выражало ничего.
Оба тепло попрощались. Петр тотчас поднялся из кресла, со скрипом его отпустившего. Востров пожал руку и Петру. Рука оказалась не липкой и мягкой, а теплой и сухой.
5
Лифт напоминал капсулу для переноса во времени. На лицо Бориса легли синеватые тени. Левую руку он держал слегка на отлете, как что-то гадкое. Двери сомкнулись. Скольжение вниз не чувствовалось. Борис с чмокающим звуком вырвал из кармана синюю резиновую перчатку. Выпустил с нею резкий, не резиновый запах:
– Нажми «стоп»!
Петр ударил по кнопке. Лифт встал. Левую руку Борис сунул в перчатку. Дернул за ремешок на запястье, перчатка герметично закрылась. Борис рванул ремень на брюках. Брюки упали гармошкой вниз. Борис выхватил из внутреннего кармана пиджака шприц. И быстро всадил себе в ляжку, нажал на поршень, выпуская в мышцу антидот.
«Мог бы предупредить», – хотел заметить Петр, но раздумал.
Борис поморщился, выдергивая пустой шприц. Выступила капелька крови.
– Откуда? – кивнул на шприц Петр.
– От Костаки.
Банкира Костаки отравили в Питере в 1995 году. Оба помнили этот случай. Только с разных сторон. Петр тогда служил в милиции, Борис прислал на похороны венок.
Костаки затеял Союз бизнесменов, и его интересы столкнулись с интересами действующего Союза банкиров. А Союз банкиров поддерживало ФСБ. Экспертиза установила «неизвестное фосфороорганическое вещество, данных о котором обнаружить не удалось». То ли яд был новым. То ли секретным. А может, и новым, и секретным. Такие яды разрабатывались в лаборатории КГБ.
На том дело и закрылось.
С тех пор звезды на погонах Соколова стали генеральскими. Первый человек, к кому стоит обратиться, если тебе нужен тихий яд. Последний человек, с которым стоит иметь дело, считал Петр и не собирался этого скрывать:
– Это не вариант.
Борис подтянул брюки. Застегнул ремень. Стащил перчатку, сунул в нее шприц, замотал плотно. Отдал Петру. И только после этого смог посмотреть ему в глаза своим обычным взглядом – спокойным:
– Можно подумать, я хотел.
Дальше ехали в молчании, оба смотрели перед собой. Оба были слегка недовольны друг другом, и каждый – сам собой.
6
Снаружи их сразу прихватил осенний ветерок. Облепил ноги брюками. Не ветерок даже – сквозняк, гулявший между башнями Москва-сити, искусственно возникавший между слишком тесно поставленных стен.
Зазвонил телефон.
– Да, – ответил жене Петр.
– Про анализы помнишь?
– Конечно.
– Целую.
– И я.
Борис нырнул в подкатившую машину. Петр сел рядом, приятно было почувствовать в салоне сухое тепло.
– Я сойду на Садовом, – сказал он вперед, в спину водителю. Затылок кивнул.
– Куда ты сейчас? – наконец нарушил молчание Борис.
– В спортзал. Потом с женой в «Потомки».
Борис кивнул:
– Удачи. С «Потомками».
И больше до самого Садового не сказал ни слова. Но Петр видел, что тот озабочен. «Еще бы нет», – подумал Петр: мерзавцем Борис не был.
На Садовом кольце выскочил на тротуар, когда машина сбавила ход до черепашьего – останавливаться совсем здесь было запрещено. Махнул рукой. Автомобиль замигал поворотником, выгребая обратно на полосу. Борис кивнул ему через стекло. И тут же машину проглотил поток, редевший на Садовом только по ночам, но даже ночью не иссякавший полностью.
Убедившись, что Петра не видно, как будто тот мог его слышать сквозь уличный шум, сквозь стекло (хотя черт его разберет, – не до конца был спокоен Борис: сейчас такие могут быть технологии, что никогда не знаешь, что возможно, а что нет), Борис вынул телефон. Набрал единственный записанный в памяти номер. Послушал. Длинные гудки. Щелчок. Голосовая почта.
Это могло не значить ничего. Девчонки ездят, например, на метро, еще не все охваченное беспроводным Интернетом. Борис предпочел пока думать, что это не значит ничего. Убрал телефон. Вынул тот, которым пользовался всегда, и принялся звонить жене.
Петр не обманул его. Придержать информацию – не обман. Вошел в фитнес-клуб, прокатив карточку на входе. В раздевалке повесил в шкафчик костюм. Днем здесь было пусто. Мужчины наведывались на тренировки по утрам и вечерам. Это в женской раздевалке дверь раздевалки только и сверкала туда-сюда.
Петр вынул из шкафчика лэптоп. Вбил в гугл имя той балерины. Неверно, но гугл предложил варианты, один из которых был правильным, Петр кликнул на первую же ссылку, помеченную этим месяцем. Тема должна соответствовать только что оконченному разговору. Что естественно, то убедительно. Саму статью Петр читать не стал.
Скопировал ссылку в тело письма. Написал вопрос, ответ на который был ему не нужен. И вместе с вирусом-«троянским конем», невидимым получателю, отправил Вострову – как будто от Бориса.
Петр переоделся. Вышел. Девушка на ресепшен подняла голову – ей показалось, что посетитель не прокатил клубную карточку, чтобы отметиться на выходе. Сознание молниеносно проложило стратегию: она улыбнется, он окажется симпатичным, тогда она «позвольте мне…», возьмет из его рук карточку… а он ей в ответ… Но заметила на удалявшейся спине форменной куртки надпись МОСОКНА. И опустила голову: работяги ее не интересовали.
На это Петр рассчитывал и сейчас, задрав голову у подножия башни «Сияние Сибири», в которой помещался офис Вострова.
На самом верхнем этаже он без труда нашел служебное помещение, откуда обычно начинала обход команда обслуживания здания. Снял со стенда нужные ключи.
Вынул из рюкзака лэптоп. Проверил. Востров уже написал любезный ответ – торопясь то ли от радости, что с балетом все обошлось, то ли от страха, что все еще может ему выйти боком. Все знали: президент Петров не только любил Питер и балет, он не любил «хитрожопых».
Петр выбрался в люльку. Ветер здесь наверху, казалось, хотел оторвать его, забросить за третье московское кольцо. Петр опустил на глаза высотные очки.
Он правильно запомнил вид из кабинета Вострова. Поэтому не ошибся с окном. Заглянул, не таясь. Кого удивит люлька мойщика по ту сторону стекла? Если Востров на месте, не проблема: Петр выманит его по телефону под убедительным предлогом. Кабинет был пуст. Тем проще. Петр с четверть часа слушал волчий вой ветра и любовался панорамой Москвы – на случай, если Востров сидит на унитазе в уборной при кабинете. Все было тихо. Он достал инструменты и отжал мощное стекло. В высотных башнях окна верхних этажей не открываются только для обитателей. Это не значит, что открыть их невозможно.
Спрыгнул внутрь. Сегодняшнюю целебную конфету Востров уже принял. Значит, в вазочке ничего не тронуто. Трудно было представить, чтобы респектабельная секретарь тырила у шефа шоколад.
Петр поднес к вазочке вакуумную помпу. Снял для верности все верхние шарики. Разумеется, Востров заметит. Пусть думает, что хочет.
Помпу Петр бережно уложил в контейнер, нажал рычаг, крышка задраилась. Опустил контейнер в сумку на полу. Первое дело сделано.
Теперь второе. Петр поднял крышку оставленного на столе лэптопа. Ступая в виртуальные следы хозяина, вошел к Вострову в компьютер.
Никогда, никогда не тыкайте в присланные ссылки, сидя за компьютером, в котором храните то, что вы скрываете от других. Удивительно, как часто люди пренебрегают таким простым правилом безопасности.
Петр вынул из компьютера флешку, бросил в карман сумки, застегнул молнию.
Покинул он кабинет так же, как вошел.
7
…Когда Борис предложил мне работу, я сразу его узнал. Ну и что что при нашей первой встрече была ночь и я думал, что сдохну. Вкладывая мне в руку пистолет, он тогда наклонился низко – я увидел его лицо сразу и во всех подробностях, вплоть до изгиба губ, до бровей, как будто размазанных.
Он, конечно же, рассчитывал, что я его узнаю и вспомню. Он не мог на это не рассчитывать.
Он наблюдал за моим лицом. А я старался ничего лицом не показывать. Я и сам не понимал, что чувствую: благодарность? Или все же больше настороженность? Одно я знал уже тогда, и это было для меня самым главным: в самой глубине сердца он – довольно неплохой человек. Так устроен мир: да-да, в нем есть хорошие люди и плохие, открытые злу. Как-нибудь потом я объясню свою теорию подробнее.
Борис – хороший человек. Так я думал про него тогда.
Тогда я ему ответил:
– Защищать вас? От кого?
Он пожал плечами:
– От врагов. С реальными я сам разберусь. Так что в основном от гипотетических.
– Понял.
Точнее, я тогда думал, что понял. Защищать Бориса – всегда осторожного в отношениях с другими – требовалось от самого себя.
И я готов был его защищать.
Как ни крути, но той ночью в порту он спас мне жизнь.
Да и Лида обрадовалась. Когда я ей сказал, что с милицией закончено – перехожу в «частный сектор». Лида хотела, чтобы все было как в рекламе: он, она, дети, гриль по выходным. Главное, дети. Она не хотела стать бездетной молодой вдовой. После истории в порту она ощутила, как это близко. Если бы я не перешел работать к Борису, неизвестно, что стало бы с нашим браком. Точнее известно, но развода я хотел еще меньше, чем переезда в Москву (а теперь еще и визитов в «Потомки»). Но Лида того стоила и стоит. В любовь я верю.
В любовь – и в то, что зло существует.
8
Андрюха ждал, как условились, в «Кофе-кофе» на Никитской.
– Какое противное кафе, – сразу заворчал он. – Девчачье.
– Не нуди.
– Ну вот что тут есть? Салат с арбузом и сыром фета? Это что, еда? – Андрюха скривился книжечке меню, а официантке – улыбнулся: – Девушка, сосиски есть?
Та поставила на стол корзиночку с хлебом, блюдце с маслом.
Кафе это уже давно вышло из моды. Но Петру по-прежнему нравилось. Несмотря на тесно поставленные столики и вечно висящий в воздухе гвалт. Именно из-за гвалта: никто тебя не услышит, никто тебя как следует не рассмотрит.
– Девушка, это бесплатно? – изобразил беспокойного провинциала Андрюха. Официантка, может, и сделала бы вид, что не услышала. По классификации московских девушек, Андрюха в своих джинсах и толстовке был «мальчик». Но хороший костюм Петра она заметила. Петр был – по той же классификации – «жених». И официантка ответила:
– Бесплатно, – удержавшись на тонкой грани: не слишком хамовато (в виду «жениха» за столиком), но все же достаточно строго для «мальчика», чей флирт ей был неинтересен.
– Бесплатно? – оживился Андрюха, не давая ей уйти. – То есть мы можем просто это съесть и уйти?
Та закатила глаза, отплыла к другому столику.
– Все, кончай ее донимать, – пнул его ногой под столом Петр. Он симпатизировал неунывающему Андрюхе. Но не любил, когда цепляли людей, которые не могут дать сдачи: например, официанток.
– Я не донимаю, я заигрываю без пряников, – поправил Андрюха.
– Теперь она к нам долго не придет.
Андрюха принялся намазывать масло на хлеб.
– На хлебе мы какое-то время продержимся, – заверил. – Ну, чего?
Петр положил на стол флэшку.
Андрюха, жуя, проговорил:
– А что сам-то не сольешь? У них там есть анонимный канал. Нажал на кнопку – и привет.
Петр покачал головой. Андрей перевел:
– Типа ты не крыса?
– Не в этом дело. Перднуть нельзя, чтобы следов не оставить. Не то что на кнопку нажать.
– Тебе виднее.
Востров был в целом прав, что отстреливать и взрывать друг друга перестали. Во всяком случае, на том уровне пищевой пирамиды, на котором теперь обитал Борис, это случалось крайне, крайне редко. Шанс быть убитым метеоритом – и то выше. Главе службы безопасности уже не нужны были пистолет и мышцы. К новой безопасности прочно пристала приставка «кибер». За каких-нибудь пять лет Петр освоил новую профессию, а в спортзал ходил только чтобы предотвратить офисное плоскожопие.
Андрюха хапнул со стола флэшку и предупредил:
– Но не безвозмездно!
Поворот неприятно удивил Петра:
– То есть? Мы уже больше не друзья?
Последнее слово он голосом заключил в насмешливые кавычки. Но факт есть факт. Знакомство их началось еще в Питере. Андрюха писал криминальную сводку, а Петр – служивший в наружке – подбрасывал ему информацию. Почти друзья.
Андрюха нимало не смутился:
– Именно как друга и прошу помочь. Мы тут собрались в Конго…
– Кто это мы?
– Ну я, парень еще один и фотограф. Историю делать.
– Какую еще историю?
– Да фигня. Рассвет в палатке, сафари и прочая хрень. Советы, как не сломать маникюр, слезая со слона. Неплохие деньги. И интересно поглядеть.
– Ну? Что вам мешает?
– Контакты на месте нужны.
– А я что, турфирма?
– Ты ж туда катался несколько раз.
– Я катался по линии «Росалмаза». Шахты, охрана. Строго по делам.
– Нам водила нужен. Местный. Который шарит.
– В чем?
– В местности.
– В Конго?!
– В Конго. Я же сказал.
– Можно подумать, в Конго каннибалы с копьями бегают.
– А бегают?
Петр фыркнул:
– Это же не ЦАР. Страна почти вся открыта для туристов.
– А ЦАР что такое?
– Зачем тебе? Ты же в Конго собрался.
– Для общего развития.
– Центрально-Африканская Республика. Поганое место. Вот куда точно с маникюром не надо соваться. И без маникюра тоже. Только с «калашом». А Конго ничего. Слоны и туристы стадами.
– Ну так поможешь?
Подошла официантка с блокнотиком, карандаш наготове. От нее заранее било холодом, как от Снежной королевы.
– Заказать готовы?
– Черный кофе, – ответил Петр.
– Без молока и сахара?
Он кивнул. Официантка была явно разочарована: чаевые будут микроскопические. Повернула голову к Андрею. Глядя мимо него. Он нимало не смутился:
– А мне кофе черное жирное. Бочковое.
Петр пнул его ногой. Андрей пояснил:
– Латте.
Она отошла.
– Ты чего копытами машешь? – накинулся тот на Петра.
– Хорошо, организую водилу… Но только это, – он неопределенно показал на Андрея, на карман, в котором исчезла флэшка: – Прямо сегодня. Срочно.
Андрей кивнул. Зачерпнул ножом масло, стал намазывать на хлеб.
Глава 2
1
Шестнадцать пар ног одинаково развернуты носками наружу.
На другом краю зала – такая же линия: склоненные головы, округло поднятые руки, лирически потупленные глаза. Все одинаково. И все синхронно. Угол, поворот, ракурс. Тридцать два прыжка – вернее, шестьдесят четыре с учетом отражения в зеркале – сливаются так, что слышен только один, но пушечный. Это же кордебалет.
Нет, не слились. И Вера Марковна сразу заорала:
– Ну ты, жопа!
Но кто опоздал, кто добавил свой притоп вслед за общим залпом – не засекла.
Концертмейстер отдернула руки от клавиатуры, как будто пустили ток.
– Без музыки – с па де ша! – рявкнула репетитор.
Вернулись к началу. Сама Вера Марковна теперь встала обеими ногами на скамейке – чтобы быть повыше. Чтобы наблюдать сверху за переменами орнамента, симметричного и сложного, как в калейдоскопе, где все стеклышки должны повернуться разом.
«Хоть бы шмякнулась оттуда разок», – не глядя на нее подумала Люда. Голова так же изящно склоненная к плечу, как все. Глаза долу.
– Давай, жопа, давай! – Вера Марковна азартно покачивалась на узкой скамеечке с пятки на носок, тянула нос, как бигль за дичью. Теперь засекла – завопила:
– Ну ты, жооопа! Не сиди в плие. Раз – и пошла. Поняла?
«Жопа» откуда-то из середины правой линии кивнула.
– Поехали, с начала.
Все вернулись на исходную позицию. Изготовились. Вера Марковна махнула роялю. Концертмейстер обрушила пальцы на клавиши.
Все одинаковые, и все – «жопы». По имени Вера Марковна не называла никого. Зачем? «Жопа» – это ведь не ругательство. Балет вообще такой: оставь свое достоинство в гардеробе, всяк сюда входящий. Все работают с детства, стремясь к совершенству. По сравнению с совершенством, да, ты жопа. Так что обижаться нечему. Жопа – это просто обращение. А ругательство – «жопа жирная».
В дверь просунулась голова:
– Вера Марковна.
– Занята! Репетиция! – рявкнула та, не сводя глаз со множества одинаково вздымающихся и опадающих ног.
Вечером московский дебют Беловой. В зале «вся Москва». А значит, и на ее, Веры Марковны, работу будет смотреть вся Москва.
– Привезли чемоданы, которые потерялись на рейсе из Лондона, – громко объявила голова в зал: – В гримуборной кордебалета лежат.
И исчезла.
Музыка завершила каденцию. Смолкла. На сцене в этот момент из кулисы тихо выскользнула бы Белова – прямиком в шипящее море аплодисментов. Но у Беловой своя репетиция – в другом зале. Поэтому кордебалет подержал общую позу еще несколько мгновений. И рассыпал строй.
Минутная пауза. Кому – снять гетры. Кому – надеть кофту на когда-то травмированную и теперь заболевшую поясницу. Кому, наоборот, снять – и так жарко. Кому глотнуть воды. Кому сунуть морду в телефон. Кому сменить или натереть канифолью туфли.
Люда тихонько двинулась к двери. Не выпуская из виду Веру Марковну. Та не глядела – растирала свои опутанные синими венами ноги. Ей уже хорошо за восемьдесят. Не глядела, но тут же вскинулась:
– Куда? Чемоданы потом!
«Вот сука», – подумала Люда: в зеркало увидела. Прятаться теперь не имело смысла.
Показала репетитору захромавшую ногу:
– У меня стелька треснула. А другая пара в сумке. Я быстро.
– Голова у тебя треснула. Запасных туфель с собой почему нет?
– Я забыла.
– Забы-ы-ы-ыла, – передразнила Вера Марковна. – Жопу ты свою не забыла.
«Вот такая она вся, эта молодежь. Разве мы такими были? – в который раз подумала она. – Да мы от одной мысли, что танцуем в главном театре, воспаряли. Мы…»
– Живо!
И Люду ветром сдуло.
Чемоданы были составлены в пустой грим-уборной. Сложно пахло потом, пылью, в эту затхлую основу вплетался свежий запах косметики.
Люда на всякий случай выглянула в коридор – никого. Прикрыла дверь, но не до конца – чтобы слышать, если в коридоре застучат шаги. Наклонилась над чемоданами. Вот этот выглядел дорогим. Люда выдернула его за ручку. Положила плашмя. На его пластиковых ребрах, как бы подражающих рисунку ребер, дрожал отраженный свет. Эти сверхлегкие чемоданы только выглядят неприступными. Для нее они никогда не были проблемой.
А что делать? Ипотеку плати – она. Маме за лекарства – она. Вадику сейчас – за детский сад, и на школу копить надо тоже уже сейчас: чтобы учился в лучшей, он же мальчик, ему надо многого добиться. Чтобы потом он кормил ее – на пенсии. Был бы муж, но мужа нет, и лучше не рассчитывать – еще одного едока Люде на шее не вытянуть. Хватит мамы и Вадика. А пенсия шарахнет в сорок. До свидания, президентские гранты. Прощайте, спонсорские надбавки. Голая государственная пенсия. В лучше случае, хватит на квартплату и годовой проездной на метро. Ну допустим, она сможет устроиться училкой к каким-нибудь косолапым детям (московские родители любят балет – для осанки хорошо) или, если повезет, то… Замочек податливо щелкнул, и Люда рукой раскрыла чемодану легкую пасть.
2
Для публики спектакль начинается примерно в половине седьмого. Сыроватый, пахнущий выхлопами московский воздух сменяется внутри театральным – теплым, ласковым, дышащим чужими духами, когда пальто сдано в гардероб пожилой даме в униформе.
Для балерины – за два часа до того. Многие любят являться за три: издалека войти в рабочее настроение. Сделать нужно многое. Разогреть мышцы и связки перед выступлением. Подставить голову парикмахерше, а лицо гримерше. Переодеться. Заглянуть на сцену, отсеченную от зала наглухо задраенным занавесом.
И только для монтировщиков и рабочих сцены вечерний спектакль начинается утром или вообще за несколько дней. Со склада привозят декорации, цепляют их к железным перекладинам, одну за другой, подтягивают на самый верх. Выше самого верхнего яруса кресел. Выше хрустальной люстры в зале. В самую крышу. Чтобы на спектакле нужный пейзаж или интерьер в считаные мгновения, поднимая вверх грузила-противовесы, плавно спустился вниз. И это если спектакль – легкий: какой-нибудь старинный. Без рельсов на полу, сложных светильников, металлических конструкций и прочей такой хрени. Петрович одновременно и любил современные постановки – интересно собирать-разбирать все эти штуковины, и терпеть не мог – одуреть можно. До реконструкции – вообще было убиться: механика была старой. Как при царе Горохе. Нет, серьезно. Лифт под сценой возил еще Плисецкую. А к тросам для полетов над сценой цепляли, наверное, еще Кшесинскую. Выступала Кшесинская в Москве? Наверное. В таком-то театре!
Реконструкция заняла несколько лет. Театр закопался вниз на семь этажей, и там уж, в новом брюхе, разместили начинку – пальчики оближешь. Работали так долго, что у технического народа перестал сворачиваться в узел язык, когда выговаривали название голландской инженерной фирмы, которая все это монтировала. Петрович мог его сказать, хоть среди ночи разбуди: Ундерхунсереумте бэвэ. Так-то. На минус седьмом вообще хоть «Матрицу» снимай. Генераторы. Металл, силовые машины, кабели, шланги, трубы, электроника. Сиди себе наверху – только на кнопки нажимай и в экран смотри. И ребята очень изменились. Точно. Раньше – работяги работягами, в буфете народ в очереди отшатывался: боялись испачкаться – обидно даже. А теперь вон, на работу голову моют. Посмотреть приятно. И козлиным потом ни от кого больше не пахнет. Можно подумать, айти-отдел крупной корпорации, а не монтировочная. Да так ведь и есть: корпорация «Театр».
– Еба… – произнес Миха, глядя в экран. Петровичу не понравилось:
– Отставить матерки, – пресек он добродушно, но отчетливо.
Миха затрещал по клавишам. Петрович забеспокоился. Поднялся, подошел. Заглянул. Не задымление, слава богу. Этот кошмар не раз будил Петровича по ночам: пожар в театре. Столько агрегатов! Да, система охлаждения и аварийного тушения на минус седьмом тоже есть. Но все минусовые этажи без окон. Хорошие лампы дают почти дневной свет, вытяжки и кондеи гоняют воздух, но все равно – войдешь, и начинает щекотать чувство, будто попал во внутренность горы, и что это не портнихи, рабочие, бутафоры шныряют по коридорам, а гномы и тролли.
– Какая-то лажа на минус седьмом, – пробормотал Миха.
Петрович не то что не любил минус седьмой, безлюдный и нелюдимый, там внутренности театра были как-то совсем уж неприкрыто обнажены (кишечник труб, печень генератора), но всегда старался смыться оттуда побыстрее. Тем не менее он – капитан. Что делает капитан? Правильно, покидает судно последним, а неприятности встречает первым.
– Спущусь на минус седьмой, – успокоил Петрович. – Гляну.
У лифта раскланялся, посторонился: как корабль под парусами, плыла мимо Вероника. Приветливо улыбнулась. «Настоящая русская красота», – одобрительно подумал Петрович. Нет в ней этой обычной балетной дохлости, обсосанности. Царь-девица.
– Вероника, ты на спектакль останешься? – хотелось задержать, чтобы полюбоваться. На фига притащили сюда эту Белову? Вот же – наша, московская красота. Что еще надо? Балет – искусство красивых баб.
Та любезно позволила собой любоваться. Остановилась.
– Может. Не знаю, – пожала изящным плечиком. – У меня грипп. А вы это куда? – показала подбородком на его сумку с инструментами.
– На минус седьмой.
– Далековато, – улыбнулась она. – Все в порядке?
– Да лабуда. Призрак оперы.
– Ой, – распахнула она глаза в игривом ужасе.
– Наша служба и опасна, и трудна, – расплылся Петрович. «Вот есть же красивые бабы, а?» Вероника поплыла дальше. Лифт бесшумно раздвинул стальные двери. Петрович вошел.
Дав лифту четыре секунды («И – раз, и – два, и – три, и – четыре», – мысленно сосчитала она), чтобы закрыть двери, отчалить, Вероника рванула бегом.
Женский туалет. Быстро глянула в кабинки. Никого. Да даже если и кто, так что? «Извините, бросаю, но – не удержалась». И улыбнуться… Она вскочила ногами на унитаз. Держась одной рукой за стенку, другой, трясущейся, выловила из сумки пачку сигарет, выхватила одну губами. Сердце колотилось. Щелкнула зажигалкой. Сигарета плясала. Сжала зубами. Раскурила. Надула щеки, наполнив дымом рот. И выпустила прямо в красный глазок пожарного датчика.
Не получилось? – испугалась она.
И чуть не слетела с унитаза, когда воздух раскололся от пронзительного воя пожарной сирены.
3
– Людка, – удивленный голос за спиной.
Люда так же естественно, как будто это был ее чемодан, опустила крышку. Обернулась. Катя из миманса. «Зараза», работа не бей лежачего, вот и шляется по театру.
– Это разве не Вероникин чемодан?
Люда понадеялась, что не вздрогнула. А и если? От неожиданности!
– Да, – ее нервный смешок (понадеялась Люда) вполне сошел за смешок от натуги: – Точно. Вот же бирка с именем. А я и не увидела.
Она воткнула незапертый чемодан в общий ряд:
– Эти новые чемоданы все на одно лицо. В аэропорту так с ленты три чужих снимешь, пока свой вылезет.
– Да уж. Я на свой ленточку завязывала на ручке. Но теперь все такие умные.
Катьке явно хотелось поболтать. Она ждала, когда Люда выудит свой собственный. Проблема была в том, что Людин чемодан благополучно прибыл из Лондона вместе с хозяйкой и давно сидел дома. А не здесь, с отставшими от рейса.
Люда захихикала, как будто Катя бог весть как сострила. «Как бы ее сбагрить».
Обе втянули голову в плечи, когда завыла сирена.
– Ой, – всполошилась Катя. – Горим! Бежим! – потащила она Люду из гримуборной.
Проклятый чемодан: Люда сердцем чувствовала издалека его недобрую тяжесть. Незапертый бросать было нельзя. Незапертый это почти разоблачение. Она дернулась.
– Да не туда! – заверещала Катя, крепко перехватила Люду за локоть: – В лифты нельзя, когда пожар!
– Ой, – взвизгнула Люда. Разжала, отбросила цепкую руку: – Я ключи от квартиры в гримерке оставила. И телефон! (только бы он не зазвонил сейчас из кармана).
Выволочки за нарушение процедуры эвакуации Катя боялась больше, чем самого пожара. Миманс – это не кордебалет. Учиться не надо. Ходи себе в костюме и гриме и руками води. Любой может. Дадут пинка – вылетишь, никто о тебе и не заплачет. Недолго будет стыть вакансия. Пол-Москвы желающих набежит.
– Ну, я ждать не могу!
И Катя припустила к лестнице.
4
Сирена пробивала череп. «Отставить матерки», – приказал себе Петрович. Нажал кнопку «стоп». Потом на две глядящие друг от друга стрелки. Совершив экстренную остановку лифта, согласно противопожарной инструкции, покинул лифт на первом же возможном этаже. И влился в стадо, валившее вниз по лестнице.
5
Люда развернулась и ринулась обратно в грим-уборную.
От воя сирены она с трудом соображала. Не таясь, торопливо заперла злополучный чемодан. Натянув рукав шерстяной тренировочной кофточки, обтерла крышку и замок. Мало ли: отпечатки.
Нервная дрожь еще не улеглась, как будто тело не поспевало за волей хозяйки. Но сама Люда уже пришла в себя. К ней вернулась осторожность. Осторожность крысы. Прежде чем выйти из грим-уборной, она осторожно приоткрыла дверь – проверить коридор. И кстати! Люда припала к щели. Вероника стояла у лифта, давила пальцем кнопку вызова, нетерпеливо глядела на лампочки, мялась: скорее, скорее. Сирена ее, похоже, нимало не беспокоила. Как и пожарная безопасность. Двери лифта раскрылись. Вероника вошла, развернулась лицом в коридор. Люда еще больше прикрыла дверь. Совсем узкая щелка. Но и через нее видела, как палец Вероники нажал кнопку в самом низу панели. Двери лифта закрылись. Люда пулей рванула по пустому коридору туда, откуда ближе всего доносился плеск голосов и гулкий топот множества ног: к лестнице. Но тут сирена смолкла.
6
Аким повесил трубку внутренней связи обратно на стену. Обернулся к труппе.
– Ложная тревога. Пожарные только что уехали.
Зря только носились по лестницам.
– Возгорания не нашли.
Хорошо хоть не пришлось пастись снаружи – остывать. Над головами порхнули смешки. Все хорошо, что хорошо кончается.
– …И теперь, Даша, это твой новый дом, – закончил Аким речь, прерванную звонком. В голосе его снова бряцал официоз. Аким оставил сцену и стал директором балета всего три года назад. Уже научился пугать начальственными вибрациями голоса мелкую кордебалетную сошку. Но ненужные кудри балетного принца еще не состриг, они спадали сзади на воротник делового костюма. Вещал он, глядя поверх голов. Аким не любил смотреть в глаза. Посмотришь – найдут слабину. Слабость он себе позволить не мог. Не теперь.
– Мы – твоя новая творческая семья. Во всем поддержим. Всегда поможем. Чтобы твое искусство в Москве достигло новых высот и радовало зрителей. Удачи тебе, Даша!
В зале было много света и воздуха. Огромные окна. Палка, отполированная прикосновениями сотен, тысяч рук, в два ряда тянулась вдоль трех стен. Покрытый черным линолеумом пол покато сбегал к четвертой – зеркальной. Она показывала всех: все кивали, все что-то говорили, порхали улыбки.
Балетные классы похожи в любой точке мира: три стены с палкой, одна с зеркалом. Черный линолеум на полу. И танцовщики тоже похожи. Даше на миг показалось, что никуда она не уехала. Что это не Москва. А Питер.
Все одеты неуловимо одинаково, хотя и каждый на свой лад. Лайкровый купальник, трико, гетры, шерстяные узкие кофточки, охватывающие талию крест-накрест, или просторные коконы-толстовки. Гладко зализаны головы. Лица без грима кажутся очень юными. Но кто в балете смотрит на лица? Всегда первым делом смотрят на ноги. На всех девчонках – розовые атласные туфли. На одних поновее, почище, на других замызганные. У всех предварительно разбитые, размятые, обшитые суровой ниткой вкруг по пятачку, чтобы лучше сцеплялся с полом пуант. У кордебалета – дешевые, из собственных мастерских театра. У балерин – дорогие английские, по индивидуальным колодкам. Приветствовать ее собралась вся труппа. Даша еле успевала поворачиваться, кивать, улыбаться.
Улыбку проще всего было нести, как приколотую брошь. Но не следовало. Хотя бы раз в несколько секунд Даша ее сбрасывала. И снова улыбалась. Показывала, что улыбка сейчас – ее собственная. А не та профессиональная, которую им всем на сцене полагалось цеплять на лицо, чтобы на нем не проступило что-нибудь другое, неподходящее – гримасы напряжения, натуги, волнения на подходе к трудному па, досады за сорвавшийся трюк – в общем, все то, на чем фотографы так любят подлавливать спортсменов: наморщенный лоб, надутые щеки, вытаращенные глаза, оскаленные зубы. Оскаленные зубы и зубы, оскаленные в улыбке, – это не одно и то же. Балет должен выглядеть так, будто он не стоит никаких усилий.
Даша сейчас старалась выглядеть так, будто все это здесь и сейчас ей также ничего не стоит.
Они тоже старались. Она заметила, оценила. По крайней мере, старались. Улыбались. Нежно пели: «поздравляем» и «добро пожаловать». А глаза внимательные. Изучающие. Не придумывай, одернула Даша себя: это ничего «такого» не значит. Конечно, они присматриваются. Одно дело – выступать с ними как приглашенная балерина. Гостья. Другое дело – приехать, чтобы остаться. Быть отныне одной из них. Все всегда присматриваются к новеньким. Но в общем, они ей рады.
Они должны быть рады. Гастроли в Лондоне собрали несколько миллионов фунтов. И контракт для московского балета на следующие пять лет. Такой, который означал, что питерскому театру-сопернику в Лондоне на ближайшие пять лет места нет.
Они должны быть рады. Все до отвала нащелкали себе в телефоны Бэкхемов, которые пришли за кулисы – познакомится с ней. Дождались своей очереди: она обняла Дашу за талию с одной стороны, ее сильно татуированный муж – с другой. Удар вспышки. Всю неделю Даша натыкалась на это фото, проходя мимо газетного киоска: обложки кричали о триумфе русского балета.
Еще за кулисы пришел какой-то мужик, с крючковатым носом и огромными мешками под злыми умными глазами, – кто-то из политики. И очень много телохранителей. Он фотографироваться не стал, но взял автограф на мятой программке.
Московский балет в Лондоне видели более или менее каждый год, и более или менее с теми же самыми балетами – «Лебединым озером», «Дон Кихотом», «Баядеркой». Но с такой балериной – впервые. Кричали о новой Улановой. О новой Плисецкой. О новой Маликовой. Дашу это раздражало. Кретины. Как можно одновременно походить и на Уланову, и на Плисецкую, и на Маликову? – как будто разом на Толстого, Достоевского и Чехова: бред. Но после первой недели бред иссяк – все выучили имя новой русской суперзвезды: BELOVA. Оно ехало мимо Даши на бортах даблдекеров. Оно мерцало с табло на площади Пиккадилли – а затем экраны переключались на ее длинные руки, делающие движения из «Лебединого озера».
Не волны, как у Плисецкой. Даше это всегда казалось слишком московским, слишком наивным: раз лебедь, то тут же и волны, пфф! Не округлые, сдержанные, даже застенчивые, очень русские движения Улановой. Не экспрессивные нервные – как у Маликовой. А острые, длинные и легкие, с серебристым отливом. Ее собственные. Неповторимые и узнаваемые, как почерк.
«Поздравляем», «добро пожаловать», «будьте как дома».
«…Но не забывайте, что вы в гостях», – мысленно закончила Даша. Сбросить улыбку, кивнуть, снова нацепить.
Что подумали они все, когда им объявили, что питерская балерина после гастролей перешла в московский театр? Что бы ни подумали, они это уже проглотили.
И теперь, на первой репетиции Даши в Москве дружно изображали гостеприимную радость.
Да ну. Конечно, они ей рады. Все после лондонского триумфа получили жирные премии – поверх обычных гастрольных гонораров и президентского гранта. Все, включая миманс. Миманс и кордебалет уж точно работают за деньги, а не за любовь к искусству.
Они должны быть ей рады. Даша еле успевала всем кивать, всем улыбаться.
7
Люда сперва перешла на рысцу, потом припустила во всю прыть – коридор был пуст, значит, все уже там. Значит, она очень-очень опаздывает. Вечно она опаздывает. Нельзя привлекать к себе внимание опозданием именно сейчас.
Коридоры в закулисной части были низкими, без окон, в белесом свете галогеновых ламп. Так пусто, что слышно было, как лампы гудят. Ей показалось, что… Люда схватилась за угол, чтобы удержать равновесие, заставила себя остановиться, вернуться, заглянуть за угол.
Да, не показалось. Мужик в сером костюме озадаченно топтался на перекрестке двух коридоров и лестницы, заглядывал, пытаясь понять, куда она ведет. И туда ли ему надо.
– Вам куда? – окликнула Люда.
Борис вздрогнул. Он не слышал ее легкий бег:
– К директору балета. Простите, я заблудился. На каком я этаже?
– На плюс третьем.
Люда объяснила, как пройти к кабинету Акима.
– Но он сейчас в большом репзале, – уточнила. – Вам туда, может?
Тот покачал головой:
– Вряд ли. А что, есть и минус третий? – полюбопытствовал с улыбкой Борис.
Она глянула на него внимательнее: клеит, что ли?
Борис поправился:
– Этаж.
– После реконструкции есть все. И минус третий, и минус четвертый, и минус седьмой.
Люда объясняла – и сканировала: костюм приличный, мужику за полтос – чей-нибудь папик. Чей? Или, наоборот, в поиске? Сделала вывод, что нет – занят. Есть что-то такое в глазах. Как у собаки на поводке. Люда потеряла интерес.
– Минус седьмой? – удивился папик.
На прощание – снова набирая скорость – Люда ему пообещала:
– …Но если потеряетесь на минус седьмом, ваш труп найдут только при следующей реконструкции.
8
А Марина не бежала. Вот еще. Больно надо. Посмотрим, надолго ли ее хватит. Выскочка. С Волочковой, вон, тоже в свое время все носились. Хотя видно ведь было – пшик, пустышка. А все: А! О! И где теперь эта Волочкова? Только в инстаграме: не знает, как пошире раздвинуть ноги, чтобы обратить на себя внимание. А ноги-то – уже старые. В балете время летит быстрее, чем за стенами театра. Сорок лет? На свалку.
В коридоре за сценой пресс-секретарь в узкой юбке вешала порцию свежих ксероксов на доску «Пресса о балете». Со всех жирно улыбалась она. Со всех. Ну ничего. Это пройдет. Скоро взошла – так же скоро сдуется.
Вот Марина – Марина работать умеет! Балет это труд. Это работоспособность и выносливость. Это сила, дисциплина, точность. Следить за дыханием. Контролировать мышцы. Зачем выдумывать всякий бред про талант?
Когда секретарь поцокала каблуками прочь, Марина послушала их звук – звук затихающих выстрелов. Подошла к доске.
Ксерокс превратил фотографии Беловой в белый силуэт на черном фоне.
Марина изучила.
Рослая швабра, Белова эта. Нога небось сорокового размера. Уродство. И прыжка нет. Неужели они все не видят, что у Беловой элементарно нет прыжка?
Ничего, еще прозреют. Вот она тогда посмеется.
Марина достала из сумки с туфлями ручку. Нарисовала Беловой синие рога, и для симметрии – синие вампирские клыки.
Обернулась, не видел ли кто. Но коридор был все так же пуст.
Марина усмехнулась. Конечно. Все в большом зале. Лижут ее перед сегодняшним спектаклем.
О, ну удачи. Одно дело – толкаться на сцене лондонского Королевского театра или там у себя в Питере. Там она, может, и сумела пустить всем пыль в глаза.
А здесь – Москва. Сцена огромная. Широкая, глубокая.
Такой сцене нужны размах, скорость. Пушечная сила прыжка… Прыжок Беловой? Ха-ха. В вариации Феи – три жете, чтобы полностью перекрыть эту сцену по диагонали. От одного угла кулис до другого. Только три прыжка. Да она дотянет только до середины сцены, спорим? В лучшем случае.
Надо будет все же заглянуть одним глазком на ее репетицию. Как там дела.
Как Белова будет выкручиваться.
Наверняка, поменяет хореографию в своей вариации. Ей придется убрать эти три жете. Вот тогда-то ее и взгреют. «Фею горы» поставил Маэстро. Балеты Маэстро в Москве – священны.
Все дутое лопается. Рано или поздно. Лучше рано. Марина дала Беловой два года. Максимум. Ей самой к тому времени будет двадцать шесть. Всего двадцать шесть! Еще ничего не поздно.
9
Люда в самом деле опоздала. Кордебалет, у которого была выписана репетиция в другом зале, уже утекал через дверь. Люда толкнулась пару раз против течения. Надо подойти к этой Беловой, поздравить, сказать что-то приятное или что там еще. Никогда не знаешь. Может, потом замолвит словечко – и Люду на гастролях в Японии, стране самых жирных суточных, поставят на местечко получше, в первую линию. А может, даже и в восьмерку. Лишние деньги? Да что вы! – деньги никогда не лишние, по крайней мере, ей.
Кордебалет все шел и шел.
Надо идти с ними. Еще не хватало опоздать теперь на собственную репетицию. В расписании стоит, что ведет Вера Марковна, эта – сволочь: Акиму настучит.
Но дорога ложка к обеду. Правильно говорят. Надо пробиться к Беловой. Сказать что-нибудь милое. Произвести первое впечатление.
Люда посторонилась, пропуская выходящих.
– Людка, ты как? – идешь?
– Людка, а ты?
– Я сейчас, сейчас.
Нырнуть внутрь все не удавалось. Большой у нас кордебалет все-таки, подумала Люда не без гордости. Дождалась, когда поток обмелеет. Следом выступала знать – они и здесь соблюдали очередность согласно официальной иерархии: солисты и солистки, первые солисты, затем ведущие солисты. Поприветствовать новую балерину согнали всех.
Последними выходили балерины. Дамы, как всегда, впереди, за ними парни – премьеры. И тех и других в театре было по восемь. Восемь пар. Теперь балерин девять. А мальчиков – по-прежнему восемь. Белова переехала без партнера. Одна лишняя, как в детской игре, когда все под музыку идут вокруг стульев, а стульев на один меньше, чем участников, и надо первым занять место. Только здесь все еще хуже. Парней вообще-то семь, потому что Славик только числится. Вот Маринка теперь зубами щелкает: она же думала, что Славика надежно себе прихватила. Славик рослый, но не тот тип, что называется «летающий шкаф». Мужественность в нем сочеталась с изящной формой рук, ног, манер. Марина рядом с ним и сама смотрелась благороднее, а не как она обычно: избу на скаку остановит. В паре со Славиком ей можно было даже претендовать на «Лебединое озеро». И тут такой облом.
Фотка Славика все еще висела на сайте театра в категории «Премьеры», он даже ходил на утренний класс и даже что-то пробовал репетировать, проверяя, как восстановился после травмы. Но говорили, уже не восстановится никогда. Не физически – морально. Разрыв ахилла. Ахиллово сухожилие в пятке отвечает за толчок от пола и приземление после прыжка. Разрыв ахилла – мерзкая штука: после него потом всю оставшуюся жизнь ступаешь на ногу осторожно. Для мужика – конец карьеры: мужики в балете должны прыгать. Ударные прыжки – главная конфетка для публики. Бедный Славик. А красавчик. Жалко. Вон он там, маячит тоже.
Люда увидела, как Вероника, повернувшись к Беловой спиной, закатила на миг глаза, приоткрыла губы, изображая облегчение после рвоты. На миг. Лицо ее уже было обычным, милым, как будто Люде померещилось. Интересно, а кого Беловой выписали сегодня партнером?
Самой-то Люде ни жарко, ни холодно. Просто интересно. Всегда лучше знать как можно больше. Обо всех. Это Веронике можно делать рожу, какую хочет: ведущая балерина. Люде нельзя. Она в театре должна знать все. Никогда не знаешь, когда и как могут пригодиться сведения!
Люда вытянула шею.
В зал, обдав Люду затхловатыми духами и глядя себе под ноги, проскользнула репетитор солистов Липатова. По виду она напоминала ссохшуюся, сморщенную девочку. Даже проказливую челочку сохранила с тех времен, когда советская Москва бешено аплодировала своей любимице. Никто в публике, в театре ее и по фамилии не называл – только Лилечка. Сейчас, на пенсии, она проходила свои когда-то коронные роли с молодыми балеринами. Как тренер при спортсменах. Всегда подскажет («головку повыше»), поправит («ручку сюда»), похвалит.
Липатова села на низкую скамейку у самого зеркала, обернувшись на отражение, поправила челку, потом заложила изящную ножку за ножку – и принялась разглядывать свою лакированную туфельку с каблуком «кошачья лапка». Медовым голоском прошептала:
– С дуэта начнем. Поддержки проверим.
На Белову она не смотрела. Это Люда засекла.
Концертмейстер за роялем тут же напустила на себя рабочий вид. Выдернула из-под задницы завернувшийся подол. Зашуршала нотами, отыскивая дуэт.
Потянулись к выходу и премьеры. Как? – удивилась Люда. Ведь дуэт?
Белова, видимо, тоже удивилась. Настолько, что это отразилось у нее на лице: она, как собачка, смотрела на каждого. «Вот дура», – пожалела ее Люда.
Джентльмены сочувственно кивали, у каждого было, что сказать:
– Даш, прости, именно сегодня не могу – иду больничный брать: ребенок заболел, жена позвонила, домой срочно ехать надо. (Ответ сочувственный.)
– У меня уже выписана репетиция в другом зале. (Пожатие плечами.)
– Все вопросы к тому, кто расписание такое составил. (Ответ надменный.)
– Нет, точно не я. Меня сегодня на спектакль не вызывали. (Ответ безразличный.)
Остальные не стали ломать голову, не сказали ничего – просто вышли.
Белова осталась одна. Растерянно оглянулась. На Липатову – но та сидела изящной кисой: глядела в пространство перед собой пустым лунным взглядом. Потом на концертмейстера – та стала пунцовой.
На пюпитре – дуэт. Спектакль – сегодня вечером. Впервые Белова танцует в Москве. А партнера нет.
Люда тут же юркнула за дверь. В такой момент лучше вообще не показываться на глаза. И не показывать, что ты – видела. Никто не любит, когда кто-то видит их позор.
Люда припустила по коридору и вскоре нагнала остальных. В зал она вошла в общем табунке, и Вера Марковна заверещала:
– Кто там последний идет? В лифте родилась и выросла, что ли? Дверей никогда не видела? Дверь закрой!
Люда встала на свое место в четвертой линии.
10
Даша понимала: соображать и действовать надо быстро. Здесь и сейчас. От этого «сейчас» решится, как у нее будет «здесь». Но мысли скакали и путались. Хотелось плакать. Она умела не плакать.
В дверь просунулась голова:
– Лилечка! Вас просят в режиссерское управление. Сейчас.
– У нас же…
«…сейчас репетиция», – хотела сказать Даша. Но по тому, как быстро сорвалась со скамейки-жердочки Липатова, очаровательно улыбаясь, Даша поняла, что лучше заткнуться.
В зале стало совсем звонко и пусто.
Концертмейстер, положив руки на колени, сидела прямо, смотрела с преданным ожиданием, как солистка перед дирижером. В глазах ее помимо воли искрилось: будет что рассказать в буфете.
«Я это кончу, – пообещала себе Даша. – Здесь и сейчас». Ей вообще-то было и в Питере неплохо. «А этого – мне не надо».
– Я на пять минут, – пообещала она концертмейстеру. Та кивнула. А когда убедилась, что Даша вышла, убрала приветливое выражение с лица, вынула из стоявшей на полу сумочки киндл, чиркнула пальцем по экрану, поставила поверх нот и принялась читать с того места, где прервалась, когда в метро объявили остановку «Театральная».
11
Вероника сидела перед зеркалом. Оно правдиво говорило ей, что она прекрасна со всех сторон. Вид анфас. В одной створке – профиль справа, в другой – профиль слева. Важно видеть все, когда перед спектаклем накладывают грим. Все балерины подставляли лицо рукам гримерш. Переход от своего привычного лица к грубой и яркой театральной маске доставлял Веронике жутковатое удовольствие. С ударением на «удовольствие». Она приблизила лицо к отражению, подтерла пальцем упавшую с ресниц крупинку туши. Откинулась. Грим – это броня.
Некстати вспомнилась мама. Ее «страшненькая, бедняжка». И бабушкино в ответ: «Страшилище мое!» Бабушка думала, что получается ласково. На самом деле – ранило не меньше. Обе считали, что талант и труд все перетрут.
И с тех пор ненавидела вот это все: работай, трудись, бесконечные мамины «упражняйся!», «растягивайся», «сколько ты уже сидишь в шпагате? – еще!»
В балете лицо не должно быть ярким. Или красивым. Оно должно быть сценичным. То есть блеклым, но пропорциональным: чтобы легко поддаваться гриму. Как пустой лист. У Беловой такое. «Не дай бог», – подумала Вероника: куда с такой рожей в жизни? Детей пугать. Нет, серьезно. Вот к ней чужие малыши всегда простодушно тянулись: считали тетю «принцессой».
Вероника понимала, как ей повезло.
Брехня, когда говорят, что красавицам трудно. Это придумали уродки себе в утешение. Красота – это радость. Красота – это счастье. Красота – это почти талант. Красота Вероники ни у кого не вызывала сомнений. Вероника была красива так, что понимали даже дети и оборачивались даже женщины.
Красота, конечно, тоже проходит. Как и балет. Но ведь балет пройдет еще раньше! Умело совмещая ботокс, филеры, пластику и ежедневный уход, размышляла перед зеркалом Вероника, можно и в сорок выглядеть на двадцать пять. А в балете сорок лет – край могилы: прощай, сцена, – здравствуй, пенсия.
Вероника не любила балет. Он был вроде мужика, который точно бросит тебя в свой срок. Любить такого бессмысленно – из него просто нужно успеть выжать побольше. И Вероника выжимала: из балета и из мужиков.
Но пока балет был с Вероникой ласков. Даже щедр. Роли, положение, зарплата. У нее охотно брали интервью бабские журналы. В интервью она говорила: «С одеждой, стилем у меня проблема: мне идет абсолютно все».
Из балета еще можно было выжать немало… если бы только не эта Белова!
Вероника расстегнула сумку, валявшуюся на полу, наклонилась под зеркало, открыла шкафчик, чтобы забрать диадему. Сердце екнуло.
Шкафчик был пуст.
Вероника набрала костюмершу Риту. Слушала свое бухающее сердце – и длинные гудки в трубке.
Сообразила: точно, сегодня же спектакль у Беловой – Рита готовит ей костюм. Вероникин костюм. Белова влетела в репертуар на ходу. В Лондоне. Пришлось влезать и в чужой костюм тоже. Белова изобразила питерскую скромницу – чужой так чужой: конечно, никаких проблем. И Веронике тоже пришлось в ответ изобразить паиньку: конечно, пусть берет – я только рада, что подошло.
Вот и довыпендривалась.
Рита ответила – хамским тоном, для чужих:
– Костюмерная. Ну?
– Риточка, не скажешь ли, где моя диадема?
Поняв, с кем говорит, Рита тотчас плюхнула в голос сиропа:
– Вероника, дорогая, ты что, в театре? А я думала, ты на больничном.
– Да, у меня грипп. Зашла в театр сумку забрать, – неохотно пояснила Вероника.
Рита все лила сироп:
– Ой, а я не знала. Да мне Аким сказал: ты на больничном, а этой… новой… диадема нужна на сегодняшний спектакль.
– Понятно, – выдавила Вероника.
Вот и доигралась. Идиотка.
– Ой, я, наверное, зря не стала с Акимом спорить? Надо было сказать ему, что не распаковали твои диадемы еще. Да? – засуетилась Рита.
Боится испортить отношения, угрюмо подумала Вероника. Мягко ответила:
– Нет-нет, ничего. Все правильно.
Вдруг ненатурально вышло? Добавила, начав из лучших побуждений – но все-таки не удержалась:
– Мне же не жалко… Если ее это украсит.
Рита с облегчением захихикала – сироп сменился ядом:
– Такую каланчу? Ой. Я этого не говорила. Выздоравливай, главное, поскорей! А то нам на это питерское чудо смотреть придется, пока не выздоровеешь. Мы по тебе уже скучаем!
Льстила ей Рита только отчасти: перевод балерины из Питера, вечного города-соперника, театра-соперника, задел местную гордость во всем театральном люде – портнихах, билетершах, рабочих сцены. Это Вероника знала. Это же Москва!
– Обещаю, – искренне сказала она.
12
Коридор совершенно не отличался от того, откуда она только что свернула.
«Я, наверное, здесь уже была, – подумала Даша. – Три минуты назад». Вот черт. Хоть отщипывай и бросай куски булочки. Если бы у нее была булочка.
Нет, отсюда вроде бы надо вверх по лестнице. А потом направо. Да, кажется, так.
Реконструкция изменила в театре многое, но только не паутину коридоров в старом здании.
Даша вернулась к лестнице.
Правильный она выбрала путь или нет, но кажется, повезло: она услышала голоса, искаженные гулкой акустикой лестничного пролета. Кто-то стоял на площадке. Ура. Можно спросить дорогу, обрадовалась она. Даша, поднимаясь, увидела их первой. Антон, Игорь и Сергей, этих-то она знала. Все трое – премьеры. Антон ей там, в зале сказал, что срочно едет домой – у него ребенок заболел. Игорь – что у него репетиция в другом зале. И вот – все здесь. Не с ребенком, не на репетиции. Можно сказать, только Сергей ей тогда и не наврал – потому что ничего не сказал: посмотрел мимо, как на пустое место.
Увидев ее, все трое смолкли. На лестнице шаркали шаги: к ним спешил еще один свидетель унижения – еще одна злорадная пара глаз. Что бы она сейчас ни сказала, будет выглядеть убого, подумала Даша.
– Привет, – безмятежно бросил Сергей. Двое других откликнулись добродушным эхом: привет.
Даша растерялась.
Если ты вырос в обычном дворе – а именно в таком вырос Борис, – это считываешь влет: кто хищник, а кто еда. Хищники были молодые, холеные, мускулистые. А эта – еда: высокая корявая девчонка. В любом дворе есть уродина, которую тюкают все.
Борис не завидовал юности. Хорошо, что ему почти шестьдесят. Хорошо, что у него юности больше не будет.
Но все же взгляд его задержался на парнях: мощные плечи, мускулистые голые руки, выпуклые грудные клетки. Успел заметить обтянутые трико узкие бедра, крепкие задницы. Его это уязвило. «Мясо», – поспешил с отвращением подумать Борис. А потом на себя: «Глупо».
Дело не в том, что ему почти шестьдесят, и эта лестница, наверное, не кончится никогда, а им чуть за двадцать и они – такие. Таким – он и в двадцать не был. Вот что его задело. Глупо, да. Но все-таки задело.
Девчонка вскинула на него взгляд.
Борис отвел свой, прошел мимо, оставив всех четверых позади, на площадке. Здесь своя жизнь. В нее не вмешиваешься, как не вмешиваешься в жизнь саванны, проезжая на джипе. Гиены рвут слонят. А львы антилоп. Жалко. Но такова жизнь. Чужая жизнь.
Он услышал, как страшненькая девица спросила:
– К директору балета как пройти?
Борис все-таки остановился. Обернулся. Трое парней стояли, сложив руки на груди крест-накрест. В глазах злорадная тревога: о, так она собирается ябедничать директору балета?
– Я знаю, – пробормотала им девчонка. – Просто не помню.
– Дорогая, ну вспоминай! – весело поддел один.
– Карту купи, – добродушно посоветовал второй.
– Тут тебе не Питер, – ласково заключил третий. – Это Москва. Тут все большое.
Когда ему было – ну не двадцать, нет, а сколько? Десять? В десять Борис сам был едой. Как эта вот.
Но все меняется. Все. Где теперь те сильные наглые гопники, которые во дворе поднимали его, первоклашку за ноги вниз головой? Ответ знает государственная статистика: мужчины в русской провинции не живут дольше шестидесяти, умирают – от алкоголя.
А он в шестьдесят – миллионер и глава компании. И не говорите, что это ничего не меняет. Что еда – это пожизненно. Меняется все. Даже прошлое.
Борис окликнул ее с лестницы:
– Вам к директору балета?
Она обернулась.
– Да.
Тащить ее с собой не хотелось. Не стоит вмешиваться в жизнь саванны слишком сильно. Борис ограничился тем, что объяснил, как пройти.
– Спасибо.
Он посторонился. Она из вежливости обошла его на лестнице медленно – а потом припустила вверх, цепляясь мускулистой рукой за перила, перескакивая через две ступеньки длинными худыми ногами.
13
Аким всегда смотрел человеку в лоб, а не в глаза. Иначе с артистами никак. Особенно с артистками. Давят, пока не найдут и продавят слабину. А потом на шею сядут и ножки в рот положат.
Им все кажется, что он один из них. Зря!
Он больше не один из них. Он – босс.
Немного поганая, конечно, должность: директор балета. Вроде директор, но все же не совсем настоящий. Но для них он – босс.
На пенсию ради этого пришлось уйти раньше срока. В тридцать шесть. Но Аким не жалел. От мысли о пенсии у него сжимался желудок. «Принц на пенсии», – провожали шепотком таких: порывистых сухоньких старичков с пегими кудрями – рыщущих, заискивающих и тут же бьющих фанаберией, как копытом («я – народный артист!»), никчемных, ненужных.
И нет у него слабостей. Больше нет.
Он выучил английский, слушая диски в московских пробках. И бабы – больше никаких баб: Татьяна знает, что теперь он ей безупречно верен. Что можно солисту, то нельзя директору балета. Никаких глазок, улыбок, шуточек, цапанья за коленку, не говоря о большем – ночи в номере на гастролях, эх! Ни-ни. Коготок увяз – всей птичке пропасть. А пропадать Аким не хотел.
Даша напрасно пыталась попасть глазами ему в глаза.
С ее ростом Акиму пришлось чуть ли не задирать голову – чтобы все-таки смотреть поверх нее.
Ну и балерины пошли, негодовал он. Баскетбольная команда. Это все с французов началось, с Гиллем. У нас таких дылд раньше из хореографического училища отчисляли. Чтобы смогла закончить обычную среднюю школу и получить другую профессию. Зачем зря учить? – она же встанет на пуанты и окажется выше любого парня.
Аким-танцовщик таких балерин терпеть не мог. Да ее поднимать – надорвешься.
Но Аким-директор заставил себя полюбить и Белову. Публике нравится. Критики верещат от счастья. Гастрольный план забит под завязку. Деньги, деньги, деньги. Если завтра его вышибут из этого театра… Тьфу-тьфу-тьфу, конечно. Допустим, не завтра, а через пару лет, и не вышибут, а подсидят, – в жизни ведь случается всякое! Из театра уходят – все. Никто не сидит в кресле пожизненно. Так вот, когда такое случится с ним, к этому моменту его CV будет выглядеть так, что он станет желанным кандидатом на кресло в любом европейском театре.
Английский он уже выучил.
А пока – со всеми построже. Особенно с этой. Пока она еще не обросла здесь знакомствами, сразу поставить на место.
Но говорить – мягко.
– Даша, у меня сейчас встреча. С новым председателем Попечительского совета.
Она посмотрела ему за спину. Все режиссерское управление в сборе. И даже фотограф театральной многотиражки «Наш театр» Миша, с хомутом камеры на шее.
– Давай это подробно и спокойно обсудим. После встречи.
Он нажал на слова «спокойно» и «после». И даже посмотрел ей в глаза, думая при этом про нового председателя: «Где ж этого козла носит?»
– Посиди в буфете пока, я здесь закончу и сразу к тебе спущусь. Мы это все немедленно уладим. Не волнуйся, спектакль ты знаешь. Мальчики тоже все знают свою партию. Просто поддержки проверите – а на это время есть.
– Дело не в поддержках.
«Я возвращаюсь в Питер», – вот в чем. Но сказать не успела.
– Ясно же, что тут какое-то недоразумение.
– Я…
– Ты их не так поняла.
«Ладно. Я уезжаю. Не хочу даже вникать», – сразу успокоилась Даша.
«Вроде успокоилась, – остался доволен собой Аким. Уф. – С бабами всегда так трудно», – пожалел он себя.
Непринужденно потеснил Дашу к выходу.
– Хорошо, – кивнула она: – После.
Подумала: «Позвоню пока в Питер». С кем сперва поговорить? С худруком? С директором театра? Или с директором балета? Они, конечно, немного обижены, из-за Лондона. Но сумеют сделать вид, что нет. Ведь она возвращается, разве не это – главное?
– Хорошо, – повторила.
– Вот и славно, – обрадовался легкой победе Аким. И оба чуть не получили по лбу дверью. Запыхавшийся дядька в сером костюме ввалился между ними.
Аким фальшиво просиял:
– А, вот вы где!
Борис извинился за опоздание.
– Простите, пробки.
Все тут же захлопали. Фотограф Миша поднял камеру. Аким интимно подхватил Бориса под руку. Их окатила вспышка. У Бориса перед глазами поплыли синие червячки. Даша двинулась к двери.
– Даша, погоди, – приподнято окликнул Аким. Схватил ее за руку, подтянул обратно.
– Знакомьтесь, пожалуйста. Борис Анатольевич Скворцов, наш новый, но уже очень нам дорогой председатель Попечительского совета. По совместительству – глава «Росалмаза». Алмазы России, так сказать, сокровищам русского балета.
Он услужливо отряхнул Борису рукав. Хохотнул:
– Где только вы пыль у нас нашли?
И показал:
– А это та самая Даша.
Борис смутился. Даша почувствовала камень под диафрагмой. Тошное ощущение, что тебя поволокло совсем не туда, куда ты собралась.
А мужик в сером костюме заговорил. И все говорил, говорил. Речь, видно, приготовил заранее. Даша не слушала. Думала, как позвонит своим в Питер. Что скажет.
Мужик в костюме умолк. Все захлопали. Он больше ничего не сказал. Даша поняла, что закончил.
Он протягивал ей ключи.
«Не рада, что ли? – удивленно подумал Борис: странная. Да, после Питера Москва ей, наверное, кажется диким местом. Мне тоже так казалось, весь первый год, если не больше».
Он приветливо улыбнулся:
– Знаю, что в Питере у вас был вид из окна получше, но мы постарались не ударить в грязь лицом.
Даша хотела возразить. Он очень ошибается: не был, а скоро снова будет.
– Даша, ну ты подвинься ближе, подвинься, – замахал ладонью фотограф Миша. – А вы – ключи поднимите повыше. Только лицо себе ими не закрывайте.
Белова протягивать за ключами руку не спешила. «Не понимает?» – подумал Борис: квартиру ей не сняли, а купили, насовсем.
А Даша думала, кому сначала позвонить. Авдееву? Или Кикину? Авдеев самый главный. Но он дирижер. А Кикин – не главный, но он директор балета. С кого начать?
– …Зато этот вид – полностью ваш, – улыбнулся Борис. – Это ваш дом, не общежитие. Вот видите, я про вас читал в Интернете.
Лицо у нее окаменело.
М-да, понял свой промах Борис. «Нет, это добавлять не стоило. Вышло типа богатенькие московские буратино башляют питерской золушке – у нас такое ненавидят». У нас – в Питере.
А Даша думала: «Позвоню сперва Авдееву. Он нормальный».
– Ближе, ну! – из-за камеры крикнул Миша. – Аким, встань тоже рядом, а? Для горизонтальной картинки. Режуправление, тоже. Встаньте вокруг. Полукругом!
Все засуетились, обходя друг друга, чтобы не столкнуться.
– Теснее! Не все влезают, – командовал Миша, сверяясь с видоискателем. – В центре: обнимитесь. Что вы, как неродные!
Борис положил ладонь на талию. Ужасно твердую и горячую под лайкрой. Совсем какую-то не женскую. Будто трогаешь дерево, а оно – теплое. От удивления обернулся на Белову. Сказал – но вышло с дурацкой игривостью:
– Здесь у вас друзья.
– Не вертимся, – предупредил Миша.
У нее даже веки не дрогнули. Улыбка сияла. Глаза как стеклянные таращились в сторону камеры. Борис вспомнил сцену на лестнице.
– Я знаю, как вам сейчас, – шепнул он, глядя перед собой.
Даша резко повернулась к нему – как будто с ней заговорила лошадь.
– Даша! – рявкнул фотограф. – Ты смазала!
Она тотчас отвела лицо.
– Я сам питерский, – прошептал Борис.
– Еще раз! Улыбаемся, – заклинал Миша. – Не мигаем.
Вспышка.
– Ну вот, – отпустил талию Аким. Группа распалась. Борис ощущал идиотскую ненужную тяжесть ключей в кулаке – куда их теперь? Положить директору балета на стол – сами потом разберутся?
Тут она и протянула руку. Тут они и встретились пальцами, потом глазами.
Борис отдал нагревшуюся железную связку. Опять бахнула вспышка – Миша подловил момент: «Квартира в центре! Все усрутся», – подумал он, воображая фотку на полосе и чувства артистов-читателей.
14
Борис плюхнулся на заднее сиденье рядом с Петром. Хватит на сегодня театра.
– В контору, – сказал водителю.
Бормотало радио.
Вид напряженный, отметил Петр. Борис стал рыться в карманах. Выловил телефон. Айфон, не гуглофон, которым Борис пользовался обычно. «Та-а-а-ак», – Петр делал вид, что его это нисколько не интересует: смотрел в окно. Машина вырулила на Охотный ряд.
Борис послушал, глаза подвигались вправо и влево. До Петра из-под уха Бориса донесся механический голос «Абонент не отвеча…». Борис отключил звонок.
– Все в порядке?
– Да-да.
И больше ни слова. В тишине, сквозь рокот мотора, стало слышно: «Востров… Востров».
– Сделай погромче, – велел Борис.
Водитель тронул рычаг громкости.
Новое расследование фонда по борьбе с коррупцией.
«Информация поставлена хорошо», – отметил Петр.
Борис вынул телефон – на этот раз из другого кармана, свой обычный. Тут же открыл сайт «Антикоррупции».
– Какого хера, – пробормотал он. Взвизгнул: – Какого хера!
– Так лучше, – ответил Петр, все так же любуясь Москвой в затемненное от чужих глаз окно.
– Ты офигел.
– Вот увидишь.
– Это не то, что попросил сделать Соколов…
– В сущности, то. Задача удалить? Задача выполнена. Востров теперь точно присядет. До свидания, как минимум, на пятеру. А через пять лет это все равно что навсегда. Ты же сам понимаешь.
– Я тебя не просил! – разозлился Борис.
– Просил. – И Петр быстро объяснил: – Еще в Питере. Когда на работу позвал. Разруливать, но в первую очередь – предупреждать неприятности. Твои собственные слова.
Борис клокотал. Но не возражал.
– Ты не соображаешь… – фыркнул он.
– До сих пор соображал.
– То есть?
– С тобой до сих пор – порядок.
На это возразить тоже было трудно. Борис выдержал паузу. Это он, надо признать, тоже умел. Помолчал, очевидно, взвесил за и против, – соображал Борис быстро. Кто соображал медленно, того в этом мире уже нет, без особых сожалений подумал Петр.
– Что, и грудью, как на Уитни Хьюстон, кинешься? – усмехнулся Борис.
– Посмотрим.
Зазвонил в руке телефон.
– Выключи уже это ебаное радио, – нетерпеливо дернулся на сиденье Борис. Тотчас голос в салоне стих.
Показал экран андроида Петру: звонит генерал Соколов. Борис сделал Петру гримасу: мол, твоя работа – доволен? Телефон вибрировал, будто от далекого гневного топанья генеральских сапожек.
Борис не ответил. Отключил звук. Убрал телефон.
Опять был только рокот мотора да приглушенный стеклами уличный шум.
Оба смотрели по разные стороны – каждый в свое окно.
Петр с удивлением отметил, что не думает ни о чем.
Борис шевельнулся. Опять стал рыться в кармане пальто. Опять вынул телефон. Но не андроид. Айфон. Петр виду не подал, что отметил.
Борис подержал телефон в руке. Раздумал. Убрал.
– Неприятности? – все же спросил Петр.
– Нет-нет, – поспешно ответил Борис. Откинулся на сиденье, как бы подчеркивая, что вновь расслаблен и спокоен. Лоб Бориса разгладился.
– Слушай, – снова заговорил Петр: – Момент неподходящий, понимаю.
И подвесил паузу.
– Ну? – буркнул Борис.
– Хочу попросить тебя об одолжении.
– Момент правда неподходящий, – согласился Борис. Помолчал. Поинтересовался тоном потеплее: – Что тебе нужно?
– Не мне, другану моему, еще по Питеру. Но в общем да, мне. Услуга за услугу.
– На работу устроить?
– Нет-нет. Он журналист. Едет в Конго какую-то хрень туристическую снимать. Водила на месте нужен. Могу я им дать из нашей службы безопасности? На всякий случай. Чтобы если что, не было проблем.
– Каких проблем? Это же Конго. Если во всем известные районы не соваться… Спокойная страна. Туристов до фига.
– Это одолжение, – повторил Петр. Мол: сам знаю, но…
– Хорошо, – быстро согласился Борис.
– Нужна твоя отмашка. Там же у нас частная военная компания, мне они не подчиняются, – напомнил Петр.
Борис не глядя выудил телефон. Петр опять отметил: а теперь снова андроид. Для чего же Борису тот второй – айфон? Для кого?
Борис сказал в трубку, не здороваясь:
– Степа. Сейчас я трубку передам одному человеку. Сделай, как он скажет.
И передал Петру.
Потом с хмурым видом забрал телефон.
– Надеюсь, ты и сейчас не ошибся, – и Петр понял, что он опять о Вострове, о Соколове.
15
Прапорщик полиции Кудинов ответил этой бедной мамаше как есть: «Работаем». Жалко ее. Конечно, жалко. Но что еще ответить? Никто в отделении хреном груши не околачивал. Все работали.
Привезли алкаша, подобранного на улице: предположительно, жертва ограбления. Долго регистрировали. Сука наблевал. Лужу убрали, а вонь до сих пор. Потом Кудинов принял сообщение: подозрительная сумка у скамейки на Тверском бульваре. Потом наряд выехал на сигнал: квартирная кража. Потом отмена сигнала: сумка исчезла сама собой. Центр Москвы – ничего не поделаешь. Кипит круглые сутки. Ночью даже больше, чем днем.
Так, теперь опять насчет этого пацана. Константин Смирнов, полтора года. Вот еб твою мать. Сами детей сбрасывают на нянек-соплячек или нянек-таджичек, которые по-русски ни в зуб ногой. А потом: полиция, помогите!.. И все-таки, когда в преступлении был замешан ребенок, Кудинову делалось жутко. Ко всему уже привык. Но это – все-таки жутко. Дети должны жить. Дети должны жить в безопасности. Мать – идиотка. Где сама была? На работе. На работе она была. Родила – так сиди дома!.. Ладно. Ребенок пропал с нянькой. У няньки раньше приводы в полицию были? Все обычно начинается с малости: мелкого хулиганства, мелкой кражи, дозы для себя. Не наказывают строго. А потом – похищение ребенка.
Его мнение: строже всего надо наказывать за мелочи. Прямо чтобы – бац.
Ладно… Так. Нянька эта. Ирина Капустина. Он поколотил по клавишам, поглядел, что высветилось на грязноватом, с липкой пылью в углах экране. Нет, с нянькой все чисто. По крайней мере, по файлам. С пропиской порядок: временная, но продлена в срок. Ранее Ирина Капустина в полиции никак зарегистрирована не была. Ни митингов, ни нарушения режима прописки, ни штрафов за вождение, ничего. Не шлюха, не наркоманка, не активистка, не сектантка.
Возраст: двадцать лет.
Ха-ха-ха. Извините, но все понятно. К хахалю поскакала. А малыша с собой потащила: мультики ему включили, телефон отрубили, а сами понятно что.
А что еще? В двадцать лет если, нормальное социальное окружение и ни одного привода. Надо послать Иванова с Багутдиновым. Мужик из «Леры» театр упоминал. Кудинов потянулся за телефоном. Но тот зазвонил быстрее, чем прапорщик снял трубку.
– Кудинов слушает.
– На Пушку ребят кинуть можешь? Кто там поблизости пасется?
Кудинов проверил:
– Багутдинов, Иванов.
– Хватит двоих. Какой-то козлина маячит с плакатом. Одиночный пикет. Позвонили, сообщили о непорядке сознательные граждане.
Кудинов шмякнул трубку. И вот на такое отвлекайся? Тут же ребенок пропал! А там им какой-то козлина с плакатиком важнее. Это нормально?
16
Охранники не бычились, отметила Света. Говорили с Олегом без отчества вежливо, тихо. И вообще, выглядели ничего себе. «Все-таки заведение культуры. Театр», – Света отвлеклась, разглядывала стеклянную будку, хромированную рогатку, рамку металлоискателя. Толкая металлические рога, мимо так и прыскали внутрь мужчины и женщины с черными футлярами разных размеров, фасонов – по раструбам и грушевидным утолщениям угадывалось, что внутри музыкальные инструменты. «Артисты», – с уважением глазела Света.
– А как-то это можно выяснить? – не отставал Олег без отчества. Четверо топтались здесь с ним, остальная группа волонтеров ждала указаний снаружи.
Охранники переглянулись. Видно было, искренне хотят помочь. Спустился администратор, тоже в костюме. Выслушал.
– А во сколько это было?
– Около трех.
Фотка в Инстаграме была выложена в 2.38.
Ответил охранник:
– Нет, с ребенком точно никто не входил.
– Они могли войти так, что вы не видели?
– Нет. Это же режимный объект. Вход только по пропускам. Тем более сегодня.
– То есть?
– Сегодня на спектакль ждут… членов правительства, – обтекаемо высказался он.
Мгновенная запинка расшифровывалась: сам президент.
– Охрана усилена.
– А через другую дверь? – предложил один из волонтеров.
– Только артистический подъезд в это время открыт.
Олег без отчества протянул ему визитку с номерами телефонов. Администратор, кажется, сам был огорчен, что не смог помочь.
– Мы можем на всякий случай дать оповещение по внутреннему радио, – осенило его. – Вдруг кто-то что-то видел.
Тон его говорил об обратном.
– Надеюсь, мальчик отыщется!
– Удачи! Удачи! – разом, но вразнобой прогудели оба охранника.
Олег без отчества поблагодарил всех троих.
У стен театра план пришлось пересмотреть.
– Так. Исходим из того, что в театр они не заходили. Не могли.
Все держали в руках карту: прилегающие улицы. Светились экраны планшетов и телефонов. Поиск следовало отводить радиусами от последней точки, где видели пропавшего. От театра.
– Ад, конечно, – бросил кто-то.
В смысле: вокруг сплошные магазины, кафе, дворы, переулки. И оживленные улицы, кишащие машинами, – самый центр Москвы.
– Фото мальчика есть у всех?
Нестройное общее «да» и «есть» в ответ вырвалось с облачками пара. Между колонн театра зажегся теплый мандариновый свет. По Охотному ряду в одну сторону тек, спотыкаясь, ряд белых огней, в другую – рубиновых: поток набирал плотность. Вечер в Москве официально начался.
– Света, глянь, обновления у няни в инсте или фейсбуке не появились?
– Нет.
– Телефон?
– По-прежнему голосовая почта.
– Игорь, Саша, соображайте, где и какие камеры наружки могли поймать момент, когда ребенок с няней стояли здесь, – Олег показал на площадь перед театром. – И вокруг театра вообще. Спрашивайте гостиницы, дорогие магазины. Ребенок и няня должны были появиться у кого-то на картинке.
– Кто ж разрешит наружку свою смотреть?
Сомнение было понятным. Отели поблизости были только шикарные, магазины люксовых марок. Самый центр Москвы, каждый квадратный метр – золотой.
Сомнение это Олегу не понравилось:
– Сашок, везде такие же люди, как мы с тобой, – ответил он. – Ребенок потерялся. Малыш. Полтора года. В центре Москвы. Любой нормальный человек поймет, посочувствует, поможет. Если ты понятно объяснишь… Все, рассыпались, – приказал волонтерам Олег.
17
Даша пообещала Акиму встретиться в буфете. «Поговорить». Какие разговоры? День спектакля. Ее спектакля. Ключи в руке мешали.
Напряжение в диафрагме ушло.
Она выбрала: она осталась. Говорить больше не о чем. «Увидите», – с холодной злостью думала она, быстро шагая по коридору.
Мимо летели стены, двери, углы. Под ногами замелькали ступеньки. Спустилась. Мужские уборные. Гримерки солистов. Даша просто заглядывала в каждую дверь.
Так говорят про жертв: она просто оказалась в неудачном месте в неудачное время. Только не она – а он.
Он копался в сумке, застегнул молнию. Даша дала ему вскинуть сумку на плечо.
Оценила. Рост подходящий. Это все, что ей надо знать. А то в Москве таких любят: коренастых, как фавны, кривоногих прыгунов. Называется «московский героический стиль».
Мужчина должен быть плечистым и стройным. С длинными ногами. Мужчина – это подпорка для балерины. Так было и есть у всех великих хореографов. У Петипа, у Баланчина. У Маэстро. Подпорка должна выглядеть приятно.
В балете так было и будет всегда. На одной стороне – балерины и великие хореографы. На другой – эти подпорки в трико. Не интересные публике. Нужные только потому, что… ах, ну балерине нужно же отдохнуть перед своей вариацией! – вот и пусть он там после дуэта пока корячится, скачет, занимает публику, пока отдыхает она, та, ради которой все и пришли в театр.
– Пошли, – мрачно изрекла Даша. Взгляд тяжелый. Она умела. Обычно действовал на всех.
Растерялся и этот.
– Сумку оставь, – уточнила она. – Туфли возьми.
Эти мальчики… Посмотришь – альфа-самец. Широкие плечи, сильная шея, перевитые венами руки, железные плиты и бугры мышц.
А на самом деле все они – грызуны. Трех видов. Безобидные работящие суслики, трусливые зайцы, вонючие самолюбивые хорьки. Не считая подвидов. Так считала Даша. Ну а что? Правда! За каждым балетным мальчиком стоит энергичная мама. За каждым. Если не мама, то мама и бабушка.
Мальчика надо возить в балетную школу и из школы. Понукать, чтобы не сдался, не бросил. Поддерживать надо тоже. Следить за весом и диетой. Верить в его звезду. Каждый день. Балетные мальчики привыкли слушаться женщин.
А Даша была настроена решительно, как героиня Умы Турман в фильме «Убить Билла». Если бы ей встретился Будда, то она – ну нет, не разрубила бы и его – заставила танцевать с собой «Фею горы».
– Куда идти? – пролепетал этот. Сумка на полу. Замшевые стручки туфель уже в кулаке.
Суслик, определила Даша. Не хорек, нет. Но и не заяц.
– Туда, – ответила она.
Какая разница, как его зовут. Она решила остаться. Точка.
Остальное – их проблемы.
Он плелся за ней доверчиво, как теленок. Она смягчилась:
– Как тебя зовут?
– Слава.
Кивнула:
– Хорошо.
Когда она толкнула дверь зала, концертмейстер подпрыгнула на стуле от неожиданности. Затем нагнулась вдогонку… пластмассовое кляк-кляк-кляк – кувыркнулся по полу маленький черный прямоугольник.
Слава, подпрыгивая на одной ноге, другую продел в туфлю.
Даша бросила концертмейстеру:
– Начнем со второго дуэта.
18
Эта питерская оказалась не такая ужасная, как говорили ребята, думал Славик, принимая душ. Домой ехать смысла уже не было – пора готовиться к вечернему спектаклю. Времени вагон. Он обычно приезжал в театр за два часа до начала. Ладно, сегодня будет готовиться медленно.
Вот ведь влетел – утром и не подозревал, где проведет вечер: на сцене.
И она не болтает! Тоже плюс.
Спросила только перед репетицией: «Ты поел? Разогрелся? Тебе разогреваться надо?» От этих вопросов Славик почему-то сразу ощутил уверенность, спокойствие: как будто все вдруг встало на свои места. Ответил: «Нет». Она добавила: «Свитер пока не снимай. Тут сквозняк». И опять у него чувство, будто вправился вывих.
А на рожу какая? Никакая.
Горячая вода душа приятно размягчала усталые мышцы.
Славик напряг, отпустил икру. Ощущения непонятные. Решил вызвать перед спектаклем массажиста.
Чтобы в вариациях не было проблем.
С дуэтами проблем не будет.
Она ничего. Даша эта.
Он закрыл краны, вытерся.
На поддержках не висит, как некоторые: выжимай ее, цацу, как штангу. Помогает. Толчок на поддержку дает вовремя, потом подхватывает. И вертится прилично – не падает на тебя в пируэтах Пизанской башней. Никаких проблем в спине после репетиции с ней. А в ахилле? Прислушался. Нет, вроде. Согнул, потом вытянул стопу. Слава богу, нет.
Случилось это с ним на «Жизели». Приземлился после кабриоля, и вдруг вся сцена опрокинулась – по глазам ударили верхние лампы, пол врезал по спине. И жуткая, жуткая – не боль даже – а мысль: кранты? Хуже ахилла только разрыв крестообразной в колене, это – кранты без вопроса. Никакой хирург не сошьет крестообразную связку так, чтобы потом можно было танцевать в балете. Филя рассказывал. Ему врач, такой, улыбается: «Все хорошо, – говорит, – срослось удачно, ходить будешь». Ходить! Где сейчас Филя? Вроде бы преподает танцы в детской студии «Одуванчик».
Хорошо, что мама ту «Жизель» не видела.
Мама умерла за год. Так странно. Рак. Успела увидеть, как его перевели в категорию премьеров. Умерла счастливой. Обеспокоенной – как же теперь Славик один? Но счастливой: сын – премьер. Один из восьми. Сбылась ее мечта, достигнута цель, к которой она шла – и тащила его – пятнадцать лет. Будила в школу, возила в училище через всю Москву (потом сама мчалась на работу). Понукала, чтобы растягивался и дома, чтобы не прекращал упражнений и на каникулах. Следила за его весом. Приучила к легкой еде. И вот день триумфа: сидит в актерской ложе – смотрит на сына в главной роли. В главной!
Все балетные мамаши мечтают о таком дне. Удается – восьми. Ей – удалось. Может, поэтому и умерла? Миссия окончена. Сдала вахту.
Вот только никто не успел его подхватить.
Может, поэтому он и упал? Тогда, на «Жизели»?
Если бы мама смотрела – не упал бы.
Нет, охотниц было хоть отбавляй. Когда он поступил в труппу, бабы оживились: кому достанется? С данными, не вредный, руководству нравится, в кордебалете не сидел, сразу афишные партии, сразу на гастроли в Японию.
Ах, сколько он не успел сделать для мамы! Например, привезти ей из Японии кимоно.
Все бабы, которые запускали в него когти, были какие-то странные. Не такие. Славик не понимал. Каждой что-то было надо. То после репетиции ее забери. То шубку купи. А лучше – сразу машинку. Как она жалуется, послушай. В ресторан пригласи – причем сам догадайся в какой. В кино ее веди. Квартиру с ней сними – но сначала сам эту квартиру и найди.
Славик вжимал голову, распухшую от чужих «хочу» и «надо», и не прощаясь уползал в кусты. Трудновато, когда оба работают в одной труппе. Но можно. В классе вставал у палки подальше. Не встречался взглядом в зеркале, повторявшем их па. Отношения не складывались.
А после травмы их интерес погас. После возвращения с больничного к нему прилипло прозвище: Пирожок без ничего.
Или начинка, это что-то внутри него, исчезла еще раньше – когда ушла мама?
Славик посмотрел на часы. Пора поесть перед спектаклем. Сытно, но не плотно. Так наставляла мама.
Буфет был открыт. Многие столики заняты.
Славик встал в очередь.
«Да ну его, пусть она берет», – донеслось до него. Девочки. По остреньким жестам, по быстрым улыбкам и взглядам он понял, что обсуждают его. Захихикали. Потом: «Жалко, что ли? Пирожок без ничего».
Подошел Антон:
– Ну ты даешь, друг.
– А что?
– Такое попадалово.
Славик не нашелся с ответом.
– Аким заставил? Ты пойди к нему, поскандаль, – продолжал науськивать Антон. – Она ж тебя угробит.
Славик заерзал. Из очереди – не смыться.
– Никто меня не заставлял, – промямлил Славик.
Антон оживился. На лице забота:
– Ты чего? Ты давно ахилл залечил? Чтобы шпалу такую таскать.
Славик пожал плечом. Антон ужаснулся:
– Она ж ростом с мужика.
К счастью, пожилая буфетчица уже отпустила предыдущего покупателя. Полная, с багровым лицом – она сто лет в театре уж как, любит всех артистов, всех помнит по именам.
– Привет, Славик. Что будешь?
– Здравствуйте.
– Хочешь, с тобой сейчас к Акиму схожу? – не унимался Антон. – Для моральной поддержки?
Славик стал изучать тарелки за стеклянной витриной – как будто там страшно интересное.
– Ну ты даешь, – покачал головой Антон: – Гляди, я тебе помощь предлагал.
Но отошел.
Славик поставил тарелки на поднос, расплатился. Искать свободный столик, тем более подсаживаться к кому-то не хотелось. Понес к себе в гримерку. Мимо плакатика «Убедительная просьба НЕ выносить еду и посуду из буфета».
«О, горю от нетерпения вечером на это посмотреть», – донеслось напоследок – и хихиканье.
Мама всегда говорила: не обращай внимания, люди завидуют. Но все-таки было неприятно.
Когда Славик открыл дверь гримерки, первая мысль была: обокрали. Дверцы шкафа распахнуты, ящики трельяжа выдвинуты. А потом увидел Лешу, из группы первых танцовщиков. Леша раскладывал вещи. Свои – в его шкаф. С маминой фотографией на дверце внутри. Фотографию Леша отклеил за уголки. Понес, чтобы…
– Ой, – сказал Леша.
А потом Славик увидел и свои манатки: аккуратно сложенные в углу. Трико свернуты колбасками, как змеиная кожа. Туфли стопочками. Одежда в пластиковом мешке. Леша аккуратный, чистенький. И в танцах тоже. Такой аккуратист, что это никогда не выпустит его из группы первых танцовщиков – выше.
– А ты что, не в Питере? – удивился Леша. Фиг поймешь, правду говорит или нет.
Славик поставил поднос на пол, забрал у него фотку:
– Нет.
– А мне так сказали, – стал объяснять Леша. – Что я могу занять твою гримерку. Ты теперь в Питере, сказали. Сегодня там спектакль. Там у балерины партнера нет… Мне так сказали.
Выглядит искренне, подумал Славик. Наверное, Леша просто совсем тупой.
– Наверное, перепутали, – не стал распалять ссору он.
До Леши доперло, что все-таки что-то здесь не то. Он сгреб свое барахло, извинился, смылся в коридор.
Славик сел на вертящийся табурет у зеркала. Покачался туда-сюда.
Кто бы сказал, что делать? Поглядел на мамино лицо. На поднос на полу. На свои разбросанные вещи.
Вынул телефон.
Она приехала и уехала – не известно, может, на следующий сезон она опять куда-нибудь переедет, в Лондон, например. А ему здесь жить.
– Славик, все хорошо? – тотчас отозвался в трубке Аким.
Славик помолчал. Врать он не любил:
– Наверное, я сегодня не смогу выйти.
По шумному вдоху в трубке он понял, что Аким сейчас кинется уговаривать, и быстро прибавил:
– У меня ахилл заболел.
19
Петр позвонил Андрею сразу же.
– Ты где?
– В Шарике. Где же еще. Ждем гейт на Амстер.
– Будет вам водила.
– Круто. Спс.
– Че?
– Мерси, говорю.
– Но не без вытекающих, – предупредил Петр.
– Гонореи, что ли? – тотчас нашелся Андрей.
– Тьфу на тебя.
– Что надо-то?
– Я тебе контакт водилы в Конго сейчас скину смс. Но ты мне, будь добр, шли апдейты с маршрута, хорошо? Сменили локацию – сразу чек-ин. Эсэмэс брось – достаточно.
– Ну.
– То есть?
– Хорошо, хорошо!
Разъединились.
Петр переслал контакт. Подождал.
Перезвонил.
– Ну? – потребовал.
– Чего? – завопил Андрей. – Я получил, получил!
– Гейт открыли?
– Ну.
– А где апдейт?
– Что, после каждого бздеха чек-ин?!
– После каждого.
– Гейт открыли, прем на посадку. О’кей?
– В следующий раз только говори: о’кей, командир, – поправил его Петр.
– Пошел в жопу.
Петр ухмыльнулся, убрал телефон.
Конго славная страна, шикарные пляжи, экзотика, нечего опасаться. Если сделаны все требуемые прививки. И если, конечно, неприятностей и всяких там каннибалов не искать. Но неприятности можно и в Москве найти. Безопасность – это рутина.
20
Настроение паршивое. Выйдя из лифта, Борис задержал шаг. Вынул айфон. Никаких новых оповещений. Ни нового смс, ни пропущенного звонка, ничего в вотсапе и телеграмме. Столько возможностей сейчас для связи. Столько источников тревоги.
Набрал номер.
Тихий клик – тишина сменилась какой-то шуршащей тишиной: соединение.
– Ира, ты… – раздраженно заговорил он сразу. Ошибка. Никого там не было. Опять голосовая почта.
Секретарша отпрянула от компа – быстро ударила пальцем по клавише – сбросить окно на экране. Как будто он застукал ее за порнухой. Мимо. Морда Вострова так и осталась висеть во весь экран.
Вскочила навстречу.
– Я в курсе, – кивнул он на комп.
Она от облегчения затараторила:
– Вы видели? Винная ферма в Венгрии, оказывается. И у жены гражданство.
«Откуда в них всех сразу появляются эти осуждающие комсомольские интонации?» – с внезапной неприязнью подумал Борис. По возрасту секретарша и Советского Союза не застала. Но интонации – честное слово, оттуда.
Через стеклянные перегородки было видно: все прилипли к экранам компов. Стоят с откляченными задницами. Смотрят. Обсуждают. «Может, Петька и прав», – подумал Борис. Сработало ведь. Присядет, как пить дать.
Уводить деньги в офшор – это не растрата. Это предательство. Это признание, что утратил веру в президента.
Все должны грести в одной лодке. Даже кто утратил веру.
Или – в лодке, или – за борт.
– А что это, Зоя, работа парализована? – недовольно поморщился он. – Верни всех на грешную землю, пожалуйста.
Та выскочила из своего загончика, застучала каблучками.
Борис вынул рабочий телефон. Пятерка в красном кружке. Открыл оповещение. Все пять звонков с одного номера. Генерал Соколов.
Борису стало тошно. Возможно, это и есть граница. Ну, Петя, импровизатор сраный… Хотя что – Петя? Он сам пришел бы к этой границе рано или поздно. Раз он уже к ней двигался. Себе-то он мог в этом признаться. Зачем Соколов обрывал трубку – понятно. Беснуется. Как же: ослушались генерала. Ждет слез и соплей. Извинений, раскаяния, обещаний все исправить. Хрен. Как только покаялся, ты – снизу, ты – встал раком. Ты – еда. Тогда уж точно конец. Это если перезвонить.
Не перезвонить – признать, что ты против. Против них. Тоже конец.
Который выбор неверный? Который сбоку.
Борис помедлил. Пять пропущенных звонков. Пять…
Потом сбросил оповещение. Убрал телефон.
21
– Ну иди тогда и сам ей об этом говори! Что ты не танцуешь! Если у тебя ахилл болит!
«Вот засранец», – подумал Аким и, не слушая, что там еще пролепечет Славик, нажал отбой. Ведь врет же. Сволочь. Еще утром в классе скакал, как козлина. С больным ахиллом не скачут.
Засранцы – они все. Это-то понятно. Это он постепенно уладит. Труппа все всегда принимает в штыки. Новых хореографов, новых репетиторов, новые балеты, новых директоров. А потом любовь взасос. Просто им нужно время. Но прямо сейчас делать-то что? Спектакль вечером. Уже – вечер.
Когда Аким оставил сцену, его еще долго преследовал один и тот же сон. Ему говорят: одевайся. А у него – удар паники: я же не в форме. И вот уже стоит в кулисах. На морде грим. Потеющая от страха голова чешется под лаком. В глаза бьют боковые с противоположной стороны кулис. В висках стучит: я же больше ничего не могу. Что я буду делать? Что?!
Не могу прыгать, не могу завернуть сложный пируэт. Я в пятую позицию толком встать не могу.
Во сне он всегда панически брал себя в руки – соображал: ладно, из тех зрителей, что сейчас в зале, кто реально знает, чего ожидать? Только горстка старых балетоманов. Остальные – туристы, командировочные, «спасибо, «Спящую красавицу» мы с мужем уже видели». Пришли выгулять платье, посмотреть на гигантскую хрустальную люстру, сфоткаться в фойе и выложить фотку в фейсбук, выпить шампанского в буфете. «Я все еще нормально выгляжу», – успокаивал он себя во сне. Не обрюзг. Еще не ужасен в белом трико. Я им там красиво похожу, руками повожу, какие-нибудь танцы в полноги сымпровизирую. Я фактурный. Никто и не поймет, что что-то здесь не так.
Просыпался всегда в поту. С адской ломотой во всех мышцах от выброса адреналина.
Теперь кошмар догнал его наяву.
Что ему сейчас делать, ну правда? Звонить в костюмерную и велеть приготовить костюм – себе?
22
Даша одевалась не спеша. Каждая деталь имеет значение. Тем более когда костюм с чужого плеча. Проверить бретельки. Проверить крючки на лифе. Просунула пальцы сзади под трусы пачки, оттянула, расправила.
Напялила шерстяные штаны. Обула поверх атласных туфель овчинные валенки. Чтобы не остыть. Все-таки ужасные здесь сквозняки. От этих новых кондиционеров.
В кулисах для надежности разогреется еще раз: быстрый пробег по всем мышцам, как по клавиатуре.
Приблизив лицо к зеркалу и открыв от усердия рот, наклеила ресницы. На один глаз. На другой. Подождала, пока примется клей. Подкрасила брови, чтобы с ресницами тон в тон.
Поставила ладонь козырьком над глазами. Густо полила лаком волосы. Пригладила ладонями. Волосы теперь выглядели, как нарисованные прямо на голове. Осталось надеть диадему.
Даша наклонилась к шкафчику, открыла дверцу – сперва ей показалось, что она в темноте шкафчика обозналась, а потом руки у нее оледенели. Даша вынула проволочный каркас. Все стразы из диадемы были вынуты… Не все, только самые большие и заметные, но от этого вид еще более убогий. Уж лучше бы все.
Сердце само начало колотить до боли. До самого горла.
Она тяжело задышала.
Испугалась: «Сейчас еще сердечного приступа не хватало». Она не услышала стука в дверь.
И когда Слава тронул ее за плечо, обернулась – и не сразу смогла понять, кто перед ней. Что он ей говорит? В ушах был гул. Виски сдавливало. Как будто ты под водой.
Ничего не смогла сказать. Только слышала, как скрипит в такт ее дыханию лиф. Как после бравурной коды, от которой режет легкие.
– Ничего, – наконец расслышала она его голос. – Сейчас что-нибудь придумаем.
Наконец, разглядела, что на лице у него – не злобное выжидание, не насмешка, а сочувствие. Жалость?!
Ее это отрезвило.
– Ты… ты… это…
Она показала на его свитер.
– Да это-то я быстро, – махнул рукой Славик. – Я быстро переодеваюсь. Насчет этого не парься. Грим вообще три минуты. С этим, – он вертел в руках диадему: – что-нибудь придумаем. Надо позвонить костюмерше.
Даша забрала у него диадему.
– Нет.
– Я позвоню.
– Нет!.. Иди одевайся.
Она надвинула проволочный каркас на темя. Стала прикалывать по кругу невидимками. Вгонять шпильки.
По внутреннему радио дали повестку:
– Добрый вечер. До начала спектакля осталось сорок минут.
– Иди, – поторопила она.
23
Радио щелкнуло:
– Был дан второй звонок.
Даша любила эти последние минуты. Между вторым и третьим звонком. В интервью ей обычно подсказывали: входите в образ? Приходилось кивать. Не объяснишь.
Им кажется, что вот она выходит на сцену – и думает про себя, что она лебедь или баядерка. Ага. Если так, то тебе не в балет, а в психбольницу.
На сцене надо думать о сцене. Где красная лампочка, означающая центр. Где размечены мелом начало и конец трудных пассажей. Где откроется люк. Нужно следить за дыханием. Слушать музыку. Видеть дирижера. Помнить о каверзных трюках, подстроенных Маэстро. И как из них выскочить. И еще постоянно сканировать собственное тело. Полный контроль. Забылась – травма. Отвлеклась – травма.
В дверь легонько стукнула и тут же вошла портниха:
– Мне Славик сказал, чтобы я к вам заглянула, – елейно запела она. – Я поняла его так, что вам диадема не нравится? А Веронике нравилась.
Тут же испугалась, что перегнула – подобострастно предложила:
– Может, другую принести?
– Не надо, – отрезала Даша. Добавила: – Если Веронике нравится, мне тем более.
Та исчезла. «Полетела доносить госпоже, – усмехнулась Даша. – Это мы еще посмотрим».
– Был дан третий звонок, – объявило радио, начало привычно перечислять: – Солистов, артистов, занятых в начале, просьба пройти на сцену. Был дан третий звонок.
Даша застегнула ворот кофты до самого верха. Поднялась. Между толстыми рейтузами и кофтой топорщилась пачка. Кофту, рейтузы, валенки, чтобы не растерять ни грамма тепла вокруг мышц, снимет только в кулисах, перед самым выходом. Привычным движением пригладила ладонями виски, из которых ни волоска не могло выбиться. Пора.
24
Из-за усиленной охраны обычная театральная рутина сегодня шла медленнее, запиналась. Президентов этим вечером на самом деле было два. В ложе с Виктором Петровым сидел глава Республики Конго, прибывший в Москву с официальным визитом. Дебют Беловой разогрел ожидания. Впервые все ложи, выкупленные большими корпорациями, были забиты под завязку. В партере добавили приставные стулья. На ярусах висели гроздья, как в автобусах в час пик. А пресс-секретарь уже с утра перестала брать трубку: места для прессы все равно кончились.
Наконец, дали третий звонок. Люда проскочила на свое место. Поддернула пачку. Что такое? Опять затор.
Очередь кордебалета была свернута в клубок: колючая и шуршащая от трущихся друг о друга жестких пачек. На лицах недоумение.
– А сейчас что? – спросила Люда, никто не ответил.
Вера Марковна стояла перед входом за кулисы, как дракон у зева пещеры.
Заверещала:
– Руки показываем, руки.
Недоумение только усилилось.
Первая из стоявших растопырила пальцы.
Вера Марковна, не церемонясь, царапнув, стащила золотое кольцо.
Ответила на вытаращенный взгляд:
– На выходе заберешь, – и бросила на поднос, позаимствованный из буфета и поставленный на стул рядом.
Все загудели, зароптали:
– Что еще за новости такие?
– Себе спасибо скажите. В Лондоне критики ругались: лебеди и крестьянки у нас сверкают бриллиантами. Приказ Акима.
Одна фыркнула:
– Ну так у них и бабы страшные. А наши девочки любят все красивое.
– В Лондон больше не хочешь? – осадила Вера Марковна.
Девочки принялись вынимать сережки, стаскивать кольца.
– Привыкайте, – проворчала Вера Марковна.
Одна демонстративно закатила глаза, теребя тесное кольцо с огромным камнем. Бриллиант казался бутафорским – такой большой.
– И жвачку выплюнь, жопа!
В мое время, осудила Вера Марковна, такого не было. Да, кому-то и в те времена везло: выходили за партработников, дипломатов, генералов. Но кордебалет был кордебалетом. А сейчас? Есть, конечно, и обычные, до самой пенсии вкалывают. А есть и такие. Вот эта, например. Зачем ей вообще работать? Одно кольцо стоит больше, чем она в кордебалете зарабатывает за сезон.
На поднос падали, звякая, цацки. Проходили мимо Веры Марковны, показывали руки, та кивала. Шли, не задерживаясь.
Люда завистливо покосилась на искрящееся чужое добро.
Показала драконше пустые пальцы, получила кивок.
Люде снимать было нечего.
25
– Мам, – удивился Виктор. – Ты чего?
Вера, не разжимая объятия, помотала головой: ничего. Приятно было чувствовать запах сына. Сил не было выпустить лацканы его пиджака. Но чтобы его не смущать, выпустила.
Кому-нибудь разве объяснишь? Это чувство ровно и сильно горело, не мешая в ее жизни ничему остальному: огорчениям, увлечениям, интересам, разочарованиям. Оно было фоном, без которого сама жизнь рассыпалась бы. Но иногда – сейчас вот – ударяло в сердце, ошеломляло Веру, как в день их встречи: когда красного, как будто переваренного младенца положили ей на грудь. Она в самый первый день поняла: он ее лучший друг.
Чувство не менялось. Витя – менялся, переживал все свои насекомые метаморфозы: младенец, малыш, школьник, ненадолго отпал от нее, замкнувшись в угрюмой подростковой нескладности, как гусеница в твердой куколке. Потом выпорхнул прекрасным юношей. Теперь уже, конечно, молодой мужчина. Ее любовь охватывала все эти его ипостаси, вложенные друг в друга, как матрешки.
Вера с гордостью продела свою руку под его.
– Ты почему в театр так рано примчался?
И тут же забыла свой вопрос. Разглядывала публику. Уже ловила чужие взгляды в фойе. Смотрела на себя чужими глазами – и нежилась в них, как в теплой воде. Моложавая мать со взрослым сыном. Другие поди и звонка от детей не дождутся…
– Просто раньше тебя, вот и все, – ответил сын.
«…Боже упаси!» – думала Вера о своем. Ей повезло: она любила своих детей и любила взаимно, – могло и не повезти; не хотелось даже представлять, на что тогда была бы похожа ее жизнь.
– Мам, идем, – потянул ее сын. – Он там, наверное, уже кудахчет.
– Ты все-таки называй его папой. Иногда. Ему же жутко нравится.
– Могу в виде компромисса называть его Борисом Анатольевичем.
– Ну Вить…
– По этой лестнице – короче.
– А по той – длиннее, – потянула его Вера. – Пройдемся немного. Я хочу на людей посмотреть, себя показать.
Виктор повел ее через фойе. Как длиннее. Мамин лучший друг.
Борис и правда уже ждал у ложи:
– Привет.
Виктор не глядел на него:
– А Аня где?
– Уже села.
Борис пропустил Веру вперед, за бархатную занавеску, сам задержался в пахнущей духами и пылью темноте с проблесками позолоты, приложил к уху телефон, дождался писка голосовой почты, тихо, но так чтобы слышно было беспокойство, бросил: «Ира, просто хочу знать, что все в порядке». Отключил звук. Рабочий телефон тоже переставил на airplane mode. И вошел в ложу. В свет, рокот, звуки настраиваемого оркестра, как бы снизу куполом подпиравшие гигантскую хрустальную люстру.
Вера выпустила из объятий дочь.
– Мам, ты чего? – с улыбкой спросила и Аня, оправила платье. – Ой, смотри, у тебя пятно на платье.
Вера прижала подбородок, скосила глаза на черный бархат.
– Где? Это? Пыль. Странно. Откуда?
Махнула рукой:
– А. Отвалится само… Ань, – позвала она дочь. – Я тебя обожаю.
– Мама сегодня восторженная какая-то, – с нежной насмешкой заметил сестре Виктор.
Та спросила его одними глазами поверх Вериного бархатного плеча. Виктор еле уловимо кивнул сестре.
– Странное чувство. Видеть весь этот театр снаружи, – заметил он, садясь.
– Предвкушаешь спектакль? – поинтересовалась Аня.
Вера почувствовала спиной сквозняк. Обернулась из кресла – на лице легкая тревога. Борис ей улыбнулся: все хорошо. Виктор сделал вид, что не заметил его появления, – а может, и правда не заметил: показывал спину в темно-синем пиджаке, разглядывал полный зал. Аня крутила колесики перламутрового бинокля. Борис потянул за золоченую спинку, сел на бархатное сиденье и, разделяя любопытство жены, пасынка, дочери, тоже стал разглядывать зал.
В балете он раньше не был. В этом театре, кажется, да, но не на спектакле – вручали какую-то премию, Борис представлял, как всегда, спонсоров, в одном из множества комитетов и советов, в которых числился.
Неровные тихие вопли настраиваемых скрипок образовывали какофонию, которая наполняла предвкушением чуда.
– Царя еще нет, – сообщила Вера.
– Опаздывает, – ухмыльнулся Борис. За бархатным бортом ложи он казался себе плывущим в утлой золотой лодочке прямо в шипящее море.
26
В отеле «Евразия», огромном и роскошном, а главное – почти примыкавшем к театру, к ним отнеслись ровно так, как предсказывал Олег.
Вот и опять люди оказались лучше, чем Света о них думала.
Администратор с бейджем на лацкане хорошего пиджака («Армен», прочитала Света) тихо воскликнул: «Боже милостивый». Прибежала брюнетка в узкой юбке и блузке с бантом: ассистент.
Света удивилась, что их вообще выслушали.
Смирнову (дома она не усидела, дома осталась бабушка Костика), уже не хлюпающую, но с ужасным, ужасным лицом, усадили на шелковый полосатый диван в уютном закутке фойе. На столике перед ней стоял чай. На многоэтажном блюде сэндвичи и пирожные. Девушка из «Леры» к ним не притронулась.
– Это уже подвижка, уже подвижка, – повторяла она матери Костика.
Отель был шикарный. В нем останавливалась однажды певица Мадонна. Простые гости тоже были не просты. Камеры были натыканы везде.
– Попробуйте выпить хотя бы чаю, – сочувственно уговаривала ассистентка в узкой юбке, низко наклоняясь, так что Света чувствовала ее духи, и прочла, скосив глаза, на бейдже: «Карина». Есть хотелось, но было стыдно жевать в присутствии чужой беды.
Смирновой кусок не лез в горло.
Администратор Армен вернулся. Уши красные. Вероятно, служба охраны отеля упиралась, сделала вывод Света. И вероятно, администратор Армен превысил полномочия – такие уши обычно пылают после разговора с каким-нибудь Большим Боссом.
Но и Большой Босс «Евразии» проявил понимание.
– Идемте, – пригласил Армен.
«В отель, что ли, устроиться», – подумала Света, вставая. В «Евразии» ей понравилось все: бежевые цвета, запахи, букеты в огромных вазах, люди. Сидеть со Смирновой, полубезумной от страха за сына, опять и опять повторять: «Да не к кому Ирке в гости идти. Нет у нее в Москве родственников – она сама из жопы какой-то сюда приехала. Вы же Иру знаете. Она очень, очень ответственная», – сил уже не было. Света чувствовала себя какой-то обугленной. Как дерево, по которому все шарахает и шарахает молния. Со стыдом за себя сделала вид, что Армен пригласил и ее, увязалась за Олегом и Сашей по тихим коврам. Когда они ее заметили, уже пора было входить в лифт. Олег все же промолчал.
27
От множества экранов в комнате было сухо и жарко. Охранники держались неприветливо. Но и здесь Света ошиблась. Олега они выслушали внимательно, соображали вдумчиво, замечания вставляли дельные. Изучили фото Костика.
– Какой мелкий, ужас, – не выдержал один. Оба обернулись к экранам.
– Посмотрим.
На экранах была «Евразия» – вид снаружи, вид изнутри – как бы разбитая на мозаику.
– Вот здесь театр попадает, – показал на один из экранов охранник. Если бы не сказал, Света не догадалась бы. Театр там не выглядел театром. Просто кусок стены с окнами, балкончик. Внизу тротуар, край проезжей части.
– Негусто.
– Лучше, чем ничего.
– Посмотрим, – охранник принялся отматывать сегодняшний день. Задом наперед побежали люди, в окнах дергались и мерцали отражающиеся облака.
Каждый раз, когда мелькали две фигурки – одна повыше, другая пониже, охранник бил по клавише «стоп». Пара, отец с ребенком, дети разного возраста. Опять бежали задом наперед одиночки. В углу экрана неуловимо для глаза менялись цифры – время отматывалось назад.
Просмотрели на всякий случай на час раньше, чем была выложена фотка в инстаграме. Ничего.
Надежды было мало, но все равно – досадно.
– Извините, – произнес один охранник, как будто это была его вина.
Теперь экраны снова показывали настоящее время.
– А больше камер нет? – понадеялся Саша.
Охранник покачал головой. Не хотел казаться черствым, выпроваживая волонтеров сразу за дверь.
– А у кого еще могут быть камеры на театр?
Но охранник уже таращился на экран. Пальцем бил по одной клавише: зум, зум, зум…
Картинка приближалась с тошнотворной быстротой, от которой желудок сводило, как в машине, когда укачивает.
Олег выхватил телефон. Саша никак не мог попасть в рукав куртки. Кто из них заорал?
– В полицию, в полицию звони!
У охранника словно заклинило палец: зум, зум, зум…
28
Антракт задерживали.
Публика, вытесненная в фойе, за запертые двери зрительного зала, уже допила шампанское в буфетах, уже опустели туалеты, уже сделаны и запощены селфи, уже люди начали беспокоиться. Гулкий голос вальяжно объяснял – спутнице и всем, кто услышит: «Это президент. Из-за него антракт задерживают». Всегда и везде, в любой толпе, в любом кафе, в любом человеческом собрании находится такой человек, который знает просто-напросто все.
За кулисами недоумение также росло.
В театре рыскала полиция. Много полиции. Что-то искали. Везде заглядывали.
– Может, позвонили, что бомба, – предположил в буфете артист миманса Волосов.
Внутреннее радио опять призвало всех сохранять спокойствие.
От этого всем стало еще больше не по себе.
Даша ходила из угла в угол гримерки, то и дело зевала; глаза при этом были не сонные, а широко открытые и блестящие. «Психует», – подумал Славик, выключил радио в гримерке совсем. Передумал – так можно пропустить важное: просто убавил звук. Антракт так затянулся, что разогретые мышцы уже остыли.
– Такое бывает. Наверное, просто опять какой-нибудь псих позвонил, якобы в театре бомба.
Зря сказал. Поздно. Лицо Даши под гримом, казалось, треснуло.
Славик не пугался, когда мама плакала. Мама плакала тихо, накрывшись пледом и отвернувшись к спинке дивана. Почему говорят, что «маменькин сынок» это плохо? Мамин сын – заботливый сын. Он обнимал ее круглую спину, жалел. Она тогда поворачивала мокрое лицо, улыбалась: «Ничего, я просто устала».
Когда театральные бабы закатывают истерику – это совсем другое! Истерики его пугали.
Но Даша не заплакала.
– Теперь антракт. Бомба якобы, да? Бомба?!. Я не понимаю, – быстро, не глядя на него, заговорила она. – За что они меня так ненавидят? Я же ничего плохого им не сделала!
Спина у Даши была не круглая. Прямая, как спинка стула. Славик осторожно положил руку на костлявое твердое плечо. Она не скинула, а как бы вышла из-под нее.
Но что еще делать – он не знал.
– Идем. Разогреемся по новой, – позвала она. – Когда начнут – мы будем готовы. Пошли.
Он поспешно поднялся.
За кулисами искрила всеобщая нервозность. Славик осязал ее, но теперь его было не пронять. Не то что раньше. Он снова был спокоен. Такая почти физическая тишина, как после зажившего разрыва связки: ничего больше не болит, все на месте, все как надо. Он снова сильный. Она знает, что делать. Она подскажет, как быть.
29
Пресс-секретарь московской полиции была крашеная брюнетка Оксана: черные волосы были с помощью щипцов-утюга вытянуты вдоль лица с искусственным загаром. Получалась ложно-средиземноморская картинка. Полицейская форма ей была к лицу. Злопыхатели шептались: «бессмысленная кукла» и «чья-то любовница». Второй ответ неверный: кое-чья дочка. Но дело все равно не в этом: новости бывают всякие, и когда они плохие, лучше, если сообщает их приятная девушка. Это осаживало журналюг. На красивых девушек труднее орать, а хорошо воспитанные журналисты писали не о криминальной сводке, о новостях культуры. Так казалось Оксане.
Вот бы рыкнуть однажды в телефон.
Но она не умела.
Переплетя под столом дивные ноги, опустив длинные волосы, она канючила в трубку:
– …Нет… нет… да, операция закончена… нет, с визитом президента никак не связано… нет, пока рассказывать рано. Никаких комментариев… То есть?.. Какая картинка уже есть?
Сквозь пряди проглянуло встревоженное лицо. Оксана отвела волосы. Зажав щекой трубку (стойкий тональный крем не оставлял следов), она всеми десятью пальцами набрала в поисковике название онлайн-газеты – кликнула по выпавшей ссылке.
На черно-белой фотографии была стена здания – центр Москвы: окна, балкончик. Служебная часть театра. На балконе стоял маленький мальчик.
30
Но и этот спектакль закончился. Даша выбежала к самой рампе – в набегающую навстречу волну оваций.
Билетерши, по две за каждое ушко, несли к ней огромную корзину цветов. Все четверо благоговели, как будто несли хоругвь. Цветы были от президента.
Даша на нее и не глянула.
Остановилась, вскинула руку. В такие секунды она чувствовала себя, как, должно быть, укротитель тигров чувствует себя в клетке.
Галерка билась и ревела. На галерке, на самых дешевых местах – истинные знатоки, балетоманы, которые отдадут за билет последнее.
Ну и что, что на спектакле президент, да хоть король. Первый поклон – всегда верхним ярусам. Галерке. Даша бросила улыбку наверх, прижала руку к груди, как бы благодаря балетоманов. Снова вскинула руку в приветствии.
Множество глаз направлены на нее. Множество чужих воль – в ее кулаке. В Царской ложе аплодируют. Неразличимые со сцены зернышки лиц.
За спиной, она знает, волчьи глаза труппы. Поклон подождет. Сначала обвести взглядом зал.
Поза, вздернутый подбородок, ей хотелось бросить им всем, туда, за спину: «Ну? Съели?»
Она увидела, как в яме поднялись оркестранты. Повернулись к сцене. Они хлопали, они постукивали смычками по инструментам – высшая похвала собрату-артисту.
У Даши сжалось в горле. Ей хотелось чувствовать холодную злобу победительницы – но вместо этого она была просто счастлива.
Вскинула обе руки – зал заревел. Она склонилась в глубоком реверансе, отведя скругленные руки далеко за спину. Затылком чувствуя, как обдает ее жар общего восторга.
31
Вероника на поклоны не осталась. Вышла из актерской ложи сразу после коды. Она бы после дуэта ушла. Но хотелось увидеть самой, если вдруг Белова ебнется на жопу во время больших кабриолей. Ну а вдруг? Не повезло.
Гримасой изобразила, как ее тошнит от увиденного. И быстро пошла по пустому коридору (в закрытые двери лож из зала ломилась, ревя и бряцая, музыка апофеоза), к выходу за кулисы.
32
Президент Петров, шлепая в ладони, наклонил голову к гостю-конголезцу, с довольным видом заметил: «Наша, из Питера». Переводчик залопотал, объясняя короткую фразу. Питер – это Петербург, Петербург – родной город президента, в Петербурге традиционно гордятся своим балетом, поэтому господин Петров очень рад, что вы смогли пойти с ним сегодня на спектакль. Курчавая седеющая голова покивала. Заметив, что mister Petrov поднимается из кресла, конголезский президент поспешил проявить учтивость – тоже встал. Но русский президент встал не для того, чтобы выйти. Он стоял у барьера и аплодировал.
Заметив, что президент аплодирует стоя, стали подобострастно поднимать задницы в корпоративных ложах. Отвечая общему движению, как рождающейся волне, с рокотом встал партер.
В зале прибавили света – люстра сверкала во всю мощь.
Борис, аплодируя, как все, обернулся на Царскую ложу. Президент поймал его взгляд, чуть кивнул. Снова стал глядеть на сцену: балерина красовалась, расхаживала перед рампой, надутая и самолюбивая, как павлин. Президент – доволен? Бориса это не успокоило, встревожило: чем доволен? тем, что «Росалмаз» подставил балету финансовое плечо, а балерина из Питера, и спектакль понравился? Или тем, как он лично решил проблему с Востровым?
Президент опять глянул на него. Кивнул опять. Улыбнулся шире. У Бориса отлегло. В целом – доволен. Хорошо – все.
От облегчения он заколотил в ладони ковшом, так что даже Вера удивленно обернулась:
– Какой ты энтузиаст, оказывается.
Борис ответил ей счастливой улыбкой. Улыбнулась и она.
Она счастлива. Да! Очень счастлива. Она заслужила. Борис прекрасный муж – в остальном. Виктор уже сам мужчина. Вон какой красивый, даже не верится, что ее сын – такой большой, такой… отдельный. И Аня. Вера восхищалась своей дочерью. Красивая, нет, больше, чем красивая, – умная и интересная. Вот, опять оступилась на хромую ногу. Ну не страшно, если не знать, то и не видно. У нее великолепные дети. Великолепные. Семья. Она сама – видала всякое. Но им – только самое лучшее. Только счастье. Они – ее счастье.
– Понравилось? – наклонился к самому ее уху Борис.
– Что? – не расслышала за ором публики, за всеми этими «браво!» Вера. Но догадалась по его губам, крикнула в ответ:
– Супер! Да. Супер.
Борис кивнул, довольный.
Она за них готова на все. На все.
Бархатный занавес опять сомкнулся. Партер, подначиваемый галеркой, продолжал хлопать – вызывать Белову на поклоны.
Но президент уже повернулся спиной. Уже его закрыла от зала охрана. Борис понял: пора и ему. Тронул Веру за локоть. Виктор заметил его движение. Чуть скривил губы:
– Это неуважение к артистам.
Виктор продолжал хлопать – демонстративно. Настроения Борису это не испортило. В другой раз – может быть. Но не сейчас, когда президент так доволен, что показал это ему, всем.
Гулкие, пушечные хлопки позади. Бам! Бам! Бам! Борис обернулся. И хорошее настроение промерзло до дна.
Когда все уже давно пересадили себе волосы, Дюша продолжал брить голову по моде 90-х. В черепе, полированном, как бильярдный шар, дрожали огоньки люстры.
Бам! Бам! Бам! – ладони Дюша сложил ковшом, чтобы получить гулкий звук. И заорал:
– Браво, Белова!!!
Так что Вера подпрыгнула. Аня чуть не уронила бинокль. А Виктор смахнул с барьера программку. Все обернулись. И только Дюша, как ни в чем не бывало продолжая лупить ладонями, протиснулся мимо них к барьеру, перегнулся, заорал:
– Браво-о-о, Да-ша!
Борису захотелось схватить его за ноги и перекинуть через барьер вниз. Жаль, ложа низко – в бельэтаже.
Дюша же ухмылялся, кивал, как будто балерина сегодня танцевала лично для него, и поглядывал на Бориса приветливо:
– Во шпарила – видал? Интересно, а что у них в носочках – пробки?
Кличка у Дюши была тоже из 90-х – Бобр. Кто ее сейчас помнил? Борис – помнил.
Окинув взглядом вульгарного незнакомца, Виктор надменно вышел из ложи. Вера, боком протискиваясь между кресел, поспешила за ним.
– Ну и чучело, кто это? – легкомысленно поинтересовалась она у сына в полутемном предбаннике. Ее не волновало, что незнакомец мог слышать. В зале по-прежнему волнами катались ор и плеск овации.
– Я думала, таких больше не делают, – насмешливо продолжала Вера, беря сына под руку. – Неужели с Борей работает?
– Мама, – вдруг спросил сын, – ты счастлива?
– Да-да, – поспешно подтвердила Вера. – Я очень счастлива. – И добавила: – У нас с ним теперь все хорошо.
Виктор сжал ее руку и второй ладонью. Он все-таки очень ее любит, подумала Вера. Не каждая мать может похвастаться. Она счастливая, да.
– …Спасибо, милый. – Подумала и добавила: – Ты главный мужчина в моей жизни.
Виктор повернул латунную ручку, вывел мать в коридор, куда уже сыпались, теснясь к гардеробам, зрители. Вера задержала сына за рукав:
– Ты все-таки называй его папой. Хоть иногда. Ему же так приятно…
33
В ложе разговор был в ином тоне.
– Что тебе надо?
– Так, присматриваю.
– За чем?
– За тобой.
– Не понял.
Со стороны казалось, двое обсуждают только что увиденный спектакль.
– Да все хорошо, – фамильярно хлопнул его по плечу Дюша. – Не ссы. Я тут поблизости – просто чтобы не поскользнулся ты, не споткнулся.
– С чего мне спотыкаться?
– А вдруг кто подножку поставит? Президент беспокоится. Хорошие люди сейчас наперечет.
Борис почувствовал, как сводит челюсть, как скрипнули зубы.
Бобр заорал в зал:
– Бра-во!
Свистнул, засунув два пальца в рот.
– Люблю балет, – пояснил он. – Первый раз вижу, но уже люблю.
Борис чувствовал, что не может разжать зубы, чтобы ответить.
– Ты какой серьезный. Научить тебя свистеть? – добродушно предложил Дюша.
– Подожди здесь, – придержал его за плечо Борис. – Я только жене номерок от гардероба отдам. И договорим нормально.
– А я думал, тебе теперь личный кабинет здесь положен.
Борис иронически хмыкнул.
34
Кордебалет, откланявшись, вбежал за кулисы. Еще неся малиновые улыбки. Но уже сбрасывая вниз воздетые венчиком руки.
На бегу, равнодушно-быстро Люда клюнула пальцами поднос – вышло естественно. Почти не глядя. Естественно. Ни заминки, ни запинки. Чужое кольцо врезалось камнем в потную ладонь. Люда быстро сунула его в рот, перекатила под язык.
Позади – истерический визг:
– Да я вам говорю, тут лежало! Я сняла и положила! И где оно теперь?! Вы вообще в курсе, сколько такое кольцо стоит?
Вера Марковна огрызалась – но слов Люда уже не слышала.
35
Петр – согласно протоколу – ждал в предбаннике.
Борис быстро сунул ему в руку телефон. Шепнул:
– Найди ее.
– А кто она?
Борис буркнул:
– Неприятности.
И быстро предупредил:
– Верка не знает.
Петр кивнул, уточнил вслед:
– Имя-то у нее есть?
Но Борис уже вернулся в гремящий от овации зал.
Петр включил телефон. В полумраке высветилось надкушенное яблоко. Айфон.
Открыл адресную книгу. Только один номер. Он же – единственный в истории звонков. Ирина.
Петр вышел из ложи.
Виктор и Вера стояли, в позах – по-разному выраженное у матери и у сына – было выражено нетерпение.
– Борис идет? – спросила Вера.
– Да-да, буквально через полминуты, – успокоил Петр. – Надо дохлопать. А то неудобно. Он же теперь попечитель балета или вроде того.
– Я заберу пока пальто, – сказал сын.
Вера расстегнула сумочку, принялась вылавливать номерки.
Петр отошел от них подальше.
Нажал вызов. Его выбросило на голосовую почту. Дождался сигнала, произнес:
– Ира, привет, вы меня не знаете, я Петя, теперь знаете. Я э-э-э-э… хороший человек, друг вашего друга, я вам помогу. Перезвоните мне.
36
Рампа уже была завалена цветами. Даша снова выбежала на поклон.
Теперь уже публика кричала ей фамильярно: «Браво, Даша!» Как из века привыкли кричать своим в Москве: «Браво, Майя!» (Плисецкой), «Браво, Катя!» (Максимовой), «Браво, Нина!» (Маликовой).
Теперь Даша кланялась партеру, ярусам. Теперь улыбалась расслабленно и счастливо. Занавес уже не разводили. Намекая всем: последние вызовы. Всем пора на метро, включая сотрудников театра.
Даша отбежала к партнеру, но публика не унималась, Славик снова развернул ее, снова вывел за руку, отпустил, подтолкнув вперед.
Он стоял позади, воздев руку и как бы передавая ей весь успех. Он улыбался. Потом не выдержал и тоже стал аплодировать.
37
Вероника плюхнулась на заднее сиденье, уткнула нос в рысий воротник легкого итальянского пальто Cavalli.
Геннадий похлопал ее по коленке.
– Мне все равно, – огрызнулась она.
– Так это быть все равно не может, – заверил он ее и рукой в перчатке стукнул водителю по сиденью. «Мерседес» отчалил.
38
В кармане у Петра звякнуло. Он быстро выудил телефон: «Слава богу». ММС. Жадно открыл. И только тогда понял, что телефон – не тот, что дал ему Борис, а его собственный. На экране была голая волосатая задница. Виден знак туалета. И подпись: «Я в Амстердаме, командир».
«Вот мудила», – беззлобно подумал Петр. Хоть здесь все под контролем. Проверил другой айфон – ничего.
39
В пустом кабинете пресс-секретаря московской полиции мерцал брошенный экран. Оксана унеслась получать нагоняй. Объяснять, что она ни при чем. Что это волонтеры. У них свои выходы на прессу.
У «Евразии» были хорошие камеры наружки. Мощные. Еще бы, отель-то дорогой, гости богатые, есть и знаменитые, платят не за махровые тапки в ванной, платят за безопасность.
Приблизить получилось не просто крупный план. Сверхкрупный.
И фотография – стоп-кадр видеозаписи – уже разлетелась по онлайн-газетам. Эти всегда первыми падали на добычу.
Экран был открыт на фотографии.
Маленький мальчик – несомненно Костя Смирнов – стоял на балконе Большого театра. Он с испуганным удивлением рассматривал свои растопыренные пальцы.
Руки у него были в крови.
А потом компьютер Оксаны включил энергосберегающий режим «сна» и экран погас.
Глава 3
1
Есть вещи, которые в последнее время изменились в лучшую сторону, подумал Петр. Когда служил он, с детьми работали иначе. Где-то лучше, где-то хуже, но по-другому в принципе. Да и сейчас ведь – не везде хорошо. Но конкретно здесь, подумал он, не хуже, чем в какой-нибудь Германии или Франции.
И точно услышав его мысли, Кириллов сказал:
– Лена стажировалась в Швеции.
Еще некоторое время оба просто молча наблюдали через экран, как эксперт Лена, тоненькая, большеглазая (это Петр тоже одобрил: учли и внешность – к таким тянутся дети) берет пробы с Кости. Собирает улики. Костя сейчас сам был уликой. Он сидел у нее на коленях, выставив вперед толстенькие короткие ноги. Иногда поглядывал на мать, но было видно: не испуган, не напряжен, с Леной есть контакт. Лена говорила ему что-то. Покачивала на коленке. «Ручки помоем, давай? Ты умеешь мыть руки?» Костя оглянулся на мать. Смирнова кивнула: умеешь, можно. Он растопырил пухлые, покрытые бурой кровью пальцы. Лена сделала лабораторный смыв. «А расчесываться сам умеешь? Нет? Хочешь, покажу, как я умею?» Мать кивнула. Лена расческой собрала пробы с пушистых легких волос.
– Но только это уж такое большое одолжение, – предупредил Кириллов, – что я даже не знаю, чем потом отдаришь.
– Почкой?
Кириллов хмыкнул.
– Я не забуду, – сменил тон на серьезный Петр. – Я у тебя в долгу.
– В большом долгу.
– В очень большом, – заверил Петр.
Когда он снял погоны, полиция еще называлась милицией, но это же как шекспировская роза – всегда останется собой, хоть как назови. Нет бывших ментов. Ты по жизни – мент. Только прирастаешь старыми связями и новыми знакомствами.
Вот и Кириллов, технически говоря, не мент, а полицейский. Но оба, встречаясь и никогда не говоря это вслух, знали, что они из одной грибницы. Что дорожки их еще пересекутся. Особенно когда Кириллов однажды снимет погоны. К тому времени прочная сеть взаимных одолжений уже будет сплетена и подхватит его в свободном падении куда лучше, чем государственная пенсия.
Лена вышла. Безразлично поздоровалась с Петром: он для нее был просто еще одним мужиком в пиджаке. Разве что пиджак получше, чем у обычных следаков, и не мятый, как у них, на заднице, но на такие тонкости Лене, очевидно, было наплевать.
– Скажу, как только будут готовы результаты, – пообещала она, но было видно, что хочет о чем-то поговорить уже сейчас. Если бы только не незнакомец…
– Свой, – кивнул на Петра Кириллов.
– Скорее всего, кровь его собственная, на руках порезы.
– Порезы? – напрягся Кириллов.
Преступления против детей что в милиции, что в полиции воспринимали особенно тяжело.
– Незначительные.
Лену они, очевидно, не насторожили.
– Упал. За что-то схватился. Так мне показалось.
Кириллов что-то обдумывал.
– Знаешь, а давай Снежану пригласим, – предложил он.
– Ему год и семь, – не то возразила, не то сообщила Лена. – Мать на дыбы встанет.
Вошли все вместе.
И точно – мать сразу набычилась. Крепче обняла сына.
– Допрашивать? Ему год и семь! – почти повторила она слова Лены.
– Не допрашивать, – доброжелательно поправил Кириллов. – Это не допрос, что-то вроде интервью.
– Он же почти не говорит!
– Ну вы же его мама, – мягко возразила Лена. «И прямо в душу глядит своими честными голубыми глазищами», – опять одобрил Петр.
– Вы же понимаете, когда он вам что-то говорит? Значит, он может что-то рассказать.
Мать покачала головой. Но опустила глаза. Лена продолжала мягко надавливать:
– Возможно, совершено преступление. Возможно, там человек ждет нашей помощи.
– Она Костю завела и бросила! – зло выпалила Смирнова.
– Возможно, она сама попала в беду, но сумела спасти вашего ребенка, – вставил Кириллов.
Мать подумала. Кивнула:
– Хорошо.
2
Отсюда, с экрана, Петру было хорошо видно все. Рядом с ним Снежана – вызванный психолог-эксперт – была напряжена, как сеттер на охоте. Люди в комнате их не видели. О том, что за разговором наблюдают, говорил только огонек камеры в углу под самым потолком. Поэтому Снежана не боялась, что ее волнение передастся ребенку, сидевшему с матерью в другой комнате, помешает ему рассказать то немногое, что он сможет.
Петру захотелось похлопать Снежану по плечу: мол, ничего, ничего. Та уловила сочувствие во взгляде, попробовала улыбнуться:
– Да, обычно работаем с детьми, которые пережили что-то… С жертвами.
– Костя не похож на жертву?
– Он выглядит очень хорошо, – обтекаемо ответила Снежана.
Петра обдал знакомый страх. Он боялся детей. Детей как таковых. Их уязвимость ужасала. Хуже: она становилась твоей уязвимостью. Разве не безумие их заводить?
На столе лежали бумага, цветные карандаши. Таращил глаза медвежонок с бантом. Петру стало жутковато-тошно при мысли, сколько маленьких рук уже трогало эти разноцветные машинки. Костя катал их по столу.
– Он уже говорит слова из трех предложений, – с затаенной гордостью сообщила Смирнова, от волнения перепутав.
Петр увидел, как на экране Кириллов поправил в ухе микрофон.
Снежана тут же заговорила:
– Спроси, может ли он показать, где он был.
– Ты был с Ирой? – заговорил Кириллов. – Ты гулял с Ирой?
Костя кивнул. Повторил эхом:
– Гулял.
– Тебе понравилось?
– Да.
Тон мальчика был уверенным.
Снежана кивнула экрану. Придержала рукой микрофон, чтобы Кириллов не слышал, не отвлекался.
– Молодец, – похвалила она. И Петру: – У него хороший подход к разговору с детьми. Знает, как взяться. Как выяснить, что ребенок пережил.
И снова Петра ударил изнутри липкий тошный страх.
– Прирожденный папаша, – не в такт его мыслям пояснила Снежана, позволив себе улыбку.
– Здорово! – обрадовался на экране Кириллов, и Снежана умолкла. Кириллов добродушно и серьезно смотрел на мальчика. – А мне туда можно пойти?
Костя не ответил. Наклонив голову, он наблюдал, как вращаются колеса игрушечного автомобиля.
Кириллов ждал.
– Хорошая, – сказал Костя. Глядел на колеса.
– Он хочет взять эту машинку туда с собой? – спросила Снежана.
– Хочешь, возьмем ее с собой? – озвучил за нее в комнате Кириллов.
Кивок.
– Большой дом, – сообщил Костя.
– Ты ходил с Ирой в большой дом?
Кивок.
– Тебе понравилось? – снова спросил Кириллов.
Кивок.
– Ира в большом доме?
Костя помолчал. Потом:
– Там Элмер.
Положил щеку на стол. Машинка в его руке выписывала на столе виражи.
Кириллов весело предложил:
– Ну тогда бери машинку и пойдем.
Костя поднял голову. Оживился, ткнул пухлым пальцем:
– Туда!
Большим домом, где Косте понравилось, мог быть только театр.
Это Костя еще раз подтвердил на площади:
– Туда.
В сливочном небе реяли скульптуры на крыше театра. Петр заметил, как между театром и «Евразией» притормозил фургон. Стуча по асфальту когтями, натягивая поводок, выпрыгнул спаниель в неоновом зеленом жилете. За собакой – сопровождающий. Кириллов махнул ему рукой. Тот кивнул. Дал псу команду, собака послушно села, чтобы Костя с мамой, Кириллов, Петр, два мента в гражданской одежде прошли первыми.
– Но только никто тебя не слышит, не видит… – еще раз предупредил Петра Кириллов.
– …И я здесь никто, – продемонстрировал понятливость Петр. Кириллов кивнул.
Об их приходе предупредили. Их ждали. Администратор тут же присел на корточки перед ребенком.
– Привет.
Но тот обнял ногу матери, как ствол дерева, затем протянул вверх растопыренные пальцы: «на ручки». Смирнова подняла его, усадила себе на бок, Костя сел, обхватив мать ногами.
Администратор выпрямился:
– Все же я настаиваю, что через служебный подъезд ребенок пройти не мог. У нас пропускная система.
Охранники выглядывали из высокой будки, наполовину стеклянной. «Маленького ребенка они могли и не заметить, – подумал Петр. – Если не ожидали увидеть. Спросить бы, приводят ли артисты с собой детей… Конечно, приводят: заболела нянька, не смогла бабушка…» Но держал данное Кириллову обещание быть немым и невидимым.
– Туда, – радостно крикнул Костя. Все от неожиданности повернулись к нему. Он показывал пальцем за проходную.
– Туда?
– Туда!
Администратор порозовел, как после лыжной пробежки морозным утром:
– Но он же совсем маленький!
– Он все понимает! – с места в карьер завопила мать. В ней чувствовалась давно вызревшая ярость человека, привыкшего к постоянным окрикам общества: не кормите грудью здесь, не лезьте с коляской сюда.
– Он всех взрослых, если видел, узнает, – наскакивала она. – И в лицо, и по имени.
Кириллов тихо встал между ними, гася перепалку.
– Туда – Ира? – поинтересовался он у Кости в такой манере, как разговаривают с иностранцами, плохо знающими русский.
– Там Ира? – переспросила ребенка мать. И хитро уточнила: – Или там бабушка?
Кириллов показал ей большой палец из-за плеча ребенка: молодец. Та ответила ошалелым взглядом. Опять заглянула сыну в лицо:
– Костя. Бабушка там?
Миша помотал головой. Знал разницу!
Опять наставил пухлый палец:
– Туда! Туда!
Администратор вперил взгляд василиска в собственную пехоту.
– Не может такого быть, – забубнил из будки охранник. Петр понял: низшему звену безопасности театра влетит по самое не горюй. Такой просос! И день, как назло, выдающийся. В театре был глава государства. А театр, оказывается, охраняли три обезьяны: одна не видит, другая не слышит, третья не скажет. В будке сидели две: та, что не видела, и та, что не слышала. Оправдывались:
– Вход строго по пропускам. А пропуска с фото и печатью.
…А третья обезьяна? Которая и видела, и слышала, но молчит. Вот бы кого найти. Но где искать? – размышлял Петр.
Впустила сквозняк, стремительно прошла, вынося носки врозь, девушка с гладко прилизанными волосами, на плече спортивная сумка. Кивнула охранникам. Своя. Те – ей. Металлическая рамка запищала. Те и ухом не повели. Комета со спортивной сумкой пронеслась, не затормозив.
Петр и Кириллов обменялись взглядами. Оба подумали одно и то же. Администратор заметил их взгляды. Осекся.
А Костя уже злился, делал, сидя на матери, такое движение пятками, как будто давал шпоры коню:
– Туда!!!
– Генерал, – не удержался Петр.
Администратор что-то заблеял. Кириллов приложил к уху телефон и попросил вожатого начать работу с собакой.
3
Вундеркиндом Костя точно не был. Лестницы, коридоры быстро его запутали. «Туда» теперь звучало без уверенности. «Я бы сам заблудился», – подумал Петр.
– У меня руки отваливаются, – пожаловалась мать.
– Стойте здесь, – велел Кириллов. – Васильев, Козлов, с ними, – оставил стражей.
Мать спустила ребенка на пол.
Зато спаниель дело знал. Он загребал передними лапами, толкал задними. Тянул провожатого дальше, как будто видел след няни и ребенка в виде огненных стрелок: туда!
Кириллов и Петр не отставали. Позади пыхтел администратор.
Опять лестницы, лестницы.
Когти стучали и скрежетали по полу.
– Глянь, – придержал полицейского Петр. Показал.
Кириллов присел на корточки: на стене, невысоко от пола отпечаток детской ладони. Бурый. Костя карабкался здесь по лестнице вверх.
– Ее с ним в этот момент не было, – тихо заметил Петр. – Иначе бы Костя держался не за стену, а за няню.
Иначе руки его не были бы в крови.
Администратор не слышал их слов, но увидел отпечаток. Из розового стал багровым.
– Мы попробуем выяснить, кто из сотрудников мог выписать разовый пропуск, – пошел на попятный он.
Кириллов уже вызывал по телефону техника с лабораторным чемоданчиком.
– Идете там? – позвал из коридора вожатый.
Но долго ходить не пришлось. Собака привела в просторный зал. Их окружало пространство, странно изломанное на коридоры, уступы, утесы огромными ящиками с металлическими углами. Стоял, задрав витые ноги, трон. Виднелись три оранжевых идеально круглых купола. Петр с нарастающим чувством абсурдности понял, что это апельсины. Очень-очень большие апельсины. Но сойти с ума не успел – вспомнил: есть такая опера, «Любовь к трем апельсинам».
– Что это? – спросил Кириллов.
– Бутафорский цех, – откликнулся позади администратор.
Спаниель сел на задницу, громко с привизгом зевнул и вывалил язык. Кириллов беспокойно огляделся.
– След оборвался? – спросил у Кириллова Петр.
– Песик-то случайно не сломался? – поинтересовался у вожатого собаки Кириллов.
Тот надулся:
– Голова у тебя случайно сломалась.
– Хамить не обязательно.
– Собака показывает, что пусто. Нет здесь никого.
– А в другом месте может она быть?
– След пришел сюда.
– А ушел куда? – спросил Петр, забыв о своем обещании быть немой тенью. Да и Кириллову было не до того.
Вожатый пожал плечами:
– Должно быть, ушел, как пришел.
– Интересное кино, – пробормотал Кириллов, оглядываясь.
Позвонил одному из своих янычар. Через пару минут из лифта вышел Костя за руку с матерью и двое полицейских.
– Сюда? – спросил Кириллов. Мать села рядом с ребенком на корточки, чтобы быть одного с ним роста:
– Костя, сюда?
– Туда! – обрадовался он. Вертелся в ее руках, крутил головой: – Туда!
Кириллов метнул сердитый взгляд на вожатого, на пса. Тот с надменной гримасой развел руками, в одной был поводок.
– Туда! – уверенно вел, семенил короткими ножками Костя: – Туда!
Теперь он топал на месте от счастья. А смотрел – вверх.
– Вот! Вот!
Петру на миг стало страшно. На миг показалось, что сейчас увидят мертвую. Тело, свисающее на веревке.
Все задрали головы. Перед ними, между ящиков-утесов, высился бархатистый, пылью пахнущий слон. Мерцала бутафорским златом и каменьями сбруя.
…Или ребенок видит то, чего еще не видят они?
– Элмер! – торжествовал Костя, тыча пальцем в игрушечного исполина: – Элмер!
– Кто это – Элмер? Родственник ваш? – обернулся Кириллов на мать.
– Сразу видно, вы не папаша, – откликнулась та: – Поэтому не в теме. Книжка такая. Про слона. Слона так зовут, Элмер. Косте нравится. У него все слоны – элмеры.
– Да, – вздохнул Кириллов, – я не папаша.
С женой, насколько знал Петр, Кириллов развелся года четыре назад и с тех пор был незавидным холостяком.
Мать снова взяла Костю на руки. Поняв, что несут его не к слону, а прочь, ребенок заорал, как паровоз.
– Надо вернуться туда, где видели отпечатки, – распорядился Кириллов; Петр слышал только обрывки слов, все покрывал мощный ор «генерала», даже Кириллов чуть морщился. – Оттуда спустимся ниже, проверим, не отходит ли…
– Нет, – перебила его Смирнова, страх за Костю улегся, а нервы еще были натянуты. – Вы – вернетесь. И проверяйте. Что хотите. А мы – едем домой.
Она, запыхавшись, пыталась удержать в руках орущего красного ребенка:
– Он устал… Мы – помогли… Как могли… Хватит!
Давить на нее было так же бесполезно, как и уговаривать.
Первые мгновения после того, как мать и ребенок исчезли в лифте, все невольно наслаждались тишиной.
– Ну и голосяка, – первым заговорил администратор. – Оперным певцом станет, – позволил себе сострить. Он понял, что дело окончилось ничем, испытал облегчение: баланс сил восстановился. Теперь не страшно чесать на доклад к начальству: «В Багдаде все спокойно». Он снова был хозяином делянки. Подобрел.
– Слон – из балета «Баядерка», – гостеприимно объяснил.
Только никого его объяснение не заинтересовало.
– Дупель пусто, – сказал Петр.
Он и Кириллов глядели друг на друга: оба понимали, что других идей нет. Собака сидела, не шелохнувшись.
– Собачка какая спокойная. Или глухая? – все болтал администратор.
– Он привык к шуму, – надменно пояснил вожатый (он немного оскорбился за «собачку» и «она»). – Раньше раненых при минометных обстрелах искал. Сейчас у него типа гражданка.
Администратор смутился и умолк.
– Ну все, – сказал Кириллов тихо, – инструментов для поиска у нас больше нет.
Полиция отступала.
Они вышли в коридор, сигнал здесь наконец пробился через толстые театральные стены. Потому что телефоны зазвонили сразу у Кириллова, и у администратора. Тот ответил немедленно и подобострастно:
– Але?
Петр хмыкнул: начальство. Кириллов отошел, прежде чем ответить.
Петр не стал ни мешать, ни обижаться – служба есть служба.
К одному уху у администратора была приложена трубка, а другое стало малиновым. Как будто начальство через трубку вливало ему раскаленную жижу прямо в мозг.
Петр тем временем достал телефон, который дал Борис. Нажал вызов. Гудки, голосовая почта.
Администратор отнял от уха телефон, посмотрел на Петра заячьим взглядом:
– Вы сами отсюда дорогу найдете?
Тот поднял ладонь:
– Ноу проблем.
Администратор умчался.
Снова подошел Кириллов:
– Лена звонила. Кровь на руках принадлежит самому ребенку. Она посмотрела фотки рук. Ничего нового. Порезался, пока шастал один по театру.
«Шастал один по театру – маленький ребенок! – в закулисной части, закрытой для чужих, – и никто не заметил? Или заметил, но не счел необычным? Подумал: притащил своего кто-то из артистов… Или заметил, но предпочел молчать?» – думал Петр. «Не считает подозрительными» и «не являются подозрительными» – это две очень разные вещи. Петр во всем предпочитал убедиться сам. Мелочей – нет.
– Чего ты завис? Идем, – позвал Кириллов.
У него своя служба, у Петра – своя. Борис платит ему не за то, чтобы он делился с полицией своими мыслями. Но сегодня я тебе, завтра ты мне, – на этом принципе держались связи. Поэтому Петр сказал:
– Не верится.
– О’кей, – приглашающим тоном отозвался Кириллов.
– Идем к отпечатку.
Вернулись на лестницу, к бурому следу маленькой ладони. Петр присел, изучая угол.
– Вот здесь он уже в крови, так?
Кириллов кивнул.
Петр попытался вообразить движения маленькой фигурки. Костя шел вверх? Или вниз? Примерил на себя – с поправкой на уменьшенную амплитуду движений.
Поднялся.
Пошел вниз. Кириллов за ним. Оба смотрели под ноги, как два грибника.
– Во, гляди, – показал Кириллов. Еще одно бурое пятнышко. Отпечаток маленького пальца.
– Надо идти обратно, – сказал Петр. – Здесь уже кровь на порезах подсохла.
Опять пошли вверх. Коридоры все так же казались Петру одинаковыми. Казалось, он только и делал, что шел по одной и той же лестнице. Окон нет. Ровный белый свет галогеновых ламп, ровное гудение. «Как только они сами здесь ориентируются? – думал Петр о тех, кто работал в театре. Камешки, как Мальчик-с-пальчик, бросают? Разматывают нить из клубка? Или видят мелочи, приметные только им?»
Но люди, попадавшиеся навстречу, шедшие мимо, ничего не бросали, не разматывали. А только чуть дольше задерживали взгляд на двух чужаках.
– Вот где он порезался! – торжествующе объявил Кириллов. В углу лежала скомканная металлическая лента: очевидно, недавно сняли с ящика после транспортировки. Блестящая, гремящая, – малыш не мог пройти мимо, не изучив. Кириллов показал то, что Петр видел и сам: бурые следы на тонко раскатанном металле.
– А вон – откуда он нам всем помахал ручкой!
В окно-балкон виднелась кованая решетка.
– Элементарно, Ватсон. Дело раскрыто. Все, возвращаемся на базу, – позвал за собой Кириллов.
Петр дернул шпингалет, открыл дверь-створку. Его обдало холодом и запахом выхлопов, но после театра с его кондиционерами даже этот воздух приятно освежал.
Небо было затянуто обычной московской пеленой.
Перед ним была стена «Евразии». Петр нашел на ней металлическую торпеду – камера наружки, которая засекла Костю на том месте, где сейчас стоял он сам.
Петр закрыл окно.
Кириллов по телефону отозвал техников.
– А не рано удочки сматываешь?
– А что тут ловить? – убрал телефон Кириллов: – Ребенок нашелся живой и, в общем, здоровый. Впаять няньке нечего, кроме того, что она тупая клуша. Или безответственная ссыкуха. Выбирай, как тебе больше нравится. Но за такое половину московских нянек притянуть можно.
– Что, половина московских нянек бросают маленьких детей в театрах с закрытым пропускным режимом?
– Согласен. Театра еще не было.
– Почему же нянька до сих не объявилась?
– А ты бы после такого шума объявился?
– Странно.
– А мне не странно.
Кириллов пожал плечами:
– Чувак же сказал: закрытый пропускной режим у них. Я так себе это представляю. Нянька отвлеклась на минуту, а мелкий удрал – то ли на слоника посмотреть, то ли еще на какую байду. Она обернулась – нет его. Ну она не заволновалась сильно. Куда пацан денется из закрытого театра? Думала, ща найдет ребенка сама, выкрутится. Но тут вдруг кипеж: волонтеры, пол-Москвы на ногах, фотки в инете.
Петр хмыкнул.
– Ну и после такого кипежа, поняла нянька эта, – продолжал Кириллов, – что влетит ей по самое не хочу.
– Тогда где…
– Где она сейчас? У парня своего. У родни. В кусты свалила. На дно легла.
– Как они эту няньку вообще наняли? Они ее раньше знали?
– А как все нанимают – через знакомых знакомых.
– То есть нянька на хорошем счету была? – уточнил Петр.
– На что ты намекаешь?
– Ну раз люди ее дальше – другим, своим знакомым – порекомендовали.
Кириллов понял, куда он клонит, но устал препираться:
– Слушай… Для розыска оснований нет. Близких ее мы не знаем – может, и нет там никаких близких или живут в другом городе. Если бы соседка ее бучу не подняла да ребенок с ней не был, то вообще бы никто ничего не заметил.
– Не заметил, что она пропала, хочешь сказать?
Терпение у Кириллова лопнуло:
– Ничего я не хочу сказать! Есть факты. В театре ее нет. По «скорой» ее не привозили. Среди жмуров твоей подружки тоже нет, – перечислял Кириллов. – Сорян. Нет тела – нет дела. – И мягче: – …И вообще говоря, нашли ребенка довольно быстро. Согласись. Все бы истории так хорошо кончались.
Сомнение на лице Петра он принял на свой счет.
– Ты же знаешь. Там сейчас, – он показал подбородком, имея в виду Петровку, всю Москву, – куча настоящих дел ждет.
«Настоящих» он выразительно подчеркнул. Большой город не спал двадцать четыре часа в сутки. В нем воровали, грабили, толкали и покупали наркоту, насиловали, избивали, убивали. И в нем пропадали люди – по-настоящему. Это было понятно.
– Она не моя подружка, – только и возразил Петр. – А что за соседка? Ну, ты сказал, которая бучу подняла?
4
Куда-то время втекает широкой рекой, приносит и уносит с собой людей, события, стулья. А есть места, в которые оно просачивается через игольное ушко. И стоит там, слегка подернутое тиной. Кажется, что времени там нет совсем.
Таким местом была, безусловно, приемная генерала Соколова.
Затылок Бориса лежал на деревянной полированной панели, которая тянулась по стене. Выше дерева стена была выкрашена в казенный желтый. С противоположной стены на Бориса, прищурив светлые глаза (имиджмейкер посоветовал улыбаться «не только ртом»), умеренно-доброжелательно смотрел президент Петров в раме. Только портрет в этой приемной и позволял заметить, что время сюда все-таки просачивается.
Рама когда-то обнимала генеральных секретарей партии – одного за другим, в том же порядке, в котором они сходили во гроб. Потом приютила Горбачева с картой Южной Америки на выпуклом лбу. Потом все стало немного запутанно, и в ней нейтрально повис Святой Георгий. А потом президентом стал Виктор Петров. И генерал Соколов понял, что лучше быть с победителями, чем на пенсии.
Стулья недавно сменили обивку, но в них тоже было нечто советское. Красный язык ковровой дорожки стелился к двери, за которой были чертоги Соколова. За обкомовским столом сидела секретарь. Борис видел только неплохие ноги – между четырех деревянных, кривых и резных. Лицо секретаря было скрыто экраном компьютера, стоявшим, как избушка на курьих ножках, к Борису задом.
Борис вытащил телефон. Проверил время, заодно оповещения о новых смс. От Петра – ничего. Убрал. Почувствовал, как окаменело тело. Как сплюснут на жестком сиденье зад. Как приятно пошевелиться хоть чуть-чуть. Секретарь показала поверх экрана глаза, снова опустила.
– Извините…
Борис заговорил, кашлянул, как бы выбивая пробку, – голос от долгого молчания тоже словно бы застоялся. Секретарша опять высунулась из-за экрана. Она глядела не мигая, без улыбки – сама корректность.
– Боюсь, в моем календаре ошибка: у меня с генералом встреча сегодня, но я теперь уже не уверен, что сегодня, не перепутал ли я день…
– Секундочку, – она вернулась к экрану. По движениям ее локтей Борис понял, что она открыла календарь. Застрекотали клавиши.
– Нет, все верно. У меня тоже записано. Сегодня. В тринадцать пятнадцать.
– Но сейчас почти три, – с трудом подавил злость Борис. Ошибка. Вообще не следовало говорить: во взгляде секретарши – невольно, как и все в природе, – пробежало презрение. Низшая форма министерской пищевой цепочки – проситель, которого маринуют в приемной.
– Генерал занят, – механически проговорила секретарша.
Собственный ничтожный промах перед ничтожной бабой разозлил Бориса еще больше. Все было яснее некуда. Соколов сейчас там, за закрытыми дверями. Маринует его нарочно. В отместку за то, что Борис вчера не отвечал на его звонки. И до сих пор в ярости, что Борис не сделал, как ему «советовал» генерал.
Петр прав, размышлял Борис: результат более или менее тот же, как если бы генеральская конфетка попала Вострову в рот. Востров был повержен. Как бизнесмен – кончен.
Генерала Соколова взбесила самостоятельность Бориса.
Или он просто хотел видеть Вострова мертвым? Во что бы то ни стало – мертвым?
Нет, с чего? Бред.
Борис встал.
– Уходите? – тотчас высунулась секретарша.
Борис оправил пиджак.
– А где здесь у вас туалет?
Или сесть? Или дождаться? Починить, как говорится, отношения?
Ведь ему все-таки нужна эта встреча.
Ведь генерал сам ее предложил.
Секретарша принялась объяснять:
– Выйдете, поверните направо. Потом до угла. Потом…
«Заранее все продумал, сука, – размышлял Борис: – Мстит».
Люди любят круглые цифры: полчаса, час, полтора. Это Борис уже просидел. Он еще раз сверился с телефоном. Два часа? – тогда генерал нарисуется с минуты на минуту. Надо дождаться, – уговаривал он себя. Он ведь пришел сюда сейчас не за уважением. Соколов вызывал у Бориса опасливое омерзение, как ядовитый моллюск. Логика, рассудок подсказывали остаться, дождаться генерала, проглотить унижение. Борис не дослушал объяснений секретарши, на полуслове резко поднялся и вышел.
– …на площадке, – договорила секретарь уже двери.
Помимо логики и рассудка, у Бориса было чутье на неприятности. Простое животное чувство. Как у пингвина, который слышит пузырьки воздуха, клокочущие далеко внизу – вокруг невидимо подплывающего подо льдом хищника.
И сейчас он их слышал.
5
«Ну и халупа», – подумал Петр, оглядывая исподтишка квартирку. Длинные трещины на потолке. Покосившиеся двери. Паркет, пляшущий под ногами, как клавиши. Обшарпанную кухню. Трамвайный парк в окне. Ветхость. Вдоль отставшего от пола плинтуса деловито бежал рыжий таракан.
«Я Бориса иногда не понимаю», – подумал он. Или просто в шестьдесят лет делаешь глупости? Седина, как говорится, в бороду, и понеслось.
Девица перехватила его взгляд, но поняла по-своему.
– Повезло нам, да? – в голосе ее звучала гордость. – Квартирка супер. И до метро всего пять минут пехом.
– Да, – согласился Петр, – удобно. Вы вместе учитесь?
– Нет. Я же вам сказала, я в «холодильнике» учусь, – слегка обиделась она.
– Это я запомнил, – тут же заверил он. – Просто решил, что и Ира тоже.
– Ира в педе.
«Педагогический», – расшифровал себе Петр.
– Языки?
На языковое отделение пединститута шли те, кто приехал покорять столицу, но пролетел с инязом или филфаком университета. Те, у кого были амбиции, но не хватило блата. Борису нравились тетки с амбициями. «Огонь», – ржал он.
– На училку младших классов, – уточнила Света.
«О’кей, промахнулся», – подумал Петр.
– А как же познакомились? В клубе каком-нибудь?
Соседка сидела, засунув ладони себе под задницу.
– Мы же обе… «понаехали», – заключила она последнее слово в кавычки. – Квартиру снимать надо, вот и познакомились.
Джинсы, толстовка с капюшоном. Прямые, не очень чистые волосы, жирно накрашенные глаза. Петр старался быть непредвзятым.
– Как это? С незнакомой девочкой квартиру вместе сразу снимать?
Опять дернулось плечо. Качнулись, скрывая лицо, волосы. Соседка Иры заправила прядь за ухо, выпрямилась удивленно:
– Вы что, с дуба совсем? По группе в фэбэ. Контачите немного там сперва. Присматриваетесь. Потом если нормальная, вы друг другу звóните.
Петр поморщился на долю секунды, как от выстрелившего в десну пульпита.
Она пояснила:
– Ну это типа тиндера, только в фэбэ и для тех, кто ищет, с кем располовинить аренду.
– Я знаю, что такое фэбэ и тиндер.
– Серьезно?
Она безумно его бесила. С этим Петр ничего поделать не мог. Он отнюдь не придерживался старомодных взглядов, что в женщине должны быть нежность и загадка. Пусть ведет себя, как хочет, если ей так нравится. Женщина ему вообще ничего не должна. Особенно эта. Но черт! – можно при этом правильно ставить ударения? Предрассудков у Петра не было – его все бесили одинаково, все, кто звóнил: бабы, мужики, молодые, старые, из Москвы, не из Москвы.
Он постарался подавить раздражение. Заметил высохший розовый круг на обеденном столе. В углу кухонного – валялся штопор. Нетрудно было дорисовать в уме мизансцену взаимной откровенности: две девицы вечерком, за бутылочкой вина, – о личной жизни друг друга соседки наверняка знают все.
– Света, скажите. А что, с бойфрендом она почему не снимала квартиру вместе?
Это был крючок с червяком: пусть порасскажет о бойфрендах, прошлых, брошенных, бросивших, актуальных.
– Да вы что, совсем? Бойфренд сегодня есть, а завтра ты с ним посралась, и что тогда – с квартиры съезжать? Приличную квартиру, между прочим, найти труднее, чем бойфренда. В разы. При этом чтобы деньги вменяемые. И не ехать до метро на двух автобусах. Чтобы хозяева не шизанутые. Чтобы без сервантов всяких дебильных на пол-комнаты. Чтобы без четырнадцати узбеков-гастарбайтеров в соседней комнате…
– Хорошо, я понял.
– Нет у нее бойфренда. Где его взять? Дом – работа – дом – работа.
Упс, подумал Петр: выходит, знает не все. Но Борис наверняка обставил все тихо. Кто он – и кто она, эта Ирина, золушка с московской окраины. Неглупо, кстати, – мысленно похвалил шефа Петр: это тебе не известная всей Москве блядь, которая сразу тебя засветит. Тут «приличная девушка». Тут «чувства». И Вера ни за что не узнает. Не тот круг.
– Чаю точно не хотите?
Петр еще раз посмотрел на розовый винный кружок на столе.
– Нет, спасибо.
– Да сядьте, – грубовато, но дружелюбно пригласила Света. – Что вы как дураком понюханный.
Внутренне его передернуло. Он ответил мягко:
– Спасибо. Просто я на работе. Поговорю с вами, Света…
Проверенный им еще в ментуре способ расположить свидетеля: почаще называй по имени. Ничто так не нравится людям, как звуки собственного имени…
– …и дальше поеду.
Она удивилась:
– Я ж не пивасик предлагаю. А чай.
– А где Ира работала?
– Контора какая-то на Дмитровке. Щас.
Лицо ее озарилось голубоватым светом. Она порылась в телефоне.
– Дайте свой номер – расшарю.
Петру было неприятно давать ей свой номер – в этом некстати было что-то личное. Он предпочел бы не давать. Но не стал выламываться, назвал цифры, которые она тут же набрала у себя на экране. В кармане у Петра звякнуло.
– Может, Ира у друзей каких-нибудь зависла?
– Да нет у нее друзей, – просто сообщила Света, не удивляясь и не огорчаясь сказанному: – Мы же приезжие. Я типа ее друг, она типа мой.
– Типа?
– Ну друг, да. Кому мы еще тут нужны.
Она просто это произнесла, не била на жалость. Только это в ней Петру разве что и понравилось.
Только бы еще она не придвигалась так близко. С концепцией личного пространства Света точно знакома не была.
Он отстранился.
– Я гляну на ее комнату?
– Глядите. Не жалко.
Он торопливо прошел по коридору. Света нагнала, обогнала, толкнула дверь, снова пропустила его вперед.
Узкая аккуратно заправленная кровать. Стол без ящиков. Компа на нем нет. У кого сейчас нет компа? – не поверил увиденному Петр. Унесла с собой?
Почувствовал, как сзади приблизились чуть не вплотную тепло, запах, шум дыхания. «Нет, она издевается». Отошел.
Заглянул под стол: из розетки змеилась зарядка. Хер поймешь: зарядка могла принадлежать телефону, планшету, киндлу, лэптопу. Да даже бэби-коллу – у няньки он тоже мог быть.
– Да я реально вам говорю, – тягуче говорила Света. – К кому ей двигать? Нет у нее в Москве никого. Да еще чтобы так – с концами.
– А в отпуск? Отдохнуть?
– На какие шиши?
– Что, вообще никуда не ездила?
Света задумалась, вспоминая.
– Один раз, может, только.
– Куда?
– В Грузию. Выиграла тур или типа того. Так и то – на три дня, добиралась дольше.
– И больше никуда?
– В Бирюлево, – с издевкой отчеканила Света. – Тут от получки до получки тянешь. Не дай бог пломба вылетит или каблук оторвется.
– А няней подрабатывала?
– Вы зарплату в конторе представляете?
– Смутно, – признался Петр. – Извините.
Комната Ирины была спартанской и подтверждала рассказ соседки. Любовь у Бориса в этот раз была, по-видимому, такой чистой, что девица не наварила с нее ничего. Ни плошки жира. «Это как-то странно, – подумал Петр: жмотом Борис не был, со всеми своими бабами расплачивался дорогими подарками. – Или эта предпочитала только бабло и только копить?»
– Вы меня не услышали… – хамовато взмахнула рукой перед его лицом Света.
Петра опять пронзила как бы зубная боль: «я тебя услышал» было второй расстрельной статьей в его личном списке. После «звóнить». Он отодвинулся. Она придвинулась:
– …Ирка абсолютно нормальная. Не курит, не пьет. Не шарахается. Не говоря об остальном.
– Религиозная, что ли? – пришло ему на ум. Он тут же оглядел стены, полки, но ни икон, ни плакатов с каким-нибудь индийским жуликом-гуру, ни брошюр.
– Не, вы чо.
– Ну не знаю, крестик носила? Носит? – тут же поправился он.
– Вы думаете с Ирой что-то плохое случилось? – тут же встрепенулась Света.
– Я по инерции.
– Нету у нее крестика никакого. Нормальная она, говорю же. Без приебов… Извините. Прибабахов.
– О’кей, о’кей.
Небольшой шкаф. Петр раскрыл.
Он знал, то, что выглядит уродской бабушкиной кофтой, может стоить адские тысячи. И наоборот. Поэтому не стал разглядывать фасоны вовсе. Сразу отворачивал пальцем ворот, чтобы взглянуть на марку. Одежды было немного, вся она была бедной – то есть из дешевого, любимого студентами H&M.
6
– Серая мышка, вот она кто, – резюмировала женщина. На ней самой был серый, модный, но неуловимо плохой пиджак из сетевого магазина, виднелись кривые уголки рубашки, очевидно того же происхождения. Контора, где работала Ирина, продавала холодильную технику.
– А вы добрая, – заметил Петр.
– Ну вы же спросили. Я вам ответила, – недружелюбно ответила менеджер. Но смутилась. Добавила: – Я в хорошем смысле.
Коллектив, как заметил Петр, был женским. В воздухе висело электричество несбывшихся надежд. Оно смешивалось с озоновым запахом, который испускал в коридоре работающий один на всех принтер. Булькал кулер. От кофейного автомата тянуло чем-то кислым. Хотелось сразу бежать.
Очевидно, хамство было здесь естественной первой реакцией. Хамили скорее от усталости и сознания бесперспективности собственной работы. Придут домой – будут рявкать на детей и огрызаться мужу, такому же офисному рабу.
– Чего ж хорошего в мышах?
– Ну хорошо, никакая. Так лучше?.. И я правда в хорошем смысле! Не серые тут не задерживаются. Да тут вообще никто не задерживается. Я сама после Нового года думаю свалить, – доверительно сообщила она.
Петр вернул ее к теме:
– Ирина тоже хотела свалить?
– Может, уже свалила.
– Да?
– Ну да. Последние два дня на работу не явилась. Никого не предупредила, больняк не брала. Что еще может быть? А вам она зачем?
– Я ее как раз хотел на работу взять, – изобразил огорчение Петр. – Поговорил с ней на выставке оборудования, у стенда. Показалась толковой. Думал присмотреться…
Глаза у женщины тотчас блеснули: теперь Петр был для нее не просто мутный чувак, а чувак-наниматель в поиске работника, – кто знает?..
Она расплела под столом ноги. Стала глядеть приветливее.
– …Она мне только телефон конторы и дала, – пожаловался Петр.
– Ну вообще, вы зря на меня сразу: добрая, не добрая, – уже сменила пластинку женщина. – Я правда в хорошем смысле!
– Но раз на работу не является, вы сказали, то видно, не такая уж и толковая, – продолжал играть роль Петр. – Вы уж простите, что расспрашиваю… Просто раз ее не застал в офисе, так хоть подсоберу сведения у коллег, – улыбнулся он.
А женщина уже выставляла на витрину кандидатов себя. Теперь она не спешила клевать ближнюю – вернее, клевала продуманно, исподтишка:
– Не обязательно вот так сразу. Может, заболела. Может, кто из родственников заболел, и она срочно сорвалась.
– У нее есть родственники? В Москве?
– Не знаю. Я так, предполагаю.
– Она никогда про семью не рассказывала?
– А вам зачем?
– Просто, раз зашла речь. Хочется знать, что человек из себя представляет. У нас коллектив небольшой, – врал Петр. – Все семейные, мы часто все вместе выезжаем на пикники, в парк, для тимбилдинга.
– Да, у меня тоже семья. Я вас понимаю, – широко улыбнулась та. – …Нет, вроде. Не припомню, чтобы Ира про семью вообще рассказывала. Тут же в столовке, у кофейной машины, в коридоре девочки обо всем треплются. Так Ирина вроде и не треплется особо. Ее как-то не видно и не слышно. Не инициативная она. Рохля. Понимаете, о чем я?
Петр кивнул. Конечно, понимал: она сбивала кадровую привлекательность конкурентки – на случай, если у Петра есть, что предложить ей самой.
– Но честная. Это могу сказать.
– Да? Это же хорошо.
– Раз, помню, нашла кошелек. Так она сама позвонила в банк – кредитки были в кошельке – сообщила, что нашла, оставила свои контакты, если хозяин объявится. А на улице объявления развесила: мол, найден, обращайтесь. Ну то есть совсем ку-ку, да? Я говорю: «Ир, ты что, свидетель Иеговы?» А она такая: «А что?» Но вы-то понимаете?
Петр не стал ей кивать:
– Хозяин кошелька – нашелся?
– Хозяин-то нашелся. Охренел, когда увидел, что наличность вся в кошельке тоже лежит, как была. Я ей: «Ир, ну ты даешь, ты бы хоть наличку себе взяла, как награду, ты ж человека этим чуть до инфаркта не довела…» Ну то есть она честная, да, но все-таки куку. Куда с такими куриными мозгами в бизнес? Ситуации же бывают всякие, документы серые, кому-то на лапу дать, – гибкость нужна. А такую же облапошат моментально. Тут нужны опыт, хватка. Вы же понимаете, о чем я?
– Да, – признал Петр. Ее собственная хватка сомнений у него не вызвала. В качестве телефонного номера он оставил случайную комбинацию цифр.
Вышел из лифта в вестибюль. Бизнес-центр построили, должно быть, в нулевые. В нем странно сочетались претензии на стиль хай-тек (поправленный согласно московским вкусам) с некоторой замызганностью. На кожаном, немного засаленном диване были ясно видны три вмятины, просиженные сотнями задниц, которые приземлялись на одно и то же место – люди любят то, что нравится остальным. Петр сел, провалился глубже, чем ожидал. Вынул свой телефон.
Что он знал на сегодняшний момент. Ирина Капустина. Работает на полставки в офисе никчемной фирмочки, добирает деньги почасовой няней у Смирновых. Все говорят, честная, но ребенка чуть не потеряла; вернее, потеряла, просто спасибо, что он сам не сумел выбраться из катакомб театра. Таким образом это для него кончилось хорошо. Пара порезов на руках. Даже не испугался. А для Ирины? Куда подалась она? И где сейчас?
И почему это так заело Бориса? Хотя тут Петру все было понятно: Борис привык бросать сам. Ну и девочка эта, может, еще прихватила, так сказать на память… Нет. Это отпадает. Нал из чужого кошелька, вон, не вынула. Короче, просто свалила. Все-таки ей, извините, чуть за двадцать. А Борису, тоже извините, почти шестьдесят. Кому приятно, когда напоминают, что ты старый пень? С деньгами, но пень… А вдруг у него любовь? «Этого еще не хватало», – вздохнул Петр: откуда ему-то знать, как там в шестьдесят?
Проверил фейсбук Ирины, обновлений не было. Потом открыл ее инстаграм. Последним постом там по-прежнему была розовая мордочка ребенка, синяя шапка на фоне театра.
Петр стал листать ленту назад.
Капучино, вид сверху на коричневую пенку с белым сердечком. Красный закат, прорвавшийся через обычную пелену московского смога. Цветы. Деревянный особнячок, еще не попавший под ковш реконструкции. Башни Москва-сити. Петр обратил внимание на дату: третье сентября. Интересно, снимок сделан из машины Бориса? – невольно спросил себя… А это точно не Москва: другое небо, другая зелень. Коричневые тона, уютная безалаберность дворов с галереями. Точно, соседка упоминала: была поездка в Грузию, выигранный тур. Картинки доказывали. Горы. Кладбище с могильными камешками, словно упавшими с гор. И опять будни в Москве. Банальней некуда. Селфи представлены. И что Борис в ней нашел? Ну, кроме молодости, конечно. Хотя кого этим сейчас увлечешь? Молодость ценится дешево. Даже в пакете с красотой. А красоткой Ирина не была. Обычная. «Серая мышь», как сказала баба в конторе. Петр признал ее правоту.
Вернулся в начало, оттянул ленту, дал обновиться. Ничего. Розовощекий мальчик на фоне театра.
Он проверил телефон, который отдал ему Борис: ни звонков, ни сообщений.
Петр неуклюже вырвался из просиженного дивана, издавшего прощальное «пуф». Прошел к стеклянной двери-вертушке, толкнул, вышел на крыльцо.
Света, соседка Ирины, уже поджидала его здесь. Поджидала, очевидно, давно. Нос красный, руки грелись в кармане короткой дутой курточки с мехом, как сказали бы писатели Ильф и Петров, африканского тушкана. Бросилась навстречу:
– Вы ее нашли?
Увязалась следом. Петр прибавил шаг:
– В ее профилях нет обновлений.
Привычка говорить собеседнику не больше, чем тот может знать сам, но с таким видом, будто делишься конфиденциальной информацией, у Петра выработалась давно, еще во время питерской службы в наружке. Говорил он с соседкой так же легко и естественно, как четвертью часа ранее врал тетке в офисе:
– …Так что все подтверждает ваш рассказ. Большое спасибо за помощь!
Он побежал вниз по лестнице, к парковке.
Душная девка не отстала, поскакала следом.
– Я готова помочь еще!
У него зазвонил телефон. Говорить на виду у случайной свидетельницы не хотелось. Петр глянул на запястье, на часы, принимавшие сигнал с телефона: звонил Борис. Босс есть босс. Пришлось вынуть телефон. Света тут же придвинулась чуть не вплотную. Смотрела ему в лицо, он невольно встретился с ней взглядом: глаза у нее были простодушные, открытые – и цепкие. Петр прикрыл трубку ладонью, чтобы девица точно не слышала Бориса. Попытался отвернуться – она, как подсолнух, за ним.
– …Приезжай срочно! – выпалил напоследок Борис и разъединился.
– Светлана, – добавил Петр жесткости в голос, – вы мне правда очень… очень помогли. Всего вам хорошего.
Та затрясла головой: мол, да, да. Но он не дал ей ничего сказать:
– Теперь – все. Нам не по пути, и я не смогу вас подвезти. Еще раз спасибо.
– Ирка точно пропала. С ней что-то случилось. Я хочу помочь!.. Я могу! Только скажите…
– Мне не нужна помощь. И с Ириной вашей наверняка все в порядке.
Машина пискнула в ответ, Петр прыгнул внутрь, щелкнул, заперев двери. Пару секунд он был уверен, что девица полезет к нему в тачку. Только две секунды, но по-настоящему, и после щелчка испытал облегчение. Она осталась стоять снаружи, вжимаясь в свою куцую курточку. Очевидно, рассчитывала на другое. Ее проблемы. Он поднял руку, прощаясь с ней не глядя. И покатил – как потребовал Борис – к Лубянке, гадая, почему это босс так нервничает.
7
Борис ходил вдоль тротуара, куда щетки дорожных уборщиков сметали грязь. Его итальянские ботинки, рожденные для холы и неги, выглядели так, будто месят говно впервые в жизни. Водила изображал утес немого отчаяния подле неподвижного «мерса».
– Заглохли? – спросил Петр, вылезая.
– Осмотри тачку! – прикрикнул на него Борис. В таких нервах Петр не видел его давно. Может быть, даже никогда, – времени, чтобы предаваться воспоминаниям, не было. Как и времени, чтобы расспрашивать Бориса, с чего это вдруг.
Именно вдруг: Петр не знал никакого тлеющего конфликта, который мог разрешиться сейчас вот так – взрывчаткой в авто. Если бы знал, не дал бы разгореться: предупреждать легче, чем лечить… «Ладно, это потом», – подумал Петр.
Не волноваться.
Бомбы бывают разные. Самые распространенные – вовсе не с таймером, как в фильмах. А такие, которые активируются телефонным звонком или смс. Если бы Бориса действительно хотели хлопнуть, тот бы Петру и позвонить не успел – был бы уже раскидан мелкими брызгами по Лубянке.
Хорошо.
Это не значит, что пукалки в машине не может быть. Работа Петра заключалась в том, чтобы подозревать худшее. Возможно – все. Даже похищение инопланетянами.
Он не думал, что Бориса хотели взорвать. Но попугать – запросто.
Мозг как будто отключился от всего ненужного, отсек «белый шум»: Москву, летящий мимо поток машин, Бориса, асфальт под ногами. Весь сосредоточился на ощущениях в кончиках пальцев, до предела обострил зрение. Само время как будто замедлилось.
Безопасность – это рутина. Рутина – это точное следование протоколу – порядку действий, который составили хорошие люди. Например, Бари Дахан, бывший офицер. В Израиле знают, что такое опасность – и ее сводная сестра безопасность.
Петр строго следовал протоколу, преподанному Бари. За что Борису большое спасибо, так это за то, что на образование он не скупился. «У меня мама с папой школьные учителя – раз, а два – эти деньги я трачу ради себя, а не ради тебя», – отмел он все «спасибо» Петра, оплатив поездку к Бари в Тель-Авив.
– Ну что? – подал голос Борис.
Петр чувствовал, что подмышки взмокли. Он-то был совершенно спокоен – тело нервничало само, не мешая сознанию. Просто выдавало сумму физиологических реакций, так же ненужных ему сейчас, как отпавший в процессе эволюции хвост.
Чисто. Теперь можно открыть капот.
Петр знал, что сделал все, как учил Бари. На случай, который даже Бари не учел, он знал, что если рванет, то он ничего не успеет почувствовать. Еще раз сказал самому себе: если бы хотели взорвать, давно бы уже взорвали. Но все равно было жутковато.
Щелчок. Крышка плавно ушла вверх. Чисто.
– Порядок, – ответил Петр.
Это было приятно: не хотелось думать о том, какая началась бы канитель, если бы пришлось вызывать полицейских саперов.
– Жучок? Жучок был? – тянул шею Борис.
– …Погоди, – только сейчас понял Петр. – У нас тут что – на повестке дня жучок?
Борис вздохнул.
– Господи боже мой, – иронически пробормотал Петр, захлопывая капот, отряхивая руки: – А я уж обрадовался: думал, мы сейчас по старинке рванем – удивим Москву. Как в лихие девяностые.
Но Борис был мрачен:
– Уверен?
– Насчет чего? Что удивили бы Москву? Ну да. В общем.
Востров хоть и мудак, но даже мудак заметит: сейчас все культурно – дети в Кембридже, жена собирает современное искусство, а не туфли (туфлями уже наелась), в выходные – в театр.
– Что нет жучка или типа того? – не подхватил насмешливый тон Борис.
– Маячок бы засек.
– Точно?
Фарш в машине был что надо: при желании можно было даже задраить салон так, чтобы никто не мог перехватить телефонный разговор.
– Ну как тебе сказать. Если есть, то тогда это уровень, на котором устраняют глав государств.
На лице Бориса проявилось беспокойство.
«Здорово психанул старичок. Совсем шуток не понимает», – посочувствовал Петр.
– Но это вряд ли, – заверил он шефа. – Ты все-таки не президент США и не израильский премьер-министр.
Борису не понравилась мысль… Нет, что-то другое не понравилось. Петр посмотрел, куда смотрел Борис. В ближайшей к ним линии сбавил ход черный угловатый автомобиль в полной тонировке. По низкой осадке Петр понял: бронированный. Неуклюжий урод, когда-то объявлявший всем о крутизне владельца, как красный зад у альфа-павиана, но уже и в «нулевые» смотревшийся в Москве как-то странно. Не то что сейчас. Сейчас он смотрелся карикатурно.
Тонированное окно напротив заднего сиденья двинулось вниз.
Ни Борис, ни Петр ухом не повели. Не говоря о том, чтобы присесть или кинуться навзничь, из зоны обстрела. Оба знали: если из окна суждено высунуться стволу, автомобиль не стал бы тормозить. Ковбои бьют на скаку. Несколькими очередями из «калашей».
Стекло опустилось. Повисла улыбка – доброжелательная и отдельная от владельца, как улыбка Чеширского кота.
– Все хорошо? – поинтересовался Дюша. – Помощь не нужна?
Позади него истерически выли, лаяли гудки – громоздкая машина застопорила движение на оживленной полосе.
– Все отлично, – заверил Борис.
– Пошел на хуй, козел, жене своей погуди, – без выражения произнес Дюша тем, кто там, позади его машины, бил кулаком по клаксону. И к Борису: – Хорошо, когда все хорошо.
Стекло бесшумно скрыло его. Катафалк отчалил.
– Ты уверен, что все чисто? – опять спросил Борис раздраженно.
– Я ничего не нашел.
– Или они работают лучше, чем ты!
– Или у кого-то паранойя.
Борис помолчал. Распорядился:
– Поезжай дальше на Леше.
Водила – Леша – тотчас ожил, двинулся к своей дверце. Сам Борис не двинулся.
– А ты? – окликнул его Петр. – На метро?
Подколы помогали Борису прийти в себя. Вот и сейчас: не сразу, но помогли. Лоб у него разгладился.
– Я твою возьму.
Боится слежки, понял Петр. Не покушения, – как он было подумал, застав Бориса на цыпочках у машины. Боится, что кто-то узнает о нем то, чего не должен. В нашу уютную эру цифровых технологий информация – главный продукт, она же – главное оружие. А кто не боится? Секреты есть у всех.
– Нам пора это обсудить? – спросил он Бориса.
– Нет.
Петр бросил ему ключи, Борис поймал. И приподнимая пальцами брюки тем движением, каким в старину дамы приподнимали длинные подолы, ворча «свинство», двинул к машине Петра.
8
Лешу Петр тут же отпустил, и тот, обрадованный внезапным дембелем среди рабочего дня, который у Бориса обычно затягивался к полуночи, уехал домой – действительно на метро.
Москвичи, настоящие москвичи, ругали последние городские обновления. Петру они нравились. Стало удобнее, это надо признать. А что прежняя Москва ушла… А там разве было что портить или о чем жалеть? – искренне не понимал Петр: это же не Питер.
Место на парковке он нашел быстро. Нет, подумал он, вынимая ключ, расплачиваясь за парковку: стало лучше. Лет пять назад он бы точно предпочел поехать к театру на метро, вместо того чтобы наматывать круги в аду узких и кривых односторонних улиц, тыкаться, лезть колесами на тротуар, – ну уж нет, спасибо!
Петр потянул на себя высокую и тяжелую, как шкаф, дверь. Охранники на служебном подъезде сегодня были другие. Но тоже в костюмах, вежливые и подтянутые.
Петр протянул временный пропуск, выписанный Кирилловым для «консультанта» (как он предпочитал называть Петра в совместных похождениях) на два дня.
– Сюда, пожалуйста, вещи, – показал охранник на стол.
Петр выложил один телефон, второй… На третьем стражи не выдержали.
– Важная персона, – усмехнулся парень в будке.
– Или в дамах запутался, – тихо отозвался его напарник, глянул на Петра с хитрой искрой в глазах, подмигнул. Вроде и обхамил, но вроде и шутка. Пригласил жестом:
– Пройдите в рамочку, пожалуйста… Благодарю.
«Культурные, театр стерегут», – хмыкнул про себя Петр.
– Телефончики свои не забудьте, – ласково, но с насмешкой напомнил охранник.
Тот, что в будке, посадил погашенный пропуск Петра на кол – к остальным, бумажки топорщились на железной спице.
«Бездельники», – беззлобно проворчал Петр, рассовывая телефоны по карманам: молодые мужики, наверняка сатанеют от скуки.
– Что? – даже привстал со стула охранник.
– Спасибо, говорю. Что напомнили.
– Куда идти – знаете? – крикнул ему в спину охранник.
Петр, не оборачиваясь, показал ему пальцами: о’кей.
Увиденное Петра не то чтобы удивило. Не то чтобы он чего-то ожидал. Но немного разочарован все-таки, да, был: от театра хотелось чего-нибудь понаряднее. Нет, понятно, что днем люди репетируют, не разгуливают в гриме и костюмах. И все же. Одеты все были так, как будто состязались, кто расхристаннее: какие-то растянутые кофты, шаровары с низко висящей задницей и мотней между ног, сползающие толстые гетры. Какой-то парень присел прямо на пол, снял с ноги гетру, завязал на шее – получился шарф. Петр переступил через его длинные ноги – тот даже не подумал их подтянуть.
Из-за закрытых дверей вырывалась какая-то особенно залихватская музыка – Петр невольно представил себе: салун, дым кольцами, тапер лупит по клавишам. Дверь приоткрылась, выплеснув бряцанье и треньканье: много света, худенькие девочки одинаково присели, раздвинув колени, одинаково шаркнули ногой в бок, рука изнутри тотчас потянула и захлопнула дверь.
Мимо него люди сновали по коридору, не глядя, но все-таки косясь. Он шел по коридору с таким чувством, будто он на главной улице деревни, где все друг друга знают и чужака видно за километр.
Петр ловил на живца. Долго ждать не пришлось.
– Вам кого?
Тоненькая рыжеватая девушка в розовой тесной кофточке, охватывающей талию крест-накрест. Узел на затылке забран под черную сеточку. Петр сразу понял, кто перед ним. Местное СМИ, если можно так сказать. В любой конторе есть. Человек, для которого собирать и передавать дальше сведения так же необходимо, как дышать. Часть физиологии. Такие всегда клюют первыми. Петр сверкнул ламинированным разворотом – и тут же спрятал удостоверение, которое все равно никто никогда не изучал. Да если бы и прочитал, то там стояло столько пугающих обычного гражданина слов вроде «безопасность», «контртеррор», «федеральный» и совсем маленькими буквами «консультант», с лиловой двуглавой печатью на фото (Петр на нем специально сделал будку посуровее), что никто даже не врубался, что имеет полное законное право послать Петра подальше – и ничего за это не будет.
– А, – сказала девочка, – понятно.
– Вы на спектакле вчера в театре были?
– Это на вводе Беловой, что ли? А что случилось? – глазки блеснули.
– Когда в зале был президент, – веско заметил Петр, увидел: подсечка, есть! Добавил: – Строго конфиденциально. Мы можем поговорить, чтобы никто не слышал?
Петр, слегка презирая себя за дешевые кривляния, изобразил, что оглядывается исподтишка. Но комедия удалась.
– Ну есть одно место.
9
Маша, так ее звали, села на металлическую жердочку. В полумраке блестели глаза, сережки и ноготки.
– А мы где? – спросил Петр.
– Под сценой.
Петр сдвинул брови:
– Это надежное место? Вы же понимаете, Маша, когда речь идет о спектакле, на котором был президент…
Повесил на конце фразы вескую паузу. А сам подумал: «Ы-ы-ы-ы-ы, Пушкин, лопни мои глазоньки».
Маша понимающе кивнула:
– Что вы хотите узнать?
Было ясно, что узнать хочется ей: кто, зачем, что, кому. Даже нос у нее будто стал длиннее.
– Как прошел спектакль.
Маша пожала плечиком в розовой мохеровой кофточке.
– Хлопали.
– Ну а для вас лично, Маша, спектакль хорошо прошел?
– Ой, нервно.
– Правда?
– Да, с самого утра какая-то жопа.
– Даже так?
– Как сглазил кто. Может, Белова и сглазила. До нее такого не было. Чтобы сразу все. Все наперекосяк. Сначала репа…
– Репа?
– Ну репетиция.
– Ага.
– Да, прямо на репетиции чемоданы привезли, которые в Лондоне потерялись. А они не потерялись. Все сразу стали думать не про порядок, а как бы поскорее сбегать барахло забрать. Потом пожар.
– Пожар? – но подталкивать Машу не требовалось, она трещала без остановки:
– Ну не, потом поняли, что не пожар. Но уже, конечно, набегались, остыли. Потом опять потопали наверх. В лифты типа нельзя. Ну а чего нельзя – ведь не горит? Бред вообще-то… Ноги только забили. По лестницам-то столько ходить. Вообще!.. Потом костюм у Беловой был какой-то стремный. Из Питера, наверное, свой приволокла. Ей теперь типа можно все.
– Почему?
– Ну типа она прима. То есть не прима. Прима – Вероника. Но Вероника – как бы не прима.
Петр схватился за металлическую рейку, как будто это могло помочь не двинуться башкой вслед за этим причудливым рассказом.
– В каком смысле?
– В смысле – не сам костюм. Костюм нормальный, ей же Вероничкин отдали. А диадема – не как наша. Очень стремная. Питерская, наверное. Но туры все вышли, все поддержки тоже хорошо, прыгала прилично. Только диадема стремная… Не знаю, что там президент после всего этого подумал, – заключила она. И с надеждой посмотрела на Петра: теперь его очередь.
Он только собрался сказать, как…
– Да! – вдруг снова ожила она, словно внутри щелкнуло, сошло колесико: – И потом кто-то позвонил и сказал, что в театре бомба.
– Так-так, – опять изобразил агента на секретной службе его величества Петр.
– Но это была не бомба, как обычно. Все на уши встали. Антракт задержали. Я и так весь день после этих лестниц думала, как там мениск. А тут еще Верка Марковна прямо перед выходом ко всем девочкам пристала: кольца снимайте, сережки снимайте. Прикиньте?
Петр почувствовал, что теряет нить. Чемоданы, которые опоздали, пожар, который не пожар, диадема, которая не диадема, бриллианты, которые нельзя показывать, хотя их никто не видит, бомба, которая не бомба… Эта кувыркающаяся чехарда ехала по его голове, перемалывая мозг в фарш.
– Зачем?
– Чтобы на сцену никто не вывалил в своем. Раньше всем по барабану было вообще-то. Они после Лондона суетятся. Каждый день новые правила. Идиотизм, вообще-то. Кто там что из зала видит? Даже в бинокль. Лучше бы за дверью следили, чтобы чужие дети за кулисами не бегали.
Петр вскинулся:
– Вы тоже видели за кулисами ребенка? С кем он был?
– Девочки говорили. У кого-то из зрителей за кулисы убежал.
«У кого убежал, девочки видели?» – не успел спросить Петр. Маша быстро осведомилась:
– А что, ему спектакль не понравился?
– Кому? Ребенку?
Маша распахнула большие глаза:
– Президенту.
Петр сделал морду кирпичом. Маша глядела, как лисичка на выводок цыплят:
– Это ведь для него Белову срочно вместо Вероники поставили?
Ответа у Петра не было.
– А если я вам, Маша, скажу доверительно, что это государственная тайна?
Разговор следовало вернуть к ребенку за кулисами и «девочкам», которые его видели. Может, они и няньку засекли? Невозможно прийти в театр и уйти незамеченной. Кто-то Ирину видел. Но Машу было не сбить.
– Я так и поняла. Как сказали, что будет президент, так Вероника якобы и заболела.
Петр опять поразился диковинной логике.
– Это же был Вероникин спектакль вообще-то, – трещала Маша. – У Беловой для него даже костюма не было своего. Вероникин отдать пришлось.
– А девочки… – опять попытался Петр.
– Девочки говорят, портнихи прямо на ней лиф ушивали. И расставляли, – Маша смачно и злорадно подчеркнула: – в плечах…
– А как…
Лицо Маши посветлело:
– Ой, ну это вы у портних спросите – как. Думаю, стремно.
– Маша, – позвал ее из прекрасного далека Петр, – а как мне найти – девочек?
– Каких? – тотчас насторожилась она.
Чтобы смягчить, Петр попробовал пошутить:
– Которые знают все.
Ошибка, мгновенно понял он. Все – знает только она сама.
Маша надула губки. В глазах холодок. Слова были проложены льдом:
– В режуправлении спросите.
Спрыгнула с жердочки. И была такова.
– Маша! – крикнул в полумрак Петр. Тут же стукнулся головой о металлическую трубку, та ответила гудящим звуком.
«Елки, – потер лоб. – Тут бы живым выбраться».
10
Как только перед ней мелькнула пресловутая корочка с неприятными словами и еще менее приятной физиономией Петра, она тут же вынула из сумочки сигареты.
– Нет, посторонних я за кулисами не видела. – И тут же сообщила: – Вообще-то курить нельзя.
Проворно встала на стул, показав стройные ноги, потянула за шпингалет высокого окна.
– Но вы курите?
Она спрыгнула, оправила узкую юбку.
– А у меня работа нервная.
В приоткрывшуюся щель врывался уличный шум.
– Нервная?
– А что?
– Я думал: театр, – протянул Петр. – Культура, красота. Успокаивает нервы.
Ольга Николаевна то ли кашлянула, то ли издала смешок.
Ей могло быть сорок, но с таким же успехом и под пятьдесят. Мелкие морщинки на лице могли быть от курения, но могли быть и от возраста.
– Ольга Николаевна…
Она перебила:
– Ольга – можно.
На столе у нее завибрировал, толчками пополз телефон. Она легкомысленно махнула рукой «подождут», кокетливо выпустила дым.
Петр привычно суммировал ее внешность для милицейского протокола. Зыкина Ольга Николаевна, заведующая режиссерским управлением балета, возраст около сорока, рост примерно метр семьдесят, сложение худощавое, волосы короткие светлые… Вообще, что-то кроличье в лице – наверное, из-за розоватых век и бледных ресниц. Только сами глаза – кстати, светло-зеленые: глаза не грызуна, скорее мелкой хищницы. Одежда среднего ценового сегмента: Zara, подпертая Ralpf Lauren, практично хапнутым на распродаже или в аутлетах. Что соответствует зарплате. Значит, ни тайных пороков, ни дополнительных источников дохода нет. Особых примет тоже.
Ольга заметила его взгляд, но истолковала по-своему.
– Между прочим, я замужем, – кокетливо предупредила.
– Я убит.
Она поперхнулась дымом. Прокашлялась сквозь улыбку:
– Ладно. Живите.
– Ольга Николаевна…
– Ольга.
– Ольга, – тут же исправился он. – Вот вы режиссер.
– Технически говоря, я не режиссер – я менеджер. Планы, афиша, расписание, явки, репетиции.
– Понятно, – отозвался Петр: – Я, конечно, все себе не так представил.
– А что вы представляли? – кокетливо отозвалась женщина.
– Я думал, вы тут типа, ну не знаю – Тарантино, – подыграл ей Петр: он бы охотно назвал имя всемирно известного режиссера-женщины, но без подсказки гугла не смог. – На двери у вас написано – режиссерское управление. Так я и подумал…
Телефон у нее на столе опять ожил: пополз, гудя. Она сбросила звонок, не глядя.
– Культура, красота, это да. Хватает. Само собой. Чего не хватает, так это четкой организации. Ее всем не хватает.
Петр понял: надо еще сиропа на самолюбие.
– Понимаю. Большой корабль, большое плавание, – он постарался, чтобы в голосе звучало уважение.
Ольга затягивалась, скосив глаза на раскаленный кончик сигареты, как будто это помогало вытянуть драгоценный никотин. А потом – щурилась на Петра. «А очки надевать, конечно, при мне не хочет», – понял он. На столе заметил два футляра: оптическая оснастка Ольге Николаевне требовалась и для чтения, и чтобы смотреть вдаль.
– М-м-м, – промычала Ольга в знак согласия, губами она сжимала сигарету, дым сквозняком бросило обратно в кабинет, Ольга замахала рукой, выгоняя его обратно в Москву. Потом перехватила сигарету пальцами и добавила: – …большие проблемы.
– Это вы о вчерашнем спектакле?
Рука Ольги остановилась, голос звучал по-прежнему доброжелательно, но уже на другой ноте – профессионально-компетентной, настороженной:
– Да, вчера весь день как-то наперекосяк, – все же признала она. – Бывают такие дни, знаете ли. Завихрения магнитных полей.
Петр решил ясно дать понять, что с ним такие номера не пройдут и такие объяснения – не устроят:
– Из-за чего именно наперекосяк? – И стал забрасывать ее фактами: – Из-за повышенной охраны зала? Из-за пожарной тревоги? Из-за потерянных чемоданов? Или потому, что одну балерину заменили на другую?
На щеках Ольги появились два розовых кружочка. На самом деле, красные лампы, вспыхнувшие внутри: тревога! Петру показалось, что он прямо видит, как у Ольги за радужными оболочками глаз зарождается паническая Пригодная Версия.
– Ну, – потянула Ольга, выигрывая время для ответа.
И тут ей повезло – в дверь просунулась голова с волосами, зализанными в дулю на макушке:
– Оль, ну ты что, не слышишь? – сказала женщина. – Сама она была полная: большой шар задницы и средний шар туловища объединены в массивное целое длинной юбкой и длинным свитером. Крошечная дуля наверху конструкции казалась архитектурной шуткой. – Звоню тебе, звоню, – пожаловалась женщина, с любопытством разглядывая Петра. Сообщила: – Люба-Астрахань пришла. Она в оперном сейчас.
Явно гадала, что за незнакомый мужик пасется в балетном режуправлении, и что за разговор у них тут наедине.
– Хорошо, хорошо, – выпроводила ее Ольга.
Момент для атаки был упущен. Ольга уже нашлась:
– Все всегда немного нервничают, когда на спектакле… высокие гости.
Петр сменил тактику.
– Ну, могу сказать, что из зрительного зала ничего заметно не было, – любезно заверил.
– А вы были? – удивилась Ольга.
Петр сделал лицо «мы же с вами понимаем». Что бы это ни значило. Обычно все делали вид, что поняли. Сделала и Ольга:
– Ах, ну да… – спохватилась она.
– Только разве что антракт задержали, – уточнил Петр.
Ольга явно успокоилась – как будто неприятный разговор отошел от края пропасти, заметил Петр. Но что бы ни было в этой пропасти, оно его не интересовало. У них своя жизнь. У него – своя работа. Главное, о полиции в театре Ольга как раз не прочь была поговорить:
– Да уж. Кто-то из сотрудников театра ребенка с собой привел, а тот убежал. И мамаша придурочная сразу давай в полицию звонить.
«Еще одна версия, – подумал Петр. – Забавно».
Ольга покачала головой, расплющила окурок:
– Можно подумать, ребенок куда-то из театра может деться.
– А может?
– Конечно, нет! У нас режим пропусков. А когда в театре президент, даже два. Вы представляете, что здесь творится?
– Я-то? – многозначительно подмигнул Петр.
Ольгу это успокоило.
– А кто-то из девочек видел этого ребенка? Мамашу его?
– Да вы сами у них поспрашивайте, – уже совершенно свободно держалась с ним она. Видно, успокоилась.
«Наверное, это хорошо?» – подумал он. Наверное, не очень. Он что-то упустил.
– Зайдите в гримерку кордебалета. Там точно кто-то что-то видел и знает.
Петр учтиво распрощался.
В коридоре замедлил шаг… Она сказала что-то важное. Что проскользнуло в разговоре. Что?
– Вас проводить? – услышал он позади голос Ольги. Обернулся. Она стояла в дверях. На этот раз в очках. Бдит, понял Петр.
– Нет-нет, спасибо.
«Все здесь прямо рвутся меня провожать».
Входя в лифт, он обернулся: Ольга все еще смотрела, туда ли он пошел, как ей рассказал. «Все, у меня тоже паранойя, это заразно. На самом деле, я ей просто понравился». И смотрела, пока двери лифта не сомкнулись.
Петр, не чувствуя движения кабины, разглядывал кнопки этажей, магнитный ключ для чтения карт-пропусков. Тронул пальцем твердые пластмассовые губы ключа. «Интересно, то есть не на каждый этаж может попасть кто угодно», – подумал он.
Двери лифта снова раскрылись, и Петра впервые поразила людность, даже толчея в коридорах. Пахло старым потом, духами и канифолью. Здесь обитал кордебалет – низшая, но самая многочисленная ступень балетной иерархии.
11
Поговорив с сыном, Вера успокоилась. Все хорошо. Все, все хорошо. С сыном у нее всегда было так. С самого начала. Она прижимала к себе маленькое, податливое пухлое тельце и сразу чувствовала, какой ее охватывает покой: все, все хорошо.
Вот с дочерью не так. Любовь, да. Конечно. Еще какая. Вера всегда боялась, что на Аню набросится собака, хотя собака во дворе была одна – соседский терьер, толстый от старости. Боялась, что ее ударит на площадке другой малыш. Или, не дай бог, обидит взрослый. Вера знала, что задушит собаку руками. Пнет чужого ребенка ногой. А про взрослого даже лучше не думать, что она с ним сделает. Быть матерью по-своему легко. Сомнений – нет. Совести, стыда – тоже. Представляя худшее, Вера почти видела, как у терьера вываливается из пасти синеющий язык, почти чувствовала пальцами, как ломаются горловые хрящи. Вот что такое материнская любовь. Ты всегда представляешь худшее.
