Читать онлайн Рецепты еврейской мамы, 30 лет спустя бесплатно
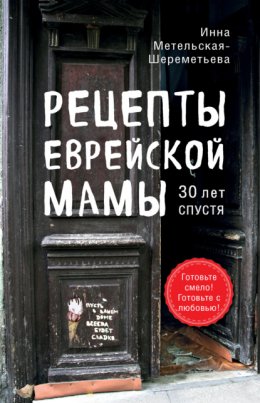
© Инна Метельская-Шереметьева, текст, 2020
© ООО «Издательство «Эксмо», 2021
Глава 1
А был ли мальчик?
Увы… Всего через несколько коротких месяцев мне исполнится 55 лет. Я это отчетливо понимаю, снова и снова вычитая дату своего рождения из симпатичной и символичной цифры «2020». Так был ли мальчик? Или, точнее, если перефразировать знаменитую цитату под меня, «была ли девочка?» Что произойдет, когда я осознаю, что теперь мой возраст равен полусотне плюс пяти… пяти десяткам с хвостиком… полтиннику и еще пяти копейкам… Как там еще? БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПОЛОВИНЕ ВЕКА?
Что случится в тот момент?
Я все еще буду я или это будет кто-то другой?
Старая незнакомка? (Кстати, какое из этих двух слов можно считать главным?)
Я уже почти не помню то счастливое время, когда возраст измерялся не годами, а месяцами и даже днями.
«Нашей крошке уже две недели»…
«Подумайте! Ей уже пять месяцев!»…
«Мы вчера отпраздновали семь месяцев и семь дней нашей малышки!»…
Не только мы, дети, но и родители, стремясь постичь волшебную ценность нашего существования, воспринимаем поначалу собственный возраст не только в годах, но и в месяцах. Согласитесь, «пять месяцев и пять дней» звучит значительно более круто, чем просто какие-то «пять месяцев»…
Это уже потом, много-много лет спустя, мы научимся игнорировать эти самые дни, недели и месяцы.
Кстати, долго ждать не придется. Буквально через пару десятков лет, а то и раньше, мы столкнемся с дилеммой: «мало мне или уже много»? И до гробовой доски эта дурацкая задачка станет нашим общим наказанием. Мы будем всегда слишком молоды или слишком стары для того, чтобы делать то, что хочется.
Вот ведь в чем фокус…
Мы слишком молоды, чтобы иметь детей в 19 лет. Но уже достаточно пожили, чтобы отдать жизнь на войне за родину, если такая случится.
Мы слишком стары, чтобы начать заниматься балетом или арфой в 17, но еще слишком юны, чтобы спланировать будущую карьеру.
Я не исключение.
Я очень редко чувствовала свой «правильный» возраст. Может, это только моя особенность, а все остальные живут в полном согласии с собственной «хронологией»?
Не знаю. Мне никогда не удавалось договориться с паспортом. Наверное, с самого моего рождения существует очевидное неравенство между моим реальным возрастом и тем, на сколько я сама себя осознаю. Душа постоянно находится в полном раздрае с телом. Тело поначалу еще не окрепло, а все душевные устремления рвутся ввысь, в небо, в сферу недосягаемого и высокого. И, напротив, через пару десятков лет, когда физическая оболочка достигает максимального расцвета, мысли становятся приземленными, а душевные устремления обращаются не к небу, а вниз. Пытаются укорениться, осесть, закрепить свое право на этот квадратный сантиметр обихоженной почвы…
Душа совершенствуется, становится тоньше, деликатней, но прибавляются сантиметры на талии. Заглавными буквами искривляются хрупкие коленки, и даже миниатюрные пальчики на ногах становятся толще…
Так лучше или хуже выглядим мы с возрастом?
Мне кажется, что в битве со временем мы проигрываем всегда. Но, только проиграв эту битву, можно почувствовать всю полноту и прелесть жизни. И в этом заключается великая тайна человеческого бытия. Стремления жить максимально долго, оставаясь минимально постаревшим…
Мы проносим свою тайну несогласия с природой через все годы, отмеренные нам судьбой. Мы свято храним ее. Мы чувствуем свою непохожесть и богоизбранность. Мы, подростки, осознаем себя мудрыми старцами. А постарев, чудим как дети…
Не знаю почему, но эта тайна человеческого возраста преследовала меня с самых ранних лет. Еще совсем девочкой я испытывала невероятную эйфорию оттого, что мне удавалось одурачить взрослых, изображая ответственность и зрелость там, где их отродясь не было, заставляя воспринимать себя в 11 лет успешным и серьезным человеком…
Мне кажется, я была хитрюгой всю жизнь. Но не потому, что делала что-то незаконное. Скорее, не так… Я просто всю жизнь играла чужую роль. Роль взрослого человека… И только теперь, став этим взрослым НАВСЕГДА, задумалась: что же это было на самом деле?
А вы?
Вы никогда не играли подобную роль? Вы не чувствовали себя шизофреником, находясь в постоянном несоответствии с собственным возрастом? Рассуждать в 5 как в 18, и чувствовать себя в 30 юной школьницей?
И все это длится, длится…
Трудно слыть блестящей, умной, цинично безукоризненной, философски проницательной и отстраненно логичной, а на самом деле постоянно бороться с собственными бесами – эмоциями, – объявившими беспощадный джихад и телу, и возрасту, и мыслям.
Вы можете быть бесконечно правы, тонки, мудры, образованны, богаты, но никогда бесконечно счастливы… Откройте любой глянцевый журнал, и вы в течение пяти минут уже будете знать наверняка, что НИЧТО в вас недостаточно хорошо, и есть, по крайней мере, 10 легких шагов, чтобы вас усовершенствовать. Любой автор (национальности, вероисповедания, образования), любая книга (изданная в любой из сотни стран мира) в своих «руководствах» быстро объяснят вам ваше несовершенство и предложат действенные рецепты улучшения качества вашей жизни. При этом авторы всегда столь толерантны друг к другу, что никогда не посягают на глобальное усовершенствование своих читателей, оставляя за собой и своими коллегами право «исправлять» вас в каком-то одном, микроскопическом, но крайне важном аспекте.
Например, вы знаете, как стать миллионером и продать миллионы экземпляров книги о том, как вы стали миллионером? Отлично! Не знаете? Тогда пишите о том, как стать шикарным, умным, красивым, счастливо женатым или счастливо разведенным, неподражаемо утонченным, спортивным, сексуальным и т. д., и т. п.
Все, что вы должны сделать, – это открыть охоту на человеческое несовершенство, стать мессией, пророком, гуру…
Ну почему наши родители не объяснили нам, что самый ценный опыт самоусовершенствования мы получили в детстве и что та самая жесткая родительская дисциплина должна была воспитать в нас хороших людей? Ответ очевиден.
Но только сами став родителями, мы находим в себе мужество признать, что в этом вечном конфликте отцов и детей никогда не будет победителя и побежденного. Да, мы ПРИЗНАЕМ это, но только в отношении СВОИХ родителей и СЕБЯ. К методам воспитания СОБСТВЕННЫХ детей это уже не относится.
Я не знаю, как у вас, уважаемый читатель, но мое воспитание было закончено в восемнадцать. Моя мама с отчимом, да и я сама, признали, что больше сделать ничего нельзя. Впредь мне предстояло совершенствоваться самостоятельно. Только тогда я еще не представляла, что это вопрос не одного-двух, а добрых тридцати с лишним лет. И что процесс этот не завершится никогда.
На память о детстве у нас осталось несколько альбомов с фотографиями и воспоминания о том, что нас кормили, лечили и вообще всячески поддерживали. К сожалению, нет технологий, которые позволяли бы сделать фотоснимки души. Вот такой бы архив состояний души нам пригодился значительно больше.
Но увы…
* * *
После выхода книги «Рецепты еврейской мамы», на которую я получила тысячи отзывов и писем, мне захотелось быть предельно честной и рассказать, что была еще одна встреча с героями той книги – Анной Ароновной и Борисом Абрамовичем Беренштамами – моими добрыми соседями-наставниками, которые в далеком 1972 году эмигрировали в Израиль.
Какой получится эта новая книга – пока не знаю. Искренне надеюсь, что не только мудрой и грустной, но еще и забавной, полезной, веселой и очень вкусной. Ведь своим увлечением кулинарией я, как вы уже знаете, обязана именно Анне Ароновне.
Итак…
Наступил двухтысячный год. И он по григорианскому календарю високосный год, начинающийся в субботу… А это, как ни крути, шаббат. Ну нельзя ничего начинать в субботу! Так оно и случилось. И напроисходило в тот год столько, что не только все, пережившие его, помнить долго будут, но и потомки вздрагивать. И хотя большая часть этого года приходилась на 5760 год еврейского календаря, не самого, как вы понимаете, круглого и юбилейного, это мало чему помогло и мало что изменило.
У братьев-белорусов местные белочки и зайчики на дензнаках вымахали до размеров динозавров, и посему их пришлось срочно деноминировать. Англичан заставили учить граммы и килограммы, что привело к мгновенному дефициту калькуляторов, ибо никто из жителей Старого Света перевести унции и фунты на новые меры веса в уме не мог. В России одновременно освятили первой литургией храм Христа Спасителя; повзводно и поротно, со слезами отчаяния хоронили солдат и целыми селами – мирных жителей Второй чеченской и (как мы в это верили) закрыли надолго и навсегда одну из самых кровавых ОПГ – Слоновскую.
В Лейк-Плесиде прошли Игры доброй воли, Sony выпустила свой очередной плейстейшн, над Аляской раскололся на сотни осколков 150-тонный метеорит, и таким же метеоритным дождем то тут, то там просыпались авиакатастрофы, сошли с рельсов поезда, ушли лидеры и президенты, а на их место пришли новые.
В России таким президентом стал Путин. В Грузии – Шеварднадзе. В Сирии – Башар Асад. И мало кто из нас тогда подозревал, что многие наши надежды, или разочарования, или победы, или предательства, или даже горе войны и возникновения самого кровавого террористического государствахалифата будут как-то связаны с этими странами и этими именами и что им-то (двоим из них) придется с этим самым халифатом сражаться.
* * *
Но для меня 2000 год начался с необычной телеграммы. Ко мне в Москву из Запорожья навсегда переезжали мама и любимый отчим – дядя Володя, о чем, собственно, и телеграфировали. А необычность сообщения заключалась в том, что в тексте была маленькая приписка: «Мира нашла в Хайфе Беренштамов. Хотят к тебе в гости. Можно на День Победы?».
Честно говоря, я даже не сразу поверила в это сообщение. В детстве, в мои пять лет, мне казалось, что мои обожаемые Анна Ароновна и Борис Абрамович уже глубокие старики, а теперь мне самой было уже за тридцать, так сколько же могло быть им лет??? Но, конечно же, я ответила воплями радости, правда, уже не в телеграмме, а по телефону, хотя в духе обожаемого дяди Бори могла бы и телеграфировать коротенькое: «Ой!»
Но это я вам так, телетайпно, рассказываю.
* * *
Вы представляете, что такое переезд двух пожилых родителей (одна из которых по жизни хлопотунья, ворчунья и придира, а второй – чопорный и крайне пунктуальный немец) из насиженного гнездышка в незнакомую и пока еще не родную им столицу?
– Дочь, у нас уже получается два контейнера. А у меня не уложены половики, одна большая подушка, подшивки «Литературной газеты» и все Сережкины игрушки? (Забыла вам сказать, что к этому времени я уже была счастливой мамой 15-летнего сына.) Что делать? Может, дополнительно еще один контейнер заказать?
– Мамуль, ну какие игрушки? Парень уже вот-вот на свидания бегать начнет. Вчера они с друзьями пытались угнать из гаража старого Андрюшкиного «Иржика» (Иржиком – лихим скакуном из чешской сказки – мы называли наш первый «Жигуле-нок», хорошенько «прокаченный» балашихинскими мастерами-автогонщиками и взбрыкивающий на МКАДе до 170 км/ч играючи, за что и получил лошадиную кличку). Я же тебе говорила, что ваша квартира не просто отремонтирована, но и полностью укомплектована всей мебелью, техникой, посудой и даже потенциальным персидским котом, о котором так мечтает дядя Вова. Не вздумайте тащить лишнее!
– Лишнее? Это мою подушку ты называешь лишней? Вы там, в своих столицах, как хотите, а я на поролонах спать не приучена!
– Ладно. Разберемся. Когда вас ждать-то?
– Ну, смотри… Пока мы продадим эту квартиру… Пока распродадим всю мебель… Потом у меня юбилей, 60 лет все-таки… Очень бы хотелось со всеми Метельскими последний раз посидеть за одним столом.
Мама начала хлюпать носом, и я поняла, что разговор надо срочно заканчивать. И еще я поняла, что раньше середины июня мои старички ни за что в Москву не приедут. Мамулькин будет тянуть до последнего. Это для отчима Москва и Россия были родным домом, где он провел большую часть жизни и куда он рвался со всей сдержанной страстностью урожденного поволжского немца. А мама, хоть и родилась в Москве и даже прожила в районе Павелецкого вокзала до 10-го класса, свою молодость и всю последующую жизнь связывала только с Украиной и Запорожьем, где наша семья оказалась волею судеб в далеком 1957 году, когда маминого папу (моего дедушку) позвали возглавлять испытательный цех на заводе «Моторостроитель», а папину маму (мою бабушку) практически в это же время стали двигать по партийной линии и тоже почему-то в украинском направлении. Вот там-то, в Запорожье, в 60-е годы две наши семьи встретились и потом породнились, явив миру меня.
Правда, папа очень рано умер, зато через 13 лет маминого вдовства в это же самое Запорожье был откомандирован из Москвы мой будущий отчим – Владимир Николаевич – возглавлять какое-то там важное конструкторское бюро.
* * *
И если вы помните по книге «Рецепты еврейской мамы», в том же самом чудесном южном украинском городе, в большом и очень интересном интернациональном доме прошло мое детство, где моими первыми настоящими взрослыми друзьями стали Анна Ароновна и Борис Абрамович Беренштамы, семья одиноких пожилых, веселых и хлебосольных евреев, которые, если так можно сказать, стали мне третьими бабушкой и дедушкой.
В начале 70-х, как только разрешили выезд из СССР, Беренштамы уехали из Союза. Но уезжали они совсем не из-за принципиальных каких-то интересов или несогласия с курсом партии и правительства. Просто случилось так, что во время фестиваля молодежи и студентов 1957 года, проходившего в Москве, их единственный сын влюбился, а потом и женился на пламенной кубинской революционерке, родственнице самого Фиделя, да и уехал вместе с ней на Кубу. Однако революционная дружба двух стран не позволила ни Беренштамам ездить к сыну и внукам, ни им в Союз. Вот и рвались они хоть на историческую родину, хоть куда угодно, лишь бы увидеть и обнять своего любимого мальчика и его многочисленных потомков. Я и не помню сейчас, сколько детей у сына Беренштамов было на момент моего детства – то ли два, то ли четыре, а то ли и все шесть.
И вот теперь представьте, что должна была испытать я, уже взрослая и почти состоявшаяся в жизни и в профессии тетенька, когда узнала, что мои обожаемые «старички», слава Богу, живы, здоровы и даже, возможно, скоро приедут в гости?!
Конечно, я была на седьмом небе от счастья и сразу почувствовала себя той маленькой пятилетней девочкой, которая печатала рецепты на старенькой пишущей машинке дяди Бори и с удовольствием слушала нескончаемые истории из жизни незнакомого и непонятного мне тогда «народа Иудеи», не очень понимала, что такое «кашрут», но верила, что это правильно и вкусно, и до икотки объедалась вкусностями, приготовленными Анной Ароновной, ибо такого в нашем дворе больше никто не готовил!
* * *
– Мам, а кого мы едем встречать на вокзал? – Сережка с упоением осваивал свою новую приставку «сегамегадрайв два» и не собирался отвлекаться на каких-то там непонятных гостей.
– Не на вокзал, а в аэропорт! Я тебе много раз рассказывала, что это мои старинные друзья, еще из детства.
– Как ты старинные? Или постаринней будут, ну, как бабушка?
– Еще старше бабушки!
– Ох, ничего ж себе! А так бывает? Нет, ну бывает, конечно, я Антохину прабабушку видел, когда к нему в гости ходил. Но такие прабабушки самолетами не летают. Точно тебе говорю. Ты что-то путаешь, мам!
– Да я сама не представляю, как они дорогу перенесут. Им уже за восемьдесят, точно! – Я внимательно разглядывала себя в зеркало, одновременно завивая плойкой челку, и пыталась представить, как мы встретимся в зале прилета. Узнаю ли я Анну Ароновну и дядю Борю? Узнают ли они меня? Ведь из прелестной белокурой девочки с пушистыми косичками я успела вымахать во вполне себе велико-возрастную мадам ста семидесяти сантиметров роста, с короткой платиновой стрижкой «бобриком», а нежные платьица из бязи в моем гардеробе давно и прочно уступили место всепогодным джинсам и спортивным толстовкам.
В этот момент тренькнул Сережкин компьютер. Мой дитюся освоил какой-то там чат и вовсю чатился и с посторонними людьми, и с теми, кого легко мог просто окрикнуть с балкона. Я, пренебрегая приличиями и тайнами личной корреспонденции, тут же в него уткнулась.
На экране чернели буквы:
– Серый! Твои когда в аэропорт сваливают? С нас девочки и пиво, с тебя хата. Толстый.
Отвечаю:
– Алексей! Пиво и девочки меня не интересуют. У меня экзамены на носу, и я хочу хорошо закончить девятый класс…
Молниеносный ответ:
– Тетя Инна, пожалуйста, пустите Серого обратно к компу, мне с ним поговорить надо.
– Фигушки! Я забираю твоего драгоценного Серого с собой в аэропорт встречать гостей.
– Мам! Там комп сигналил? – кричит с кухни оторвавшийся от «Сеги» сын.
– Это мне из редакции почту прислали, – вынужденно вру я, потому что откровенно трушу ехать на эту встречу одна, а при Сережке хоть не разревусь и не начну выглядеть пятилетней дурехой.
И вот мы в зале прилета «Шереметьево», одинаковы с лица аки два яйца: джинсы, джинсовые куртки, футболки и прически, только у одной из фигур слегка прорисовывается грудь. Два букета (интересно, зачем мы все-таки два купили?) держим наперевес, как гвардейцы винтовки. Я мучительно всматриваюсь в толпу людей, выходящих с нужного нам рейса, и чуть не падаю в обморок: вот же они! Вот! Совершенно такие же, ничуть не постаревшие и не изменившиеся: моя драгоценная тетя Аня в точно таком же легком пыльнике, который она носила 30 лет назад с апреля по октябрь, и дядя Боря – в льняном пиджаке и безупречно отглаженных брюках. Она – маленькая-маленькая. Он – худой и высокий-высокий… И лишь подбежав с радостными воплями к Беренштамам, схватив их в охапку и исколов дурацкими розами, я вдруг понимаю, что тетя Аня едва достает мне до груди, а дядя Боря такой худенький, словно Сережка в десятилетнем возрасте…
Конечно, я тут же начинаю плакать. Беренштамы тоже рыдают, но глаза, в отличие от меня, вытирают не рукавами, а накрахмаленными носовыми платочками. Сережка топчется в стороне и на всякий случай тоже хлюпает носом.
– Инночка, деточка, а ну скажи нам шо-нибудь? – первым отстраняется от меня дядя Боря.
– Я вас люблю! Какие же вы молодцы, что приехали! Вы совсем не изменились!
– Ну, видишь, Аннушка, что я тебе говорил? Они снова тут говорят как мы… А ты кричала на весь зал прилета про караул и про то, что мы забыли русский язык!
Я ничего не понимаю, но от звука голоса, который ретранслируется в памяти из глубин детства, начинаю улыбаться и тоже коверкаю привычный московский говор:
– А шо-таки случилось?
– Ну, как что? Мы только сошли с трапа, как перед нами возник огромный плакат, а там нашими буквами и на нашем языке написано вот так, – дядя Боря распахивает руки сначала в стороны, а потом поднимает их над головой. – Написано безразмерными бордовыми буквами: «А ТЫ ПОЛУЧИЛ ОСАГО В РОСНО?» Анечку чуть инфаркт не хватил. Ну, во-первых, мы ни черта не поняли. На каком это языке? А если на новом русском, то, во-вторых, мы точно ничего не получали, а пролететь тысячу километров без росны и осаги и вернуться в Тель-Авив в нашем возрасте из-за каких-то неизвестных бумажек уже не игрушки…
– Дядь Борь, не обращайте внимания! Это реклама! – я уже смеюсь в голос.
– Узнаю свою бывшую родину! Сначала человека напугать, а потом с него и посмеяться.
* * *
Такси нас дождалось, и я с любопытством и тревогой всматривалась в лица четы Беренштамов, пока мы по свежеотремонтированным дорогам добирались до свежепостроенного образцовопоказательного Южного Бутова… Лица у них были, мягко выражаясь, ошарашенные.
Глава 2
Рассказ тети Ани
А потом мы долго-долго пили чай на кухне новенькой квартиры моей мамы, пока утомленный перелетом и впечатлениями Борис Абрамович дремал под пледом на диване.
И вот что тетя Аня мне рассказала.
* * *
Это было в мае 1972 года, когда мы только самым близким родственникам поведали под строжайшим секретом о решении уехать в Израиль. И тут выяснилось, что у Бориной племянницы в Киеве осталась одиннадцатилетняя дочка – Клара. Идочка, племянница, скоропостижно умерла от рака. Что нам оставалось делать? Мы заплатили уйму денег, чтобы быстро переделать документы и удочерить ребенка.
Господи, Кларочке было всего одиннадцать лет. И она, в отличие от нас, жила полнокровной жизнью здорового ребенка, включающей в себя много-много всего: школу, друзей, балет, катание на коньках, гимнастику, страшно важную дворовую дружбу и т. д. При этом она пережила смерть мамы, впервые увидела нас, а добрые соседи-евреи, как мы, объяснили ей, что она «живет в коммунистической стране, которая совершенно непригодна для жизни людей», и что теперь ей нужно ехать в какой-то Израиль не пойми с кем. Честно говоря, смысла этих формулировок ни я, ни тем более она тогда не понимали, а о сути государства не задумывались вообще. Я лично хотела увидеть сына и внуков. Конечно, Борух от меня не скрывал, что посещает вместе с девочкой некие конспиративные встречи, на которых его учат отдельным фразам на иврите. Но мне казалось, что иврит был нужен им исключительно для того, чтобы быстрее пройти все формальности, а совсем не затем, чтобы когда-либо применить на практике язык нашей исторической родины. Я даже не могла представить, что где-то есть страны, в которых говорят на этом странном наречии, и есть люди, путешествующие вне границ Советского Союза.
Мне кажется, что в свои пятьдесят шесть лет я реально не встречала ни одного «живого» иностранца, кроме жены сына, да и ту видела только на фотографиях.
Нет, безусловно, я была образованной женщиной и легко могла назвать большинство столиц мира, связать их со странами, а страны – с континентами, но эти знания были чем-то абстрактным, никак не связанным с той моей настоящей запорожской жизнью. И, конечно же, в голове не укладывалось, что совсем скоро я смогу САМА увидеть совершенно невообразимый и очень книжно-газетный мир, ту же Вену или Тель-Авив. Известие о скором отъезде вызвало у меня буквально оцепенение. Как? Что? Стоит ли? Почему с девочкой? Как оно все ТАМ будет?
Боря мне на эти вопросы не отвечал. Добавь к этому строжайший запрет на то, чтобы обсудить наш отъезд с кем-либо, ни с одной живой душой…
Как выполнить это требование, когда тебе так радикально меняют жизнь? Как осознать, что через шесть коротких недель все наше запорожское и Кларочкино киевское имущество будет продано, а нас отвезут в аэропорт, чтобы посадить на борт самолета «Киев – Вена»?
Каждый человек, которого я знала почти всю свою жизнь, казалось, БЫЛ РЯДОМ ВСЕГДА. Никто НИКУДА не двигался, не уезжал. Самым серьезным потрясением для большинства являлся переезд из одной квартиры в другую. И даже этот переезд на соседнюю улицу был для большинства страшным стрессом, разрывом с привычной жизнью, старыми связями и друзьями. А тут такое!
Нужно было принять и понять, что в родной дом я не приеду вообще никогда. Никогда в жизни больше не увижу тебя, твою маму, Миру, не поздороваюсь с соседями, не поболтаю с друзьями, не войду в свою кондитерскую на Ленинском, которую я обожала, хотя частенько и поругивала вкус их булочек.
А девочка? Нет, Инночка, ты только представь! Кларочка потеряла маму. Но мама уходила так тяжело, что внезапное появление нас клином вышибло клин. Она закончила пятый класс. У нее были летние каникулы, и я никак не могла ей объяснить, что на следующее первое сентября все-все-все опять вернутся в ее класс, а ее самой в нем не будет. Я разговаривала с Кларой, представляя, что говорю с тобой. Но и из твоей жизни исчезнуть мне казалось невозможным. Для нее, ребенка, это все, все мои слова, были похожи на смерть. Если честно, то и для меня самой чуточку тоже. Ты умная девочка, любишь книги. Ты поймешь. Мне тогда показалось, что меня полностью сотрут со страниц книги жизни.
В аэропорту я тихо плакала, а Клара просто кричала. Горе было безутешным. Сказать «прощай» провожавшим нас малознакомым людям, соседям Клары, я не могла и все твердила сквозь слезы: «До свидания! До встречи!» Никаких особых деталей отъезда в памяти не сохранилось. Только устойчивое ощущение того, что мне было действительно очень плохо.
* * *
Несколько часов спустя мы приземлились в Вене и тут же были срочно отправлены в какое-то «безопасное» место в венском аэропорту под конвоем взволнованных людей в военной форме. Я ничего не понимала. Более того, даже мой Борух пребывал в растерянности. Мне как-то путано объяснили, что мы должны были стать «призом» для каких-то бандитов, но все обошлось.
Лишь несколько лет спустя я узна́ю о террористах и заложниках, прочту о событиях 8 мая 1972 года и рейсе № 572 от Брюсселя до Тель-Авива, о 99 пассажирах, о благородном Сайерете Маткале, который сумел под видом механика, обеспечивающего заправку самолета горючим, пробраться на борт, ликвидировать террористов и освободить людей.
Уже в Израиле мы узнаем о резне в аэропорту имени Бен-Гуриона в мае того же года, жертвами которой стали 26 погибших и 78 раненых. Мы услышим бесславное имя японского подданного Косо Окамото, ставшего позорным клеймом для всей демократичной Японии и одним из самых ярых террористов.
Но в день нашего прилета мы были озабочены только собственной судьбой и совсем не задумывались над тем, почему столь гостеприимен Запад? (Ведь с нами носились, как с самыми дорогими родственниками, по которым дико соскучились.) Мы не думали тогда, откуда взялась мода на защиту евреев от антисемитских и антиизраильских нападений.
Я помню, как нас этапировали за пределы Вены, в старинный и изолированный от внешнего мира замок Шуно, под неусыпным любезным надсмотром израильских коммандос и австрийской полиции. Нужно ли говорить, что при этом нас сопровождал полный информационный вакуум, компенсируемый уверениями в том, что все делается для нашего блага, для того чтобы мы не были похищены или убиты по пути на историческую родину.
Как показала история, такая сверхбдительность оказалась ненапрасной. И налет на поезд «Вена – Шуно» все-таки был совершен. Правда, год спустя после нашего оттуда отъезда, в сентябре 1973 года.
* * *
Однако я лучше опишу свои ощущения от того, что мне пришлось увидеть в Австрии.
С чего бы лучше начать?
Изумление – вот самое правильное слово! Просто какой-то эмоциональный коллапс на грани нервного срыва. Ты помнишь наше Запорожье? Вечно серое от «Запорожстали» небо и серый гранит сталинских зданий на нашем проспекте? Внезапно я поняла, что всю свою долгую жизнь я провела в сером городе. Точнее, в городе «серых». Серых зданий, серых улиц, серых автобусов и автомобилей, серых тканей и, главным образом, серых лиц. Все, что не являлось красками живой природы (травой, деревьями, цветами), было уныло серым. И вдруг, выйдя за пределы этого города, я внезапно увидела мир в полном его цветном великолепии, с миллионами мельчайших цветовых нюансов всех оттенков радуги.
Это состояние захватывает дух и одновременно тревожит. Нельзя резко вынырнуть из глубины моря на поверхность без риска заработать кессонную болезнь. При быстром, аварийном всплытии (каким был наш отъезд из Союза) требуется барокамера. Этой «барокамерой» стал старинный замок Шуно. Тоже серый, в силу своей древности, но уже с ощутимым мускусным запахом свободы. Мы провели в нем три дня, и теперь я понимаю, что трехдневная «адаптация» перед отъездом в Тель-Авив была очень мудрым шагом израильских властей, ведь она позволила постепенно стравить давление и не допустить у иммигрантов настоящего культурного и эмоционального шока.
Наконец, три дня спустя мы приземлились в аэропорту Тель-Авива. Встречающие задавали нам много смешных и бесполезных вопросов (смешных, потому что для нас они были просто китайской грамотой). Ну, например: где мы хотим жить, где планируем работать, какую именно часть Израиля мы предпочитаем? Не только я, но и Борух не могли ответить ни на один из них. Мы вообще-то уже были на пенсии и ни о какой работе даже не думали. Тем не менее я рискнула и сделала, как мне казалось, очень умный выбор в пользу городка с шикарным названием Арад, близ Беэр-Шевы. (В случае крайней необходимости почему-то все важные решения в нашей семье принимала именно я, а не Борис Абрамович.)
* * *
Арад оказался малюсеньким городком с населением всего 10 тысяч человек, расположенным в зоне полупустыни. Основной аргумент моего выбора заключался в том, что, прибыв из мегаполиса, а потом и из столицы, мы будем нуждаться в отдыхе и уединении. А что для этого подходит лучше, чем городишко с двумя улицами и единственным магазином? Тем более что там отличный сухой климат…
О, да! Арад был сух. Абсолютно, законченно сух. В этом были уверены все, кто обсуждал со мной варианты нашего дальнейшего проживания. Поэтому я никогда не забуду взгляд, которым наградил нашу новоиспеченную и странную семью агент иммиграции, убедившийся в том, что мой «роскошный» выбор места проживания окончательный и обсуждению не подлежит. Так смотрят на серьезно и неизлечимо душевнобольных людей, убежденных в своей правоте. Как поспоришь с психом? В этом взгляде были и жалость, и надежда, и недоверие, и полная растерянность.
Получив документы и договорившись о вызове такси, мы ступили из безразлично-прохладного, кондиционированного, а потому невкусного воздушного пространства аэропорта в самый настоящий июльский ад! Моим первым осознанным чувством было непреодолимое желание снова убежать в зону иммиграционного контроля и попросить там гуманитарного убежища. Я не знаю, какая была тогда температура? Тридцать градусов? Сорок? Выше? Добавьте к этому одуряюще сладкий запах цитрусовых и шумовой уровень улицы, многократно превышающий любые допустимые в день праздничного салюта децибелы, а также увиденную впервые в жизни толпу полуголых людей. (Пляжники они, что ли, все?) У нас дома так никто не одевался!
Неудивительно, что я потеряла способность говорить.
К счастью, нас выручил таксист. Он был доброй душой, этот улыбчивый старый еврей, заботливо усадивший нас в автомобиль, открывший настежь все окна и вручивший каждому по бутылке холодной минералки. Точнее, минеральную воду дали нам с Борухом, а Кларе досталась кола. Это была ее первая кола в жизни!
Я с огромным подозрением отнеслась к «черной воде», ее странному вкусу, цвету и предложила девочке незамедлительно выбросить непонятный напиток.
– Что если это наркотики или яд? – переживала я.
Ответ Клары был удивительным для одиннадцатилетнего ребенка:
– Мама Аня, ну, если бы таксист собирался меня отравить, зачем бы он выбрал такую подозрительную жидкость? Посмотри, какая яркая бутылка. Если ее внешний вид буквально кричит об опасности, то вкус, наверное, будет совершенно нейтральным. Попробуй сама!
Мы еще в Киеве договорились, что для того чтобы не было лишних вопросов, Клара будет называть нас мамой и папой. И я смело сделала свой самый первый глоток колы. Она была очень сладкой, игристой, бодрящей, пряной и резкой. Вкус мне одновременно очень понравился и вызвал легкую тошноту.
Это, пожалуй, стало первым заграничным осознанием того, что теперь в жизни мне будут встречаться не только однозначные вещи. В мире, помимо «хорошо-плохо», «вкусно-отвратительно», «красивоуродливо» существует нечто более сложное. И самый жгучий интерес вызывает именно эта дуальность вещей. Смакуя каждый маленький глоточек любопытного черного напитка, я, почти как маленькая Клара, раздумывала над этим внезапным открытием. Я ощущала себя Алисой в Стране чудес и отчаянно верила, что с этим волшебным напитком моя жизнь полностью изменится и будет абсолютно безоблачной и замечательной.
Однако… Не все так быстро. Очевидно, жизнь ни у кого изначально не планируется в виде удивительной сказки про Алису…
* * *
Спустя три часа непрерывного движения по местности, которую я, примерная зрительница всех выпусков передач «Клуб кинопутешествий» и «В мире животных», сразу опознала как зону пустынь, мы достигли того места, которое можно описать исключительно как оазис на поверхности Луны. Холмистая, иссушенная земля, известная путешественникам и просто любителям географии как Негев, плотно окружает Арад. Низкая растительность, сливающаяся по цвету с землей, практически неразличима. Песка нет. Земля более плотная, утрамбованная, лимонно-серая. Холмы невысоки и скруглены ветром. Пейзаж в точности повторяет лунные снимки, которые я видела в журналах. Среди этого лунного ландшафта возвышается несколько строений. Максимальное количество этажей, которые мне удалось насчитать в зданиях, не превышает шести. Архитектура однородна. Новые чистые стены, маленькие окна, закрытые перфорированной пластмассой. Тогда я еще не знала, что жалюзи и рольставни – это единственный способ сохранить в доме прохладу, укрывшись от палящего солнца.
В одном из таких домов, построенных в форме буквы «Г», нам предстояло жить. После долгого и утомительного путешествия надежда, наконец, очутиться «дома» и как минимум принять душ вызывала на наших лицах неисчезающие улыбки. Управдом по имени Ханна, которая передала нам ключи и провела первый ознакомительный инструктаж, была, вероятно, когда-то давно доброй и приветливой женщиной. Но долгие годы однообразной и трудной работы, постоянные придирки, требования и вопросы жильцов, а возможно, и какие-то личные неурядицы превратили ее к моменту нашего приезда в очень неприятного «робота» с автоматической гримасой-улыбкой.
Она проводила нас на второй этаж, показала квартиру, в которой нам теперь предстояло жить, и попутно сообщила, что внизу, на первом этаже, расположена столовая, где нас будут кормить по часам, строго три раза в день. Помимо этого, она отдала суровое распоряжение о том, что сразу же после завтрака мы обязаны незамедлительно приступить к занятиям. Нам предстояло изучать иврит и историю государства Израиль в другом крыле нашего здания. Опаздывать и пропускать уроки нельзя.
Именно в этот момент, глядя на растерянные лица Бори и маленькой Клары, я вдруг поняла, что мир окончательно перевернулся. Что в школу теперь будет ходить не одиннадцатилетняя племянница Боруха, но и мы, ее названные родители. А значит, мы с ней словно сравнялись в социальном положении. Мы стали равно взрослыми или равно детьми, что, собственно, безразлично.
