Читать онлайн Искусство памяти бесплатно
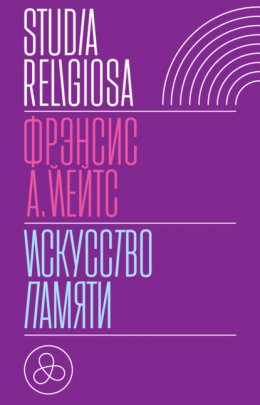
«Герметическое молчание». Ахилл Боккий, Symbolicarum quaestionum… libri quinque («Изыскания о символах… в пяти книгах»), Болонья, 1555. Гравюра Дж. Бонасоне
Предисловие
Предмет этого исследования незнаком большинству читателей. Лишь немногие знают, что греки, изобретатели всевозможных искусств, изобрели также и искусство памяти, которое, подобно другим, перешло к Риму и затем в европейскую традицию. Это искусство использовало технику запечатления в памяти неких «мест» и «образов». Обычно оно квалифицировалось как «мнемотехника» и в новые времена представлялось скорее весьма незначительной областью человеческой деятельности. Однако до изобретения книгопечатания хорошо развитая память имела жизненно важное значение, и манипуляции с памятными образами должны были так или иначе захватывать всю душу целиком. Кроме того, искусство, использующее современную ему архитектуру для подыскания памятных мест и современные образные средства для формирования образов, должно, подобно другим искусствам, иметь свой классический период, готику и Ренессанс. Мнемотехническая сторона этого искусства представлена и в античности, и в последующие времена и образует фактологическую основу для его исследования, однако такое исследование должно охватывать не только историю соответствующих технических приемов. Мнемозина, полагали греки, является матерью муз; история освоения этой самой фундаментальной и трудноуловимой человеческой способности погружает нас в гораздо более глубокие воды.
Я начала задумываться об этом около пятнадцати лет назад, когда была полна надежд разобраться в работах Джордано Бруно о памяти. Система памяти, извлеченная из «Теней» Бруно (ил. 11), впервые была рассмотрена в лекции, прочитанной в Институте Варбурга в мае 1952 года. Спустя почти три года, в январе 1955-го, тоже на лекции в Институте Варбурга, был представлен план Театра памяти Джулио Камилло (см. Приложение). К тому времени мне стало ясно, что существует историческая связь между Театром Камилло, системами Бруно и Кампанеллы и театральной системой Роберта Фладда, которые, хотя и очень поверхностно, были сопоставлены в новой лекции. Вдохновленная наметившимся прогрессом, я принялась писать историю искусства памяти начиная с Симонида. Эта стадия исследования отражена в статье «О Цицероновом искусстве памяти», опубликованной в Италии, в альманахе, посвященном памяти Бруно Нарди (Medioevo e Rinascimento, Florence, 1955).
После этого возникла довольно долгая пауза, обусловленная следующим затруднением: я никак не могла понять, что случилось с искусством памяти в средние века. Почему Альберт Великий и Фома Аквинский считали использование в памяти «Туллиевых» мест и образов моральной и религиозной обязанностью? Слово «мнемотехника» не подходило для схоластической трактовки искусства памяти как составного элемента кардинальной добродетели благоразумия. Постепенно родилась догадка, что средние века воспринимали изображения добродетелей и пороков как памятные образы, выстроенные по классическим правилам, а круги дантовского Ада – как места памяти. Попытка ухватить суть средневековых преобразований искусства памяти была предпринята в двух лекциях: «О классическом искусстве памяти», прочитанной в Оксфордском обществе медиевистов в марте 1958, и «О риторике и искусстве памяти» – в Институте Варбурга в декабре 1959 года. Эти лекции частично использованы в четвертой и пятой главах.
Оставалась наиболее значительная проблема – проблема магических, или оккультных, ренессансных систем памяти. Если изобретение книгопечатания сделало излишними великие готические системы искусной памяти средних веков, то чем объяснить новую вспышку интереса к искусству памяти, принявшему столь странные формы, в ренессансных системах Камилло, Бруно и Фладда? Я вернулась к исследованию Театра памяти Джулио Камилло и поняла, что стимулом для ренессансной оккультной памяти являлась герметическая ренессансная традиция. Стало также очевидно, что, прежде чем браться за ренессансные системы памяти, нужно провести исследование этой традиции. Посвященные Ренессансу главы предлагаемой книги основываются на моей работе «Джордано Бруно и герметическая традиция» (London & Chicago, 1964).
Сначала мне казалось, что луллизм лучше оставить за пределами моей книги и рассмотреть его отдельно, но вскоре выяснилось, что это невозможно. Хотя луллизм, в отличие от классического искусства памяти, происходит не из риторической традиции и хотя в нем используются совсем иные процедуры, в одном из своих аспектов он все же является искусством памяти и в этом качестве в эпоху Ренессанса объединяется и смешивается с классическим искусством. Представленное в восьмой главе истолкование луллизма основано на моих статьях «Искусство Раймунда Луллия в контексте Луллиевой теории стихий» и «Раймунд Луллий и Иоанн Скот Эриугена» (Журнал Института Варбурга и Курто, XVI, 1954 и XXIII, 1960).
Современных книг об истории искусства памяти на английском языке нет, ей посвящены лишь немногие статьи и книги на других языках. Когда я приступала к своему исследованию, я могла опереться лишь на несколько старых монографий на немецком и сравнительно недавние немецкие исследования Х. Хайду (1936) и Л. Фолькмана (1937) (развернутые ссылки см. на с. 145). В 1960 году была опубликована книга Паоло Росси Clavis universalis («Универсальный ключ»). Этот труд, написанный на итальянском, представляет собой серьезное исследование по истории искусства памяти; в нем в большом объеме воспроизводится материал источников и обсуждаются Театр Камилло, сочинения Бруно, луллизм и многое другое. Исследование Росси оказало мне очень большую помощь, особенно в освещении XVII столетия, хотя в нем преследуются совершенно иные цели, чем в моей книге. Я сверялась также с большим количеством статей Росси и со статьей Чезаре Вазоли (ссылки см. на с. 145, 242, 254). Среди других работ, которые я использовала, можно упомянуть каплановское издание Ad Herennium (1954), книги «Логика и риторика в Англии, 1500–1700» У. С. Хауэлла (1956), «Рамус» и «Метод и угасание диалога» (1958) У. Дж. Онга, «Английское монашество и античность» Берил Смолли (1960).
Хотя в этой книге я опираюсь на обширный задел предшествующей, все же она представляет собой новое исследование, которое я переписывала и дополняла два последних года. Многое из того, что было неясно, вроде бы обрело более четкие очертания, в частности связь искусства памяти с луллизмом и рамизмом, а также происхождение «метода». Кроме того, быть может, наиболее увлекательная часть этой книги оформилась лишь совсем недавно благодаря осознанию того обстоятельства, что Фладдова система Театров памяти способна пролить свет на загадку шекспировского «Глобуса». Воображаемая архитектура искусной памяти сохранила память о реальном, хотя и давно исчезнувшем здании.
Как и «Джордано Бруно и герметическая традиция», предлагаемая книга стремится указать исторический контекст для Бруно, но также дает и общий обзор всей традиции. Прослеживая историю памяти, она пытается, в частности, осветить природу того влияния, которое Бруно оказал на елизаветинскую Англию. Я стремилась проложить путь в до сей поры пустынной местности, но на каждом этапе созданный образ нужно было дополнять или корректировать дальнейшими изысканиями. Здесь открывается чрезвычайно богатое поле исследования, требующее сотрудничества специалистов в различных дисциплинах.
Теперь, когда книга о Памяти наконец завершена, память о покойной Гертруде Бинг становится горькой, как никогда прежде. Она читала и обсуждала со мной мои черновики, была внимательна к моим успехам и неудачам, то вдохновляла меня своим искренним участием, то остужала мой пыл бдительной критикой. Она чувствовала, что проблемы ментального образа, оживления образов, схватывания реальности посредством образов – проблемы, актуальные для всей истории искусства памяти, – были близки вопросам, занимавшим Эби Варбурга, с которым я познакомилась только благодаря ей. Оправдала ли эта книга ее ожидания, мне уже не узнать. Она не увидела даже первых трех глав, которые я собиралась послать ей как раз перед тем, как болезнь забрала ее. Свою книгу я посвящаю ее памяти с глубокой благодарностью за ее дружбу.
Как всегда, особую признательность я выражаю своим коллегам и друзьям по Варбургскому институту Лондонского университета. Директор, Э. Х. Гомбрич, своим пристальным вниманием поощрял мою работу, которая многим обязана его мудрым советам. Кажется, именно благодаря ему в моих руках впервые оказалась L’ Idea del Theatro («Идея Театра») Джулио Камилло. Неоценимую услугу оказали мне дискуссии с Д. П. Уокером, знатоком многих аспектов эпохи Ренессанса. Он просматривал мои ранние наброски, а также прочел всю книгу в рукописи, любезно исправив некоторые места из моих переводов. С Дж. Трэппом я обсуждала риторическую традицию, и наши беседы были для меня источником библиографических сведений. Некоторыми проблемами из области иконографии я делилась с Л. Эттлингером.
Сотрудники всех библиотек, где я работала, проявили бесконечное терпение к предпринятому мной разысканию нужных книг. Весь штат фотографического отдела был не менее терпелив к моим поискам фотографий манускриптов и гравюр.
За поддержку в изучении системы Луллия я приношу благодарность Дж. Хиллгарту и Р. Принг-Миллу, а знатоку искусства памяти Элспет Яффе – за состоявшиеся между нами беседы.
Моя сестра, Р. У. Йейтс, читала главы этой книги по мере их написания. Ее отзывы были для меня самым ценным ориентиром, а точные советы – неоценимой помощью в работе над редактурой. Своим неизменным добрым юмором она оказывала мне неустанную поддержку. Кроме того, она помогала мне составлять планы и делать наброски: она нарисовала план Театра Камилло и, опираясь на Фладда, сделала набросок шекспировского «Глобуса». Предложенный здесь план «Глобуса» – во многом именно ее работа. На протяжении многих недель увлекательной совместной работы мы делили с ней волнение, охватывавшее нас во время реконструкции «Глобуса» по Фладду. Сестре я должна выразить свою особую благодарность.
Я постоянно пользовалась услугами Лондонской библиотеки, сотрудникам которой глубоко признательна. Само собой разумеется, что то же самое я должна сказать и в адрес сотрудников библиотеки Британского музея. Я также благодарна сотрудникам библиотеки Бодли, Кембриджской университетской библиотеки, библиотеки Эммануил-колледжа в Кембридже, а также зарубежным библиотекам: Национальной библиотеке Флоренции, библиотеке св. Амвросия в Милане, Национальной библиотеке Парижа, Ватиканской библиотеке в Риме и библиотеке св. Марка в Венеции.
Директорам Национальной библиотеки Флоренции, Баденской земельной библиотеки в Карлсруэ, Австрийской национальной библиотеки в Вене, библиотеки Казанате в Риме, а также швейцарским владельцам картины Тициана я признательна за любезно предоставленную возможность получить репродукции миниатюр и картин, находящихся в их распоряжении.
Фрэнсис Йейтс Институт Варбурга,Лондонский университет
Глава I
Три латинских источника классического искусства памяти 1
На пиру, устроенном фессалийским аристократом по имени Скопас, поэт Симонид Кеосский исполнил лирическую поэму в честь хозяина, включавшую фрагмент, в котором восхвалялись также Кастор и Поллукс. Скопас, по скаредности своей, объявил поэту, что выплатит ему за панегирик только половину условленной суммы, а недостающее ему надлежит получить у тех божественных близнецов, которым он посвятил половину поэмы. Спустя некоторое время Симонида известили о том, что двое юношей, желающих его видеть, ожидают у дверей дома. Он оставил пирующих, но, выйдя за дверь, никого не обнаружил. Во время его недолгого отсутствия в пиршественном зале обвалилась кровля, и Скопас со всеми своими гостями погиб под обломками; трупы были изуродованы настолько, что родственники, явившиеся, чтобы извлечь их для погребения, не могли опознать своих близких. Симонид же запомнил место каждого за столом и поэтому смог указать ищущим, кто из погибших был их родственником. Невидимые посетители, Кастор и Поллукс, щедро заплатили за посвященную им часть панегирика, устроив так, что Симониду удалось покинуть пир перед катастрофой. В этом событии поэту раскрылись принципы искусства памяти, почему о нем и говорится как об изобретателе этого искусства. Заметив, что, именно удерживая в памяти места, на которых сидели гости, он смог распознать тела, Симонид понял, что для хорошей памяти самое важное – это правильное упорядочение.
Он пришел к выводу, что желающим развить эту способность (памяти) нужно подобрать места и сформировать мысленные образы тех вещей, которые они хотят запомнить, и затем расположить эти образы на местах, так что порядок мест будет хранить порядок вещей, а образы вещей будут обозначать сами вещи, и мы станем использовать эти места и образы, соответственно, как восковые таблички для письма и написанные на них буквы2.
Эту удивительную историю о том, как Симонид изобрел искусство памяти, Цицерон рассказывает в сочинении De oratore («Об ораторе»), когда ведет речь о памяти как об одной из частей риторики. Рассказ содержит краткое описание мнемонических мест и образов (loci и imagines), которые использовались римскими риторами. Два других описания классической мнемоники, кроме приводимого Цицероном, дошли до нас также в риторических трактатах, где память рассматривается как часть риторики; одно из них содержится в анонимном сочинении Ad C. Herennium libri IV («К Гаю Гереннию, в четырех книгах»); другое – в Institutio oratoria («Наставления в ораторском искусстве») Квинтилиана.
Первое, что должен запомнить изучающий историю классического искусства памяти, – это то обстоятельство, что оно находится в ведении риторики в качестве техники, используя которую оратор мог бы усовершенствовать свою память и с неизменной аккуратностью произносить наизусть пространные речи. И именно как часть риторического искусства искусство памяти сохранялось в европейской традиции, которая никогда, по крайней мере, до сравнительно недавних времен, не забывала, что древние, эти верные наставники во всякой человеческой деятельности, разработали правила и предписания для усовершенствования памяти.
Общие принципы мнемоники усвоить нетрудно. Первым шагом было запечатление в памяти ряда мест (loci). Наиболее распространенным, хотя и не единственным типом, применявшимся в системах мнемонических мест, был архитектурный тип. Яснее всего этот прием изложен в описании Квинтилиана3. Для того чтобы сформировать в памяти ряд мест, говорит он, нужно вспомнить какое-нибудь здание, по возможности более просторное и состоящее из самых разнообразных помещений – передней, гостиной, спален и кабинетов, – не обходя вниманием статуи и другие детали, которыми они украшены. Образы, которые будут помогать нам вспоминать речь (в качестве примера таких образов, говорит Квинтилиан, можно привести якорь или меч), располагаются затем в воображении по местам здания, которые были запечатлены в памяти. Теперь, как только потребуется оживить память о фактах, следует посетить по очереди все эти места и востребовать у их хранителей то, что было в них помещено. Нам следует представить себе этого античного оратора мысленно обходящим выбранное им для запоминания здание, пока он произносит свою речь, извлекая из запечатленных в памяти мест образы, которые он в них расположил. Этот метод гарантирует, что все фрагменты речи будут воспроизведены по памяти в правильном порядке, поскольку этот порядок фиксируется последовательностью мест внутри здания. Квинтилиановы примеры образов, якорь и меч, позволяют предположить, что предметом речи в одном случае были вопросы мореплавания (якорь), а в другом – военные действия (меч).
Несомненно, этот метод будет полезен каждому, кто всерьез намерен заняться такой мнемонической гимнастикой. Я никогда не испытывала себя в этом деле, но мне рассказывали об одном профессоре, который зачастую развлекал на вечеринках своих студентов тем, что просил каждого назвать какой-нибудь предмет; один из присутствовавших записывал эти предметы в том порядке, в каком они были названы. Спустя некоторое время профессор вызывал всеобщее изумление, воспроизводя по памяти весь список предметов в правильном порядке. Он творил это маленькое чудо памяти, мысленно помещая эти предметы, в порядке их называния, на подоконник, на письменный стол, в корзину для мусора и т. д. Затем, словно следуя совету Квинтилиана, он обходил эти места и извлекал то, что было в них помещено. Никогда не слыхав о классической мнемонике, он открыл для себя эту технику совершенно самостоятельно. Если бы он направил свои усилия на закрепление каких-либо понятий за объектами, припоминаемыми на своих местах, он мог бы вызвать еще большее изумление, читая по памяти свои лекции, как классический оратор – свои речи.
Хотя очень важно сознавать, что классическое искусство основано на эффективных мнемотехнических принципах, может возникнуть иллюзия, что, назвав его «мнемотехникой», мы выразили самую его суть. Может показаться, что классические источники описывают некие внутренние техники, которые предполагают почти невероятную интенсивность зрительных впечатлений. Цицерон подчеркивает, что изобретение Симонидом искусства памяти основывалось не только на выявлении того значения, которое имеет для памяти порядок, но и на отдании предпочтения зрению как наиболее сильному из наших чувств.
Прозорливый Симонид подметил, или же это было открыто кем-либо другим, что наиболее совершенные образы возникают в наших умах для тех вещей, которые были переданы им и запечатлены в них чувством, но самое острое из всех наших чувств – чувство зрения, и, следовательно, восприятия, полученные при помощи слуха или благодаря размышлению, могут быть легче всего сохранены, если они также переданы нашим умам посредством зрения4.
Слово «мнемотехника» вряд ли способно передать, что представляла собой Цицеронова искусная память, когда она двигалась среди строений древнего Рима, видя различные места, видя образы, помещенные в этих местах, и обладая при этом острым внутренним зрением, которое сразу передавало устам оратора мысли и слова его речи. Я предпочитаю называть все это «искусством памяти».
В своей жизни и профессиональной деятельности мы, современные люди, вообще обладающие слабой памятью, можем, подобно вышеупомянутому профессору, использовать время от времени какую-нибудь собственную мнемотехнику, не имеющую для нас жизненной значимости. Но в древнем мире, незнакомом с книгопечатанием, не имевшем бумаги для записи и тиражирования лекций, развитая память имела жизненно важное значение. И древние развивали свою память в искусстве, которое представляло собой отражение искусства и архитектуры древнего мира. Это искусство основывалось на возможностях острой зрительной памяти, ныне нами утраченных. Слово «мнемотехника», в целом верное для описательной характеристики классического искусства памяти, делает этот загадочный предмет более простым, чем он есть на самом деле.
Где-то между 86 и 82 годами до н. э. неизвестный римский учитель риторики5 составил пособие для своих учеников, обессмертившее не его собственное имя, но имя человека, которому оно было посвящено. Несколько удручает то обстоятельство, что у этого труда, жизненно важного для истории классического искусства памяти, труда, на который я буду постоянно ссылаться в этой своей книге, не сохранилось никакого другого названия, кроме мало что говорящего нам Ad Herennium. Хорошо знающий свое дело преподаватель пробегает по пяти частям риторики – нахождение, расположение, выражение, запоминание, произнесение (inventio, dispositio, elocutio, memoria, pronuntiatio) – в несколько суховатой манере, каковая и подобает при составлении пособий. Переходя к запоминанию6 как к существенной составляющей ораторского искусства, он начинает свое изложение словами: «Теперь обратимся к сокровищнице находок, хранительнице всех частей риторики – к памяти». Существуют два вида памяти, продолжает он, – естественная и искусная. Естественная память, присущая нашему уму, рождается одновременно с мыслью. Искусная память – это память развитая и укрепленная упражнением. Хорошая естественная память может быть улучшена благодаря тренировке, а люди менее одаренные могут укрепить свою слабую память, если обратятся к искусству.
После этого краткого вступления автор сразу же заявляет: «Далее мы будем говорить об искусной памяти».
Вес необъятного исторического прошлого ощущается в посвященном памяти разделе Ad Herennium. Раздел этот основан на греческих руководствах по искусству памяти, возможно, содержавшихся в греческих риторических трактатах, из которых ни один не дошел до нас. Это единственный латинский труд, посвященный искусству памяти, поскольку замечания Цицерона и Квинтилиана не представляют собой завершенных трактатов и предполагают, что читатель уже знаком с искусной памятью и соответствующей терминологией. Таким образом, это и в самом деле основной и единственный завершенный трактат по искусству памяти как в греческом мире, так и в латинском. Уникальна по своей значимости и его роль в передаче классического искусства средним векам и Ренессансу. Ad Herennium был хорошо известен и широко использовался в средние века, и был особо почитаем в ту эпоху, поскольку приписывался Цицерону. Поэтому бытовала вера, что содержавшиеся в нем наставления в искусной памяти были предложены самим «Туллием».
Короче говоря, все попытки разобраться в том, чтó представляло собой классическое искусство памяти, должны основываться на посвященном памяти разделе Ad Herennium, как и попытки проследить историю западной традиции этого искусства, предпринимаемые в нашей книге, должны постоянно соотноситься с текстом этого трактата как с основным источником традиции. В каждом сочинении, посвященном ars memorativa, содержащем правила «мест», правила «образов», рассуждения о «памяти для вещей» и «памяти для слов», повторяется общий план, воспроизводится предметное содержание, а нередко и дословный текст Ad Herennium. И в удивительной истории развития памяти в XVI столетии, которая является основным предметом исследования этой книги, под всеми позднейшими напластованиями все же проступают контуры этого трактата. Даже самый необузданный полет фантазии, как, например, в De umbris idearum Дж. Бруно, не может скрыть того факта, что ренессансный философ всякий раз обращается к старым добрым правилам мест, правилам образов, к памяти для вещей, к памяти для слов.
Очевидно поэтому, что на нас возложена отнюдь не простая задача – попробовать разобраться в том разделе Ad Herennium, где рассматривается память. Эта задача непроста, потому что учитель риторики обращается не к нам, он не намерен объяснять, чтó представляла собой искусная память, людям, которые ничего в ней не смыслят. Он обращается к своим ученикам, собиравшимся вокруг него около 86–82 годов до н. э. и понимавшим, о чем он говорил. Ему нужно было лишь кратко изложить правила, а как их применять, ученикам было известно. Мы находимся в иной ситуации, и нас зачастую озадачивает то, сколь странно звучат некоторые из этих правил.
Ниже я попытаюсь передать содержание посвященного памяти раздела Ad Herennium, придерживаясь оригинальной манеры автора, но делая небольшие отступления, чтобы поразмыслить над тем, что он нам сообщает.
Искусная память состоит из мест и образов (Constat igitur artificiosa memoria ex locis et imaginibus) – классическое определение, повторяемое из века в век. Locus – это место, легко удерживаемое памятью, например дом, пространство между колоннами, угол, арка и т. п. Образы – это формы, знаки или подобия (formae, notae, simulacra) того, что мы желаем запомнить. Например, если мы хотим запомнить лошадь, льва или орла, мы должны поместить в определенные места их образы.
Искусство памяти подобно внутреннему письму. Тот, кто знает буквы алфавита, может записать продиктованное ему и прочесть то, что записано. Точно так же тот, кто изучил мнемотехнику, может расставить по местам услышанное им и затем воспроизвести это по памяти. «Ибо места весьма подобны восковым табличкам или папирусу, образы – буквам, упорядочение и расположение образов – письму, а произнесение речи – чтению».
Если потребуется запомнить некий обширный материал, нам нужно будет приготовить достаточное количество мест. Важно при этом, чтобы места образовывали ряды и чтобы они запоминались по порядку; тогда мы сможем, начав с любого locus в данном ряду, двигаться в прямом или обратном направлении от этого места. Если бы мы увидели нескольких наших знакомых, выстроившихся в ряд, для нас не было бы никакой разницы, начинать ли перечисление их имен с первого или с последнего по порядку, или со стоящего в середине. Так же обстоит дело с запоминанием loci. «Если они были расставлены по порядку, мы сможем, вспоминая образы, воспроизвести в речи то, что было помещено в loci, двигаясь из любого locus в угодном нам направлении».
Формирование мест чрезвычайно важно, поскольку один и тот же их набор может многократно использоваться при запоминании различного материала. Образы, которые мы разместили в loci для запоминания определенного ряда вещей, стираются и блекнут, если мы больше ими не пользуемся. Но места остаются в памяти и могут быть вновь использованы при размещении другого ряда образов, относящихся к другому материалу. Loci подобны восковым табличкам, которые сохраняются, после того как стерлось написанное на них, и могут быть пригодны для повторного употребления.
Чтобы удостовериться, что мы не допускаем ошибок при припоминании порядка мест, полезно помечать каждый пятый locus особым отличительным знаком. Пятый locus можно пометить, например, образом золотой ладони, а в десятом разместить образ кого-либо из наших знакомых по имени Децим. Тогда на каждое последующее пятое место мы сможем ставить другие знаки.
Loci для своей памяти лучше всего формировать в пустынных и уединенных местах, ибо компании гуляк мешают запечатлению. Поэтому адепт искусства, желающий подобрать четкие и определенные loci, выберет для запоминания мест какое-нибудь не слишком часто посещаемое здание.
Loci памяти не должны быть чрезмерно однообразными, например, не следует злоупотреблять слишком частым использованием межколонных пространств, ибо их взаимное сходство приведет к путанице. Места должны быть не слишком велики, чтобы помещенные в них образы не терялись из виду, и не слишком малы, чтобы образы их не переполняли. На них не должен падать чересчур яркий свет, чтобы помещенные в них образы не отсвечивали и не ослепляли своим блеском; они не должны быть также слишком затемнены, чтобы тень не скрывала образы. Промежутки между loci также должны быть умеренно велики, примерно около тридцати футов, «ибо как внешний глаз, так и внутренний глаз мысли теряет свою силу, если вы слишком приблизили либо чересчур отдалили рассматриваемые предметы».
Человек с достаточно широким опытом легко сможет найти для себя столько подходящих loci, сколько пожелает, а тот, кому покажется, что он не располагает нужным их количеством, может поправить положение. «Ибо мысль может охватить любую область, какой бы она ни была, и создать в ней по своему усмотрению место для какого-нибудь предмета». (То есть мнемоника может использовать и те места, которые впоследствии были названы «придуманными» в противоположность «реальным местам» традиционного метода.)
Закончив изложение правил для мест, мне хотелось бы отметить, что больше всего меня поражает необычайная точность зрительного восприятия, какой они требуют. В классической трактовке искусной памяти расстояние между loci может быть измерено, учитывается также и степень их освещенности. В этих правилах предъявлен позабытый ныне способ видения. Кто же этот человек, медленно проходящий по опустевшему зданию и останавливающийся время от времени с выражением задумчивости на лице? Это начинающий ритор, занятый подбором ряда loci для своей памяти.
«О местах было сказано достаточно, – продолжает автор Ad Herennium, – обратимся теперь к теории образов». Далее следуют правила для образов, первое из которых гласит, что существуют два вида образов: один – для «вещей» (res), другой – для «слов» (verba). Это означает, что память для вещей использует образы, напоминающие о каком-либо доводе, понятии или «вещи», а память для слов подбирает образы, позволяющие вспомнить каждое отдельное слово.
Здесь я ненадолго прерву поспешающего автора, чтобы напомнить читателю, что для студента-ритора «вещи» и «слова» были абсолютно точно определены в своем значении при пятичастном делении риторики. Эти пять частей устанавливаются Цицероном в следующем порядке:
Нахождение есть отыскание вещей (res) истинных или подобных истинным, чтобы причина их представлялась правдоподобной; расположение есть упорядочение открытых таким образом вещей; выражение есть приспособление подходящих слов к найденным (вещам); запоминание есть надежное восприятие в душе вещей и слов; произнесение есть приведение голоса и тела в соответствие с достоинством вещей и слов7.
Таким образом, «вещи» – это предметное содержание речи, «слова» же – это язык, в который это предметное содержание облечено. Испытываете ли вы нужду в искусной памяти только для того, чтобы запомнить порядок следования понятий, доводов, «вещей», из которых складывается ваша речь? Или вы стремитесь в нужном порядке запомнить каждое слово? Первая из упомянутых разновидностей памяти есть memoria rerum; вторая – memoria verborum. Следуя определению, данному Цицероном в приведенном фрагменте, идеалом было бы иметь в душе «надежное восприятие» как вещей, так и слов. Но «память для слов» значительно более трудоемка, чем «память для вещей»; очевидно, начинающие риторы из той слабосильной братии, для которой автор Ad Herennium составил это пособие, с большим трудом удерживали в памяти образы для отдельных слов, да и сам Цицерон, как мы позднее увидим, признавал, что можно удовольствоваться одной лишь «памятью для вещей».
Вернемся к правилам образов. Нам уже были предложены правила мест: какие именно места следует подбирать для запоминания. Каковы же правила, определяющие выбор образов, которые следует располагать в этих местах памяти? Мы приближаемся сейчас к одному из самых любопытных и удивительных мест трактата, где автор приводит психологические основания выбора мнемонических образов. Почему оказывается, спрашивает он, что одни образы столь ярки и отчетливы, столь пригодны для пробуждения памяти, в то время как другие столь слабы и немощны, что вообще вряд ли могут воздействовать на нее? Мы должны разобраться в этом, чтобы узнать, какие образы следует отвергать, а к каким – стремиться.
Ибо природа сама учит нас тому, что мы должны делать. Видя в повседневной жизни ничем не примечательные, обыкновенные, банальные вещи, мы вообще не запоминаем их, потому что наш ум не побуждается к этому чем-либо новым или чудесным. Но если мы видим или слышим что-то чрезвычайно необычное, подлое, бесчестное, великое, невероятное или смешное, мы, скорее всего, надолго это запомним. Мы также часто забываем вещи, привычные для наших ушей и глаз, но, как правило, лучше всего помним события нашего детства. И причина этого заключается не в чем ином, как в том, что привычные вещи с легкостью ускользают из памяти, в то время как все новое и захватывающее дольше сохраняется в уме. Восход солнца, его движение по небосводу и закат ни для кого не удивительны, потому что повторяются изо дня в день. Но солнечные затмения вызывают изумление, потому что случаются редко, и на самом деле они более чудесны, чем лунные, которые гораздо более часты. Таким образом, природа сама показывает, что она пробуждается не обыкновенными событиями, а новыми и захватывающими происшествиями. Так пусть же искусство подражает природе, находит то, к чему она стремится, и следует в том направлении, которое она указывает. Ибо для нахождения природа вовсе не последнее дело, а образованность – не первое; начала вещей возникают, скорее, из природного таланта, а завершение их достигается благодаря дисциплине.
Мы должны, следовательно, обеспечить себя такими образами, которые могут дольше всего удерживаться в памяти. Так мы и будем поступать, устанавливая по возможности наиболее выразительные подобия: располагая по местам не бледные и маловыразительные образы, а активные (imagines agentes), пусть и не столь многочисленные; наделяя их невиданной красотой или отвратительным уродством, увенчивая некоторые из них короной или облачая в пурпурную мантию, чтобы подобие стало более заметным для нас; или как-нибудь искажая их, используя, к примеру, образы, запятнанные кровью, перепачканные грязью или красной краской, чтобы их вид производил более необычное впечатление; или сопровождая образы неким комическим эффектом, ибо это также облегчит нам их припоминание. Те вещи, которые мы легко припоминаем, когда они реальны, мы также без труда припомним и в том случае, когда они будут представлять собой лишь вымысел. Но главное – снова и снова обегать в памяти все начальные места, чтобы освежить помещенные в них образы8.
Наш автор, очевидно, придерживается той точки зрения, что припоминанию помогает пробуждение эмоциональных аффектов благодаря воздействию этих поразительных и необычных образов, прекрасных и отвратительных, комичных и непристойных. Ясно также, что он имеет в виду образы людей, человеческие фигуры, увенчанные короной или облаченные в пурпурную мантию, запятнанные кровью или запачканные краской, образы людей, страстно вовлеченных в какую-либо деятельность. Мы оказываемся в каком-то удивительном мире, когда обходим его места вместе со студентом-ритором и представляем себе на этих местах столь необычные образы. Квинтилиановы образы памяти, якорь и меч, хотя и намного менее удивительны, зато более доступны пониманию, чем та населенная таинственными обитателями память, с которой знакомит нас автор Ad Herennium.
Одна из многочисленных трудностей, с которыми сталкивается историк искусства памяти, состоит в том, что чаще всего трактат, посвященный ars memorativa, хотя и стремится изложить его правила, редко приводит примеры конкретного применения этих правил, иными словами, редко предоставляет вниманию читателя систему мнемонических образов, расставленных по своим местам. Эта традиция берет начало от самого автора Ad Herennium, который заявляет, что обязанности наставника в мнемоническом искусстве состоят в том, чтобы преподать метод создания образов, привести несколько примеров и затем побудить ученика к созданию собственных образов. Предлагая «введение», говорит он, учитель не обязан составлять особые введения для тысячи различных случаев и требовать от ученика заучивать их наизусть; он преподает ему метод, после чего ученик должен положиться на собственную изобретательность. Так следует поступать и при обучении мнемоническим образам9. Этот наставнический принцип замечателен, хотя можно и пожалеть о том, что он не позволяет автору показать нам всю последовательность, всю галерею удивительных и необычных imagines agentes. Нам придется довольствоваться тремя примерами, описание которых он приводит.
Первым идет пример образа «памяти для вещей». Представим себе, что мы выступаем в качестве защитника на судебном процессе. «По словам обвинителя, подзащитный отравил свою жертву ядом; можно предположить, что мотивом преступления было стремление получить наследство; имеется также множество свидетелей и соучастников этого преступления». Мы формируем систему памяти применительно ко всему этому делу и хотим поместить в первый locus нашей памяти какой-нибудь образ, который напоминал бы обвинение, выдвинутое против нашего клиента. Допустим, такой:
Если мы лично знали человека, о котором идет речь, представим его больным и лежащим в постели. Если же мы не были знакомы с ним, выберем кого-нибудь на роль нашего больного, только не человека из низших слоев, чтобы мы могли сразу его вспомнить. У края постели мы поместим подзащитного, держащего в правой руке кубок, в левой – восковые таблички, а на безымянном пальце этой руки – бараньи яички. Благодаря этому образу мы запомним, что человек был отравлен, что тому есть свидетели и что причиной была возможность получения наследства10.
Кубок напоминал бы об отравлении, таблички – о завещании или наследстве, а бараньи яички (testiculi, по созвучию с testes) – о свидетелях. Больной должен напоминать или самого отравленного, или кого-либо другого, с кем мы знакомы (но не из среды безликих низших классов). В последующие loci мы поместили бы остальные части обвинения или другие подробности рассматриваемого случая и, правильно запечатлев в памяти эти места и образы, с легкостью вспомнили бы любое обстоятельство дела, к которому захотели бы вернуться.
Итак, перед нами пример классического образа памяти, составленного из человеческих фигур – деятельных, страстных, интригующих – и оснащенного деталями, которые позволяют вспомнить всю «вещь», запечатленную в памяти. Но хотя все тут будто бы разъяснено, я все же испытываю сомнения в действенности этого образа. Кажется, что, как и многое из того, что говорится в Ad Herennium о памяти, он отсылает нас к миру, который либо вообще непостижим, либо не стал еще вполне для нас понятным.
В этом примере автор заботится не о припоминании речей, уместных в разбираемом случае, а о записи подробностей, или «вещей», связанных с ним. Все выглядит так, словно какой-нибудь юрист составляет в памяти картотеку подобных дел. Приведенный факт помещен как ярлык в самом начале этой картотеки памяти, где хранятся сведения о человеке, обвиненном в отравлении. Юрист хочет отыскать что-либо, относящееся к данному случаю, и обращается к составленному им образу, в котором этот случай запечатлен, а за этим образом, в последующих местах, находит все остальное. Если такая интерпретация, вообще говоря, корректна, искусная память могла использоваться не только для запоминания речей, но и для хранения массы самого разнообразного материала, который можно было по желанию найти в любое время.
Слова Цицерона, описывающего в De oratore преимущества искусной памяти, могут служить подтверждением этой интерпретации. Только что он говорил, что места хранят порядок фактов, а образы обозначают сами факты, и что мы пользуемся местами и образами как восковыми табличками для письма и написанными на них буквами. «Но к чему мне, – продолжает он, – говорить об особом значении памяти для оратора, о ее пользе и действенности; о значении удержания в памяти сведений, полученных вами, когда вам было поручено данное дело, и того мнения, которое вы сами составили о нем; о пользе прочной укорененности идей в вашем уме и искусного упорядочения всего вашего словарного запаса, об уделении столь пристального внимания поручениям вашего доверителя и речи противной стороны, на которую вам предстоит отвечать, как если бы они не слуху вашему сообщали свои речи, но запечатлевали их прямо в вашем уме? Ведь только люди, обладающие мощной памятью, знают, чтó именно они собираются сказать, как долго они намерены говорить и в каком стиле, на какие пункты обвинения они уже дали ответ и какие еще остались; они могут привести также многие аргументы, которые выдвигали в прежних делах, и те, о которых слышали от других людей»11.
Нам открываются здесь удивительные возможности памяти, и, по свидетельству Цицерона, тренировка памяти, описанная в Ad Herennium, действительно способствовала усовершенствованию этих природных ее сил.
Описанный выше пример образа относится к образам «памяти для вещей»; он предназначался для запоминания «вещей», или фактов, относящихся к рассматриваемому делу, а в последующих loci этой системы, предположительно, удерживались другие образы «памяти для вещей», с помощью которых запоминались остальные факты, касающиеся этого дела, а также доводы, использованные в речах защиты и обвинения. Другие два примера из Ad Herennium относятся к образам «памяти для слов».
Ученик, стремящийся овладеть «памятью для слов», начинает с того же, что и обучающийся «памяти для вещей», то есть запоминает места, в которых будут храниться его образы. Однако задача его более трудна, ведь для запоминания всех слов речи потребуется гораздо большее число мест, чем для запоминания предметов, о которых в ней говорится. Примеры образов «памяти для слов» относятся к тому же типу, что и приведенный выше образ «памяти для вещей», то есть образы эти представляют собой притягивающие к себе внимание, необычные по своему характеру человеческие фигуры, действующие в захватывающих, драматических ситуациях – imagines agentes.
Итак, нам нужно запомнить следующую стихотворную строку:
- Iam domum itionem reges Atridae parant 12
- (Ныне вернуться домой готовятся принцы-Атриды)
Эта строка известна только по цитате в Ad Herennium и либо сочинена самим автором в целях демонстрации своей мнемонической техники, либо взята из какого-то утраченного источника. Запоминается она с помощью двух крайне необычных образов.
Вот первый из них: «Домиция, воздевшего руки к небу, побивают плетьми Рексы из рода Марциев». Переводчик и издатель текста в библиотеке Лёба, Х. Каплан, сообщает в примечании, что «имя Рексов носила одна из наиболее знатных семей в роду Марциев; Домиции, хотя и плебеи по происхождению, тоже были прославленным родом». Этот образ мог быть навеян какой-нибудь уличной сценой, когда, например, Домиций из плебейского рода (быть может, перепачканный кровью, что делало образ более запоминающимся) был избит представителями знатной семьи Рексов. Возможно, автор сам был свидетелем этого происшествия. А может быть, это была сцена из какого-нибудь спектакля. В любом случае она была захватывающей и потому годилась для мнемонического образа. Ее и следовало разместить в памяти для запоминания вышеприведенной строки. Яркий образ сразу же доводил до сознания связь Domitius – Reges и в силу звукового подобия позволял вспомнить слова domum itionem reges. Так раскрываются принципы построения образа «памяти для слов», который помогает вспомнить искомые слова благодаря их звуковому подобию именам предметов, представленных в образе.
Все мы хорошо знаем, сколь действенную помощь для отыскания в памяти нужного слова или имени может оказать какая-нибудь совершенно бессмысленная или случайная ассоциация, что-нибудь «застрявшее» в памяти. Классическим искусством это явление было приведено в систему.
Второй образ, предназначенный для запоминания оставшейся части строки, таков: «Эзоп и Кимбер, одетые в костюмы Агамемнона и Менелая из „Ифигенеи“ (Iphigenaia). Эзопом звали популярного трагического актера, друга Цицерона; Кимбер – судя по всему, тоже актер – упоминается только в Ad Herennium13. Трагедия, в которой они готовятся исполнить свои роли, также неизвестна. Образ представляет этих актеров одетыми как сыновья Атрея, Агамемнон и Менелай. Любопытствующему взгляду за кулисами предстают два известных исполнителя, уже загримированные (согласно правилам, образ лучше запоминается, если он измазан красной краской) и одетые для своих ролей. Такая сцена содержит все, что необходимо для мнемонического образа, поэтому мы используем ее для запоминания слов Atridae parant. Этот образ сразу вызывает в памяти слово Atridae (пусть и без содействия звукового подобия) и напоминает о том, что они готовятся к возвращению домой, демонстрируя готовность актеров к выходу на сцену.
Такой метод запоминания стихов, утверждает автор Ad Herennium, не будет работать сам по себе. Мы должны прочесть стихотворение три или четыре раза, то есть выучить его наизусть обычным способом, и лишь тогда сможем представлять слова посредством образов. «Таким образом, искусство будет дополнять природу. Ибо само по себе ни то ни другое не обладает достаточной силой, хотя следует заметить, что теория и техника гораздо более надежны»14. Тот факт, что мы должны заучить стих еще и наизусть, вызывает несколько больше доверия к «памяти для слов».
Размышляя над образами «памяти для слов», мы замечаем, что наш автор, похоже, заботится теперь не о припоминании речей, прямой задаче студентов-риторов, а о запоминании стихов из поэм или драматических произведений. Чтобы запомнить таким способом всю поэму или драму, ученик должен заготовить в своей памяти «места», простирающиеся, можно сказать, на многие мили, «места», которые он обходил бы, декламируя, и из которых извлекал бы мнемонические подсказки. И, быть может, слово «подсказка» дает ключ к тому, как заставить этот метод работать. Не заучивалась ли поэма и в самом деле наизусть, и лишь в некоторых местах, через промежутки, подчиненные некой стратегии, располагались эти образы-подсказки?
Наш автор упоминает о том, что греками был разработан и другой тип символов «памяти для слов»: «Я знаю, что большинство греков, писавших о памяти, избрали путь составления перечней образов, коим соответствовало великое множество слов, так что тот, кому вздумалось бы запомнить эти образы, нашел бы их готовыми, не тратя сил на поиски»15. Возможно, эти греческие образы для слов представляли собой скорописные символы, или notae, использование которых входило в то время в моду и у латинян16. Применительно к мнемонике это могло означать, что при помощи своего рода внутренней стенографии скорописные символы записывались в уме и запоминались в местах памяти. К счастью, наш автор отвергает этот метод, поскольку даже тысяча таких символов не смогла бы покрыть и ничтожной части всех используемых слов. В самом деле, он скорее снисходителен в отношении «памяти для слов», что бы о ней ни говорилось; ей следует усердно заниматься хотя бы потому, что она значительно сложнее «памяти для вещей». Она должна использоваться в качестве упражнения для укрепления «другого вида памяти, памяти для вещей, имеющей практическое значение. Таким образом, поднаторев в этих трудных упражнениях, мы сможем с легкостью пользоваться тем, другим видом памяти».
Раздел, посвященный памяти, заканчивается призывом к напряженному труду: «Во всякой дисциплине теория мало чем полезна без непрерывного упражнения, особенно же в мнемотехнике теория почти ничего не значит, пока ей не сопутствует прилежание, рвение, напряженный труд и забота. Вы можете быть уверены в том, что располагаете по возможности наибольшим числом мест и что они полностью соответствуют правилам, но в размещении этих образов вы должны упражняться ежедневно»17.
Мы попытались осмыслить ту внутреннюю гимнастику, ту незримую работу концентрации, которая более всего для нас поразительна, хотя правила и примеры из Ad Herennium загадочным образом дают возможность познакомиться со способностями и организацией памяти в эпоху античности. Мы размышляем о чудесах памяти, которые дошли до нас в рассказах древних; о том, как старший Сенека, учитель риторики, мог повторить две тысячи имен в том порядке, в каком они были названы, или о том, как ему удавалось – после того как ученики, составлявшие класс из двухсот или более человек, произносили по очереди каждый по одной стихотворной строке, – продекламировать все эти строки в обратном порядке, от самой последней до самой первой18. Или вспоминаем, чтó Августин, тоже сведущий в риторике, рассказывает о своем друге по имени Симплиций, который мог декламировать Вергилия, произнося строки в обратном порядке19. Из нашего пособия мы усвоили, что, если нами правильно и твердо установлены места памяти, мы можем двигаться по ним в любом направлении – и вперед, и назад. Искусная память помогает понять внушающую благоговейный трепет способность декламировать поэмы в обратном порядке, которой обладали Сенека Старший и Симплиций, друг Августина. Хотя такие подвиги могут казаться нам бессмысленными, они все же дают представление о том почтении, какое в древности оказывалось человеку с тренированной памятью.
Это незримое искусство памяти весьма своеобразно. В нем отражается античная архитектура, но неклассическая по духу; выбор чаще всего падает на необычные места, не соблюдается порядок симметрии. Память полнится образами людей с ярко выраженными индивидуальными чертами: десятое место мы помечаем лицом нашего друга Децима; мы видим нескольких наших знакомых, выстроившихся в ряд; больного мы представляем себе как вполне определенного человека и если незнакомы с ним, то заменяем его тем, кого мы знаем. Эти человеческие фигуры предстают активно жестикулирующими и в драматичных позах, поражают красотой или уродством. Они больше напоминают статуи в готическом соборе, а не классическое искусство. Кажется, они лишены всякого морального значения, их функция сводится исключительно к приданию памяти эмоционального толчка, к ее возбуждению действием индивидуальных черт и странностей характера. Однако своим возникновением это впечатление обязано, быть может, тому обстоятельству, что нам не был приведен пример образа, с помощью которого можно вспомнить такие «вещи», как справедливость и умеренность или их части, о которых автор Ad Herennium говорит в разделе о нахождении предметов речи20. Способность искусства памяти все время ускользать от понимания весьма утомительна для того, кто пишет его историю.
Хотя средневековая традиция оказалась неправа, приписывая авторство Ad Herennium «Туллию», она все же не ошибалась, полагая, что последний сам практиковал и рекомендовал ученикам овладевать искусством памяти. В сочинении De oratore (оконченном в 55 году до н. э.) Цицерон трактует пять частей риторики в свойственной ему изящной, обстоятельной и учтивой манере, весьма отличной от сухого стиля нашего учителя риторики, и ссылается в этом труде на мнемоническое искусство, основанное, по всей видимости, на тех же самых технических приемах, что и мнемоника, описанная в Ad Herennium.
Впервые мнемоника упоминается в речи Красса из первой книги, где он говорит, что вовсе не испытывает неприязни «к тому методу мест и образов, что преподается в искусстве»21, поскольку он полезен для памяти. Позднее Антоний рассказывает о том, что Фемистокл не желал изучать искусство памяти, «которое в ту пору было введено впервые», говоря, что предпочитает науке запоминания науку забывания. Антоний предупреждает, что эти легкомысленные слова не должны «понудить нас пренебречь искусством памяти»22. Таким образом, читатель оказывается подготовлен к мастерскому изложению истории о роковом пире, на котором Симонид изобрел свое искусство, – истории, с которой я начала эту главу. В ходе последующего рассуждения об искусстве памяти Цицерон приводит сокращенную версию правил:
Следовательно (чтобы не докучать в предмете привычном и хорошо знакомом), нужно иметь в своем распоряжении большое число мест, хорошо освещенных, расположенных в строгом порядке и на некотором расстоянии друг от друга (locis est utendum multis, illustribus, explicatis, modicis intervallis); а также образы – активные, четко очерченные, необычные, такие, которые могут встретиться с душой и проникнуть в нее (imaginibus autem agentibus, acribus, insignitis, quae occurrere celeriterque percutere animum possint)23.
Он сократил количество правил мест и образов до минимума, чтобы не наскучить читателю повторением содержащихся в учебниках наставлений, столь хорошо знакомых и привычных.
Далее он в несколько туманных выражениях говорит о крайне усложненных типах памяти для слов:
Способность использовать эти (образы) разовьется благодаря практике, в которой вырабатывается привычка, благодаря (образам) похожих слов, изменяющихся или не изменяющихся по падежам, или переходящих от (называния) части к называнию рода, а также благодаря использованию образа одного слова для припоминания целой фразы, как искусный художник различает положение предметов по видоизменению их форм24.
Затем Цицерон говорит о том типе памяти для слов, который автор Ad Herennium называл «греческим» и в котором делается попытка запомнить отдельный образ для каждого слова, но, как и наш безымянный автор, приходит к заключению, что память для вещей представляет собой наиболее полезную для оратора отрасль искусства.
Память для слов, которая нам тоже важна, приобретает отчетливость благодаря большему разнообразию образов (в противоположность использованию образа одного слова для всей фразы, о котором он только что говорил. – Ф. Й.); ибо многие слова подобны суставам, соединяющим члены фразы, и их нельзя образовать никакими подобиями – для них нам приходится формировать образы, которые будут использоваться постоянно; но память для вещей особенно важна для оратора: здесь мы запечатлеваем вещи в нашем уме с помощью умелого размещения особых масок (singulis personis), которые их представляют, так что можем схватывать идеи с помощью образов, а их порядок – с помощью мест25.
Употребление слова persona в трактовке образа памяти для вещей весьма любопытно. Не означает ли оно, что необычное впечатление, производимое образом памяти, усиливается, если подчеркивается его трагический или комический аспект, как это происходит, когда актер выступает в маске? Не свидетельствует ли оно о том, что театр был тем возможным источником, из которого черпались яркие образы памяти? Или это слово в данном контексте означает, что памятный образ похож на какого-нибудь знакомого человека (на что указывает и автор Ad Herennium), но носит эту персональную маску лишь для того, чтобы пробудить нашу память?
У Цицерона получается, таким образом, небольшой трактат об ars memorativa, где в крайне сжатом виде собраны все связанные с ним вопросы в их обычном порядке. Изложив историю Симонида, он заявляет, что искусство складывается из мест и образов, и уподобляет его внутреннему письму на воске, после чего приступает к рассмотрению естественной и искусной памяти и приходит к известному выводу, что природа может быть улучшена при помощи искусства. Далее следуют правила мест и правила образов, за ними – разбор памяти для вещей и памяти для слов. Хотя Цицерон и соглашается с тем, что только память для вещей может оказать оратору существенную поддержку, ясно, что сам он прошел и школу памяти для слов, где образы для слов двигаются (?), изменяются по падежам (?), где целая фраза благодаря какой-то необычной внутренней визуализации оказывается заключена в образе одного слова, который он сравнивает с произведением искусного художника.
И лгут люди неученые (quod ab inertibus dicitur), когда утверждают, что память гибнет под тяжестью образов и даже то, что удалось запомнить благодаря одной лишь природе, погружается во тьму; ибо я встречал выдающихся мужей, обладавших почти божественной по силе памятью (summos homines et divina prope memoria): Хармада в Афинах и Метродора Скепсийского в Азии, о котором говорят, что он до сих пор жив, и каждый из них рассказывал мне, что он записывает то, что хочет запомнить, в определенных местах, которыми он располагает, при помощи образов, как бы запечатлевая буквы на воске. Значит, эта практика не поможет развиться памяти, если она не дана от природы, но, несомненно, заставит ее проявиться, если она только скрывается26.
Из этих заключительных слов Цицерона об искусстве памяти нам становится ясно, что возражения против классического искусства, которые возникали на протяжении всей его истории – и до сих пор возникают у всякого, кто знакомится с ним, – высказывались уже в античности. Во времена Цицерона встречались люди инертные, ленивые или неученые, которые разделяли точку зрения здравого смысла (которую всем сердцем разделяю и лично я, поскольку, как уже было сказано, я только пишу историю этого искусства, но не являюсь его приверженцем) – точку зрения, согласно которой все эти места и образы погребут, словно под грудой камней, то, что слабому человеку под силу запомнить естественным путем. Цицерон же доверяет этому искусству и защищает его. Очевидно, от природы он обладал невероятно острой зрительной памятью.
Что же мы должны думать о тех выдающихся мужах, Хармаде и Метродоре, с которыми встречался Цицерон и память которых была «почти божественной» по силе? Будучи оратором с феноменально развитой памятью, Цицерон был к тому же платоником по своим философским воззрениям, а для платоников память обладала особым значением. Что же имеет в виду оратор и философ-платоник, говоря о чьей-либо памяти, что она «почти божественна»?
Имя загадочного Метродора Скепсийского еще не раз встретится на последующих страницах этой книги.
Самым ранним риторическим сочинением Цицерона был трактат De inventione («О нахождении»), который он написал за тридцать лет до De oratore, то есть примерно в то самое время, когда неизвестный автор Ad Herennium составил свое краткое руководство. В De inventione мы не находим ничего нового об искусстве памяти, поскольку речь там идет только о первой части риторики, а именно об inventio, о нахождении или составлении предметного содержания речи, о собирании тех «вещей», о которых в ней будет говориться. Тем не менее это сочинение сыграло, по всей видимости, очень важную роль во всей дальнейшей истории искусства памяти, поскольку именно благодаря цицероновскому определению добродетелей, содержащемуся в De inventione, искусная память стала в средние века составной частью кардинальной добродетели благоразумия.
В конце De inventione Цицерон определяет добродетель как «некий склад ума, находящийся в гармонии с рассудком и порядком природы»; таково определение добродетели у стоиков. Затем он говорит, что добродетель складывается из четырех частей: благоразумия, справедливости, мужества и умеренности. Каждую из четырех основных добродетелей он также разделяет на части. Вот как определяется им благоразумие и его составляющие:
Благоразумие есть знание того, что есть добро, и что – зло, а также того, что не есть ни то ни другое. Его составные части – память, рассудительность и предусмотрительность (memoria, intelligentia, providentia). Память есть способность, благодаря которой ум воспроизводит события прошлого. Рассудительность есть способность, благодаря которой он удостоверяется в том, что есть. Предусмотрительность есть способность, благодаря которой он видит, что нечто должно произойти, еще до того, как оно действительно происходит27.
Цицероновы дефиниции добродетелей и их частей, содержащиеся в De invetione, оказались весьма важным источником для формирования тех понятий, которые впоследствии стали известны под именем четырех кардинальных добродетелей. Дефиниции, данные «Туллием» трем частям благоразумия, цитируют Альберт Великий и Фома Аквинский, когда рассуждают о добродетелях в своих Summae. И то обстоятельство, что «Туллий» определил память как часть благоразумия, заняло главное место в их похвалах искусной памяти. Довод отличался замечательной симметрией, поскольку в средние века Туллия почитали и как автора De inventione, и как создателя Ad Herennium; эти сочинения были известны соответственно как его «Первая» и «Вторая Риторика». В своей «Первой Риторике» Туллий заявляет, что память является частью благоразумия; во «Второй» он говорит, что естественная память может быть усовершенствована с помощью искусной. Поэтому нужно практиковать искусную память как часть добродетели благоразумия. Альберт и Фома цитируют и обсуждают правила искусной памяти именно потому, что память является частью благоразумия.
Процесс, в ходе которого искусная память была перенесена схоластикой из риторики в этику, будет более подробно рассмотрен в одной из следующих глав28. Пока я лишь кратко коснусь этого предмета, потому что у кого-нибудь может возникнуть вопрос, принадлежит ли этическая трактовка искусной памяти, связывающая ее с благоразумием, целиком средним векам, или она тоже уходит своими корнями в античность. Стоики, как известно, придавали большое значение тому, чтобы фантазия была ограничена моралью; этот моральный контроль они считали важной частью этики. Как я уже говорила выше, мы не можем узнать, в каком виде эти «вещи» – благоразумие, справедливость, мужество и умеренность, а также их части – появлялись в искусстве памяти. Быть может, благоразумие, например, принимало некую поражающую своей красотой мнемоническую форму, представало под личиной (persona) кого-нибудь из наших знакомых и держало в руках или было окружено вспомогательными образами, которые напоминали о его частях, – подобно тому, как формировали составной мнемонический образ различные детали судебного разбирательства по обвинению в отравлении.
Квинтилиан, человек в высшей степени здравомыслящий и превосходный воспитатель, был самым известным учителем риторики в Риме в I столетии н. э. Его трактат Institutio oratoria появился спустя более сотни лет после De oratore Цицерона. Несмотря на то что древние со вниманием относились к похвалам, которые Цицерон воздает искусству памяти, может показаться, что значимость ее не признавалась чем-то само собой разумеющимся в риторических кругах Рима. Как говорит Квинтилиан, теперь некоторые делят риторику всего на три части, на основании того, что memoria и actio даны нам «от природы, а не благодаря искусству»29. Собственное его отношение к искусной памяти не совсем ясно, тем не менее он уделяет ей пристальное внимание.
Подобно Цицерону, Квинтилиан начинает свое описание искусной памяти с истории ее изобретения Симонидом; его версия, хотя в основном и совпадает с рассказом Цицерона, все же расходится с ним в некоторых деталях. Он добавляет к тому же, что в греческих источниках встречалось много вариантов этой истории и что своей широкой известностью в современную ему эпоху она обязана Цицерону.
По-видимому, это достижение Симонида и заставило обратить внимание на то, что запоминание значительно облегчается, когда места запечатлеваются в уме, в чем каждый может убедиться на опыте. Ибо, возвратившись в какое-нибудь место после продолжительного отсутствия, мы не только узнаем само это место, но вспоминаем также, чтó мы в этом месте делали, вспоминаем людей, с которыми там встречались, и даже невысказанные мысли, которые занимали в то время наш ум. Таким образом, как чаще всего и бывает, искусство возникает из опыта.
Выбранные места могут отличаться крайним разнообразием, например, это может быть просторный дом со множеством комнат. Каждая деталь выбранного строения старательно запечатлевается в уме, чтобы мысль могла беспрепятственно обойти все его помещения. Прежде всего следует убедиться в том, что при обходе этих мест не возникает никаких препятствий, ибо память, призванная помогать другой памяти, должна быть более надежной. Затем то, что было записано или придумано, помечается знаком, который будет напоминать о нем. Этот знак может быть извлечен из целой «вещи», например мореплавания или воинского искусства, или из какого-нибудь «слова»; ибо то, что ускользнуло из памяти, можно возвратить, опираясь на одно-единственное слово. Предположим, однако, что знак извлечен из мореплавания, как, например, якорь; или из воинского искусства, например меч. Тогда эти знаки располагаются следующим образом. Первый предмет размещается в передней, второй, скажем, в атриуме, остальные напоминания располагаются по порядку вокруг имплювиума и далее не только в спальнях и кабинетах, но также на статуях и других украшениях. После этого, когда потребуется пробудить воспоминание, нужно будет, начиная с первого места, обойти их все, востребуя то, что было им доверено и о чем напомнят образы. Итак, сколь бы многочисленны ни были детали, которые нужно запомнить, все они связываются друг с другом, как и в хоре то, что следует, не может уйти в сторону от того, что ему предшествовало и с чем оно связано; требуется только предварительно этому научиться.
То, что, как я говорил, было сделано в доме, могло быть также сделано и в общественных зданиях или во время длительного путешествия, на прогулке по городу или с помощью картин. Либо же мы можем вообразить такие места для собственных нужд.
Таким образом, нам нужны места, реальные или воображаемые, а также образы или подобия, которые предстоит придумать. Образы подобны словам, которыми мы обозначаем вещи, чтобы запомнить их, так что, как говорит Цицерон, «мы используем места в качестве восковых табличек, а образы – в качестве букв». Можно привести и его собственные слова: «Нужно иметь в своем распоряжении большое число мест, хорошо освещенных, расположенных в строгом порядке и на некотором расстоянии друг от друга; а также образы – активные, четко очерченные, необычные, такие, которые могут встретиться с умом и проникнуть в него». Что меня больше всего изумляет, так это как Метродору удалось найти 360 мест в двенадцати знаках, через которые проходит Солнце. Без сомнения, все это – тщеславие и хвастовство человека, гордившегося более искусной, нежели природной памятью30.
Сбитый с толку студент, изучающий искусство памяти, будет благодарен Квинтилиану. Если бы не его ясные предписания, как нам следует двигаться по комнатам в доме, в общественном здании или вдоль городской улицы при запоминании выбранных нами мест, мы никогда не разобрались бы в том, что имеют в виду «правила мест». Он приводит весьма разумную причину, по которой места могут способствовать запоминанию, ведь мы знаем по опыту, что место будит в памяти ассоциации. И описываемая им система, в которой используются знаки для «вещей», например якорь или меч, когда с помощью такого знака в памяти всплывает всего лишь одно слово, позволяющее припомнить всю фразу, – такая система кажется вполне возможной и доступной для понимания. Именно это мы и будем называть мнемотехникой. В ту пору, в античности, существовала такая практика, в которой это слово употреблялось в том же самом смысле, в каком употребляем его мы.
У Квинтилиана не упоминаются необычные imagines agentes, хотя он, конечно же, знает об их существовании, поскольку цитирует Цицероново сокращенное изложение правил, которые сами почерпнуты из Ad Herennium, точнее, из той оперирующей странными образами практики запоминания, которая описана в этом сочинении. Но, приведя Цицеронову версию правил, Квинтилиан отваживается резко возражать прославленному ритору, совершенно иначе оценивая искусство Метродора Скепсийского. Для Цицерона память Метродора была «почти божественной». По Квинтилиану, этот человек был хвастуном и едва ли не шарлатаном. К тому же мы узнаём от Квинтилиана один интересный факт, о котором речь пойдет позднее, а именно, что божественная или просто претенциозная (в зависимости от точки зрения) система памяти Метродора Скепсийского была основана на двенадцати знаках зодиака.
Рассмотрение искусства памяти Квинтилиан завершает следующими словами:
Я вовсе не отрицаю, что такие приемы могут пригодиться для определенных целей, например, когда нам нужно воспроизвести множество названий вещей в том порядке, в каком мы их услышали. Те, кто пользуется такими вспомогательными средствами, располагают сами вещи в их памятных местах; стол, например, они помещают в передней, трибуну – в атриуме и подобным образом все остальное; и, обходя все эти места, они найдут предметы там, где их разместили. Такая практика была, возможно, принята у тех, кто после аукциона умел сразу объявить, чтó именно из вещей было продано каждому покупателю, после чего их заявления сверяли с учетными книгами; такую ловкость, говорят, демонстрировал Гортензий. Однако все это мало поспособствует удержанию в памяти фрагментов речи. Ибо предметы речи не пробуждают образов в отличие от материальных вещей, и для них потребуется придумать что-нибудь другое, хотя и здесь отдельное место может заставить нас вспомнить, например, о каком-либо разговоре, в котором мы участвовали, когда находились в этом месте. Но как такому искусству ухватить всю последовательность связанных между собой слов? Я уже не говорю о том, что некоторые слова нельзя представить никаким подобием, например союзы. Конечно, мы можем, подобно скорописцам, располагать твердо установленными образами для всевозможных вещей, можем располагать бесконечным числом мест, которые напомнили бы нам все слова из пяти книг второй сессии против Верреса, мы можем даже вспомнить их все, словно бы они хранились, как вклад в банковском сейфе. Но разве эта возложенная на память двойная задача не прерывала бы течение нашей речи? Ибо как можно ожидать, что наши слова польются единым потоком, если нам придется припоминать особые формы для каждого отдельного слова? Поэтому Хармад и Метродор Скепсийский, о которых я только что упоминал и которые, по словам Цицерона, пользовались этим методом, могут оставить свои системы при себе; мои предписания будут куда более просты31.
Метод аукциониста, располагающего в памятных местах образы реальных проданных им предметов, в точности подобен методу, примененному профессором, чей способ развлечь своих студентов мы описали выше. Этот метод, как говорит Квинтилиан, будет работать и может пригодиться для определенных целей. Но его применение для запоминания речи с помощью образов для «вещей», полагает автор, вряд ли будет оправдано, потому что вызовет много трудностей; ведь тогда потребуется придумывать все эти образы для «вещей». Кажется, Квинтилиан не рекомендует использовать даже такие простые образы, как якорь и меч. Он ничего не говорит о фантастических imagines agentes – ни для вещей, ни для слов. Образы для слов он интерпретирует как скорописные notae, запоминаемые в местах памяти; это именно тот греческий метод, который отверг автор Ad Herennium и использование которого, по мнению Квинтилиана, Цицерон ставил в заслугу Хармаду и Метродору Скепсийскому.
«Более простые предписания» для тренировки памяти, которые Квинтилиан предлагает вместо ее искусства, состоят главным образом в пропаганде тщательного и прилежного заучивания речей и т. п. наизусть, обычным способом, но иногда он допускает использование некоторых упрощенных мнемонических приемов. Чтобы запомнить какой-нибудь трудный пассаж, можно пользоваться самостоятельно придуманными пометками; эти знаки могут быть сообразованы даже со стилем мышления. Такие знаки, «пусть они и заимствованы из мнемонических систем», обладают все же некоторой ценностью. Но больше всего ученику может помочь одно средство:
а именно, заучивать фрагмент наизусть по тем самым табличкам, на которых он его записал. Ведь тогда он будет двигаться за памятью по четкому следу, и взор разума будет прикован не просто к страницам, на которых записаны слова, но к линиям индивидуального почерка, и временами он будет говорить, как бы читая вслух по написанному… Этот прием имеет некоторое сходство с мнемонической системой, о которой я упоминал выше, но (если мой опыт чего-нибудь стоит) он и более прост в употреблении, и более эффективен32.
Я понимаю эти слова в том смысле, что рекомендуемый метод заимствует из мнемонической системы прием визуализации записанного в определенных «местах», но не пытается наглядно представить скорописные notae в некой обширной системе мест, а визуализирует обычную запись на реальной табличке или странице.
Было бы интересно узнать, имел ли в виду Квинтилиан, подготавливая свою табличку или страницу для запоминания и нанося на нее знаки (notae), или даже изображая на ней сформированные в соответствии с правилами imagines agentes, что ими должны помечаться места, которых достигает память, когда она следует за написанным.
Таким образом, обнаруживается заметное различие между отношением к искусной памяти, с одной стороны, Квинтилиана, а с другой – Цицерона и автора Ad Herennium. Очевидно, что imagines agentes, изумляющие нас жестикуляцией со своих мест и пробуждающие воспоминания через обращение к эмоциям, казались первому, как и нам, громоздкими и бесполезными для практических целей мнемоники. Быть может, римское общество становилось все более рассудочным, в результате чего утрачивалась напряженная, архаическая, чуть ли не магическая непосредственная связь памяти с образами? Или все дело лишь в различии темпераментов? Не потому ли Квинтилиан недооценивал искусную память, что ему недоставало остроты зрительного восприятия, необходимой для визуального запоминания? В отличие от Цицерона он не упоминает о том, что изобретение Симонида базировалось на главенствующем положении зрения среди других чувств.
Из трех источников классического искусства памяти, рассмотренных в этой главе, не рассудительное критическое изложение Квинтилиана и не изящные, но недостаточно ясные формулировки Цицерона легли в основу ее позднейшей западной традиции. Такой основой стали предписания, разработанные неизвестным учителем риторики.
Глава II
Искусство памяти в Греции: память и душа
Жутковатая история о том, как Симонид припоминал лица людей в том порядке, в каком они сидели на пиру за мгновение до своей ужасной гибели, позволяет предположить, что образы людей были составной частью искусства памяти, доставшегося Риму от Греции. По Квинтилиану, в греческих источниках было несколько вариантов этой истории33, которая в учебниках риторики, вероятнее всего, выполняла роль стандартной преамбулы к разделу об искусной памяти. Таких пособий в Греции было, конечно, немало, но они до нас не дошли, и потому любое наше высказывание о греческой искусной памяти может опереться только на три латинских источника.
Симонид Кеосский (ок. 556–468 до н. э.)34 принадлежит к эпохе досократиков. В годы его молодости, возможно, был еще жив Пифагор. Один из самых почитаемых лирических поэтов Греции (сохранилось очень мало его стихов), он был прозван «медоречивым» – Simonides Melicus в латинской транскрипции – и в особенности славился своими прекрасными образами. Множество новых начинаний приписывалось этому, по всей видимости, блестяще одаренному и оригинальному человеку. Говорили, что он был первым, кто стал требовать плату за стихи; практическая хватка Симонида вошла в историю изобретения им искусства памяти, завязкой которой стал договор о плате за оду. Еще одно нововведение приписывается ему Плутархом, который, по-видимому, полагал, что именно Симонид первым приравнял методы поэзии к методам живописи – воззрение, впоследствии кратко выраженное Горацием в его знаменитом изречении ut pictura poesis («поэзия – та же живопись»). Симонид, говорит Плутарх, «называл живопись безмолвной поэзией, а поэзию – говорящей живописью; ведь одни и те же действия, которые художник изображает в момент, когда они происходят, словами описываются как уже завершившиеся»35.
Что отцом сравнения поэзии с живописью называют Симонида, весьма примечательно, ведь так оно приводится к общему знаменателю с изобретением искусства памяти. По Цицерону, это изобретение основывается на открытии Симонидом превосходства зрения над всеми другими чувствами. Теория, приравнивающая поэзию к живописи, тоже основана на преобладании зрительного чувства; поэт и художник, оба мыслят визуальными образами: один выражает их в стихах, другой – в картинах. Неуловимые связи с другими искусствами, свойственные искусству памяти на протяжении всей его истории, намечены, таким образом, уже в его легендарных истоках, в рассказах о Симониде, трактовавшем поэзию, живопись и мнемонику в терминах интенсивной визуализации. Обратившись теперь на миг к Джордано Бруно, ключевой фигуре нашего исследования, мы увидим, что в одном из своих трудов по мнемонике он говорит о принципе использования образов в искусстве памяти в разделах «Фидий Скульптор» и «Зевксис Живописец», – под теми же заголовками он рассуждает и о теории ut pictura poesis36.
Симонид – культовый герой, основатель искусства памяти, которое является предметом нашего исследования; изобретение им этого искусства подтверждают не только Цицерон и Квинтилиан, но и Плиний, Элиан, Аммиан Марцеллин, Суда и др., а также одна древняя надпись. Паросская хроника, мраморная доска примерно 264 года до н. э., найденная на Паросе в XVII веке, приводит даты легендарных открытий, таких как изобретение флейты, введение земледелия Церерой и Триптолемом, опубликование поэзии Орфея; когда речь заходит о временах исторических, акцент делается на празднествах и присужденных на них наградах. Интересующая нас запись такова:
Со времени, когда кеосец Симонид, сын Леопрепа, изобретатель системы вспоможений памяти, получил приз хора в Афинах и когда были установлены статуи Гармодию и Аристогитону, 213 лет (т. е. 477 г. до н. э.)37.
Из других источников нам известно, что Симонид завоевал приз хора, будучи уже немолодым человеком: когда надпись наносилась на Паросский мрамор, победитель уже был известен как «изобретатель вспоможений памяти».
Мне кажется, можно верить тому, что Симонид действительно придал значительный импульс мнемонике, преподавая или публикуя правила, которые хотя и были, возможно, позаимствованы из ранней устной традиции, но производили впечатление нового понимания предмета. Мы не станем здесь обсуждать досимонидовские источники искусства памяти; некоторые указывают в этой связи на Пифагора, другие отсылают к египетским влияниям. Можно предположить, что в какой-то форме это искусство представляло собой очень древнюю технику, которая была в ходу у певцов и сказителей. Новшества, введенные, предположительно, Симонидом, могли быть признаком возникновения более высокоорганизованного общества. Поэты теперь занимают определенное экономическое положение, а мнемоника, практиковавшаяся в эпоху устной памяти, до появления письменности, кодифицируется в правилах. В эпоху перехода к новым культурным формам авторитет изобретателя обычно закрепляется за какой-либо выдающейся индивидуальностью.
Фрагмент, известный как Dialexeis («Сравнение доводов») и датируемый примерно 400 годом до н. э., содержит совсем небольшой раздел о памяти:
Память есть великое и прекрасное изобретение, всегда полезное и для обучения, и для жизни.
Вот первейшая вещь: если ты внимателен (направляешь свой ум), суждению легче постичь вещи, проходящие через него (ум).
Второе: повторяй услышанное, чтобы благодаря частому слышанию и произнесению одного и того же выученное тобой обрело завершенность в твоей памяти.
В-третьих, услышанное помещай к известному тебе. Например, нужно запомнить Chrysippos («Хрисипп»); мы разбиваем его на chrysos («золото») и hippos («лошадь»). Другой пример: мы размещаем pyrilampes («жук-светляк») между pyr («огонь») и lampein («светить»).
Это для имен.
Относительно вещей (поступай) так: мужество (помещай) к Марсу и Ахиллу; работу с металлами – к Вулкану; малодушие – к Эпею38.
Память для вещей; память для слов (или имен)! Технические термины двух видов искусной памяти употреблялись уже в 400 году до н. э. И в том, и в другом случае используются образы; в одном представлению подлежат вещи, в другом – слова; это опять-таки одно из знакомых правил. Правда, нет правил для мест, но описанная здесь практика помещения понятия или слова, которое требуется запомнить, к тому или иному образу будет воспроизводиться во всей истории искусства памяти, и корни ее, очевидно, лежат в античности.
Таким образом, в общих чертах правила искусной памяти были известны уже спустя около полувека после смерти Симонида. Это позволяет предположить, что правила действительно были «изобретены» или кодифицированы им, – по преимуществу в том виде, в каком мы находим их в Ad Herennium, хотя и могли быть усовершенствованы и дополнены в более поздних текстах, остававшихся неизвестными, пока через четыре века они не попали в руки учителя-латинянина.
В этом древнейшем трактате об ars memorativa образы для слов формируются простым этимологическим рассечением слова. В приводимых примерах образов для вещей представлены такие «вещи», как добродетель и порок (доблесть, трусость), а также искусство (металлургия). Они запоминаются вместе с образами богов и людей (Марс, Ахилл, Вулкан, Эпей). Здесь мы, скорее всего, сталкиваемся с архаически простым видом тех представляющих «вещи» человеческих фигур, которые со временем разовьются в imagines agentes.
Считается, что во фрагменте Dialexeis отражено софистическое учение, и его раздел, посвященный памяти, возможно, связан с мнемоникой софиста Гиппия Элидского39, о котором в псевдоплатоновских диалогах, носящих его имя, наряду с насмешками говорится, что он владел «наукой памяти» и гордился способностью запомнить пятьдесят произнесенных подряд имен, а также родословные героев и людей, даты основания городов и многое другое40. Действительно, вполне правдоподобно, что Гиппий практиковал искусство памяти. Не исключено, что система софистического образования, против которой столь решительно выступал Платон, широко использовала новое «изобретение» ради поверхностного схватывания огромного числа самых разнообразных сведений. Замечателен и восторженный тон, которым открывается софистический трактат о памяти: «Память есть великое и прекрасное изобретение, всегда полезное и для обучения, и для жизни». Так было ли недавнее изобретение искусной памяти сколько-нибудь существенным элементом новой и успешно применяемой техники софистов?
Аристотель, без сомнения, был близко знаком с искусством памяти, о котором он упоминает четыре раза, но не как его толкователь (хотя Диоген Лаэртский сообщает, что он написал несохранившуюся книгу по мнемонике)41, а при случае, когда иллюстрирует пункты рассуждений. Одно из этих упоминаний мы встречаем в Topica («Топике»), где он советует удерживать в памяти доводы, касающиеся вопросов, с которыми нам приходится сталкиваться чаще всего:
Ведь как у человека с тренированной памятью воспоминание о самих вещах моментально вызывается одним лишь упоминанием о занимаемых ими местах (topoi), так те же навыки лучше подготовят любого человека к рассуждению, поскольку он видит собственные предпосылки расставленными перед его умственным взором, каждую под своим номером42.
Несомненно, эти topoi, которые используют люди с тренированной памятью, суть мнемонические loci, и вполне вероятно, что само слово «топики», как оно употребляется в диалектике, происходит от «мест» мнемоники. Топики – это «вещи», то есть предметы диалектического рассуждения, которые стали известны как topoi благодаря местам, в которые они помещались.
В De insomniis («О сновидениях») Аристотель говорит, что некоторым людям снятся сны, в которых они «как бы упорядочивают перед собой объекты в соответствии с собственной мнемонической системой»43 – надо полагать, это скорее предостережение против чрезмерного увлечения искусной памятью, плохо гармонирующее, однако, с тем тоном, каким сделано это замечание. В трактате De anima («О душе») есть похожее высказывание: «Существует возможность расположить вещи у нас перед глазами, как это делают те, кто изобретает мнемонические правила и создает образы»44.
Но важнейшее из этих четырех упоминаний, оказавшее наибольшее влияние на позднейшую историю искусства памяти, содержится в De memoria et reminiscentia («О памяти и припоминании»). Величайшие из схоластов, Альберт Великий и Фома Аквинский, чья острота ума общеизвестна, знали, что в De memoria et reminiscentia Философ говорит о том самом искусстве памяти, которому Туллий учит в своей «Второй Риторике» (Ad Herennium). Сочинение Аристотеля стало для них поэтому чем-то вроде трактата о памяти, сочетаемого с правилами Туллия и дающего этим правилам философское и психологическое оправдание.
Аристотелевская теория памяти и припоминания основана, таким образом, на теории знания, изложенной в De anima. Восприятия, доставляемые пятью чувствами, первоначально интерпретируются и обрабатываются способностью воображения, а затем уже оформленные образы становятся материалом для интеллектуальной способности. Воображение является посредником между восприятием и мышлением. Всякое знание в конечном счете выводится из чувственных впечатлений, но мышление имеет дело не с сырыми ощущениями, а с образами, уже обработанными, впитанными воображением. Именно та часть души, которая создает образы, дает работу высшим процессам мышления. Поэтому «душа никогда не мыслит без мысленных картин»45; «мыслительная способность мыслит свои формы в мысленных картинах»46; «никто не мог бы ни обучиться чему-либо, ни что-либо понять, если бы он не обладал способностью к восприятию; даже когда он мыслит спекулятивно, ему для того, чтобы мыслить, необходимо иметь перед собой некую мысленную картину»47.
Для схоластов и следующей им традиции памяти точкой согласования мнемонической теории с аристотелевской теорией знания была роль, которую та и другая отводили воображению. Аристотелевское положение о невозможности мыслить без мысленных картин постоянно приводилось в поддержку использования образов в мнемонике. Аристотель и сам прибегает к мнемоническим образам, иллюстрируя свои рассуждения о воображении и мышлении. Мыслить, говорит он, мы способны, когда только захотим, «поскольку существует возможность расположить вещи у нас перед глазами, как это делают те, кто изобретает мнемонические правила и создает образы»48. Тщательный отбор мысленных картин, сопровождающих мышление, он сравнивает с тщательным построением мнемонических образов, с помощью которых происходит запоминание.
De memoria et reminiscentia является приложением к De anima и открывается цитатой из этого труда: «Как уже было сказано в моей книге „О душе“ по поводу воображения, мыслить без мысленных картин вообще невозможно»49. Память, продолжает Аристотель, принадлежит к той же части души, что и воображение; она есть собрание мысленных картин, извлеченных из чувственных впечатлений, но с добавлением элемента времени, поскольку в памяти мысленные картины порождаются восприятием вещей не присутствующих в настоящем, а ушедших в прошлое. Поскольку память связана таким образом с чувственным впечатлением, она присуща не только человеку; некоторые животные тоже способны запоминать. Однако в памяти задействован еще и интеллект, поскольку мысль работает в ней над образами чувственного восприятия.
Мысленную картину, полученную от чувственного впечатления, Аристотель уподобляет нарисованному портрету, «долговечность которого мы описываем как память»50, а формирование ментального образа понимается им как движение, подобное тому, которым кольцо с печаткой производит оттиск на воске. Сохраняется ли впечатление в памяти надолго или вскоре изглаживается, зависит от возраста и темперамента личности:
У некоторых людей значительные происшествия не оседают в памяти из‐за болезни или возраста, как если бы чертили или ставили печать на водном потоке. У них знак не оставляет впечатления, поскольку они износились, как старые стены зданий, или поскольку затвердело то, что должно было принять впечатление. По этой причине у младенцев и стариков плохая память; они пребывают в состоянии постоянного изменения: младенец – поскольку он растет, старец – поскольку увядает. По схожей причине хорошей памятью, по-видимому, не обладают ни слишком подвижные, ни слишком медлительные люди: первые более влажны, чем следует, вторые – более сухи; у первых картина лишена постоянства, у вторых – не оставляет впечатления51.
Аристотель различает память и реминисценцию, или припоминание. Припоминание есть восстановление знания или ощущения, которое у нас уже было. Это напряженное усилие, направленное на то, чтобы найти наш путь среди всех содержаний памяти, выслеживание того, что мы пытаемся припомнить. В этом усилии Аристотель выделяет два связанных между собой принципа. Это принцип ассоциации, как его называем мы, хотя сам Аристотель не употребляет этого слова, и принцип порядка. Начиная с «чего-либо подобного, или противоположного, или тесно связанного»52 с искомым, мы выйдем на него. Этот пассаж характеризовался как первая формулировка законов ассоциации через подобие, неподобие или смежность53. Требуется также восстановить порядок событий или впечатлений, который приведет нас к тому, что мы ищем, поскольку движения припоминания следуют порядку первоначальных событий и поскольку легче всего запоминаются упорядоченные вещи, как, например, положения математики. Но у нас должна быть отправная точка, чтобы, припоминая, было от чего оттолкнуться.
Часто бывает, что человек не может припомнить что-либо сразу, но, поискав, находит желаемое. Это происходит, когда человек поддается множеству порывов, пока наконец не наткнется на тот, который приведет его к искомой цели. Ведь воспоминание в действительности зависит от потенциально существующей стимулирующей причины… Но он должен придерживаться отправной точки. По этой причине некоторые с целью припоминания используют места (topoi). Основание этому в том, что человек быстро переходит от одного шага к другому: например, от молока к белому, от белого к воздуху, от воздуха к сырости; тут-то нам и вспоминается осень, если предположить, что мы пытались вспомнить это время года54.
Здесь ясно видно, что Аристотель обращается к местам искусной памяти, чтобы проиллюстрировать свои замечания о роли ассоциации и порядка в процессе припоминания. Но в остальном, как отмечают издатели и комментаторы, смысл этого отрывка проследить очень трудно55. Возможно, шаги, которыми мы быстро переходим от молока к осени – если мы пытаемся припомнить это время года, – обусловливаются космической связью стихий с временами года. Или же рукопись повреждена, и этот отрывок как он есть вообще не поддается пониманию.
За этим пассажем сразу следует другой, в котором Аристотель говорит о припоминании, начинающемся от какой-либо точки, стоящей в ряду других.
Вообще говоря, весьма подходящей для того, чтобы начать с нее, кажется срединная точка; ведь одни из нас припомнят нужное, когда придут в эту точку, если не раньше, другие же не припомнят, начав с какой-либо другой. Например, предположим, что мы мыслим ряд, который можно представить буквами ABCDEFGH; если мы не припомним то, что хотим, на Е, то все же сделаем это на Н; от этой точки можно двигаться в обоих направлениях, т. е. как к D, так и к F. Если предположить, что мы ищем G или F, то по достижении С мы припомним, нужно нам G или F. Если же нет, то припомним по достижении А. Этот способ всегда достигает успеха. Иногда можно припомнить то, что мы ищем, иногда нет; причина в том, что из одной и той же начальной точки можно двигаться в более чем одном направлении. Например, от С мы можем пойти сразу к F или только к D56.
Поскольку начальная точка припоминания ранее была уподоблена мнемоническому locus, этот сбивающий с толку пассаж может напомнить нам, что одно из преимуществ искусной памяти заключалось в том, что владеющий ею мог начать с любого из своих мест и проходить по ним в любом направлении.
Схоласты ради собственного удовлетворения доказывали, что De memoria et reminiscentia дает философское обоснование искусной памяти. Однако весьма сомнительно, это ли имел в виду Аристотель. По-видимому, на мнемоническую технику он ссылается только для того, чтобы иллюстрировать свои доводы.
Встречающаяся во всех трех латинских источниках метафора, где внутренняя запись или расстановка образов памяти по местам сравнивается с записью на восковых табличках, вызвана, разумеется, бытовавшим в то время использованием таких табличек для письма. Вместе с тем она связывает мнемонику с античной теорией памяти, как это видел Квинтилиан, когда в предисловии к своему трактату отмечал, что не намерен подробно останавливаться на том, как именно действует память, «хотя многие придерживаются того мнения, что определенные впечатления появляются в уме аналогично тому, как кольцо с печаткой оставляет след на воске»57.
В отрывке, который мы уже цитировали, Аристотель применяет эту метафору к образам чувственного восприятия, подобным оттиску печати, остающемуся на воске. Для Аристотеля такие впечатления являются основным источником всякого знания; хотя они очищаются и обобщаются мыслящим интеллектом, без них невозможны были бы ни мысль, ни знание, поскольку всякое знание зависит от чувственных восприятий.
Платон тоже использует метафору печати в том знаменитом месте в «Теэтете», где Сократ предполагает, что в наших душах находится кусок воска – у разных людей он различен по качеству – и что это «дар Памяти, матери всех муз». Когда мы видим, слышим или мыслим что-либо, мы подкладываем этот воск под наши чувства и мысли и запечатлеваем их на нем так же, как оставляем след кольцом с печатью58.
Но Платон, в отличие от Аристотеля, полагает, что существует знание, не выводимое из чувственных впечатлений, что в нашей памяти хранятся формы или шаблоны идей, сущностей, которые душа знала до того, как была низвергнута в этот мир. Подлинное знание заключается в установлении соответствия между оттисками, оставляемыми чувственными впечатлениями, и шаблоном или оттиском высшей реальности, которую отображают вещи здесь, внизу. В «Федоне» доказывается, что чувственные объекты соотносимы с определенными типами, подобиями которых они являются. Мы не видели, и никто нас не учил различать такие типы в этой жизни, но мы видели их до того, как началась наша жизнь, и знание о них врождено нашей памяти. В качестве примера Платон указывает на соотнесенность наших чувственных восприятий одинаковых предметов с врожденной идеей тождества. Мы постигаем тождественное в тождественных предметах, например в одинаковых бревнах, поскольку идея тождества была запечатлена в нашей памяти, и эта печать скрыта в воске нашей души. Подлинное знание состоит в подгонке отпечатков от чувственных восприятий к основополагающей печати или следу Формы, или Идеи, которой соответствуют предметы наших чувств59. В «Федре», где Платон выражает свое отношение к риторике (которая должна побуждать людей к познанию истины), он снова развивает ту мысль, что знание истины и души заключено в памяти, в припоминании некогда виденных всеми душами идей, смутными копиями которых являются все земные вещи. Всякое знание и всякое научение есть попытка припомнить сущности, привести в единство множество чувственных восприятий посредством соотнесения их с сущностями. «В земных копиях справедливости, умеренности и других идей, которые дороги душам, нет света, и лишь немногие, приблизившись к этим образам с помощью несовершенных чувств, способны разглядеть в них природу того, чему они подражают»60.
Диалог «Федр» является трактатом о риторике, где последняя рассматривается не как искусство убеждения, которое следует применять ради достижения личной или общественной выгоды, но как искусство выражения истины в речи и побуждения слушателей к поиску истины. Сила ее основывается на знании души, а знание истины о душе заключается в припоминании идей. Памяти в этом трактате не отводится особый «раздел» как одной из частей риторического искусства; в Платоновом понимании память есть основа всего целого.
Ясно, что для Платона искусная память, как она используется софистами, есть анафема, осквернение памяти. В самом деле, платоновские насмешки над софистами, к примеру над их бессмысленным использованием этимологий, можно объяснить, если просмотреть софистический трактат о памяти, где такие этимологии используются как память для слов. Платоническая память должна быть устроена не в тривиальной манере подобных мнемотехник, а в соотнесенности с сущностями.
Грандиозная попытка построить именно такую память в структуре искусства памяти была предпринята неоплатониками Ренессанса. Одно из наиболее впечатляющих проявлений ренессансного применения этого искусства – Театр Памяти Джулио Камилло. Используя образы, расположенные в местах неоклассического театра, – то есть совершенно точно следуя технике искусной памяти, – система памяти у Камилло основывается (как он полагает) на архетипах реальности, в соответствии с которыми вспомогательные образы охватывают всю сферу природы и человека. Камилловский подход к памяти по существу платоничен, хотя в Театре мы встречаемся и с герметическими и каббалистическими влияниями, и нацелен он был на то, чтобы построить искусную память, основываясь на истине. «И если ораторы античности, – говорит Камилло, – день за днем стремясь разместить части своей речи, которую им надлежало запомнить, вверяли их ненадежным местам и вещам, то будет правильно, если мы, стремясь навечно сохранить вечную природу всех вещей, которые могут быть выражены в речи… должны будем отвести им вечные места»61
