Читать онлайн Почему сердце находится слева, а стрелки часов движутся вправо. Тайны асимметричности мира бесплатно
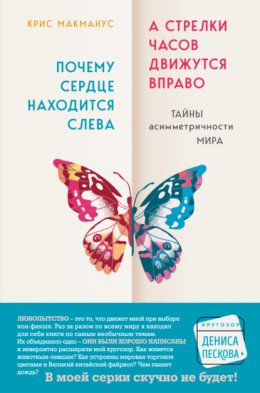
RIGHT HAND, LEFT HAND
by Chris McManus
First published in Great Britain in 2002 by Weidenfeld & Nicolson First published in ebook in 2013 by Phoenix
Copyright © Chris McManus 2002
The moral right of Chris McManus to be identified as the author of this work has been asserted in accordance with the Copyright, Designs and Patents Act 1988.
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means without the prior permission in writing of the publisher, nor be otherwise circulated in any form of binding or cover other than that in which it is published without a similar condition, including this condition, being imposed on the subsequent purchaser.
© Дейниченко П.Г., перевод на русский язык, 2019
© ООО «Издательство «Эксмо», 2023
Предисловие
Не сосчитать, сколько раз мне попадалась на глаза книга «Рука левая. Рука правая!» в букинистических магазинах. Но каждый раз я оказывался разочарован. Я надеялся найти какие-то книги, посвященные различиям между левой и правой сторонами нашего тела, левой и правой руками. Вместо этого в моем распоряжении оказывался первый том автобиографии английского писателя, сэра Осберта Ситвелла. В нем мало говорилось об интересовавшем меня предмете. Моя книга называется почти так же, и я питаю надежду удовлетворить тех немногих, кто, может быть, тоже ищет книгу о различиях двух наших рук и сторон тела – о том, почему в нашем мире, во всей вселенной, повсеместно и, казалось бы, иррационально преобладает асимметрия.
Ситвелл озаглавил так свою автобиографию, «поскольку хироманты утверждают, что линии левой ладони остаются неизменными с рождения, тогда как линии на правой ладони меняются в зависимости от наших поступков, окружения и образа жизни». В этом любопытном суждении соединились и хиромантия, которую отвергает большинство ученых, но для которой характерна универсальная символика левого и правого, и типичный для нашего времени акцент на совместном влиянии генов и окружающей среды на нашу жизнь. Сам Ситвелл был не настолько наивен, чтобы видеть в этой идее нечто большее, чем вольную метафору. И хотя он говорил: «все люди суеверны, и я в том числе», – стереотипы, присущие хиромантии, он все же отвергал.
В наши дни ни к чему всерьез пытаться понять, есть ли в этом утверждении какая-либо эмпирическая истина, но оно может послужить отправной точкой в изучении вопроса, почему наши руки и в самом деле отличаются. Также мы можем рассматривать его как часть обширной символики правого и левого, занимающей важное место в нашей повседневной жизни – от левых и правых в политике до «хождения налево» или «левых браков»[1], и таких слов как dexterity, значение которого в английском значительно шире буквального «праворукость» и включает такие понятия, как «сноровка», «ловкость», «умелость», или cack-handedness – то есть «леворукость» («леворукий» в английском – примерно то же, что «безрукий» или «криворукий» в русском). Почему возникают такие символические значения? Потому ли, что наши руки столь несимметричны, или потому, что несимметрично наше сердце, или же потому, что несимметрична вселенная, в которой мы живем? Эти вопросы, с одной стороны, глубоки, с другой – способны погрузить нас в многочисленные и разнообразные аспекты жизни общества и антропологии, работы мозга и тонкостей языка. Они заставят всмотреться в наши несимметричные тела с несимметричными сердцем, печенью, желудком, почками и даже половыми органами и заглянуть еще глубже, в устройство кирпичиков, из которых построены наши тела – аминокислот и углеводов, тоже асимметричных, и, наконец, в асимметрию самой физики и, следовательно, Вселенной.
Во вступлении к своей книге Ситвелл размышляет: «Мне уже почти пятьдесят, и седина в волосах говорит о том, что я достиг водораздела и уже вижу ручей, по которому мне предстоит спускаться к безграничному океану, прохладному и безликому. Пора в путь». Моя седина проступила давно, и я изучаю и исследую – по мнению некоторых, с одержимостью – все, что связано с преимущественной направленностью, или хиральностью, и латерализацией (функциональной асимметрией полушарий головного мозга) с 1972 года, когда опубликовал первую работу об этом. Я никогда не терял интереса к этой теме: наоборот, вопросы, которыми я задавался, становились все более интересными – и вместе с тем рос интерес и со стороны других людей. Я получаю по несколько звонков в год от теле- и радиопродюсеров, которые вдруг обнаруживают, что около 10 % их аудитории – левши, и решают, что сделать программу о левшах – весьма новаторская идея. В ходе этих интервью мне задают одни и те же вопросы с искренним интересом, но времени на то, чтобы ответить надлежащим образом, никогда не хватает. Надеюсь, что в этой книге мне удалось дать развернутые ответы для тех, кто понимает, что эта тема слишком интересна, чтобы ее можно было полностью раскрыть за десять минут. Последние годы ознаменовались значительным прогрессом в самых разных сферах – от молекулярной асимметрии, анатомии и биологии развития до нейронауки, психологии, антропологии, социологии и даже космологии. А потому настало время подвести итоги. И хотя я вынужден признать, что не являюсь экспертом даже в некоторых из этих областей, на любительский уровень я все же могу претендовать.
Если бы мне довелось подняться так высоко в горы, чтобы можно было увидеть расстилающиеся за ними пространства, то все же, надеюсь, я не достиг бы той вершины, того перевала, того водораздела, откуда, как писал Ситвелл, можно было бы только постепенно спускаться к отдаленному океану. Область, о которой пойдет речь в этой книге, разнообразна, путь по ней труден и тернист, и тернии порой столь непролазны, что сквозь них невозможно что-либо рассмотреть. Чтобы облегчить путь, приведу краткое описание территорий, которые вам предстоит посетить. Главу 1 открывает медицинский казус XIX века, история болезни Джона Рида, сердце которого располагалось в правой половине тела. Как обнаружил доктор Томас Уотсон – ныне почти забытый персонаж, чью репутацию стоило бы восстановить, – чрезвычайно трудно объяснить, почему сердце, как правило, расположено в левой стороне тела. Кроме того, Уотсон понял, что еще труднее объяснить, почему Джон Рид должен был быть правшой, а не левшой. Еще два великих открытия XIX века – асимметричность молекул в живых организмах, показанная Пастером, и обнаруженный Максом Даксом и Полем Брока факт, что лингвистические способности обычно связаны с левым полушарием мозга, – задают тон дальнейшему повествованию. Глава 2 представляет собой отступление, посвященное интересу человечества к левому и правому и символике левого и правого, которая обнаруживается едва ли не во всех культурах и лежит в основе множества феноменов, упоминаемых в этой книге. Глава 3 рассматривает проблему философских затруднений, с которыми столкнулся Кант при описании правого и левого, а глава 4 посвящена тому, как в разных языках видоизменялись понятия «правое» и «левое», и почему многим людям сложно использовать эти понятия последовательно и не путаясь. Глава 5 возвращается к озадачившему Уотсона вопросу: почему сердце обязательно должно быть именно слева, который рассматривается с общебиологической точки зрения, в контексте того, почему живым организмам, как правило, свойственна симметрия и отчего может возникать асимметрия сердца. В главе 6 мы глубже погружаемся в микробиологию, рассматривая асимметричность молекул, в частности аминокислот, и теории возникновения такой асимметрии на субатомном уровне или в холодной пустоте межзвездного пространства. Глава 7 возвращается к проблеме лево- и праворукости в повседневной жизни и приводит модель того, каким образом на генетическом уровне наследуется доминирование той или иной руки и как эта тенденция сохраняется в семьях. Глава 8 посвящена асимметрии головного мозга и рассматривает протекающие в левом полушарии процессы, связанные с речью, а также более общие функции правого полушария и способы взаимодействия полушарий, обеспечивающие сложные психологические процессы. Глава 9 завершает раздел о право- и леворукости и ставит вопрос об исторических и кросскультурных различиях в степени их распространенности. Также в ней рассматриваются археологические доказательства в пользу праворукости ранних гоминид и отсутствия таковой у человекообразных обезьян и других животных и далее – принципиальной разницы между левым и правым полушариями мозга. Глава 10 рассказывает о том, как важны социальные взаимодействия для определения предпочтительности правого или левого в повседневных ситуациях: выбор направления письма (в нашем случае – справа налево), выбор право- или левостороннего уличного движения (в Британии – левостороннее), а также относительное преимущество левшей в спортивных поединках. Глава 11 рассматривает общественные условия, влияющие на положение левшей, составляющих меньшинство в обществе, где преобладают правши, а также как это отражается в языке и культуре и приводит к стигматизации леворукости. Главы 12 и 13 – развлекательные отступления, которые тем не менее содержат довольно глубокие идеи; так, в главе 12 рассматривается ряд ошибочных суждений о правшах и левшах и множество возникающих из-за этого предрассудков и домыслов. Глава 13 – всего лишь коллекция забавных, но в своем роде поучительных пустяков, анекдотов и мелочей. Глава 14 возвращается к главному предмету книги, но, отстранившись от асимметрии как таковой, обращается к центральной для науки проблеме, которой до сих пор не уделялось достаточно внимания в этом обстоятельном рассуждении – к симметрии. В завершающей главе 15 книги утверждается триумф асимметрии над симметрией и предлагается единая картина асимметричности мира на всех уровнях – от субатомного, биохимического и анатомического до нейрологического, культурного и социального.
Гиперпримечания
Поскольку я ученый, я в изобилии снабдил эту книгу сносками и примечаниями, не в последнюю очередь для того, чтобы обосновать и защитить от дотошных коллег некоторые скользкие места. Однако я помню слова Тоби Манди, который говорил, что научно-популярные книги должны быть «научными, но не учеными». Примечания позволили мне оставаться ученым и в то же время заходить в некоторые спорные области. Ради экономии места и терпения читателей многие из них были вычеркнуты из книги: так после постройки дома убирают строительные леса. Некоторые из этих материалов могут оказаться интересными для читателей. Поэтому в примечания в конце книги я включил гиперссылку на более обширные примечания – гиперпримечания, которые доступны в Интернете на сайте http://righthandlefthand.com. Сайт содержит дополнительные материалы и предоставляет возможность принять участие в экспериментах и научных исследованиях.
Благодарности
Я признателен всем, кто помогал мне на разных этапах работы над книгой. Их помощь позволила уменьшить количество неизбежных ошибок, и в случаях путаницы правого и левого их вины нет. Прежде всего я должен поблагодарить Фонд Уэлкома (Wellcome Trust) за вручение мне премии, подтолкнувшей меня к написанию этой книги, и, в частности, тех, кто принял это решение, включая Сью Блэкмор, Мэтта Ридли и покойного Дугласа Адамса, который был левшой. В Фонде мне посчастливилось получить большую поддержку со стороны Лоуренса Смэджи и Сары Бронсдон. Особая благодарность моему агенту Фелисити Брайан и моим редакторам в издательстве Weidenfeld & Nicolson; в первую очередь Тоби Манди за понимание и поддержку, а также Питеру Тэллаку, чьи советы, комментарии и подробная критика были неоценимы. Также я должен поблагодарить сотрудников издательства Ники Джинса и Тома Уортона, которые помогли мне уложиться в сжатые сроки. Работа над книгой была бы невозможна без большой поддержки со стороны Университетского колледжа Лондона, в особенности Оливера Брэддика и Дэвида Ингрэма, предоставивших мне необходимое время и место, а также великолепной библиотеки и ее сотрудников, которые всегда были готовы мне помочь.
В каком-то смысле подготовка этой книги заняла почти три десятилетия, и я должен поблагодарить Ника Хамфри и Майкла Моргана за поддержку моего первоначального интереса, а также за их постоянную заинтересованность, энтузиазм и давнюю дружбу. В течение десяти с лишним лет мне посчастливилось бывать в Университете Ватерлоо и работать с покойным Филом Брайденом, объединившим вокруг себя группу талантливых ученых, в числе которых Таха Амир, Арве Асбьёрнсен, Расс Баучер, Пэм Брайден, Барбара Булман-Флеминг, Лорин Элиас, Джина Гримшоу, Юкихиде Ида, Манас Мандал, Тодд Мондор, Махарадж Сингх, Руна Стинхюс и Дэн Войер. Когда мой интерес к латерализации угасал, они воодушевляли меня. Если я о чем-то и сожалею, так это о том, что мы с Филом не смогли посидеть и поговорить о книге.
Также я должен поблагодарить всех, кто оказывал мне помощь в ходе дискуссий и в поисках малоизвестной литературы: Розалинду Арден, Питера Эйтона, Оливера Брэддика, Найджела Брауна, Дайану Чунг, Джона Кронина, Жюля Давидоффа, Серджио Делла Сала, Финна Фордхэма, Стивена Гангестада, Питера Халлигэна, Лорен Харрис, Йорга Хеннига, Питера Хеппера, Бена Хейдекера, Лиз Хорнби, Кеннета Хагдала, Боба Джейкобса, Стива Джонса, Стивена Ли, Ричарда Ли, Джима Макинтайра, Марка МакКорта, Джона Маршалла, Джеффри Миллера, Ханну Митчисон, Майкла Моргана, Р. Нагараджан, Майка Николлса, Соню Офте, Ричарда Палмера, Майкла Питерса, Сандру Пиццарелло, Эндрю Помянковски, Марвина Пауэлла, Найджела Сэдлера, Ховарда Тейлора, Кита Типтона, Дона Такера, Луку Турина, Стива Апхэма, Джорджио Валлортигара, сэра Эндрю Уотсона, Стивена Уилсона, Чака Высоцки и Рона Йео. Особого упоминания заслуживает Джон Хьюсон за создание веб-сайта книги. Я особенно благодарен Кристине Плейнс, Джонатану Куку, Дику Джеффрису, Белинде Уиндер и Льюису Вулперту за внимательное прочтение частей рукописи и Джонатану Куку, в частности за то, что дал мне возможность собственными глазами увидеть сердце курицы в процессе развития. Джо Паркер и сотрудники музея Вестри Хаус оказали мне огромную помощь, позволив мне еще раз посетить их выставку, посвященную левшам и леворукости, и я особенно благодарен куратору выставки Найджелу Сэдлеру за то, что он предоставил мне доступ к своим неопубликованным заметкам и позволил использовать данные опроса, который он проводил среди посетителей выставки.
Вряд ли найдется книга, автор которой не завершал бы раздел «Благодарности» самой сердечной признательностью родным и близким за терпеливое отношение ко все более требовательной кукушке, попавшей в семейное гнездо. Теперь мне понятно почему. Кристина, Франциска и Анна заслуживают гораздо большего, чем благодарность, и именно им по праву посвящена эта книга.
В издании в мягкой обложке исправлен ряд мелких ошибок. Я особенно благодарен Джону Брэдшоу, Хеннингу Генцу, Йорану Грипу, Иб Нильсену, Марку Прендергасту и Кристоферу Смиту за то, что внимательно прочли предыдущее издание.
1. Проблема доктора Уотсона
В октябре 1835 года в больнице Мидлэссекс в центре Лондона в возрасте сорока восьми лет скончался Джон Рид. Нам мало что известно о его жизни, разве только то, что он не испытывал никаких проблем с грудной клеткой и никто не подвергал ее тщательному обследованию, что, как оказалось, достойно сожаления. Рида лечил молодой энергичный врач Томас Уотсон, который хотел выяснить причину смерти пациента. Было сделано вскрытие. По-видимому, проводил его сам Уотсон. Никто и предположить не мог, какими окажутся его результаты: выяснилось, что сердце Джона Рида находилось не на той стороне. У большинства людей сердце находится слева, а у Рида, в отличие от всех остальных, оно было справа. Более того, все остальные органы тоже располагались наоборот. Его печень была не с правой, а с левой стороны, а желудок и селезенка были не слева, а справа. Как отметил Уотсон, «его внутренние органы выглядели совершенно обыкновенно, но так, словно они отражались в плоском зеркале» (рис. 1.1). Тогда Уотсон назвал этот феномен гетеротаксией, но в современной научной литературе обычно используется латинское определение situs inversus, транспозиция органов, то есть обратное расположение любого из внутренних органов[2]. Доктор Уотсон (рис. 1.2) отличался любознательностью, проницательным умом и явным стремлением достичь высот врачебной профессии, которых он и достиг, сохранив при этом любовь своих коллег – непростая задача в такой конкурентной и самокритичной профессии, как медицина. Родившись в 1792 году, он обратился к медицине только в 27 лет, а до этого изучал математику в Кембриджском университете, где входил в десятку лучших студентов. К 1835 году он стал цензором Коллегии врачей. В 1842 году его жена умерла от послеродовой лихорадки (так называемой «родильной горячки»), и в том же году он впервые предложил, что заражения можно избежать с помощью дезинфекции рук или за счет использования одноразовых хирургических перчаток. В 1859 году ему был пожалован титул Королевского врача, и в 1861 году он был в числе трех врачей, лечивших принца Альберта, скончавшегося от тифа. В 1862 году он был избран президентом Коллегии врачей и занимал эту должность пять лет, а в 1866 году получил звание баронета, и в этом качестве был запечатлен на портрете кисти Джорджа Ричмонда, знаменитого в высшем обществе художника. В «Реестре Мунка», исторической хронике Коллегии врачей, об Уотсоне говорится как о «Несторе среди английских врачей», что намекает на древнегреческого царя Пилоса, старейшего и мудрейшего из вождей, отправившегося под стены Трои. Томас Генри Гексли называл его просто «истинным воплощением врача-философа»[3].
Рис. 1.1. a. Нормальное расположение органов в грудной клетке (situs solitus), сердце смещено к левой стороне, дуга аорты обходит сердце справа налево, правое легкое трехдольно, а левое – двудольно. b. Расположение органов в грудной клетке при situs inversus, представляющее собой зеркальное отображение situs solitus (в данном случае в буквальном смысле, поскольку исходная гравюра была перевернута или, по выражению Уотсона, «отражена в плоском зеркале»)
30 мая 1836 года Уотсон представил результаты обследования Джона Рида на вечернем заседании Коллегии врачей. На столе было выставлено сердце Рида, которое было заспиртовано и отдано на хранение в Музей патологий Королевского колледжа Лондона. Позже в том же году Уотсон составил обширный отчет о случае Рида, добавив описание нескольких десятков других случаев, и опубликовал его в «Лондонской медицинской газете» (London Medical Gazette). Это была блестящая работа, в которой приводились описания случаев, опубликованные на английском, французском и латыни, в том числе даже изложенные в неумелых стихах, написанных самим Лейбницем (тем, что независимо от Ньютона изобрел математический анализ), цитировался на греческом Гален, древнеримский врач, чья репутация в античной медицине уступала только Гиппократу, а авторитет продолжал сохраняться даже спустя полторы тысячи лет. Уотсон собрал мнения еще нескольких ведущих лондонских врачей, а также получил детальное описание аналогичного случая от сэра Эстли Купера, одного из самых уважаемых и просвещенных лондонских хирургов. Уотсон дословно цитирует описанный Купером случай пациентки Сьюзан Райт[4].
Рис. 1.2. Сэр Томас Уотсон. a. Гравюра 1854 г. Ф. Холла по рисунку Ричмонда. b. Фотография 1867 г.
О Сьюзан Райт мы знаем несколько больше, чем о Джоне Риде. Она скончалась от приступа диареи в возрасте 73 лет, 19 марта 1836 года, за десять недель до заседания в Коллегии врачей. До этого ее здоровье было удовлетворительным. В больнице она пользовалась известностью, ухаживая за больными в палатах, и многие отмечали, как ловко она обрабатывает раны и язвы пациентов. Говорят, что она была доброй и человечной и «жизнь вела весьма умеренную, хотя и была несколько раз замечена в состоянии подпития». Она никогда не была замужем, «и посмертное обследование показало, что умерла она девственницей, так как плева не была нарушена…». Вскрытие проводил мистер Брейн, хирург с Сент-Джеймс[5]. Открыв брюшную полость, он с удивлением обнаружил, что все внутренности были расположены наоборот. Вскрыв затем и грудную клетку, он увидел, что и там все зеркально, и отправил записку Куперу, который на следующий день исследовал тело. Как он впоследствии писал, «внутренности были осторожно удалены… и отправлены в мой дом, где я высушил и заспиртовал их». Эти органы также были продемонстрированы на собрании в Коллегии врачей.
В статье в «Лондонской медицинской газете» Уотсон размышляет, как следовало бы описать эти анатомические странности. По некоторым размышлениям он отказывается от таких терминов, как «порок развития» или «уродство»: здесь нет никакого порока, поскольку в органах нет дефектов или неправильностей, они просто расположены зеркально; равным образом, нет в них и никакого уродства, поскольку в них «нет неправильности строения, нет ничего недостающего и ничего лишнего, а следовательно, ничего уродливого. Все члены и органы так же совершенны, как и в обычном случае». Но, как признавал Уотсон, в этом и заключается проблема. Нет никакой очевидной причины, почему «обычный случай» оказывается именно обычным, тогда как зеркальный вариант чрезвычайно редок. Уотсон не увидел никакой разницы в функционировании двух вариантов расположения органов: «Мы не ощущаем какого-либо преимущества или удобства из-за того, что наше сердце расположено с левой стороны, а печень – с правой, и потому не можем ожидать появления какого-либо неудобства или стеснения, если расположение окажется обратным».
Уотсон пытался понять, какой смысл заключается в преобладании одной стороны над другой, если органы работают нормально в любом случае. Он знал о существовании биологической направленности и отмечал, что у большинства моллюсков раковины закручены слева направо, тогда как у отдельных особей, а иногда и у целых видов раковины закручены в противоположном направлении. Поначалу он склонялся к мысли, что случаи перевернутых внутренностей не встречаются у животных, но некий студент из Королевского колледжа рассказал ему, что об этом упоминал Гален, а один мясник – что иногда подобное встречается у овец. Это навело его на мысль, что, возможно, на самом деле положение situs inversus у людей встречается не так уж редко, просто это трудно диагностировать.
С современной точки зрения удивление вызывает как раз то, что большинство таких случаев определялось не при жизни, а лишь в процессе посмертного вскрытия. Однако нам следует помнить, что стетоскоп был изобретен французским врачом Лаэннеком лишь за 16 лет до этого, в 1819 году, и что недостаток опыта работы с этим инструментом оставлял место для ошибок. Известно, что и сам Уотсон не любил использовать стетоскоп, и много лет спустя он писал, что это «скорее, помеха, чем помощь», и говорил, что хотя «и не мог обойтись без него… все же старался прибегать к нему как можно меньше». Уотсон вовсе не походил на доктора Лидгейта, амбициозного молодого врача из романа Джордж Элиот «Миддлмарч», горячего приверженца «научной культуры» в медицинской практике, который в 1829 году, всего через десять лет после изобретения Лаэннека, обследуя престарелого доктора Кейсобона, «не только применил свой стетоскоп (в ту эпоху далеко не часто употреблявшийся врачами), но и подолгу просиживал у своего пациента, наблюдая за ним»[6]. Разумеется, Уотсону не нужен был стетоскоп, чтобы поставить диагноз. Один из приемов, которому первым делом учат студентов-медиков, – это умение одним касанием определять «сердечный верхушечный толчок», пульсацию верхушки сердца, обычно ощущаемую на уровне пятого ребра, на вертикальной линии, идущей вниз от центра левой ключицы. Его нетрудно обнаружить, и, конечно, мне доводилось наблюдать случаи situs inversus, когда верхушечный толчок с правой стороны груди пациента был виден невооруженным взглядом. В конце своей работы Уотсон признавал, что даже «регулярные прижизненные обследования позволяют прийти к однозначным выводам». Вероятно, Уотсон, подобно Лидгейту из романа Элиот, подолгу просиживал у постели Джона Рида, наблюдая за ним[7].
Даже сам факт существования столь необычных людей с зеркальным устройством организма представлял собой загадку, но Уотсона беспокоил еще один более глубокий вопрос, которому он посвятил немалую часть своей работы. Даже если бы организмы Джона Рида и Сьюзан Райт являли собой полное зеркальное отражение нормы, это было бы нелегко объяснить. Однако еще труднее было объяснить, почему зеркальным в их телах было не все. Устройству человека присуща некоторая асимметричность, в том числе асимметричность рук, из-за которой большинство людей – правши. А Джон Рид и Сьюзан Райт были правшами. В своем описании Сьюзан Райт Эстли Купер особо подчеркивает: «Все, кто знал ее, утверждают, что она предпочитала использовать правую руку». Эти два случая нельзя отбросить как статистическую флуктуацию, поскольку Уотсон описал все случаи situs inversus, которые смог найти в медицинской литературе, и хотя о левшах свидетельств не было, в ряде случаев речь несомненно шла о правшах[8].
Уотсон имел основания удивляться тому, что Джон Рид и Сьюзан Райт оказались правшами. Большинство из нас склонно считать, что люди с situs inversus должны быть левшами. Герберт Уэллс – не исключение. В фантастическом рассказе «История Платтнера» Готфрид Платтнер, оказавшись жертвой взрыва некого зеленого порошка, загадочным образом исчезает, чтобы спустя несколько дней вернуться, но теперь «правая доля его печени расположена с левой стороны, левая – с правой; в то время как легкие аналогично перепутаны. Что еще более странно (если исключить возможность того, что Готфрид – искусный актер), это то, что его правая рука за последнее время превратилась в левую. С тех пор как это случилось, ему стало очень трудно писать. Он может писать только справа налево, левой рукой»[9].
Противоречащая интуиции идея Уотсона, что люди с situs inversus, как правило, правши, получила полное подтверждение в современных исследованиях. В наиболее полном из них, ставшим попутным результатом массового флюорографического обследования, проведенного в 1950 году с целью выявления туберкулеза, норвежский врач Йохан Торгерсен сообщает, что из 998 862 человек с situs inversus оказались 122, то есть примерно один из десяти тысяч. Также Торгенсену было известно о еще 70 таких случаях. Хотя у него не было сведений о том, какая рука оказывается ведущей во всех выявленных случаях, из 160 ему известных лишь 11 человек (6,9 %) были левшами – примерно такая же доля обнаруживается у людей, чьи сердца расположены обычным образом, с левой стороны[10].
Возможно, тот факт, что Джон Рид и Сьюзан Райт были правшами, не так уж загадочен, как кажется на первый взгляд. В конечном счете праворукость – всего лишь тип поведения, а многие типы поведения усваиваются через обучение. Мы едва ли бы удивились, узнав, что Джон Рид и Сьюзан Райт писали слева направо, поскольку и всех остальных жителей Британии учили писать именно так. Кроме того, возможно, что предпочтительное использование той или другой руки представляет собой культурную традицию, большинство людей пишет или выполняет иные сложные действия правой рукой только из-за того, что Уотсон называл «простой силой обычая или предрассудка». Уотсон пытался обосновать это явление, но, в конце концов, отказался от этой идеи, склонившись к мнению, что «тенденция к декстральности обусловлена природой» (или, на современном языке, имеет биологическое, а значит, вероятно, генетическое происхождение). Тем не менее он подстраховался, добавив разъяснение, что «тенденция эта не может быть очень сильной, поскольку, несмотря на привитую обучением привычку, она весьма часто преодолевается за счет незначительных внешних воздействий», – и здесь он, похоже, ступает на зыбкую почву, так как преодоление врожденной склонности использовать левую или правую руку обычно оказывается на удивление трудным.
Вывод Уотсона о биологическом происхождении праворукости основывается на кросскультурных исследованиях. Если бы праворукость и в самом деле была произвольной культурной условностью в симметричном во всех отношениях мире, тогда бы все человеческие сообщества поровну делились на право- и леворуких. Уотсон пишет об этом четко и убедительно:
«Предпочтительное использование правой руки, а не левой универсально для всех стран и народов. Насколько мне известно, никаких сведений о существовании целого народа или племени левшей нет… Среди изолированных племен Северной Америки, лишь недавно ставших известными цивилизованному миру, нет никаких исключений из этого общего правила. Капитан Бек сообщал мне, что во встречавшихся ему во время нескольких экспедиций к Северному полюсу семьях эскимосов-кочевников все бросали копья правой рукой, а натягивали тетиву лука левой»[11].
И сегодня нет никаких свидетельств, которые опровергли бы идею Уотсона, но есть множество ее подтверждений.
Но в итоге Уотсон столкнулся с проблемой, которую был совершенно не способен решить и которая остается одним из наиболее волнующих вопросов для современных исследователей. Если происхождение праворукости – биологическое, то почему люди с situs inversus, в телах которых все расположено зеркально, все же остаются правшами?
Со временем оказалось, что проблема еще сложнее, и к ней вполне применимы слова Уинстона Черчилля о Советском Союзе: «загадка, окутанная тайной, внутри чего-то непостижимого», ведь с ней связана загадка и тайна латерализации. Загадка относится к простым молекулам, а тайна – к нейробиологии, затрагивая высший феномен культуры – язык. И загадка, и тайна были обнаружены во Франции в ближайшие два десятилетия после доклада Уотсона на Коллегии врачей. Первую открыл Луи Пастер, вторую – доктор Марк Дакс. Здесь мы остановимся на них лишь кратко, но в последующих главах вернемся к их подробному рассмотрению.
Луи Пастер (рис. 1.3) – возможно, величайший французский ученый. 22 мая 1848 года двадцатипятилетний Пастер представил Парижской академии наук великолепный доклад. В поисках причины прокисания вина он сравнил натуральную винную кислоту, получаемую из винограда, с произведенной промышленным способом виноградной кислотой (так называемой рацемической смесью). Он обнаружил, что хотя обе кислоты идентичны по химическому составу, виноградная кислота иначе взаимодействует с поляризованным светом. Если водный раствор натуральной винной кислоты поворачивает поляризованный свет по часовой стрелке, то в растворе синтетической виноградной кислоты никакого поворота не происходит. Посмотрев в микроскоп, Пастер увидел, что натуральная винная кислота состоит полностью из крошечных кристаллов одного типа, тогда как виноградная кислота являет собой смесь двух типов кристаллов, зеркально повторяющих друг друга. Говорят, он прокричал «Tout est trouvé!», что, пожалуй, лучше всего перевести как «Эврика!». Вслед за тем Пастер проделал скучный, но критически важный эксперимент, рассортировав кристаллы виноградной кислоты на два типа под микроскопом с помощью препаровальной иглы (рис. 1.4). Раствор кристаллов одного типа поляризовал свет по часовой стрелке, так же как и натуральная винная кислота, тогда как раствор кристаллов другого типа поляризовал свет в обратном направлении, против часовой стрелки. Раствор из смеси кристаллов двух типов никакого влияния на свет не оказывал, поскольку эффекты были противоположны и уравновешивали друг друга, как в искусственной виноградной кислоте. Через десять лет выяснилось нечто еще более поразительное: Пастер обнаружил, что микроорганизмы способны жить и размножаться в виноградной кислоте, которая поляризует свет по часовой стрелке, но не жизнеспособны в виноградной кислоте, поляризующей свет против часовой стрелки[12].
Рис. 1.3. Луи Пастер в 1852 году, через четыре года после открытия двух типов кристаллов виноградной кислоты
Рис. 1.4 a. Кристаллы виноградной кислоты, которые Пастер увидел под микроскопом. Натуральная винная кислота, полученная из вина, содержит только правую или (+) форму (на рисунке слева). b. Один из двух типов кристаллов, рисунок Пастера
Открытие Пастера произвело революцию в биохимии. Очень многие из молекул, составляющих тела живых существ, встречаются в лабораторных условиях в двух формах, представляющих зеркальное отражение друг друга (стереоизомеры). Но хотя существовать могут обе формы таких молекул, в человеческом организме присутствует лишь одна из них. Для сахаров это так называемая D-форма, правая, или декстральная (от латинского dexter – правый), для аминокислот – L-форма, или левая (от латинского laevus – левый), определяемая по тому, в каком направлении они вращают плоскость поляризации света – вправо или влево. Полное преобладание одного типа молекул в организме – не уникальная особенность людей, она присуща практически всем живым существам на нашей планете (за некоторыми интригующими исключениями, к которым мы вернемся в главе 6).
Что, если бы двенадцать лет назад Уотсон знал об этом? Это бы многое изменило. Уотсон предполагал, что кирпичики, составляющие наш организм, его главный строительный материал, симметричны, поскольку не было никаких причин думать иначе. Однако если здание, механизм или организм выстроены из асимметричных блоков, то создать его зеркальное отражение будет очень трудно. Взгляните на рис. 1.5. Это простая винтовая лестница из симметричных каменных ступеней. Если камни просто перевернуть, то лестница будет закручена в противоположном направлении. Из одних и тех же блоков можно построить лестницу, закрученную или вправо, или влево. Теперь взгляните на лестницу на рис. 1.6. Каждая каменная ступень асимметрична. Если эти ступени уложены друг на друга, они образуют лестницу, закрученную вправо. Но попробуйте построить из этих ступеней лестницу, закрученную влево. Это просто невозможно. Асимметрия компонентов определяет асимметричность построенных из них структур[13].
Объясняет ли то, что тело состоит полностью из одного типа молекул-стереоизомеров, тот факт, что почти у всех нас сердце находится слева? Возможно. Однако если это так, то еще труднее объяснить, как вообще возможно строение организма с сердцем с правой стороны, а также определить, можем ли мы теперь считать людей с situs inversus просто зеркальными вариантами нормы, по какой-то случайности устроенными иначе, чем остальные. Это как если бы мы попытались напечатать что-то, что должно отображаться в зеркале, но использовали бы только асимметричные буквы, такие как б, е, с или р. И вот первая проблема Уотсона: он утверждал, что «у нас a priori нет возможности выяснить причину, по которой внутренние органы должны быть расположены именно таким, а не иным образом». Но причина, конечно же, имелась, и очень веская, хотя связь между молекулами и внутренними органами стала ясна далеко не сразу.
Рис. 1.5. Устройство простой винтовой лестницы. На верхнем рисунке – отдельная ступень, составляющая лестницу. Она симметрична, поэтому лестница, построенная из таких ступеней (нижний рисунок), может быть повернута или в таком направлении, как показано здесь, или в противоположном
Открытие Пастера было загадкой; тайна же, представлявшая такую сложность для Уотсона, обнаружилась всего через несколько недель после его доклада на Коллегии врачей, хотя ни сам он и никто другой не замечали ее на протяжении четверти века. Так же как эксперименты безвестного монаха Грегора Менделя игнорировались десятилетиями, пока спустя время их не оценили, так и никого не интересовала работа французского врача Марка Дакса. Дакс родился 27 декабря 1771 года и большую часть своей жизни, с 1800 года и до самой смерти, был практикующим врачом в Сомьере, небольшом городке на юге Франции в двадцати милях к северо-западу от Монпелье. Сегодня Дакса помнят по докладу, который он представил в июле 1836 года на заседании медицинского общества в Монпелье, Le Congrès Méridional. В вольном переводе название доклада звучит так: «Повреждение левого полушария мозга, связанное с забвением признаков мышления (то есть утратой речи)». Доклад был прочитан, но не был напечатан, а сам Дакс скончался через год в возрасте 65 лет, и его идеи были преданы забвению. Однако почти тридцать лет спустя, в 1865 году, его сын, доктор Гюстав Дакс, опубликовал рукопись отцовского доклада, а тема локализации речи стала одной из наиболее горячо обсуждаемых в научных кругах Парижа. Причиной тому стало утверждение доктора Поля Брока, что язык и речь связаны лишь с одним полушарием на первый взгляд симметричного человеческого мозга[14].
Рис. 1.6. Устройство сложной винтовой лестницы. На верхнем рисунке – ступенька такой лестницы. Отметим, что она совершенно несимметрична, может быть лево- или правосторонней (здесь показан лишь один вариант). В результате лестница может быть повернута лишь в одном направлении (здесь показана ее средняя и нижняя части)
Доклад Дакса-старшего открывается описанием случая, когда в сентябре 1830 года он наблюдал пациента, кавалерийского капитана, который после удара саблей в голову с трудом запоминал слова. Дакс читал работу френолога Галля, считавшего, что различные психические функции локализованы в разных отделах мозга. Поэтому Дакс прежде всего спросил у кавалериста, куда именно был нанесен удар, и тот сообщил, что в левую теменную область. Галль никогда не утверждал, что психические функции могут быть связаны лишь с одной стороной мозга, а потому этот случай был непонятным. Однако в последующие годы Дакс наблюдал все больше и больше пациентов и в конечном счете пришел к выводу, хотя и плохо совпадавшему с типологией Галля, что утрата речи связана с повреждением левого полушария мозга.
Дакс-младший опубликовал рукопись отца на фоне чрезвычайно горячих и оживленных дебатов, проходивших в Медицинской академии, а также Антропологическом и Анатомическом обществах Парижа. Они начались со спора о том, какая часть мозга отвечает за речь. Жан Батист Буйо утверждал, что отдел, связанный с речью и языком, расположен в лобных долях, непосредственно над глазницами. В 1861 году Поль Брока (рис. 1.7), хирург, питавший большой интерес к анатомии и антропологии, наблюдал двух пациентов, у которых были проблемы с речью. Как ни странно, сохранились даже фотографии, на которых запечатлены хранившиеся в Париже мозги этих пациентов. Первый больной, Леборн, мог произнести лишь одно слово Tan («пора») и долго был известен под этим прозвищем. С детства он страдал эпилепсией, вначале приведшей к параличу правой руки, а позже и правой ноги. Его поместили в госпиталь Бисетр, где он провел 21 год и скоропостижно скончался в 11 утра 17 апреля 1861 года от запущенной флегмоны и гангрены правой ноги. Двадцать четыре часа спустя было проведено вскрытие, мозг был удален и через несколько часов представлен на заседании Антропологического общества, после чего заспиртован. На фото на рис. 1.8 мы видим, что он был сохранен в вертикальном положении, что несколько необычно. Если повернуть изображение на девяносто градусов по часовой стрелке, оно предстанет перед нами в более привычном виде. Точная причина болезни Леборна (Тана) остается неясной, но даже по довольно нечеткой фотографии ясно видно, что поражена обширная область левой лобной доли. Больше всего Брока заинтересовало то, что пораженная область находилась именно здесь, особенно когда спустя некоторое время такие же повреждения обнаружились у другого больного[15].
Рис. 1.7. Поль Брока в возрасте чуть более 50 лет, примерно через десять лет после того, как он описал мозг Тана и Лелонга
Другого больного звали Лелонг. Весной 1860 года, когда ему было 83 года, с ним случился удар, после которого, как сообщила его дочь, он лишился речи. Восемнадцать месяцев спустя, 27 октября 1861 года, он упал и сломал шейку левого бедра. В те времена, до того как появилась возможность хирургической замены бедренного сустава, такой перелом фактически означал смертный приговор, и через двенадцать дней Лелонг скончался, находясь на попечении Брока, в чье хирургическое отделение он был доставлен. Посмертное исследование мозга ясно показало, что у него была повреждена почти та же область, что и у Леборна (рис. 1.9).
В то время Брока главным образом интересовал тот факт, что повреждения были локализованы в лобных долях (в области, которую ныне называют зоной Брока). В апреле 1863 года, наблюдая восемь пациентов, у каждого из которых было повреждено левое полушарие, он отметил: «Примечательно, что у всех этих пациентов поражение было с левой стороны. Я не смею сделать на основании этого какое-то заключение и ожидаю новых данных». Позднее в том же году он опишет случаи не менее 25 новых больных с патологией, которую он назвал афения (но вскоре оно стало известно как афазия), то есть утрата речи. У всех больных была повреждена левая сторона мозга. Диагнозы всем пациентам были поставлены при жизни: какая именно сторона мозга поражена, было ясно из того, что все больные страдали параличом правой стороны тела, или гемиплегией. Одна из странностей нервной системы состоит в том, что правое полушарие мозга контролирует левую сторону тела и наоборот: нервы, связывающие тело и мозг, перекрещиваются в стволе мозга. Это означало, что у пациентов Брока, страдавших правосторонним параличом, было поражено левое полушарие мозга.
Рис. 1.8. Мозг Леборна (Тана), хранящийся в Музее Дюпюитрена. Мозг размещен вертикально, лобные доли наверху, а мозжечок виден в левом нижнем углу. На этой фотографии видно только левое полушарие мозга. Большая темная подковообразная область в середине, примерно в нижней трети снимка, – это повреждение зоны Брока
Для Брока выводы были очевидны:
«С физиологической точки зрения это самый серьезный вопрос… Если очевидно, что некая конкретная и совершенно определенная способность… нарушается исключительно из-за поражения левого полушария, из этого неизбежно следовало бы, что два полушария мозга обладают разными свойствами – а это настоящий переворот в физиологии нервных центров. Я должен признать, что мне нелегко дался столь революционный вывод».
Рис. 1.9. Мозг Лелонга, сохраненный в Музее Дюпюитрена. На фотографии видно левое полушарие. В отличие от мозга Тана на верхнем рисунке, он сохранен в более привычном положении, лобные доли обращены влево, а мозжечок не виден (он скрыт полушариями мозга и должен быть в правой части снимка). Обширная пораженная область видна сразу над левой половиной таблички
Брока был совершенно прав – это действительно подрывало все основы и фактически было «настоящей революцией». Как две, казалось бы, одинаковых доли серого вещества могли быть столь разными? Одна, левая, отвечала за язык и речь – эти высшие достижения человеческого разума, венчающие корону цивилизованной жизни, а другая, почти такая же по форме, позволяла человеку издавать лишь односложные возгласы, вроде тех, что были доступны Тану и Лелонгу. Да, это так. Открытие Брока с тех пор не оспаривалось, и любой практикующий врач или невролог неоднократно мог подтвердить его на основе собственного ежедневного опыта[16].
Одним из таких практикующих врачей был сам Томас Уотсон. В 1871 году в возрасте 79 лет он опубликовал пятое издание «Лекций о принципах и практике лечения», одного из самых успешных учебников по медицине в викторианской Англии, первое издание которого, основанное на его курсе лекций в лондонском Королевском колледже, вышло почти за сорок лет до этого в 1843 году. Уотсон довольно честно пишет о легкости воспроизведения главного открытия: «Просматривая краткие записи, хранившиеся много лет, я обнаруживаю частые свидетельства сочетания той или иной формы афазии с правосторонней гемиплегией». Уотсон даже публиковал такие случаи, например в первом издании своего учебника. Но, несмотря на это, Уотсон был скептически настроен по отношению к теории Брока, полагавшего, что речевые способности связаны с конкретной зоной мозга: «Я не могу принять – я не верю – теорию, выдвинутую Брока». Он приводит мнение, которое приписывает доктору Джону Хьюлингсу Джексону, великому лондонскому неврологу, тогда пребывавшему в расцвете своей карьеры, о том, что «способность к речи не обнаруживается ни в какой области мозга, потому что она присутствует везде». Недостатки такой точки зрения, однако, были совершенно очевидны: если способность к речи присутствует везде, то почему поражение левого полушария вызывает афазию, тогда как поражение правого полушария, как правило, к ней не ведет? Уотсон, как и почти 35 лет назад, пытался выработать некую теоретическую модель и вернулся к своей старой сфере интересов – загадке право- и леворукости[17].
Поскольку очевидно, что внешне мозг выглядит симметричным, то кажется маловероятным, что причина совершенно асимметричного сочетания афазии с правосторонним параличом заключается в самом мозге. Напротив, Уотсон отмечал, что наши парные органы – глаза, легкие и почки – с рождения работают сообща: каждый орган выполняет свою половину работы. Два полушария мозга, утверждал он, должны были бы работать так же, если бы не «одно досадное исключение: мы все вырастаем правшами». Согласно Уотсону, в результате мозг отводит под речь лишь одно полушарие, левое. Таким образом, латерализация языка в левом полушарии вытекает из праворукости и напрямую связана с ней. Чуть далее Уотсон несколько смягчил свое утверждение, отметив, что «правое полушарие, конечно, иногда может брать на себя [речь], точно так же, как некоторые люди являются левшами». Это хоть как-то объясняет тот факт, что не у всех речь связана с левым полушарием. Но теоретические трудности только усугублялись, потому что Уотсон все еще пытался понять, почему мы в большинстве своем правши (свойство, которое он еще раз объявляет универсальным: «общим для всех народов и рас»)[18].
Тогда Уотсон выдвинул другую теорию, совершенно ошибочную, но любопытную. Он вернулся к анатомии и обратил внимание на то, как мозг снабжается кровью. Артерии в грудной клетке, ведущие от сердца, так же асимметричны, как и само сердце, из чего следует, что сонные артерии, обеспечивающие основной поток крови в полушария мозга, так же асимметричны (см. рис. 1.1).
Благодаря хорошо известному расположению артерий, восходящих от дуги аорты, левое полушарие получает через сонную артерию более прямой и, следовательно, более свободный приток крови, чем правое. Вероятно, по этой причине… извилины передней доли левого полушария [то есть зона Брока] развиваются в более ранний период, чем на противоположной стороне… В этом же мы находим возможную причину того, что большинство людей – правши.
На первый взгляд теория выглядит удачной, но минутное размышление показывает, что она не может быть правильной. Ее опровергают наблюдения самого Уотсона, сделанные в 1836 году: ведь если мы оказываемся правшами или левшами из-за асимметрии кровоснабжения мозга, то люди с situs inversus должны в большинстве своем быть именно левшами. Однако сам Уотсон подчеркивал, что это не так[19].
Сэр Томас Уотсон помог нам составить карту той области, что мы намерены исследовать. Проблемы, рассмотренные им, сегодня стоят столь же остро, как в ту эпоху, когда он впервые затронул их, и существует множество связанных с ними других вопросов, не менее загадочных. Но впереди нас ждут захватывающие времена. В последние годы, особенно в два минувших десятилетия, исследователям удалось значительно продвинуться вперед. С начала 1960-х накопилось огромное количество исследований о право- и леворукости и различиях между полушариями мозга. В 1980-е годы, впервые за долгое время, биологи всерьез заинтересовались важнейшим вопросом о том, почему у позвоночных сердце расположено с левой стороны. И в этой области был достигнут немалый прогресс. Одновременно с этим интенсивно изучались связи между анатомическими и биохимическими асимметриями – в том числе и главный вопрос о том, существует ли между ними какая-то прямая причинно-следственная связь. Как мы увидим, скорее всего – да.
В 1991 году Фонд фармацевтической компании Ciba, узнав о существенном прогрессе в понимании асимметрии живых организмов, организовал конференцию под названием «Биологическая асимметрия и хиральность». В течение трех дней двадцать девять ученых – от физиков, химиков и биохимиков до специалистов по анатомии, биологии развития и фармакологии, а также психологов и неврологов – обсуждали эти вопросы. Присутствие представителей всех этих дисциплин было необходимо, так как становилось все более очевидно, что полное понимание одной из них невозможно без понимания всех остальных. Председательствовал на конференции Льюис Уолперт, левша, который, как настоящий ученый-экспериментатор, не мог не начать заседание с проверки своей любимой гипотезы – что левшами окажутся и большинство участников конференции. Оказалось, что это не так: левшами были всего двое, семь процентов, доля, сравнимая с долей левшей среди всего населения и среди всех исследователей латеральности. В конце одного чрезвычайно разностороннего и напряженного обсуждения Льюис весело заметил: «От молекул до мозга за одно заседание, одним махом!» Масштаб и в самом деле был таким, хотя едва ли многие сказали бы, что эту проблему можно охватить с такой легкостью. В этой книге мы попытаемся связать воедино эти области, приводя подтверждения из очень широкого круга дисциплин, хотя это не всегда будет легко. Это, однако, заведет нас во многие уголки и закоулки физического, биологического, когнитивного и социального мира[20].
Исследуя хиральность во всех ее проявлениях, в том числе и в форме право- и леворукости, мы проделаем путь от самого малого к самому крупному, от субатомных масштабов к космологическим. Хотя мы обнаружим асимметрии, или разные формы хиральности, на всех этих уровнях, мы также выясним, что их смысл и значение в значительной мере связаны с универсальным стремлением людей по-разному трактовать левое и правое на символическом уровне. Именно с этого и начинается эта книга.
2. Смерть и правая рука
Его гибель была случайной, как и великое множество смертей в Первой мировой войне. Она настигла его в двадцати милях восточнее того места, где год спустя 650 тысяч французских и немецких солдат погибнут в «Верденской мясорубке», сражении, которое историк Алан Джон Персиваль Тэйлор назвал «самым бессмысленным эпизодом войны, в которой вообще не было никакого смысла». В 2 часа 50 минут пополудни 13 апреля 1915 года, прекрасным весенним днем, французский лейтенант поднял людей из траншеи, прошел десять метров в сторону врага и упал, смертельно раненный. Два младших лейтенанта последовали за ним и почти тут же пали.
Они преодолели не более полутора десятков из почти трехсот метров открытого пространства, отделявшего их от вражеских позиций, и, оказавшись на виду, были скошены очередью немецкого пулемета. Еще через несколько секунд были убиты 22 солдата. Одним из убитых лейтенантов был социолог и антрополог Роберт Герц (рис. 2.1). Ему было всего 33 года. Его тело, лежавшее рядом с другими офицерами, забрали только на следующую ночь. В последнем письме Герца к жене Алисе явно сквозит предчувствие беды: «un baiser grave et pieux – pour toujours» – «целую серьезно и нежно – навсегда».
Рис. 2.1. Роберт Герц
Атака на деревню Маршевиль, в которой участвовал Герц, едва ли могла увенчаться успехом: офицеры хорошо знали, что идут практически на верную смерть. Впоследствии друг и коллега Герца, социолог Марсель Мосс, ставший и редактором его работ, назвал это событие «l’attaque inutile» (бессмысленной атакой). Несомненно, атака преследовала важную военную цель. Равнину Вевр, ведущую прямо к немецкому городу-крепости Мец, пересекает река Мёз (Маас), и в сентябре 1914 года немецкая армия быстро получила тактическое преимущество, устроив переправу через реку близ Сен-Мийель. Сражение на Вевре, в котором участвовал Герц, было неудачной попыткой отбить Сен-Мийель, вновь оказавшийся в руках французов лишь в сентябре 1918 года, за два месяца до конца войны, в результате атаки Первой Американской армии генерала Першинга[21].
Герц был учеником знаменитого социолога Эмиля Дюркгейма, скончавшегося в 1917 году в возрасте 59 лет и ставшего свидетелем смерти целой когорты молодых перспективных ученых. Некролог всем им написал в 1925 году племянник Дюркгейма Марсель Мосс, также внесший в антропологию важнейший вклад благодаря своим работам о природе и символике обмена дарами. В скорбном списке утрат значатся «павшие на фронте Герц, Давид, Бьянкони, Ренье, Гелли», Боша, который в 1914 году «погиб за науку» от голода и холода во время этнографической экспедиции на остров Врангеля, и Лифит, скончавшийся «от долгой и жестокой болезни, возможно, усугубленной двумя ранениями». Наконец, среди погибших был сын самого Дюркгейма, лингвист Андре, смерть которого оказалась «двойным ударом – для его семьи и для науки, и стала одной из причин смерти его отца [от инсульта]». Андре Дюркгейм умер в декабре 1915 года в болгарском госпитале от ран, которые получил, командуя взводом прикрытия после разгрома и отступления из Сербии[22].
Школа Дюркгейма отличалась несколькими характерными чертами. Прежде всего она придерживалась функционалистского подхода и утверждала, что, когда мы смотрим на далекое от цивилизации, иное и как будто примитивное общество, поведение которого кажется нам странным, то необходимо, во-первых, быть непредвзятым, а во-вторых, попытаться оценить возможные функциональные преимущества таких типов поведения и социальной организации. Проще говоря, люди не глупы, и если они постоянно что-то делают, то более вероятно, что они делают это по какой-то причине, пока еще не понятой, чем вообще без причины. Так, в своей книге о дарах Мосс пишет, как «потлач» – церемониальный и ритуализированный обмен щедрыми дарами между племенами северо-запада Америки – можно понять как распределение излишков продукции, а также укрепление структуры общества с помощью трех обязанностей: «давать, получать и воздавать»[23].
Другим новшеством стало предположение Дюркгейма и его школы о том, что примитивные классификации мира всегда несколько ограниченны, поскольку люди примитивного мира не являются и никогда не были нейтральными, рациональными учеными, собирающими информацию, какими мы хотим быть сегодня. В результате они неизбежно описывали мир в терминах единственной непосредственно доступной им системы – социального мира, в котором они обитают, с его семейными, племенными и прочими связями и отношениями.
Третьей важной инновацией школы Дюркгейма стала методология, делающая акцент на «компаративном методе» – систематическом сравнении большого количества обществ и культур, а не погружении лишь в одну из них. Антропологи практически поселились в архивах и библиотеках, штудируя записи своих предшественников, изучавших местные языки, нравы и обычаи. Слабость этого метода в том, что чтение никогда не равняется действию: между книжным знанием и полевым опытом может лежать пропасть. Сам Герц сознавал эту разницу. Он глубоко погрузился в культуру даяков и даже выучил их язык, так что чувствовал, что знает их как родных. Но в 1912 году, посетив альпийскую глушь близ Аосты, чтобы изучить культ святого Бессе (Бессуса), он заметил: «Насколько же прямой контакт с реалиями живее работы в библиотеке»[24].
Герц также предвосхитил современный подход к антропологии: не обязательно забираться в глухие уголки планеты, чтобы обнаружить странные, непохожие на других культуры со сложной системой верований. Сегодня антропологи могут изучать практически любую подгруппу современного общества – от научного персонала атомных электростанций до раскладчиков товаров в супермаркетах или хирургов в операционных. Реймонд Ферт отмечал, что «одна из задач антропологии – задавать вопросы об очевидном… Почему мы пожимаем правую руку, когда здороваемся? Почему почетного гостя сажают справа?». Ответы на такие банальные вопросы далеко не банальны. Как еще в XVII веке указывал Джон Балвер, рукопожатие исполнено смысла: «Пожать протянутую руку – это обычное выражение дружбы, мирных намерений, милосердия, приветствия, умиротворения и радушия; примирения, поздравлений, благодарности, пожеланий здоровья и благополучия». Тем не менее современная форма рукопожатия – изобретение XVIII или XIX века. Если верить Флоберу, она могла возникнуть в Англии: в романе «Мадам Бовари» Леон Дюпюи прощается с Эммой рукопожатием, на что она замечает: «A l’anglaise donc» – «Ну, по-английски»[25].
В 1907 году Герц опубликовал свою первую работу – о коллективных представлениях о смерти в разных обществах. Этот очерк и сопровождавший его фрагмент о символике левого и правого полвека спустя были объединены в английском переводе под редким и драматичным названием «Смерть и правая рука». Очерку о смерти предшествовали обширные исследования, которые Герц вел в библиотеках: в частности, десять месяцев он провел над книгами и документами в Британском музее. В начале своей работы он подчеркивает, что речь идет прежде всего о социальном феномене, выходящем за пределы жизни и смерти как простых биологических фактов; смерть завершает не только телесное бытие личности, но также и ее социальную функцию[26].
Герца особенно поразило, как по-разному воспринимают смерть разные общества и культуры. В частности, он рассматривал так называемые «погребальные обряды» в Индонезии и феномен второго погребения, при котором окончательное захоронение тела происходит спустя недели или даже месяцы после смерти. Надо сказать, что некоторые из этих погребальных обрядов могут показаться современному западному читателю отвратительными, хотя следует признать, что и наши обычаи обращения с покойными близкими показались бы столь же странными тем, кто практикует второе погребение. В числе типичных примеров, описанных Герцем, – существующий на Бали обычай в течение многих недель хранить тело в доме в специальном гробу с отверстиями в дне, чтобы жидкости разлагающегося тела стекали в чашу, которую ежедневно опорожняют в ходе специальной церемонии; или же обычай даяков Борнео собирать эти жидкости, смешивать их с рисом, который затем съедают во время траура; а также часто встречается растирание этими жидкостями тела родственника покойного. Окончательное второе погребение может включать в себя соскабливание остатков плоти с костей, после чего их кремируют и затем растирают в порошок, который входит в состав пасты, которую намазывают на тело: так поступают некоторые племена Южной Америки. Герц понимал, что всему этому разнообразию должно быть какое-то объяснение. Борясь с искушением искать рациональное объяснение погребальным обрядам и глубинному фундаментальному сходству между обществами, Герц предупреждает: «Нам не следует подмечать в этих разнообразных практиках общие черты… которых у них нет». Вот и нам не обязательно углубляться в то, что Герц писал о смерти, разве что стоит отметить, что ему пришлось изменить свои представления о правом и левом и признать существование общих черт в разных культурах.
В 1909 году, через два года после написания эссе о смерти, Герц опубликовал самую знаменитую из своих статей, в которой обрисовал идеи, лежащие в основе и этой книги. Она называлась «Преобладание правой руки» и затрагивала проблему символики левого и правого: как и почему сложилось так, что левое и правое зачастую получают символические, метафорические и ритуальные смыслы, помимо простого обозначения положения в пространстве. Статья начинается с поэтичного риторического пассажа, напоминающего шекспировский «Что за мастерское создание – человек!»[27]. Жаль, что сегодня едва ли можно представить себе редактора, принимающего подобный материал в какой-нибудь научный журнал:
Что сходно более, чем наши две руки! И все же как поразительно они не схожи!
Правой руке достаются почести, хвалы, прерогативы: она действует, указывает и берет. Левую, напротив, ни во что не ставят, отводя ей роль скромную и вспомогательную: сама по себе она ни на что не годна; она лишь помогает, поддерживает, держит.
Правая рука – символ и образ любой аристократии, левая – всего простого народа.
Отчего же правая рука столь благородного звания? И почему левая оказалась подневольной?
Как и в эссе о смерти, Герц начинает рассуждение с биологии, но затем приходит к выводу, что символика правого и левого не может сводиться лишь к биологическим различиям между двумя руками. Это сложные социальные феномены, а если они социальные, то у них должна быть коллективная основа, а если основа коллективная, то не обойтись без разговора о священном и профанном. Как отмечал Дюркгейм, «Герц показал, что причины преобладания [правой руки] по сути религиозные»[28].
Главное отличие между эссе Герца о смерти и его статьей о правой руке в том, что в первом он легко подчеркивает культурные различия в подходе к смерти, обнаруживая лежащее за ними глубинное сходство целей и функций, но сделать это в отношении дифференциации правого и левого оказывается значительно труднее. Хотя символика левого и правого во многих случаях произвольна, Герц вынужден считаться с тем фактом, что почти во всех обществах преобладающее значение имеет правая рука. У такого единообразия должна быть какая-то причина. С символикой левого и правого возникла та же проблема, с которой столкнулся сэр Томас Уотсон, отмечавший, что если бы ведущая роль той или иной руки была чисто социальным феноменом, то правшей и левшей в мире было бы примерно поровну. Если символика произвольна, то почему она почти всегда одинакова? Правое почти всегда считается хорошим, а левое – плохим, а не наоборот.
Прежде чем задуматься над тем, почему правое и левое имеют символическое значение и что значит быть символическим, необходимо кратко ознакомиться с тем, что представляет собой символизм в разных контекстах. Мы начнем со взгляда на символику правого и левого применительно к смерти – Герц бы оценил такой подход.
Один из самых ранних примеров символики правого и левого, обнаруженных археологами, это похоронные обычаи ранних протоиндоевропейцев, представителей курганной культуры, пришедших, по-видимому, из области между Доном, Волгой и Уралом на территории современной России и Казахстана и господствовавших в Европе в четвертом тысячелетии до нашей эры. Они уделяли огромное внимание погребальному обряду: он сопровождался чрезвычайно сложными церемониями, которые многое говорят нам об их образе мыслей и общественной жизни. Герцу многие из этих ритуалов показались бы знакомыми: например, часто практиковавшееся шахтное погребение, устроенное так, чтобы покойник мог снабжаться водой и пищей. Тела умерших располагали в полусогнутом состоянии, почти в позе эмбриона, что, вероятно, указывает на веру в возможность возрождения. Полусогнутое тело могло быть захоронено в разных положениях, как на левом, так и на правом боку. Для курганной культуры и индоевропейцев эти способы были отнюдь не случайны. Четыре главных типа захоронений схематически изображены на рис. 2.2, стрелка компаса указывает направление, в котором располагались тела.
В трех из четырех групп тела мужчин и женщин захоронены по-разному. Почти нет сомнений, что перед нами нечто символическое. Было бы нелегко найти какую-то практическую причину, связанную с потребностями обычной жизни или природными факторами, которая приводила бы к такой последовательности в культурах и при этом к таким различиям между ними. Какая же символическая система стоит за этим? Как подчеркивал антрополог Леви-Стросс, в случае с символизмом часто бывает так, что картина становится ясной лишь тогда, когда мы рассматриваем весь набор мифов или символов в совокупности. Каждый из них в отдельности может поддаваться объяснению; весь набор – нет[29].
Чтобы понять суть этих погребений, нужно обратиться к природному и духовному миру древних европейцев. Для людей эпохи неолита небо имело огромное значение, которое сегодня и вообразить трудно: немногие сейчас знают фазы Луны или положение Солнца на небе. Для индоевропейцев, обитавших намного севернее тропика Рака, Солнце, особенно в середине лета, всегда было на юге. Оно вставало на востоке, прокатывалось по южному небосклону и садилось на западе. Затем, почти чудесным образом, оно снова всходило на следующий день, опять на востоке. Положение Солнца в буквальном смысле давало возможность ориентироваться, то есть определять восток (от латинского oriens – восток). Если они смотрели на восходящее Солнце и следили за его движением в течение дня, оно всегда было справа – со стороны их правой руки. Существует глубинная связь между доминированием правой руки и движением Солнца, обеспечивающего жизнь и тепло (рис. 2.3). Ночь и день и четыре стороны света – составляющие вечного круговорота, вращающегося вправо. Символическое значение здесь прямолинейно: восток означает рождение Солнца и начало жизни, юг – тепло и продолжение жизни, запад – закат Солнца и окончание жизни, а север – смерть самого Солнца, которому предстоит возродиться на востоке на следующее утро[30].
Рис. 2.2. Схематическое изображение мужских и женских погребений в курганной культуре III–IV и культуре колоколовидных кубков I, II и III
Рис. 2.3. Схема, изображающая положение правого и левого по отношению к сторонам света и движение Солнца относительно человека, стоящего в центре лицом к востоку на восходе. Схема верна только к северу от тропика Рака
Такие символические связи, вероятно, объясняют многое в индоевропейских похоронных обрядах. В каждом случае тела обращены лицом к востоку или югу, что подразумевает возрождение или продолжение жизни. Если теория кажется несколько неопределенной из-за того, что тело может располагаться лицом к востоку или югу, то стоит иметь в виду, что во многих индоевропейских языках слова со значением «правый» и «юг» отчасти взаимозаменяемы: в санскрите, например, dakshina значит и «правая рука», и «юг», а puras – «перед» и «к востоку». Так же в древнеирландском deas и ders значат «направо» и «к югу», а jav – «позади» и «запад»; и так далее[31].
Символизм, о котором здесь идет речь, – не уникальная особенность ранних индоевропейцев. Культурные системы, в которых мы живем сегодня, отражают многие подобные идеи. В христианскую традицию, например, вошло множество более ранних символических традиций, ставших сегодня неотъемлемой частью иконографии. Мы входим в церковь через двери на западе, лицом к алтарю, обращенному к восходящему Солнцу. Точно так же на христианских церковных кладбищах погребения обычно обращены к востоку «в вере и твердом уповании» на вознесение или возрождение.
Перемещения Солнца стали ассоциироваться не только с правым и левым, но и с движением по кругу. Солнце движется по небу по часовой стрелке, и во многих ситуациях считается вежливым или правильным следовать в этом направлении. В Древней Греции считалось особенно благоприятным, если предзнаменования являлись с правой стороны. Портвейн после ужина по традиции подавали по часовой стрелке, то есть справа налево, а в XVII веке даже бытовало выражение Catharpin-fashion[32], означавшее «когда люди в компании пьют по диагонали, а не справа налево, или посолонь». В древнеанглийском понятия deasil и widdershins означали соответственно «посолонь» и «противосолонь» (то есть «по часовой стрелке» и «против часовой стрелки»), и во многих ситуациях двигаться противосолонь считалось непозволительным или воспринималось как плохая примета. Например, во время вальса пары в основном кружатся по часовой стрелке, лишь иногда «реверсируя» с переменой направления, из чего следует, что направление по часовой стрелке считается наиболее правильным и естественным.
Во многих механизмах Средневековья и Нового времени, например водяных и ветряных мельницах, а также шлифовальных станках, присутствуют вращающиеся детали (а жернов, вращающийся по часовой стрелке, называется «правосторонним»). Любопытно, что в большинстве таких механизмов детали, находящиеся на виду, вращаются по часовой стрелке, хотя главный привод часто вращается в противоположном направлении. Наличие механизмов с дополнительными промежуточными шестернями между главными колесами, работающими только при переключении на обратный ход (и поэтому снижающими эффективность передачи), говорит о том, что причина стремления сделать механизм вращающимся по часовой стрелке лежит не столько в механике, сколько в символической области. Идею правильного направления вращения прекрасно иллюстрирует современный и лишенный всякой сакральности фрагмент интервью со скульптором Ричардом Серра. На вопрос о гигантской скульптуре «Двойной закрученный эллипс II», сквозь которую зрители могли проходить, Серра ответил: «Мне кажется, при движении по часовой стрелке легче удержать равновесие. Возможно, мне просто так больше нравится, хотя я думаю, что идти слева направо – это естественное побуждение». Здесь мы видим продолжение очень старой традиции сводить объяснение чего бы то ни было к безосновательному ощущению «естественного»[33].
В индоевропейских погребениях, показанных на рис. 2.2, ясно видно, что предпочтение отдавалось югу и востоку и что это соотносится с тем, на каком боку лежит тело, левом или правом. Однако в трех из четырех типах погребений видно, что отношение к мужчинам и женщинам было разным. При этом отношение к женщинам явно связано со способом погребения мужчин, что создает некий род симметрии, так что в курганной культуре III–IV и колоколовидных кубков III женские погребения оказываются зеркальными по отношению к мужским по оси север-юг, а в культуре колоколовидных кубков I они зеркальны по оси восток-запад. Система символики правого и левого связана и с символикой мужского-женского. В таком соединении символических систем нет ничего необычного, по сути, как мы увидим, это почти норма. Иногда она совершенно явно выражена, как у народа гого в центральной Танзании, который называет правую руку muwoko wokulume – «мужская рука», тогда как левая рука называется muwoko wokucekulu – «женская рука». Подобные обозначения правой руки типичны для языков юга Африки. В одном из обзоров, описывающих 37 языков группы банту, правая рука обозначается как мужская в 16 случаях. В других языках банту она именуется как «рука, которой едят» и иногда как «бросающая рука» или «большая рука». В одном или двух случаях значение туманно. Так, на суахили выражение mkono wa kuvuli может происходить от слова uvuli – «тень» и, возможно, означает «рука, несущая зонт»[34].
Связь правого и левого с различием мужского и женского, а также с сексуальным поведением и плодородием, похоже, существует во всем мире – ведь и Фрейд отмечал: «Кажется очевидным, что правое и левое должны обозначать мужское и женское». Во многих уголках мира правой рукой принято есть и совершать разные действия выше талии, тогда как левая используется для очистительных действий, в частности, связанных с телесным низом – туалетом и гениталиями. Гого распространили это разграничение на сам половой акт, поэтому во время сексуальной прелюдии мужчина лежит на правом боку, левой рукой стимулируя женские гениталии. Басуто считают, что если женщина во время коитуса лежит на правом боку, то родится мальчик. В Китае врачи предсказывали пол будущего ребенка, основываясь на том, что девочка лежит в утробе справа, а мальчик слева. Индейцы мохаве в Аризоне и Калифорнии подтираются левой рукой, которая считается материнской стороной тела, а едят правой, которую считают отцовской: отцовская сперма метафорически кормит растущий плод. Народ кагуру в Танзании верит, что плод в утробе состоит из двух половинок: правая происходит от отца, левая – от матери[35]. Ту же идею можно заметить и в шекспировской пьесе «Троил и Крессида», в эпизоде, когда Гектор объясняет, почему он больше не будет биться со своим кузеном Аяксом:
- Та целиком троянская рука,
- Та – греческая; кровь отца течет
- В одной щеке, зато в другой струится
- Кровь матери-троянки![36]
Идея о том, что пол предопределяется различиями между правым и левым, широко представлена в западной научной мысли. Половые хромосомы были обнаружены только в 1902 году, и, прежде чем стало известно, что пол ребенка зависит от того, какую из них, X или Y, он получит от отца, существовало множество надуманных теорий, объясняющих происхождение маскулинности и фемининности. Неудивительно, что тема правого и левого тоже присутствовала в этих теориях. Анаксагор в V веке до н. э. в согласии с современной наукой предположил, что пол ребенка зависит от отца, но в отличие от сегодняшних воззрений считал, что мальчики происходят от правого яичка, а девочки – от левого. Даже в античные времена из этой идеи естественным образом последовало предположение, что лигатура левого яичка приведет к тому, что сперма будет поступать только из правого, и родится мальчик. Этот взгляд продвигал средневековый врач и философ Эгидий Римский, и его можно обнаружить даже в опубликованной в 1891 году книге миссис Иды Эллис «Основы зачатия», утверждавшей, что «мужчина может породить дитя мужского или женского пола по своему желанию, затянув эластичным бинтом то яичко, участие которого не требуется. Семя из правого яичка порождает детей мужского пола, а из левого – женского». Не все греческие философы соглашались с тем, что пол ребенка определяет мужчина. Эмпедокл, например, полагал, что пол определяется женщиной, так как ее матка теплее справа, а значит, именно этой стороной вынашиваются дети мужского пола[37].
Правое и левое ассоциировались не только с мужским и женским. В самом деле, порой кажется, что трудно найти что-то, с чем бы они не ассоциировались. Взять, например, пурум, небольшое племя, обитающее на границе Индии и Бирмы. Их изучали и полевые антропологи, и теоретики, в особенности Родни Нидхем из Оксфордского университета, который, вероятно, больше чем кто-либо другой сделал для того, чтобы возродить среди современных ученых интерес к Герцу и его работам[38].
Социальное устройство племени пурум составляют две принципиально обособленные группы, или два клана, которые Нидхем назвал «дающие жен» и «берущие жен». Предметы, которыми пурум обмениваются на основе бартера, они также делят на «мужские» и «женские»: в числе мужских – свиньи, буйволы и рисовое пиво; женских – одежда, ткацкие станки и домашняя утварь. Женские включают также еще одну статью обмена – самих женщин. Правила обмена строги: женские предметы переходят от дающих жен к берущим жен, мужские – от берущих жен к дающим жен.
Рис. 2.4. План дома племени пурум
Жилище пурум (план на рис. 2.4) разделено вдоль на две половины, правую, phumlil, и левую, ningan. Также оно разделено на переднюю и заднюю часть двумя столбами, chhatra справа (он устанавливается первым), и senajumphi слева. Если смотреть от задней части дома в направлении двери, то справа будет личная половина, принадлежащая хозяину дома и его не состоящим в браке сыновьям и дочерям; именно здесь находится очаг. Левая же сторона, статус которой ниже, – это общественная зона, включающая в себя место для женихов и для замужних дочерей, пришедших навестить родителей. Правая сторона, таким образом, была стороной «дающих жен», левая – «берущих жен».
Система, которой придерживаются пурум, – типичный случай дуальной символической классификации. Мир разделен на пары связанных между собой противоположностей, по одной из которых можно определить и другие. Эта система представлена в табл. 2.1.
Таблица 2.1. Дуальная символическая система племени пурум
Подобная система – нечто вроде алгоритма оценки символических ценностей. Например, при выборе места для новой деревни душат петуха. Если птица лежит на земле, а ее правая нога располагается поверх левой, это считают благим предзнаменованием, если же левая нога оказывается поверх правой, место покидают. Похожее жертвоприношение совершается во время церемонии наречения ребенка, чтобы оценить, благоприятно ли его будущее. Если имя дают мальчику, то жрец душит петуха, и, если правая нога лежит поверх левой, – это доброе предзнаменование. Однако если имя дают девочке, в жертву приносят курицу. Поскольку мужское и женское противоположны, противоположна и интерпретация положения ног: для девочки благоприятно, если левая нога, то есть женская, окажется сверху. Таким образом, вместо простого уравнения «правое = хорошее, левое = плохое» результат определяют различные комбинации. В такой системе всегда могут возникнуть символические инверсии: правое оказывается благоприятным для мужчин и неблагоприятным для женщин[39].
Символические инверсии хорошо известны в антропологии. По представлениям восточноафриканского народа кагуру, ведьмы во всем противоположны нормальному миру: они даже ходят на руках, и тот факт, что, подобно жителям средневековой Европы, они считают одним из признаков ведьмы леворукость, не вызывает удивления. Народ нагагу с юга Борнео верит, что в ином мире все переворачивается: сладкое становится горьким, прямое – искривленным, правое – левым. Народ тораджи с острова Сулавеси верит, что мертвые все делают задом наперед, даже произносят слова. Поскольку по этой логике мертвые действуют только левой рукой, то и живые, если делают что-то для покойников, тоже должны пользоваться левой рукой. Аналогичные инверсии существуют и в западной культуре: так, в англиканской церкви крестный ход следует вокруг церкви по часовой стрелке, но только не в Великий пост, когда направление меняется на противоположное[40].
Сравнивая разные общества по дуальным символическим классификациям, антропологи обнаружили примечательное сходство. Например, танзанийские гого географически расположены далеко от бирманских пурум, но, как показано ниже, их таблица оппозиций обнаруживает много концептуальных совпадений с табл. 2.2 оппозиций народа пурум, приведенной выше.
Таблица 2.2. Дуальная символическая система народа гого
Из этого легко понять, почему археологи были бы рады интерпретировать похоронные обряды людей курганной культуры в духе подобных систем. Кроме того, это свидетельствует в пользу теории Дюркгейма, полагавшего, что разграничения природного мира тесно связаны с социальными системами – поэтому Солнце, Луна и стороны света соотносятся с сельским хозяйством у гого и с обменом свиньями и женщинами у пурум.
С теоретической точки зрения самое важное, что заключено в этих оппозициях, – это разграничение правого и левого. Нет никакой веской причины, которая объясняла бы это. Ни в устройстве домов, ни в горячем и холодном, ни в деревне и лесе или молотьбе и размалывании нет ничего такого, что делало бы одно из них по своей сущности левым, а другое – правым. Символика правого и левого никак не основана на внешнем, природном мире, а потому причина ее должна лежать в нашем собственном сознании[41].
Прежде чем говорить о символике в общем и символике правого и левого в частности, нам следует признать, что понятия «правое» и «левое» применяются в таком духе очень широко. В частности, мы должны согласиться, что такого рода применение не ограничивается так называемыми примитивными, или дописьменными, обществами. Фактически эта символика обнаруживается повсюду, даже в современных технологических обществах, и зачастую она настолько привычна, что мы едва замечаем ее существование.
Взять для начала будничные детали современной жизни, великое множество действий, которые кажется невозможным объяснить полностью рационально (хотя люди продолжают это делать с удивительным упорством). Почему, например, когда мы встречаемся с кем-то, мы пожимаем правую руку? Почему, когда приносят присягу в суде, на Библию или другую священную книгу возлагают именно правую руку (присяга левой рукой не считается обязывающей)? Почему при сервировке стола нож кладут справа, а вилку – слева (а в Европе настаивают, что вилку нужно держать именно левой рукой, не слишком умелой)? В Британии и Америке обручальное кольцо носят на среднем пальце левой руки; факт, который сэр Томас Браун пытался объяснить (неверно) наличием кровеносного сосуда, ведущего от этого пальца прямо к сердцу, хотя это едва ли могло ответить на вопрос, почему в Германии обручальное кольцо обычно носят на правой руке. Почему морганатический брак называют «левым»? Чтобы найти еще больше связей между правым-левым и мужским-женским, достаточно заглянуть на любую свадьбу в англиканской церкви: пока новобрачные стоят у алтаря, семья невесты садится слева, а семья жениха – справа[42].
Множество символических связей правого и левого обнаруживается в христианстве, и Библия полна пассажей, упоминающих и то и другое. Возможно, самый знаменитый из них – образ из «Апокалипсиса», где говорится о разделении всех языцев:
«…и соберутся пред Ним все народы; и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов;
и поставит овец по правую Свою сторону, а козлов – по левую.
Тогда скажет Царь тем, которые по правую сторону Его: приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира (…)
Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: «идите от Меня, проклятые, в огонь вечный…»
(Евангелие от Матфея 25:33–34, 41)
В верхней части алтарей в итальянских церквях эпохи Возрождения неизменно изображается Распятие, на котором Христос склоняет голову вправо, показывая левую щеку. На изображениях Благовещения архангел Гавриил почти всегда находится слева, а Дева Мария смотрит влево, а на ранних ренессансных изображениях Мадонна держит Младенца Христа слева, мы видим ее правую щеку и левую щеку младенца. Левое и правое играют ключевую роль в планировке церквей (рис. 2.5), в которой обнаруживается формальное сходство с планировкой жилищ народа пурум (см. рис. 2.4). Алтарь обращен к востоку и восходящему солнцу. Входя в церковь с запада, мы видим на северной, левой, стороне фрески с сюжетами из Ветхого Завета, а на южной, правой, – фрески с сюжетами из Нового Завета. Во многих церквях мужчины размещаются справа (на юге), а женщины – слева (на севере). В поэме Мильтона «Потерянный рай» дьявол приходит с севера, в «Чистилище» Данте синагога находится на севере, а церковь – на юге. Другие аспекты правого и левого в христианстве не столь четко выражены. Хотя принято считать, что Ева создана из левого ребра Адама, в тексте Библии об этом ничего не сказано, и, возможно, это представляет собой вторичную символическую ассоциацию мужского с правым, а женского с левым, или даже восходит к более ранним еврейским традициям[43].
Христианство – не единственная религия, для которой правое и левое имеют важное значение. В еврейской традиции также существует четкое различение правого и левого, возможно, восходящее к тому, что древние израильтяне были солнцепоклонниками и обращались лицом к востоку, а юг в таком случае оказывался справа, что отразилось в древнееврейском названии «востока». Ветхий Завет говорит о Боге иудаизма так: «Десница Господня высока, / десница Господня творит силу!» Почетной считается правая сторона и в Талмуде. Считалось невежливым идти справа от своего учителя, а в случае если его сопровождали сразу двое учеников, то справа должен был идти более достойный из них, а учитель оказывался в середине. Еврейский обряд халица (освобождающий бездетную вдову от обязанности выйти замуж за брата покойного мужа) состоит в том, что вдова должна развязать специальный башмак на правой ноге своего деверя, причем до церемонии определяется, не преобладает ли у мужчины левая нога и не левша ли вдова; для левшей действуют особые правила, а преобладание той или иной ноги определяется по тому, с какой из них делается шаг. Еврейская символика левого и правого также прослеживается в мистике Каббалы, где Тора соответствует правой руке, а устное предание – левой. На более прозаическом уровне многие считают, что обуваться удобнее с правой ноги, но еврейская традиция существенно усложняет эту задачу: вначале надо надеть обувь на правую ногу, но не завязывать шнурки, затем – на левую и завязать их, и наконец, завязать шнурки на правой ноге, так, чтобы весь процесс начинался и заканчивался на правой стороне[44].
Рис. 2.5. Схема символической организации планировки христианского храма
Ислам, как и христианство, и иудаизм, также отдает предпочтение правой стороне. В Коране праведные стоят по правую руку от Господа, проклятые – по левую, что нашло отражение в величественных стихах:
- А те, которые на правой стороне… Кто же те, которые на правой стороне?
- Они пребудут среди лотосов, лишенных шипов, под бананами [или акациями камеденосными] с висящими рядами плодами,
- в распростертой тени,
- среди разлитых вод
- и многочисленных фруктов,
- которые не кончаются и доступны.
- Они будут лежать на приподнятых матрацах…
- А те, которые на левой стороне… Кто же те, которые на левой стороне?
- Они окажутся под знойным ветром и в кипятке,
- в тени черного дыма,
- которая не приносит ни прохлады, ни добра.
Черный камень Каабы в Мекке есть «правая рука Аллаха на земле». Согласно мусульманскому преданию, Аллах ударил Адама по спине и извлек из него все его потомство, и те, кому суждено оказаться на небесах, вышли из правого плеча в виде белых зерен, те же, кому суждено попасть в ад, – вышли из левого плеча в виде черных зерен. Существуют и строгие предписания относительно поведения: «Не должно есть или пить левой рукой… ибо это обычай Сатаны… Следует плевать налево и держать гениталии левой рукой». По прибытии в Мекку следует входить в Большую Мечеть с правой ноги. Многое в символике правого и левого восходит к временам, когда верующие обращали свои молитвы к восходящему солнцу, автоматически располагая правое и левое в соответствии со сторонами света, со всеми сопутствующими этому смыслами. В арабском языке значения правого и левого почти такие же, как в английском, поэтому правая рука используется при принесении клятвы, а слово yamîne одновременно значит и «правый» и «клятва». Левое, šimâl, означает дурные предзнаменования, а левшей называют ’a’sar – от глагола ’asara, означающего «делать трудным, сложным, хлопотным, неразрешимым». Хотя из прямого толкования текстов Корана можно предположить, что у левшей были проблемы, современная исламская теология куда более либеральна: она указывает, что Господь признает левшей, ибо это он сотворил их такими, и что награды правоверным придут от тех, кто был избран только следовать словам пророка: «Поистине, дела оцениваются только по намерениям и, поистине, каждому человеку достанется то, что он намеревался обрести»[45].
В исламе обнаруживается и одно из любопытных обращений к обычной символике: паломники в Мекке семь раз обходят Черный камень против часовой стрелки, в направлении, которое, как правило, ассоциируется с похоронами или колдовством. По одной из версий, это связано с тем, что Мохаммед решил изменить существовавший ранее языческий ритуал. Альтернативная гипотеза исходит из того, что Мекка расположена южнее Тропика Козерога, на 21°25 северной широты. Поэтому на протяжении 46 дней в году, в июне и в первые две недели июля, солнце оказывается на севере, а не на юге. Если первые празднества проходили в это время года, то, возможно, тогда и закрепилось направление движения против часовой стрелки. Это привлекательная теория, если не принимать во внимание, что вращение вправо чрезвычайно распространено, даже в культурах, существующих в тропиках и даже в Южном полушарии[46].
Символика правого и левого присутствует и в великих религиях Востока. В буддизме путь к нирване делится надвое: «Левого следует избегать, а за правым следовать. Он пройдет по густому лесу, топкому болоту, крутому обрыву и в конце концов выведет на прекрасную равнину (нирвану)». В Бенаресе индуисты-паломники движутся по кругу так, что их правая рука направлена к центру (то есть по часовой стрелке), подобно Кришне у священной горы. Подобным же образом следует обходить и буддийские ступы, оставляя их по правую руку, а тибетские молитвенные колеса надлежит вращать, стоя правым боком к оси; повернуться в обратном направлении значит обратить вспять все, что было сделано до этого. Паломники и молитвенные колеса, таким образом, следуют за ходом солнца, исключение существует лишь для индуистских погребальных обрядов, в которых движение происходит в противоположном направлении.
Исторически истоки рациональной, философской и научной мысли классической Греции исполнены символики правого и левого. Пифагор говорил, что входить в святилище следует справа, потому что от правой стороны происходят четные числа, а уходить – слева, потому что от левой стороны происходят числа нечетные. В «Метафизике» Аристотель говорит о том, как пифагорейцы определяют первые десять начал, которые можно перечислить в двух параллельных столбцах:
Неудивительно, что правое ассоциируется с «мужским», «светом» и «добром». На несколько веков раньше, в VIII веке до н. э., современник Гомера поэт Гесиод создал поэму «Теогония», в которой описал происхождение мира от изначального хаоса до правления Зевса, царя богов. В одном из сложных мифологических сюжетов, включающих в себя инцест, заговор, месть и различных чудовищ, есть сцена, в которой юный Кронос (Время) в одном из первых «эдиповых» конфликтов, сговорившись со своей матерью Геей (Землей), убивает своего ужасного отца Урана (Небо). Только Уран ночью собрался предаться с Геей любви, как
- Неожиданно левую руку
- Сын протянул из засады, а правой, схвативши огромный
- Серп острозубый, отсек у родителя милого быстро
- Член детородный и бросил назад его сильным размахом[47].
Как известно, из капель пролившейся крови родилось множество самых разных созданий, в том числе и богиня любви Афродита[48].
Различие между правым и левым в классической Греции присутствовало на многих уровнях и касалось даже пищи. Джеймс Дэвидсон изящно пишет о том, что греки не только проводили различие между едой и напитками, но и разделяли пищу на две отдельные категории: основные продукты, sitos, такие как хлеб и соусы или приправы, и opson, в числе которых – мясо, рыба и лук. Sitos полагалось есть левой рукой, opson – правой: «Привычная для приемов пищи дифференциация на левое и правое, верхнее и нижнее с легкостью переносилась на более умозрительные противоположности: основу и декор, нужду и избыток, истину и видимость». Мы можем представить это в виде следующей таблицы:
Символика левого и правого наличествовала и в средоточии греческой философской мысли, симпосии. Ложа участников размещались по кругу, и, как объясняет Дэвидсон, «на каждом ложе могло разместиться по два человека, лежащих на левом боку… Вино, песни и беседы текли слева направо, то есть, вероятно, против часовой стрелки»[49].
Наконец, этот краткий обзор символического в современном и древнем мире указывает и на то, что подобная символика играет важную роль в подсознательной деятельности разума. Толкование сновидений всегда в большой мере основывалось на символизме, и недавно вышедший сонник «Словарь сновидцев» (Dictionary for Dreamers) определяет левую сторону как «зловещую, неверную, непроизвольную. К ней относится все порочное и аморальное: преступные наклонности, инцест, извращения. Женское пассивное начало, иногда способность к интуиции». Многое в этой символике сходно с символами, которые были приняты в предсказаниях: так, в «Одиссее» Одиссей замечает: «Не без бога та птица явилася справа! / Сразу, увидев, я понял, что вещая птица пред нами»[50][51].
Движение слева направо считается неблагоприятным, и таким же образом интерпретируется движение в сновидениях. Пример тому находим у Фрейда в работе «Толкование сновидений», впервые опубликованной в 1900 году, назвавшего сновидения «царским путем к бессознательному». Сон, о котором идет речь, в действительности приснился за много лет до этого, весной 1863 года, не кому иному, как Бисмарку, ставшему впоследствии канцлером Германской империи:
«Мне снилось (как я не преминул рассказать наутро жене и другим), что я еду на коне по узкой горной тропе, слева вздымаются скалы, справа – пропасть. Тропа становится все у́же, конь отказывается идти дальше, и невозможно ни повернуть назад, ни спешиться, потому что для этого нет места. Тогда левой рукой я ударил хлыстом по гладкой скале и воззвал к Господу. Хлыст стал бесконечно длинным, скальная стена упала, словно занавес, и открылась передо мной широкая дорога с видом на холмы и леса, обликом похожая на Богемию… И я проснулся, радостный и полный сил».
Фрейд толкует этот сон с точки зрения сексуальной символики. Бесконечно удлиняющийся «хлыст», который держат в левой руке, – классический фаллический символ. Открывающийся внезапно вид – оргазм, за которым следует чувство радости. Здесь Фрейд цитирует другого психоаналитика, Штекеля, утверждавшего, что левое в сновидениях соотносится с вещами запретными или греховными, например с детской мастурбацией. То, что Бисмарк хватает хлыст левой рукой, указывает на запретный и мятежный акт. Свое значение имеет и узкая тропа с пропастью справа: всадник следует против часовой стрелки, поворачиваясь влево. И снова Фрейд ссылается на Штекеля, говорившего об этической составляющей правого и левого, в которой правое есть путь благочестия и, возможно, брака, тогда как левое – путь преступления и порока, возможно, гомосексуальности и инцеста. В дальнейшем психоаналитики продолжили развивать эти идеи, рассматривая противоположность правого и левого как два возможных способа разрешения эдипова комплекса: идентификация с матерью или с отцом или преодоление страха кастрации через импотенцию или целомудрие. Так называемый левый путь устраняет отца, выражаясь в матриархальной, безвещной культуре, с вероятными следствиями в виде инцеста, гомосексуальности и импотенции[52].
Особый интерес среди психоаналитиков вызывал акт письма – квинтэссенция использования правой руки. Как отмечает Фрейд, «если акт письма, состоящий в том, что из трубочки на кусок белой бумаги вытекает жидкость, приобретает символическое значение coitus’а… то… от акта письма… следует воздерживаться потому, что он воспринимается как выполнение запрещенного сексуального действия». Неудивительно, что писание левой рукой приобретает другой смысл по сравнению с писанием правой рукой: «Привычка писать левой рукой… [есть] символический жест, мотивированный, если не стимулируемый, фантазиями, которые забыты, подавлены и отвергнуты сообществом говорящих вслух». Можно понять, почему Фрейд, пусть и подсознательно, не мог согласиться с Вильгельмом Флиссом, предположившим, что Фрейд, возможно, отчасти левша. Фрейд был, однако, достаточно честен, чтобы признать, что «[возможно] и делал что-то, что можно делать только левой рукой. В таком случае когда-нибудь тому придет объяснение, Бог знает когда»[53].
Куда ни взглянешь – на любой континент, любой исторический период или культуру, – везде и всюду правое и левое обладают символическим значением, и правое всегда ассоциируется с хорошим, а левое – с плохим. Если бы мы не были так глубоко погружены в эту систему символов, то пришли бы в полное недоумение и потребовали какого-то объяснения этого поразительного факта. Но пришло время перестать множить примеры и задаться вопросом, почему вообще правое и левое окутаны символическими связями, как мы объясняем их и зачем они нужны. Первым, кто предпринял серьезную попытку осмыслить эти феномены, был Герц, и именно к нему мы сейчас вернемся[54].
Герц начинает свой очерк, скорее, как биолог, чем как социолог. Он не сомневается в том, что правая рука – более умелая и что отдаваемое ей предпочтение как-то связано с мозгом. Герц не тратит время на рассмотрение наивной теории, согласно которой праворукость определяется только культурным давлением и влиянием общества – своего рода «заговором правшей». Он весьма изящно отвергает этот взгляд, указывая на то, что, поскольку некоторые левши инстинктивно предпочитают пользоваться левой рукой, несмотря на все давление, которое они испытывают, всю жизнь обитая в мире правшей, нет никакой причины, почему бы и правшам не отдавать инстинктивное предпочтение правой руке.
Признавая это, Герц вместе с тем понимал, что есть и более серьезная проблема. Возможно, правая рука и более умелая, но, как отмечает Герц, даже самые «праворукие» правши способны совершать левой рукой множество разных действий и достигать в этом подлинных высот – например, если они музыканты или хирурги. В связи с этим возник вопрос, почему обучение в принципе ориентировано на руку, уже имеющую превосходство, – на правую руку. Даже если и существует разница между руками, она не абсолютна, а лишь относительна: Герц называет ее «широкой предрасположенностью к праворукости». Современные исследования, в ходе которых каждая рука переставляла набор штырьков из одного ряда в отверстия в другом ряду, показывают, что правая рука выполняет это действие лишь на 10 процентов быстрее левой. Это совсем небольшое различие, особенно в контексте попытки объяснить, почему типичный правша использует правую руку для выполнения более 90 % задач. Как же «широкая предрасположенность» превратилась в «абсолютное превосходство»? Единственной причиной может быть нечто, лежащее за пределами индивидуального организма, нечто, что выходит за рамки одних только инстинктивных и довольно слабых предпочтений. Для социологов, к числу которых принадлежал Герц, этим «нечто» могло быть только общество. Таким образом, различие в том, как мы относимся к двум нашим рукам, отражает не только наши природные различия, но и идеологию, набор идей о том, как нам следует жить, а не то, как мы фактически устроены. Левая рука парализована не бездействием мозга, а санкциями и запретами, которые налагает общество. Причины предпочтения правой руки согласно Герцу «наполовину эстетические, наполовину нравственные»[55].
В основе теоретической концепции Герца лежала дуальная модель – разделение мира на противоположные категории: хорошее и плохое, богатство и бедность, длинное и короткое, блондины и брюнеты, интроверты и экстраверты и так далее. Несмотря на то что все мы склонны к подобному способу классификации мира, две противоположные категории обычно трудно четко отделить друг от друга, вместо этого существует континуум, включающий в себя все возможные промежуточные значения. Большинство людей нельзя однозначно причислить к интровертам или экстравертам – они находятся где-то посередине, так же как большинство людей имеют не высокий и не низкий, а средний рост. Тем не менее это не мешает нам оперировать такими понятиями. У психологов, специализирующихся на оценке личности, есть старая шутка: «Люди делятся на две категории: на тех, кто делит людей на две категории, и тех, кто не делит». По-видимому, эта склонность к дуалистичности помогает нам справляться со сложностью окружающего мира. Полное описание какого бы то ни было объекта оказывается слишком подробным для нашей когнитивной системы, затрудняя обработку информации. «Как он выглядит?» – «Волосы длиной 27 сантиметров, расстояние между глазами около 85 миллиметров, рост 190–195 сантиметров, вес около 65 килограммов». «А, хотите сказать, высокий, стройный, длинноволосый с широко расставленными глазами». Бывает, что чем меньше, тем лучше. Дополнительная информация мешает быстрому и эффективному анализу[56].
Герц обнаружил, что дуалистичность повсеместно встречается в примитивном мышлении, и в конечном счете связал ее с двумя большими дюркгеймовскими категориями – священным и профанным – вещами, принадлежащими этому миру и иному миру, областью богов и областью смертных, естественным и сверхъестественным, жизнью и смертью, силой и слабостью, добром и злом. Со священным и профанным символически связаны свет и тьма, высокое и низкое, небо и земля, юг и север, мужское и женское и т. д. Герц задавался вопросом: разве может человеческое тело оставаться вне этой полярности, которая применяется ко всему остальному? Люди используют все подряд в качестве символов священного и профанного, и правая, и левая рука прямо-таки напрашиваются на эту роль[57].
Но даже если бы правая и левая рука неизбежно были каким-то образом увязаны со священным и профанным, вовсе не очевидно, почему именно правое должно ассоциироваться со священным, а левое – с профанным. И здесь Герц возвращается к анатомическим и функциональным различиям между руками: правая священна, потому что она более сильная и умелая. Он тут же отмечает, что это не значит, что символизм имеет под собой чисто биологическую основу. Различие между руками само по себе слишком невелико, чтобы на что-то влиять. Только социальная система, частью которой мы являемся, с ее дуалистическим подходом почти ко всему, обладает достаточной силой и энергией, чтобы трансформировать правое в священное, а левое – в профанное. Когда небольшие биологические различия соединяются с этой громадной социальной силой, это дает огромный эффект. В каком-то смысле это можно сравнить с работой полицейского, регулирующего уличное движение. В одиночку полицейский ничего не может противопоставить мощи сорокатонного грузовика – он для этого слишком слаб. Но поскольку и полицейский, и водитель грузовика являются частью социальной системы, то полицейский может одним движением руки остановить грузовик. Небольшая, но точно приложенная сила может приводить к большим изменениям[58].
Эссе Герца проясняет связь между правой рукой как частью тела, с ее превосходством над левой рукой – довольно ограниченным по силе и способностям, и символической правой рукой, почти бесконечно могущественной по сравнению со слабой, низшей символической левой. На протяжении этой книги, поглядывая направо и налево, мы должны всякий раз спрашивать себя, идет ли речь о существенных биологических или физических различиях, или же о символической разнице, наложенной на область физического, биологического или социального дуальным способом мышления, пронизывающим все, что мы делаем. Символизм может проникнуть всюду. Хотя символизм лежит в сердце и общественных наук, и гуманитарных, найти какую-либо универсально принятую теорию нелегко; семиотик и писатель Умберто Эко с отчаянием отмечал, что «символ может быть всем и ничем», и толкований может быть столько же, сколько авторов. Его позиция максимально широка и включает «всю гамму косвенных и даже прямых значений: коннотации, предположения, последствия, в том числе и непредсказуемые, фигуры речи, предполагаемый смысл и так далее»[59].
Хорошая отправная точка для размышлений о символах – небольшая элегантная книга сэра Эдмунда Лича «Культура и коммуникация» (Culture and Communication). Главная ее идея состоит в том, что символы произвольны и значат что-то только в соотношении с другими символами. Единицы и нули в моем компьютере, с помощью которого была написана эта книга, произвольны: они имеют смысл лишь в сочетании друг с другом, а значение – только в специальной программе-редакторе текста. В графической или табличной программе они были бессмысленным хламом. Символы имеют значение только внутри определенных правил и границ. Однако люди с готовностью перескакивают от правила к правилу, в результате чего возникают метафоры. «Лев – это зверь» что-то значит в животном мире, а «царь – самый могущественный человек в государстве» – в описании общества. Однако в метафоре «лев – царь зверей» соединяются два несопоставимых набора правил. Лев может быть самым могущественным зверем в джунглях, но царем джунглей он является лишь метафорически, потому что джунгли – это не человеческое общество. То, что эта фраза – метафора, видно по контрасту с другими фразами, построенными по этой же модели: «адвокат джунглей», «статистик джунглей», «водитель автобуса джунглей» – имеют ли эти образы какой-то смысл или нет? Единственный возможный ответ – это зависит от контекста. Тем не менее метафоры имеют смысл, и люди понимают их без особых проблем. Хотя в принципе символом может быть что угодно, Лич считает устройство человеческого тела особенно удобным для порождения символов, и в частности, для порождения оппозиций. Если пупок – это центр тела, то вполне естественно, что руки соотносятся с ногами, голова – с гениталиями, спина – с животом, а правый бок – с левым, но они не одинаковы. Поэтому они идеально подходят для представления символической противоположности между парами идей, таких как добро и зло[60].
Хотя Лич тщательно описывает логику, в соответствии с которой символы допустимо использовать, а также сообщает нам кое-что об их происхождении, по факту он не объясняет, почему люди в таком изобилии используют символы. Антрополог Дэн Спербер предполагает, что символизация – неизбежная составляющая работы человеческого разума. Несмотря на постоянное стремление придать миру концептуальный смысл, зачастую разум никакого смысла в нем не находит – но работать на этом не прекращает. Вместо этого ведущую роль захватывает символическая система: собирая, складывая, соединяя информацию воедино, она ищет схемы в надежде, что когда-нибудь каким-то образом смысл проявится. Естественно, каждый человек подходит к этой задаче по-своему. Некоторые символы очевидны или универсальны, и все используют их одинаково, например свет или мрак, мужское или женское. Другие специфичны для каких-то культур или систем верований, как, например, символика Рождества в западной культуре. Наконец, некоторые символы совершенно индивидуальны, столь уникальны, что их почти невозможно объяснить другому. Это касается сновидений, изобразительного искусства или поэзии[61].
Между правилами, по которым существуют символы и другие типы человеческого мышления, есть нечто общее: зачастую мы не в состоянии обозначить эти руководящие принципы, хотя инстинктивно чувствуем, правильны они или нет. Классический пример: часто бывает так, что говорящий на родном языке знает, что те или иные фразы грамматически правильны, но не может объяснить почему. Спербер приводит примеры символики правого и левого, работающей таким же образом. В ходе полевых исследований в Судане он наблюдал ритуал народа дорже, в ходе которого группа важных персон обходит рыночную площадь против часовой стрелки. Ему сказали, что движение в другом направлении исключено. Почему? Единственный ответ, который он получил: «Так принято». Объяснение несостоятельно, хотя система вполне понятна всем, кто ее использует. Даже чужестранцы могут усвоить эти правила, не зная их логики. Спербер пишет о том, как он верно использовал принятое у дорже разделение предметов на холодные и горячие, старшие и младшие, «следуя принципам, которые я должен был воспринять интуитивно, поскольку – я не раз проверил это – я применял их как есть, даже если не мог понять их». Мы, жители современного западного мира, в этом смысле ничем не отличаемся. Спербер, француз, упоминает о прямом символизме в code de politesse, правилах пользования ножом и вилкой, которые «навязывают каждому из нас с детства». Существуют небрежные объяснения и оправдания, часто очень надуманные, в духе «вежливым считается держать нож в правой руке», без объяснения, почему это вежливо и что вообще такое вежливость. Хотя правила, лежащие в основе такого поведения, усваиваются в ходе обучения, обучение это редко происходит в прямой форме, а зачастую правила вообще не имеют никакого объяснения. Например, замечает Спербер, почему «окончив есть, вилку и нож кладут параллельно справа, а не слева?». Задумайтесь на секунду, какое удивление, а возможно и возмущение вызвала бы сервировка официального обеда, если бы приборы были разложены в противоположном направлении или вообще случайным образом. Этот вопрос задевает нечто очень глубинное, но что именно – не ясно[62].
Стороннему наблюдателю системы наших культурных символов показались бы столь же бессмысленными и столь же непостижимыми, как те, что встречаются в пространных описаниях Леви-Стросса, в которых индейцы осаге рассказывают, что «восходящее солнце испускает тринадцать лучей, которые делятся на пучок из шести и пучок из семи соотносящихся последовательно с правым и левым, землей и небом, летом и зимой». Почему шесть, почему семь, почему пучок из шести справа, почему правое соотносится с землей или летом? Спербер утверждает, что не следует всерьез ожидать точных объяснений происхождения и функций таких феноменов. Это, однако, не значит, что такие объяснения не важны. Они имеют место, потому что наш разум не может работать иначе, но они, пожалуй, столь же темны для постижения и осмысления, как, скажем, биохимические процессы в наших внутренних органах[63].
Надеюсь, из этой главы очевидно, что символические системы левого и правого универсальны для человеческих культур и что в их основе лежат одновременно и физиологические различия между двумя сторонами тела и давление общества. В значительной мере их специфическая природа обязана склонности человеческого разума воспринимать в символических терминах то, что нельзя постичь иначе. Поскольку в первой главе этой книги речь шла о кажущихся «жесткими» биологических и физических вопросах – о расположении органов тела, вариантах устройства мозга и химических веществах, из которых построены наши тела, то эта глава, посвященная явно «мягкой» теме символических систем, может вызвать у читателя некоторое удивление. Но не стоит упускать из виду тот факт, что даже в самых жестких науках (а мое употребление слов «жесткий» и «мягкий» само по себе глубоко символично) ученым необходимо давать названия наблюдаемым феноменам, и эти названия неизбежно обретают символические обертоны, влияющие на способы их осмысления. Тысячи научно-популярных статей рассказывают нам, что «вселенная – левша»; есть и более прямые фразы вроде «бог – слабый левша» (слова Вольфганга Паули) – все это показывает, что символизм всегда будет присутствовать в науке, которой занимаются люди[64].
На протяжении этой главы мы принимали как должное, что термины «левое» и «правое» обладают ясным и бесспорным значением. Это допущение, однако, не столь очевидно, как может показаться, о чем и пойдет речь в следующей главе.
3. На левом берегу
В 1869 году Томас Генри Гексли (рис. 3.1), получивший прозвище Бульдог Дарвина за яростную защиту теории эволюции на собрании Британской ассоциации в Оксфорде, где он словесно сокрушил епископа Оксфордского, вновь ввязался в схватку, в которой даже его талантов оказалось недостаточно. Гексли был не только яростным спорщиком и одаренным педантичным ученым, но так же, как и его современники Рескин, Тинделл и Уильям Моррис, искренне верил в пользу образования, особенно для рабочего класса Британии, и в настоятельную необходимость популяризации науки – говоря его собственными словами, в необходимость «низвести науку с небес»[65].
Когда в 1869 году его попросили прочитать цикл из двенадцати лекций в Лондонском Институте, Гексли с готовностью согласился. Хотя на это понадобилось девять лет, в конце концов их содержание было опубликовано в виде книги под названием «Физиография» (Physiography), сразу же снискавшей успех. За шесть недель было продано 4 тысячи экземпляров, к Рождеству последовала допечатка, и вскоре уже готовилось третье издание. Тематика была широка: от дождя, снега, льда и моря до ледников, землетрясений, вулканов, коралловых рифов, движения Земли и состава Солнца, – книга, которая, как гласили рекомендации, «унесет детей из их [церковного] прихода к внешним пределам Солнечной системы». И не только детей – в библиотеках Институтов механиков на севере Англии она пользовалась самым большим спросом[66].
Гексли читал свои лекции в Лондоне, и первые строки книги открываются описанием сердца города, который тогда был столицей величайшей империи, которую когда-либо видел мир, и одним из интеллектуальных центров планеты.
Нет в мире места более известного, чем Лондон, и нет в Лондоне ничего более известного, чем Лондонский мост. Пусть читатель представит, что он стоит на этом мосту и, не обращая внимания на уличную суету, смотрит вниз на текущую реку. Не слишком важно, на какой стороне ему выпал случай стоять, смотрит ли он вверх по течению реки или вниз, поверх моста или под мост. В любом случае он почувствует себя в присутствии величественного потока, который в самой широкой части достигает почти одной шестой мили от берега до берега. Количество воды под Лондонским мостом, однако, значительно меняется в разное время года и даже в разные часы одного дня.
Рис. 3.1. Томас Гексли в 1893 году в возрасте 68 лет. На коленях у него сидит юный Джулиан Гексли, который позже занимался эмбриологическими исследованиями стороны сердца
На этом простом, локальном основании Гексли выстраивает целое здание. Книга, которая сегодня читается так же хорошо, как и 130 лет назад, когда она была написана, все еще остается шедевром научно-популярной прозы и действительно может считаться одним из краеугольных камней жанра.
Однако наш интерес к этой книге вызван другой причиной. После полудюжины глав Гексли обращается, казалось бы, не к самому увлекательному вопросу о способах географического описания рек. Несмотря на всю банальность предмета, слова его звенят почти мильтоновским слогом.
Несомненно, удобно располагать готовыми средствами для различения двух берегов реки. С этой целью географы решили называть берег, который находится справа от вас, когда вы движетесь по течению реки к морю, правым берегом, а противоположный – левым берегом. Все, что вам нужно сделать, чтобы различить две стороны, это встать лицом по направлению к устью реки, а спиной – к ее истоку, и тогда правый берег окажется по правую руку от вас, а левый – по левую. В Грейвсенде, например, правый берег находится на территории Кента, а левый – Эссекса. Поэтому если говорить о реках, впадающих в Темзу, то считается, что Черн, Колн, Лич, Уиндраш, Эвенлоуд, Чаруэлл, Тейм, Коулн, Брент и Ли несут свои воды в Темзу слева, а Рей, Коул, Ок, Кеннет, Лоддон, Уэй, Моул и Дарент впадают в реку по правому берегу.
Этот способ описания рек, похоже, используется повсеместно. Так, Париж расположен на левом берегу Сены и т. д. Хотя метод достаточно прост, Гексли отмечает, что загвоздка состоит в допущении, что читатель уже знаком с Темзой, «но для совершенно постороннего человека, того, кто никогда не видел реку и ничего не знает о Лондонском мосте, такой способ описания был бы непостижим»[67].
Гексли противопоставляет такому описанию преимущества полета над Темзой на воздушном шаре, когда река расстилается внизу, как на карте. С картой, ориентированной обычным образом, север оказывается вверху, а «поскольку восток находится по правую руку от человека, смотрящего на карту, а запад – по левую», становится возможным понять, что Темза берет начало близ Сайренсестера на западе Англии и течет к устью на восточном побережье Англии. Гексли подчеркивает практичность опоры на север, юг, запад и восток, поскольку значения этих понятий никак не связаны с местными обстоятельствами и указывают на направления, которые можно определить в любой части света в любое время. В начале этой главы, когда мы использовали такие понятия, как «вверх по реке», «вниз по реке», «выше моста» и «ниже моста», мы предполагали, что читатель знаком с Темзой… Однако говоря о севере и юге, востоке и западе, мы используем понятия, известные всем образованным людям, так как они относятся к универсально признанным стандартам указания направлений.
Гексли прав в том, что было бы весьма желательно найти понятия, «вполне независимые от местных обстоятельств», но затем он неожиданно сбивается, что, по меньшей мере, достойно удивления. Главная проблема – в словах «универсально признанным». «Универсальный» – это сильный термин, когда он, как у Гексли, используется в контексте географии и астрономии. Природа ошибки, однако, трудноуловима и не сразу очевидна. В конечном счете она приведет к ряду глубоких проблем биологии и физики – наукам, очень увлекавшим Гексли[68].
Как же Гексли предлагал определять север и юг? Первый способ вполне мог бы подойти для бойскаутов. В солнечный день воткните в землю вертикально шест, измеряйте длину тени через небольшие промежутки времени, пока она не окажется самой короткой – это произойдет в истинный полдень. И в этот момент тень будет указывать на север[69].
Что не так с этим способом? Прежде всего совершенно очевидно, что он далеко не универсален: в самом деле, он не сработает на значительной части поверхности Земли. Надо признать, что Гексли главным образом искал способ, который работал бы для его лондонских слушателей и который определял понятия «север» и «юг» «знакомым для всех образованных людей» образом. Однако любой читатель в Южном полушарии тут же заметил бы изъян в этом способе. Так же как австралийцы, желающие, чтобы их сады были на солнце, предпочитают сады, развернутые на север, а не на юг, как в Британии, так и тень от шеста в Австралии покажет направление на юг, а не на север. Если австралийский читатель живет южнее Алис-Спрингс, тень от шеста целый год дает один и тот же ответ. Но для читателя, живущего между тропиком Рака и тропиком Козерога, такой способ даст разные ответы в разное время года.
Можно ли усовершенствовать этот метод? Сам Гексли видит практическую проблему в том, что способ работает только при свете солнца, и описывает еще два очевидных способа – использование Полярной звезды или компаса. Но на деле оба эти способа в общем случае не годятся. Компас – потому что, хотя магнитный «север» в настоящее время находится именно в том направлении, которое мы считаем северным, это не всегда было так. Геологи обнаружили, что магнитные полюса Земли в прошлом многократно меняли свое положение. Поэтому такой способ не будет работать всегда, и с научной точки зрения это проблема[70].
Звезды кажутся куда лучшим выбором, и за исключением какой-то ужасной катастрофы, вроде столкновения Земли с громадным астероидом, способ определения севера по Полярной звезде (а в Южном полушарии – юга по Южному Кресту), вероятно, будет работать и в далеком обозримом будущем. Фактическое расположение видимых с Земли звезд будет медленно меняться (а мы знаем, что видимое с Земли ночное небо уже выглядит несколько иначе, чем даже несколько тысяч лет назад, когда древние египтяне строили пирамиды). Но на небе всегда будет какая-то звезда или созвездие, которые будут постоянно указывать направление на северный полюс Земли[71].
Проблема становится глубже при обобщении нашей концепции севера применительно к каким-нибудь другим планетам в другой части Вселенной, поскольку если понятие «север» имеет какой-то универсальный смысл, то и у других планет должен быть северный и южный полюса. Но какой из них какой? Ясно, что Полярная звезда здесь не поможет, потому что все звезды будут выглядеть совсем иначе. Равным образом, нельзя предполагать, что эти планеты будут обладать магнитным полем, ориентированным так же, как и на Земле. Добавим к этим сложностям и то, что мы не знаем, как именно планета обращается вокруг своего светила. И все же у нее все равно есть два полюса, сквозь которые проходит ось вращения. Так какой же из них северный?
У астрономов для такого случая есть простое правило, которое называют «правилом правой руки» или «правилом правого винта» (оно же «правило буравчика»). Временами проблема эта может возникать не только перед астрономами, но и, например, перед Санта-Клаусом – по крайней мере, если судить по рождественскому выпуску журнала New Scientist. Джастин Маллинз задался вопросом, не мог бы более удобным местом пребывания Санта-Клауса оказаться северный полюс какой-нибудь другой планеты или спутника, и в своей статье кратко и точно сформулировал это правило:
«Оттопырьте большой палец правой руки. Если направление вращения планеты совпадает с тем, куда указывают четыре согнутых пальца, то большой палец указывает на северный полюс. Проверьте это на примере вращения Земли (Земля вращается с запада на восток, вот почему кажется, что солнце восходит на востоке и движется к западу)».
Это значит, например, что по отношению к Земле северный полюс Венеры находится с «обратной стороны», так как Венера, единственная из всех планет нашей Солнечной системы, вращается в противоположном направлении[72].
Самое удивительное в правиле правой руки заключается в словах «правая рука». Похоже, что без умения отличать нашу правую руку от левой мы никогда не сможем ни с кем встретиться в нужном полушарии на неизвестной планете. Нам, может быть, удастся проделать весь путь к «маленькой планете где-то в окрестностях Бетельгейзе», как говорил о своей родине Форд Префект в книге «Автостопом по Галактике», но окончательная встреча в каком-то конкретном месте северного полушария этой маленькой планеты обречена на провал, если только мы не будем знать наверняка, что на этой планете такая же, как у нас, концепция «правого».
Проблема определения левого и правого лежит в основе многих сфер науки и повседневной жизни и в конечном счете всегда имеет одно и то же решение, которое в буквальном смысле находится у нас в руках. Даже такие на первый взгляд не связанные с руками термины, как «порт» и «штирборт», обязаны своим происхождением правой руке. До изобретения штурвала корабли управлялись веслом или рулем, который держали одной рукой. Поскольку у руля был, как правило, правша, он располагался с правой стороны судна, и этот «борт», или сторону, соответственно стали называть «steorbord» – «штирборт», то есть «рулевая сторона». Противоположная левая сторона судна называлась первоначально погрузочной («ladebord», позже «larboard»), возможно, потому, что рулевому легче было этой стороной подходить к причалу. А в более позднее время английские моряки стали называть ее просто «порт», потому что «steorbord» и «larboard» было слишком легко перепутать[73]. Ну а почему на штирборте ходовой огонь зеленый, а на бакборте – красный – это уже другая история[74].
Чтобы обнаружить дополнительные сложности в определении правого и левого, достаточно взять скромный винт-саморез, который изобрели на удивление поздно. Как и многие обыденные предметы, этот обманчиво простой кусок металла, без которого многие вещи развалились бы на части, скрывает в себе все богатство инженерного искусства, формального и неформального. Посмотрите внимательно на винт на рис. 3.2 – и вы увидите, что он в высшей степени асимметричен. Это именно то, что мы называем «правым винтом» с «правой резьбой».
В основном винты, которые обычно в ходу, имеют правую резьбу. Иногда встречаются исключения, например резьба на левой педали велосипеда, которая сделана так, чтобы педаль не разбалтывалась при езде, а, наоборот, сама собой завинчивалась. Левая резьба отличает патроны лампочек в поездах – чтобы нельзя было, вывернув их, использовать дома. Кроме того, традиционно гробы завинчивают винтами с левой резьбой[75].
Винты с правой резьбой завинчивают по часовой стрелке, а это намного легче для правшей, поскольку здесь работают сильные мышцы предплечья, а не куда более слабые мышцы, включающиеся при завинчивании в противоположном направлении. Стоит отметить, что и еще один случай асимметрии – направление движения стрелок часов – также стал соотноситься с правой рукой. Спирали повсеместно встречаются в живой природе, главным образом, потому что представляют собой наиболее эффективную форму упаковки длинных тонких молекул в небольшом пространстве, и важно, чтобы существовало постоянство в способах их наименования. Многие из входящих в состав клеток крупных молекул, например ДНК или белков, представляют собой правые спирали в том же смысле, в каком обычный винт называют правым[76].
Рис. 3.2. Обычный саморез для дерева с правой резьбой. Когда его поворачивают по часовой стрелке, он входит в дерево (то есть завинчивается)
Хотя правый винт – это тот, который удобнее всего завинчивать правшам, в общем случае определить направление спиралей таким способом не так-то просто. Взгляните, например, на витое ожерелье на рис. 3.3 или на крученый браслет на рис. 3.4. Направление скрутки в обеих спиралях явно противоположно тому, что у правого винта на рис. 3.2. Однако ожерелье и браслет – типичные предметы, изготовленные правшами, которые держат один конец проволоки левой рукой, а затем правой закручивают свободный конец по часовой стрелке. Если вам это кажется невозможным, попробуйте сами. Мы часто оказываемся на удивление не наблюдательными в отношении правого и левого.
Однако здесь может возникнуть серьезная проблема, потому что ряд ученых, в частности ботаники, предпочли называть «правыми» спирали, напоминающие те, что получаются у правши, закручивающего проволоку, то есть подобные упомянутым выше ожерелью и браслету, которые большинство людей сочли бы как раз «левыми», то есть противоположными винту на рис. 3.2. Конечно, все это не так уж важно, если все понимают, о чем идет речь, но это не всегда так. Запутаться очень легко. Помните «Мезальянс», очаровательную песенку Майкла Флендерса и Дональда Свонна о несчастной любви жимолости, вьющейся вправо, и завивающегося влево вьюнка – настоящих Ромео и Джульетты растительного мира, полюбивших друг друга вопреки пристрастиям своих семейств («мы вьемся вправо, они вьются влево»)? Все заканчивается трагически («Нашли их на следующий день – они выдрали свои корни и засохли»). На деле, похоже, никто не знал, в какую сторону они завивались. Сначала «душистая Жимолость вилась к солнцу по часовой стрелке» (то есть, строго говоря, по ходу левого винта), но дальше мы читаем «Сказала вьющаяся вправо Жимолость завитому влево Вьюнку» (курсив наш). Но если бы одно семейство консультировал ботаник, а другое – инженер, они нашли бы, что пара будет идеальной[77].
Рис. 3.3. Простое ожерелье, найденное рядом с телом «ледяного человека» Этци. Просто завитая проволока представляет собой левую спираль, которая, вероятно, получалась, когда один конец проволоки удерживали левой рукой, а правой закручивали другой конец по часовой стрелке
Ситуация с раковинами одновременно и проще и сложнее. Конхиологи, изучающие раковины, воображают путь крошечного жучка, ползущего снизу раковины к ее вершине, и задаются вопросом, куда он сворачивает, направо или налево. Если направо, то раковину называют дексиотропной (правосторонней, то есть закрученной вправо), если налево – лейотропной (левосторонней) (рис. 3.5). Сложность в том, что у раковин, закрученных вправо (дексиотропных) – левая спираль, а у закрученных влево (лейотропных) – спираль правая. В этом можно разобраться, если представить себе муравья, ползущего по виткам винта на рис. 3.2, – с его точки зрения, он постоянно будет поворачивать влево. Такая же ситуация возникает и с винтовыми лестницами – если они левосторонние, это значит, что, поднимаясь, мы постоянно поворачиваем направо, и наша правая рука будет лежать на внутренних перилах (рис. 3.6). По счастью, конхиологи, по крайней мере, используют специальные термины, дексиотропый и лейотропный, что снижает риск возникновения путаницы[78].
Рис. 3.4. Два кельтских крученых браслета железного века из Британского музея, изготовленные, вероятно, около 500 года до н. э. Каждый представляет собой левую спираль
За этими терминологическими трудностями скрываются несколько глубоких проблем. Одна из них проста, но вызывает много путаницы. Что взять за точку отсчета – нашу правую сторону или правую сторону объекта, на который мы смотрим? Если мы с вами встанем друг против друга, то ваша левая рука окажется напротив моей правой, и наоборот. Как смотреть – с позиции наблюдателя или с позиции объекта? Разные группы людей по-разному решают эту проблему. Когда, много лет назад, я изучал, в какую сторону обращены лица на живописных портретах, я указывал, что они демонстрируют либо правую, либо левую щеку – разумеется, описывая их с точки зрения объекта. Я следовал совершенно стандартной медицинской номенклатуре, в которой «левая нога» значит «левая нога пациента», а не та нога, что находится слева от смотрящего на пациента хирурга. Тем не менее и тут остается возможность катастрофической путаницы. Даже сами врачи порой попадают впросак. Рентгеновские снимки грудной клетки всегда просматривают так, как если бы больной находился в постели перед врачом, поэтому расположенное слева сердце оказывается справа от врача. Единственная проблема в том, что после изобретения поперечного сканирования мозга врачи предпочли другой подход и стали представлять себе, что смотрят на голову пациента сверху. В результате правая сторона мозга пациента оказывается справа от врача. Снова возникает большой риск все перепутать, особенно для рентгенологов, рассматривающих снимки грудной клетки и сканы мозга одного и того же пациента. К счастью, нашлось простое эргономичное решение – большая буква «П» на одной стороне и «Л» – на другой[79].
Рис. 3.5. На верхних рисунках – обычная, или лейотропная, форма Voluta vespertilio, закрученная вправо, на нижних – редкая закрученная влево дексиотропная форма Voluta vespertilio
Рис. 3.6. Дубовая лестница в церкви св. Вольфганга в Ротенбурге, Германия, в виде левой спирали, при подъеме по которой человек касается внутренних перил правой рукой
Эта проблема знакома не только врачам. Актеры сталкиваются с ней постоянно. Режиссер сидит в зале, смотрит на актеров, те смотрят на него. Фраза «Выходим с правой стороны» звучит совершенно двусмысленно. Правой с чьей стороны? Поэтому в театре говорят «выход с правой кулисы», подразумевая кулису, расположенную справа от находящегося на сцене актера, который смотрит в зал. Историки искусства используют в этом же значении термины «истинно правый и «истинно левый» («proper right» и «proper left»), чтобы избежать путаницы при интерпретации рукописей и картин. Подобные сложности есть и в геральдике: как воспринимать два края щита? Ответ – в соотношении с тем, кто держит щит, так что правая диагональ (bend dexter) направлена от правого верхнего угла к левому нижнему с точки зрения держащего щит рыцаря, а левая диагональ (bend sinister) от левого верхнего угла к правому нижнему, как на рис. 3.7. Левая диагональ обычно была знаком бастарда, правая – законного сына[80].
Однако эти проблемы – это просто вопрос соглашения – подразумеваем ли мы одно и то же, говоря о правом и левом? Более серьезные вопросы скрываются глубже. В 1830-х годах один юный студент обнаружил возможные теологические проблемы из-за неспособности различить левое и правое:
«…нет определенности, определенности, а кто может определить, кто может узнать, какая сторона правая, а какая сторона левая? <…> Ах! Напрасны все наши стремления, суетны все наши желания, пока мы не узнаем, что есть правое и что левое, ибо налево поставит он козлищ, и направо овец. А если он повернется, станет по-другому, потому что ночью ему приснился какой-то сон, так козлища окажутся направо, а благочестивые налево по нашим жалким представлениям. <…> Я смошенничаю, когда появится Мефистофель, я стану Фаустом, ибо ясно, что мы все, все являемся Фаустами, поскольку не знаем, какая сторона правая и какая левая».
Рис. 3.7. Правая и левая диагонали (bend dexter и bend sinister соответственно) в геральдике
Студентом этим, как ни удивительно, был молодой Карл Маркс, и более чем вероятно, что эту проблему он обнаружил, прочитав труд Иммануила Канта, философа XVIII века, впервые детально рассмотревшего природу правого и левого. Кант, один из величайших философов, почти всю жизнь провел в Кенигсберге в Восточной Пруссии и, как говорят, никогда не уезжал дальше 40 миль от дома. Ничего захватывающего в его жизни не было, как писал Бертран Рассел, она была «совершенно непримечательной». Просыпался в пять, работал до двенадцати, ел один раз в день (обедал в ресторане), гулял после полудня – легко вообразить, что как раз тогда он раздумывал над невозможностью разрешения знаменитой задачи о кенигсберских мостах – а затем до десяти читал и ложился спать[81].
Внешне непримечательная жизнь Канта была схваткой с рядом глубочайших и наисложнейших проблем, к которым пытались подступиться наука и философия, в том числе с вопросом о том, является ли пространство в некотором смысле абсолютом или оно относительно. Философы бились над этой проблемой давно. Новый виток в ее изучении возник благодаря сэру Исааку Ньютону, который сделал ее не только вопросом метафизики, но и связал с эмпирической наукой. С тех пор, как пишет Лоренц Склэр, «перечень имен тех, кто пытался ее разрешить, напоминает список научных гениев Запада – Ньютон, Лейбниц, Гюйгенс, Беркли, Мах, Эйнштейн и Рейхенбах – лишь некоторые из них». Проблема звучит довольно просто: можно ли определить положение в пространстве в некотором абсолютном смысле, или же мы можем знать лишь положение любого конкретного объекта относительно других? Так, в данный момент я могу сказать, что нахожусь в одном метре от стены прямо передо мной, в одном метре от стены справа и в четырех метрах от стены слева – и так далее; можно определять положение этих стен относительно других объектов до тех пор, пока в конце концов не будет обозначено положение всех объектов во Вселенной. Эти обозначения, однако, лишь относительны. Если бы каким-то образом вся Вселенная сместилась на метр влево, возможно ли было бы это заметить? Изменилось ли бы что-нибудь?
Начало современному интересу к проблеме положил Исаак Ньютон, выступивший против Готфрида Вильгельма Лейбница, с которым у него также был яростный и долгий спор за приоритет в изобретении математического анализа. Ньютон строго придерживался идеи абсолютности пространства, Лейбниц отстаивал прямо противоположный взгляд: «Я считаю пространство, так же как и время, чем-то чисто относительным: пространство – порядком сосуществований, а время – порядком последовательностей». Уловить общий дух спора можно, ознакомившись с мысленным экспериментом, предложенным Ньютоном. Представьте, что во всей Вселенной есть только два тела, соединенных нитью. Если тела неподвижно покоятся в пространстве, нить между ними не будет натянута. Однако если тела вращаются относительно точки на середине нити, то нить начнет натягиваться по мере того, как под действием центробежной силы тела будут отдаляться друг от друга. Вопрос состоит в том, как в этой ограниченной вселенной узнать, что тела вращаются? Ведь вокруг нет ничего, что помогло бы заметить вращение. Тем не менее придется считать, что пространство абсолютно, а не определяется только исходя из положения одного тела относительно другого, которое осталось бы неизменным. Здесь нет возможности углубляться в аргументы, которые уже известны по множеству книг. Достаточно сказать, что эта проблема очень занимала Канта, которому возможное ее решение подсказали правая и левая руки[82].
Эссе Канта 1768 года с туманным названием «О первом основании различия сторон в пространстве» очень кратко, особенно в сравнении с пространными и насыщенными трудами «Критика чистого разума» и «Критика практического разума». Оно занимает лишь около восьми страниц из более чем трех тысяч, составляющих полное собрание его сочинений. И все же это заявка на решение крупной философской проблемы, а именно на то, чтобы найти «очевидное доказательство» реальности абсолютного пространства. «Всем известно, сколь тщетны были усилия философов раз и навсегда решить этот вопрос посредством отвлеченнейших суждений», – замечает Кант. Любопытно тем не менее, что большая часть эссе не касается непосредственно проблемы абсолютного пространства. При этом Кант начинает эссе с той же проблемы, какой открывается эта глава – как отличить север от юга, не определив предварительно различие между левым и правым. Особенно интересны его попутные замечания о правом и левом. Даже тогда, в 1768 году, он был поражен всеобщей праворукостью («повсюду пишут правой рукой и ею же делают все, что требует ловкости и силы»), хотя и отмечал отдельные случаи леворукости: «все народы земли всегда пользуются преимущественно правой рукой» («если не говорить об отдельных исключениях, которые… не могут опровергнуть всеобщность правила, согласного с естественным порядком вещей… повсюду пишут правой рукой»). Хотя универсальность праворукости отмечалась и ранее, но, кажется, это был первый случай в Новое время, когда на эту проблему обратил внимание крупный философ[83].
Главная тема эссе Канта – природа различия между левым и правым. Кант рассматривает разные асимметричные объекты, такие как левый и правый винт, но затем приходит к выводу, что «самый простой и ясный пример – конечности человеческого тела, расположенные симметрично по отношению к вертикальной плоскости». Левая и правая руки схожи практически во всем, и все же фундаментально отличаются в главном. То есть, по словам Канта, «перчатка с одной руки для другой не годится». И вот главный вопрос: в чем природа различия наших рук? Говоря научным языком, наши руки – неконгруэнтные подобия. Что это означает?[84]
Со времен Евклида, жившего в III веке до н. э., математики изучали конгруэнтность геометрических фигур. В школе нас учили простым правилам: «Если у двух треугольников равны углы и длины сторон, то треугольники конгруэнтны». Поэтому на рис. 3.8 треугольник A конгруэнтен треугольнику B: если сдвинуть треугольник B со страницы и наложить его на треугольник A, то их контуры в точности совпадут, как видно на рис. 3.9. Но как насчет треугольников C и D на рис. 3.10? Углы и длины сторон одинаковы, но при этом треугольники представляют собой зеркальное отражение друг друга. Так конгруэнтны ли они? Можно ли треугольник D сдвинуть таким образом, чтобы он совпал с треугольником C? Нет, сколько ни пытайся, ничего не получится. Поэтому треугольники C и D считаются различными и называются поэтому «неконгруэнтными подобиями», в отличие от A и B, которые «точно конгруэнтны».
Хотя треугольник D нельзя сдвинуть таким образом, чтобы наложить его на треугольник C, все же есть способ сделать C и D в точности конгруэнтными. Все, что нужно – взять треугольник D, перевернуть его в воздухе, а потом наложить на треугольник C, как на рис. 3.11. Задача решается известной уловкой: сами треугольники и бумага, на которой они напечатаны, двумерны. Взяв треугольник, мы вращаем его в третьем измерении, над страницей. Неконгруэнтные подобия всегда можно сделать в точности конгруэнтными, перемещая их в более высоком измерении. Это видно из более простого одномерного случая.
Рис. 3.8. Конгруэнтные треугольники
Рис. 3.10. Неконгруэнтные подобные треугольники
Рис. 3.9. Конгруэнтные треугольники, один накладывается на другой
Рис. 3.11. Неконгруэнтные подобные треугольники поворачиваются друг над другом при перемещении в третьем измерении
Витгенштейн, философ XX века, в своем единственном замечании относительно правого и левого, указывал, что аргумент Канта верен даже в отношении одномерного пространства. Вообразите очень простую игрушечную железную дорогу с поездом на одной прямой линии. С геометрической точки зрения система одномерна, так как представляет собой линию, а поскольку поезд может перемещаться лишь с одного конца на другой, его положение может быть обозначено единственным числом, указывающим расстояние от начала линии. Возможно ли повернуть поезд слева так, чтобы он смотрел в ту же сторону, как тот, что на рис. 3.12 справа? Всякий, у кого была игрушечная железная дорога, знает, что это невозможно. Во всяком случае, если необходимо, чтобы поезд оставался на рельсах, как настоящий поезд. Однако, если бы мы могли забрать поезд с пути, в пространство более высокой размерности, его можно было повернуть и снова поставить на рельсы. Те, кто лучше знаком с моделями железных дорог, могли бы предложить еще два способа повернуть поезд. Например, использовать поворотный круг. Более элегантное решение – проложить путь так, как показано на рис. 3.13. Сделав петлю, поезд вернется на главную линию, но будет смотреть уже в другую сторону. Эти способы работают, потому что железная дорога из одномерной становится двумерной: положение поезда уже невозможно обозначить одним числом, требуется не менее двух – например, расстояние в направлениях на север и на восток от точки отсчета[85].
Если такая уловка, как вращение в более высоком измерении, срабатывает в одном и в двух измерениях, не сработает ли она и в отношении двух наших рук? Можно ли правую и левую руки в точности совместить посредством вращения в более высоком измерении? Несомненно, да. Если бы кто-то взял вашу правую руку, поместил ее в четвертое измерение, повернул и снова возвратил на место, то она сделалась бы левой. Пожалуй, в некотором смысле именно так работает зеркало[86].
Какое отношение все это имеет к Канту и спору об абсолютном пространстве? Самое важное не в том, что различия правой и левой рук, несомненно, указывают на абсолютность пространства, а в том, что это порождает очень серьезные проблемы для тех, кто, подобно Лейбницу, полагает, что пространство относительно – иными словами, что пространство может быть описано с точки зрения взаимосвязей между самими объектами. Однако если точка зрения сторонников относительности опровергается, то, в отсутствие очевидной альтернативы, идея абсолютности с большей вероятностью верна.
Рис. 3.12. Поезд слева на единственном пути невозможно развернуть таким образом, чтобы он принял положение, показанное справа
Рис. 3.13. С помощью возвратной петли поезд можно развернуть – фактически переместив его в другое измерение
Если пространство можно адекватно описать только с точки зрения взаимосвязей между объектами, как утверждал Лейбниц и сторонники его позиции, тогда разные объекты могут отличаться взаимосвязями своих составляющих. Моя правая рука отличается от правой руки ребенка, скажем, тем, что кончик указательного пальца расположен дальше от сустава и так далее. Это, однако, совсем не то же самое, что отличия между правой и левой рукой. Все углы и расстояния в обеих руках одинаковы, но все же руки, бесспорно, отличаются. Я не могу надеть правую перчатку на левую руку или правый ботинок на левую ногу – как сказал Форд Мэдокс Форд в романе «Солдат всегда солдат», они просто не будут «сидеть так легко и свободно, и при этом так же плотно, как правая перчатка на правой руке». Кант пришел к неизбежному выводу: должно существовать что-то еще, с чем можно было бы сравнить правую и левую руки – и это могло быть только само пространство. «Отсюда ясно, что не определения пространства суть следствия положений материи относительно друг друга, а, наоборот, эти положения суть следствия определений пространства и, следовательно, тела могут иметь различия в свойстве, и притом подлинные различия, которые относятся лишь к абсолютному и первоначальному пространству». Даже пустое пространство должно обладать какой-то абсолютной структурой, относительно которой можно было бы сказать, что наша правая рука не тождественна нашей левой руке[87].
Интересный вопрос, вытекающий из утверждения Канта, – это возможность взять мою трехмерную левую руку, повернуть ее в четвертом измерении, а затем вернуть ее в наш трехмерный мир в качестве правой. Если бы это можно было сделать, тогда кантовский аргумент в пользу абсолютного пространства мог бы столкнуться с проблемами. Но это только теоретическая возможность. Пространство мира, в котором мы живем, трехмерно, и нет никаких эмпирических свидетельств наличия четвертого пространственного измерения. Более того, мы можем быть совершенно уверены, что до сих пор ни одного человека не проворачивали в четвертом измерении. Если бы такие были, их бы сразу заметили. Ведь тогда бы не только правая и левая рука поменялись местами, а сердце оказалось справа – но и все их аминокислоты оказались правосторонними, а углеводы – левосторонними, что тут же сделалось бы очевидным из-за полной несовместимости с жизнью на Земле[88].
Конечно, философы даже самый простой аргумент разберут на части, рассмотрев все возможные допущения, следствия и выводы – и будут правы, такая у них работа. На первый взгляд философы заняты выявлением сложности в простом виде. Это не обязательно служит подспорьем обычному мыслителю: Сэмюэл Батлер называл это занятие «напусканием тумана». Рассуждение Канта о правом и левом стало предметом множества научных статей и, по крайней мере, одной книги, и эта тема остается столь же живой и все так же смущает умы, как и в 1768 году. Сам Кант здесь нам не поможет. Спустя несколько лет он отказался от идеи абсолютного пространства, а также отклонил все аргументы в пользу относительного пространства и вместо этого постулировал «третий путь», трансцендентальный подход, с точки зрения которого пространство конструируется человеческим разумом, а не наблюдается пассивно. Поэтому пространство могло бы принимать любую форму, но наш разум создает его трехмерным. У нас нет возможности детально обсуждать огромный массив специальной философской литературы, посвященной идее Канта. Нам нужно лишь рассмотреть, как в свете этой теории выглядит наша проблема – почему левая и правая стороны нашего тела отличаются столь разительно?[89]
Хотя это может показаться очередным отступлением, ряд проблем, касающихся правого и левого, можно понять, задумавшись над туманной и умозрительной задачей общения с инопланетянами. Если с ними удастся связаться, как объяснить им разницу между правым и левым? Вполне естественно, что Кант не рассматривал эту проблему напрямую, но из его работы 1768 года следует, что всякий, кто попытается побеседовать с инопланетянами о руках и перчатках, столкнется с большими трудностями. Мартин Гарднер, который много лет вел колонку «Математические игры» в журнале Scientific American, назвал это «Проблемой Озма», рассуждая об общении по радио с далеким от нас разумом где-то на далекой планете:
Есть ли какой-либо способ передать смысл понятия «левое» языком, передаваемым посредством кодируемых импульсных сигналов? По условиям задачи мы можем что угодно говорить нашим слушателям, просить их выполнить любой эксперимент, но с одним обязательным условием: не должно быть никаких асимметричных объектов или структур, которые мы и они могли бы наблюдать совместно (курсив автора).
Проблема станет более очевидной, если вообразить космический корабль с марсианином, связь с которым возможна только по радио. Следуя нашему устному описанию, марсианин сделал пару симметричных перчаток. Теперь попросим марсианина выбрать перчатку для правой руки. Можно ли это сделать? Общепринятый ответ – нет (или, по крайней мере, так было до 1957 года – и к этому мы вернемся в главе 6). Причина этой невозможности восходит к Канту, который говорил, что различие между правой и левой рукой не может быть выражено «в доступной для разума форме посредством словесного описания». Слова, будь они в форме сообщения по радио, книги, азбуки Морзе или двоичного кода, по сути, представляют собой одномерные сообщения, а потому их невозможно использовать, чтобы описать разницу между двумя перчатками. Задачу, однако, можно решить, воспользовавшись некой аналогией. На Земле, говоря с кем-то по телефону, мы могли бы сказать: «Положи перчатки перед собой ладонями вниз и пальцами от себя. Перчатка, большой палец которой направлен в сторону твоего сердца, – правая». Но это нарушает условие Озма, так как указывает на сердце, асимметричный объект, известный и отправителю, и получателю. Поскольку нам неизвестно, находится ли у марсиан сердце слева и есть ли оно у них вообще, из-за проблемы Озма метод оказывается совершенно неудачным, как и все прочие изобретательные попытки, о которых подробно рассказывает Гарднер, – хитрые способы с использованием полюсов магнита, электромагнитной индукции в проводах, поляризации света в кристаллах, стереоизомеров аминокислот, вращения планет и тому подобного. Каждый из них на каком-то этапе предполагает изначальное представление о правом и левом. Сам Кант выразил это ясно: «Мы не можем объяснить различие подобных и равных, но тем не менее неконгруэнтных вещей (например, раковин улиток с противоположными по направлению извилинами) никаким одним понятием. Философ Джонатан Беннет не менее ясно подчеркивает границы возможного и невозможного, отмечая, что «объяснить смысл [правого и левого] можно лишь с помощью некой демонстрации – но не словами». А по условиям Задачи Озма в нашем распоряжении только слова. Демонстрация просто технически невозможна[90].
Итак, все это интересно и занимательно, это прекрасный способ провести время для тех, кто любит пофилософствовать, но может ли это дать какой-то ответ на занимавший доктора Томаса Уотсона вопрос: почему сердце находится с левой стороны тела? Суть в том, что с точки зрения информации растущий эмбрион – все равно что марсианин в космическом корабле. Форма сообщений, которые он может получать, очень ограниченна, но в какой-то момент ему потребуется узнать, какая сторона правая, а какая левая. У большинства людей сердце расположено слева, и есть достаточные основания полагать, что такое положение сердца в некотором смысле контролируют гены. Если это так, тогда гены должны сообщить развивающемуся организму, где разместить сердце – то есть слева, а не справа. У вращающегося в материнской утробе космического корабля «Эмбрион» способы общения с внешним миром очень ограниченны. Большая часть сообщений, касающихся построения тела, заложены в генетическом материале, в ДНК, но сообщения эти подобны азбуке Морзе, языку или любой другой последовательности информации – они одномерны. Таким образом, не существует способа, которым содержащаяся в ДНК информация сама по себе могла бы сообщить эмбриону, где следует расположить сердце. Это не эмпирический вопрос, но логическая необходимость, и в этом и состоит суть работы Канта 1768 года.
Логическая необходимость и невозможность – тонкие предметы, но, конечно же, у большинства из нас сердце и в самом деле расположено слева, и каким-то образом будущему сердцу было указано находиться именно там. Так каким именно? Ответ – не посредством одной лишь ДНК (и вот почему я осторожно написал «в каком-то смысле под контролем генов»). «В каком-то смысле» значит, что хотя ДНК и имеет к этому отношение, должен существовать и еще какой-то механизм. И по своей природе механизм этот в конечном счете должен не столько рассказывать, сколько показывать.
Сказанное выше нелегко будет принять тем, кто полагает, что все важное для организма закодировано в генах, и только в генах. Гены сами по себе не могут обеспечить формирование сердца именно слева. Помимо генов, в процессе должна участвовать и дополнительная информация, поступающая из того, что мы можем назвать окружающей средой. Проблему наглядно демонстрируют предпринимаемые ныне попытки возродить мамонтов и других вымерших животных с помощью сохранившейся ДНК, а также клонировать виды, находящиеся на грани вымирания. Если исходить строго из последовательностей ДНК – возможно, с виртуальной компьютерной реконструкцией работы всех генов, – то шансы на то, что сердце у мамонта окажется либо слева, либо справа, составят пятьдесят на пятьдесят. Конечно, зоологи не воссоздают животных только на основе ДНК, так сказать в пробирке, ДНК может развиться в организм только в соответствующей окружающей среде, а именно в оплодотворенной яйцеклетке, находящейся в утробе матери, а это очень сложная среда. Поэтому те, кто пытается воссоздать мамонта, должны аккуратно поместить полученную ДНК в яйцеклетку достаточно близкого вида, например слона, в надежде, что где-то в сложной смеси биохимических веществ и внутриклеточных органелл содержится информация о том, что сердце мамонта должно быть слева[91].
То, как именно организму удается сформировать сердце слева – сложный вопрос, и мы вернемся к нему в главе 5. Прежде, однако, мы должны задуматься над словами «правое» и «левое» и о том, почему столь многие люди в них путаются. Что же делает эти обыденные понятия одними из самых неясных и сбивающих с толку?
4. Kleiz, drept, luft, zeso, lijevi, prawy
Армии Российской империи нелегко давалось обучение малограмотных рекрутов-новобранцев, не различавших право и лево. Чтобы научить их правильно ходить строем, командиры придумали привязывать к правой ноге солому, а к левой сено, и выходцы из деревень стали маршировать под команды: «Сено, солома, сено, солома!» Подобная проблема возникала и в отлично подготовленной армии Римской империи, только там вместо «право» было «копье», а вместо «лево» – «щит»[92].
Сложности с различением левого и правого – удел не только неграмотных. Немецкий поэт Шиллер писал другу, что «целый вечер не мог понять, что есть правое, а что левое». Даже самым образованным людям иногда приходится полагаться на предметы, напоминающие им об этом. Физику Ричарду Фейнману напоминала об этом родинка на тыльной стороне левой ладони, а Зигмунд Фрейд прибегал к знакомому многим из нас способу:
Не знаю, всегда ли другим людям очевидно, что для них левое, а что правое, и что левое и правое для всех остальных. В моем случае (в детстве) приходилось задуматься, что для меня значит правое, никакое внутреннее ощущение не сообщало мне об этом. Обычно я проверял себя, делая несколько движений правой рукой, словно бы пытался что-то написать.
Этот трюк – своего рода прикладной каламбур. Особенно хорошо он работает в английском языке, в котором слова «правый» (right) и «писать» (write) являются омофонами, то есть произносятся одинаково[93].
В технологическом обществе различать левое и правое – очевидная необходимость, ведь как бы мы тогда могли «поместить правый конец шаробура в самый левый из барахлящих вурцлеров»? Точно так же простые указания всегда требовались, чтобы различать правое и левое («Не ходи в левую пещеру, там живет саблезубый тигр!»). И все равно, левое и правое часто путали, и, по словам лингвиста Джин Эйчисон, «перепутать левое и правое – это, вероятно, самый распространенный семантический сбой; на втором месте идет путаница между вчера, сегодня и завтра»[94].
Чтобы говорить о правом и левом, необходимы прежде всего слова для их обозначения. Более тонкое требование – нужно, чтобы мозг был асимметричным. И даже в этом случае нам приходится учиться правильно и точно употреблять эти слова. Стоит взглянуть на них более пристально. Откуда они взялись? Английский язык – часть индоевропейской семьи языков, в которых, как видно из табл. 4.1, существует множество слов, обозначающих правое и левое.
Таблица 4.1. Слова, обозначающие «правое» и «левое» в индоевропейских и других языках
Некоторые из этих слов очень похожи – скажем, чешское pravý и польское prawy или sinistro в итальянском и sinister в латинском, но области, где говорят на чешском и польском, соседствуют, а итальянский – современный потомок латыни. Поэтому мы и говорим о языковых семьях, в которых слова похожи, словно кровные родственники. И все же некоторые из этих слов очень отличаются. В самом ли деле они состоят в родстве?[95]
Одним из блестящих достижений лингвистики стало установление родства языков между собой, что сделало возможным реконструкцию индоевропейского праязыка, прапрапрадеда большинства языков в нашей таблице. Предположение о родстве языков впервые выдвинул в конце XVIII века сэр Уильям Джонс, главный магистрат Калькутты, которая была тогда столицей Британской Индии. Джонс изучал санскрит, древний язык Индии, на котором около 1000 года до н. э. были написаны Веды, и был поражен его «прекрасным строением». Все, кому довелось биться с латинскими спряжениями и склонениями и с еще более сложными греческими, всей душой согласятся с Джонсом, считавшим санскрит «совершеннее греческого и богаче латыни». Но поразила его не только красота языка. В 1786 году он заметил сильные связи санскрита с латынью и греческим, «как в корнях глаголов, так и в грамматических формах, что вряд ли может быть случайностью; это сходство так велико, что ни один филолог, который занялся бы исследованием этих языков, не смог бы не поверить в то, что они произошли из общего источника, которого уже не существует»[96].
Джонс оказался провидцем, и его идея об общем источнике более чем подтвердилась, несмотря на то что огромное разнообразие современных языков на первый взгляд говорило против этого. Первый прорыв произошел в 1822 году, когда Якоб Гримм, тот, что вместе со своим братом Вильгельмом собрал знаменитые волшебные сказки, понял, что звуки одного языка претерпевают систематические изменения в других языках. Закон Гримма описывает, как слова, в санскрите и латыни начинающиеся на звук /p/, стали в германских языках начинаться звуком /f/ – таким образом латинское pater в английском сделалось father, а piscis (рыба) превратилось в fish. Есть и другие подобные законы, выводы из которых показали, каким образом связаны между собой индоевропейские языки[97].
Конечно, следует принимать во внимание не только звучание слов, но и грамматику, морфологию, а также массу других моментов. Равным образом необходимо рассматривать не только современные языки, но и их предшественников. Английский вырос из среднеанглийского, родственного англо-фризскому, который состоит в родстве с готским и другими восточногерманскими языками, входящими в германскую ветвь индоевропейской семьи, восходящей к индоевропейскому праязыку. Также удалось расшифровать такие языки, как хеттский, клинописные надписи на котором сохранились на глиняных табличках, найденных археологами в ходе раскопок в Богазкёе в Турции, а также тохарский А и тохарский B, сохранившиеся в рукописях, обнаруженных в пустынях Синьцзяня, на Великом шелковом пути. Все это, замечает лингвист Роберт Бикс, складывалось воедино, словно огромная мозаика-пазл – с той лишь разницей, что никакой картинки на крышке коробки не было[98].
Итогом этой работы стала реконструкция языка, на котором говорили в Европе примерно до 3000 года до н. э., и на ответвлениях которого в конечном счете заговорила половина населения Земли. Вопрос о том, где жили праиндоевропейцы, все еще остается предметом споров, хотя некоторые тонкие намеки дает сама их лексика. Слова *mori, означающее море или большое внутреннее озеро, и *neh2us (лодка) указывают на передвижения по воде, а слово *snoigwhos (снег) – что климат был не слишком мягким (астерикс в начале слова говорит о том, что это реконструированное, гипотетическое слово, а такие символы, как h2 и gwh, обозначают реконструированные лингвистами древние звуки). В числе кандидатов на прародину индоевропейцев – Южный Кавказ, север Месопотамии, Малая Азия и юг России[99].
Богатство индоевропейского праязыка наводит на мысль, что в нем неизбежно должны были быть слова, обозначающие правое и левое. Почти невозможно вообразить язык, в котором бы не было этих слов. Как иначе можно было бы распоряжаться во время охоты или возделывая поля, обучать пользоваться инструментом или обсуждать тактику? Из таблицы видно, что многие слова, обозначающие правое и левое, достаточно похожи, чтобы можно было говорить об их общем происхождении. Свидетельства, однако, неоднозначны. В индоевропейском праязыке, несомненно, имелось слово, значившее «правое». Как и во всякой специальной области, эксперты расходятся в деталях и даже в том, как лучше записать это слово, но это было нечто вроде *de[h]s (i) —, *t’ek[h]-s-, или *deksinos / *deksiwos / *deksiteros. Общие черты в этих реконструкциях вполне очевидны. Поразительно, однако, почти полное отсутствие в индоевропейском праязыке слова, обозначавшего «левое». В недавней энциклопедической реконструкции индоевропейского праязыка Иванов и Гамкрелидзе высказываются довольно категорично: «Обращает на себя внимание при почти полном единообразии в индоевропейских диалектах для лексемы “правый”, восстанавливаемой для общеиндоевропейского в праформе *t’ek[h]-s- невозможность реконструкции общеиндоевропейской праформы со значением “левый”». Невозможность – сильное слово, но из уст тех, кто всю жизнь положил на реконструкцию индоевропейского праязыка, такие заявления следует принимать всерьез[100].
Как получилось, что у древних индоевропейцев было слово, означающее «правое», но не было слова «левое»? Прилагательные и наречия обычно образуют пары противоположностей: если какие-то предметы горячие, то другие должны быть не горячими или холодными и так далее. Если у праиндоевропейцев было слово «правое», следовательно, у них должно было быть представление о правом и левом и соответственно слово, значившее «левое». Так что же с ним случилось? Гамкрелидзе и Иванов говорят об этом предельно ясно: «причина должна лежать в символическом значении «левого» в индоевропейском, его табуировании и частичной замене в отдельных диалектах». Это очень напоминает то, что Герц писал в «Преобладании правой руки»: хотя [в индоевропейских языках] наличествует единый термин, обозначающий «правое», распространенный на очень большой территории и демонстрирующий большую устойчивость, концепция «левого» выражена несколькими различными терминами». Указание на этот факт можно увидеть и в таблице: в большинстве языков понятие «левое» выражено большим числом слов, чем «правое» – так, в латинском существует и sinister, и более старое слово laevus. Но реальное подтверждение – как раз невозможность реконструировать общее происхождение слов, означающих «левое» – они сильно менялись, новые слова для этого понятия брали со стороны или придумывали, так что в результате общие черты между ними исчезли. Тем самым подтверждается догадка Герца о символическом преобладании правой руки: широко распространенная замена понятия «левое» указывает на его стигматизацию. Мы даже можем наблюдать этот процесс в английском, в котором не нашлось современного потомка англосаксонского слова winstre [101].
Различный лингвистический статус правого и левого виден и в феномене, который лингвисты называют «маркированностью». Немаркированная форма слова – допустим, «счастливый», маркированная – «несчастливый», где «не-» указывает на отклонение от нормального состояния. Немаркированные слова обычно встречаются чаще, они лингвистически старше и более нейтральны (то есть ответом на вопрос «Он счастлив?» может быть «да» или «нет», тогда как вопрос «Он несчастлив?» подразумевает, что человек и в самом деле несчастлив). Слова со значением «левое», как правило, лингвистически маркированы, правое считается нормой, а левое определяется как «отличное от правого». Правое нормально, левое ненормально и стигматизируется[102].
Прежде чем отойти от проблемы происхождения слов, означающих правое и левое, стоит задаться вопросом, почему в английском языке правое значит одновременно и «противоположное левому» и «противоположное неправильному», а также несет ряд значений, связанных с обязанностями, ожиданиями и обязательствами. Существует ли какая-то прямая связь между этими разными значениями? На первый взгляд – нет. Конечно, кто-то увидит здесь связь, но большинству покажется, что это просто совпадение. В индоевропейском праязыке есть слово *h3regtos, означающее справедливый, прямой или правильный, но оно явно не связано с *de[h]s (i) —. От *h3regtos происходит серия слов, в основном через латинский глагол regere – направлять, руководить или править, и даже группа слов, включающая множество индоевропейских обозначений царя или властителя. Совмещение двух значений произошло только в германских языках, и его называют «обратным семантическим смещением». Если несколько значений слова «правое» не эквивалентны, то едва ли нужно упоминать, что тот факт, что англичане пишут правой рукой (write и right звучат одинаково), совсем не относится к делу, это каламбур, не сложившийся ни в одном другом европейском языке (хотя он все же полезен, так как помогает детям сообразить, где у них правая рука)[103].
Столь эффективная реконструкция индоевропейского праязыка у ряда читателей может вызвать вопрос – а возможно ли восстановить более ранние праязыки, одним из потомков которых стал индоевропейский? Это дискуссионный вопрос. В 1903 году датский лингвист Хольгер Педерсен указал на сходные черты индоевропейских, семитских, уральских, алтайских и эскимо-алеутских языков, предположив, что они могли произойти от общего предка, который он назвал ностратическим языком. С тех пор интерес к этой идее не раз возникал и снова пропадал, и сейчас она снова в моде, и попытки реконструкции ностратического языка продолжают предприниматься. Однако пока в нем не обнаружено слов, означающих правое и левое[104].
Поскольку левое и правое представляются столь значимыми концепциями и поскольку слова, обозначающие эти понятия, уходят так глубоко в историю языка, удивительно, что столь многие из нас плохо различают левое и правое. Прежде чем поговорить об этом, проделаем небольшой эксперимент с памятью. Посмотрите на рис. 4.1 – изображение британской почтовой марки. На каком из них профиль королевы повернут правильно? Или какой портрет Джорджа Вашингтона на долларовой купюре правильный (рис. 4.2)? Наконец, рис. 4.3, изображающий недавнее впечатляющее событие – комету Хейла – Боппа, которую многие наблюдали в 1997 году. Вы можете вспомнить, в какую сторону был направлен ее хвост? Ответы – в примечаниях в конце книги[105].
Рис. 4.1. На какой из марок профиль королевы обращен верно?
Рис. 4.2. Какой из портретов Джорджа Вашингтона изображен на долларовой купюре?
Рис. 4.3. Комета Хейла – Боппа при наблюдении из Чендлерс-Форд в Гемпшире, 28 марта 1997 года. На одной фотографии комета изображена так, как она выглядела на самом деле, на другой – зеркально. Какая из двух фотографий верна? Ответы можно найти в примечаниях
Если вы затрудняетесь, не волнуйтесь – вы в хорошей компании. Исследование, проведенное среди студентов Оксфордского университета спустя шесть месяцев после того, как комета Хейла – Боппа скрылась с небосклона, показало, что только 60 % видевших комету смогли вспомнить, в какую сторону она была повернута, налево или направо. И это несмотря на то, что многие наблюдали комету от 2 до 9 раз, а некоторые – еще чаще[106].
Как мы учимся употреблять слова «правое» и «левое» и почему некоторые, похоже, испытывают трудности с этими понятиями? Как часто бывает в подобных случаях, понять, каким образом взрослые делают что-то правильно, можно наблюдая за детьми, совершающими ошибки при выполнении тех же действий, но в итоге осваивающими их. Понятие о левом и правом формируется у детей далеко не сразу. В романе Себастьяна Фолкса «Шарлотта Грей» семилетний Андре, как и все маленькие дети, сталкивается с этой проблемой: «Когда, запыхавшись, он добрался до дороги, он замер в замешательстве. Налево, направо… Он был еще слишком мал, чтобы понимать разницу, но знал, что школа в той стороне, на холме». Винни-Пух, медвежонок с опилками в голове, тоже никак не мог в этом разобраться: «Пух посмотрел на свои лапы. Он знал, что одна из них правая, другая – левая, и знал, что, когда он решит, какая из них правая, другая окажется левой. Но никак не мог вспомнить, с какой начать». Как и многие из тех, кто путает правое и левое, Пух и читал не очень хорошо: «Винни прочел две записки очень тщательно, сначала слева направо, а потом, на случай, если упустил что-то, справа налево». Насколько дети умеют различать правое и левое, можно проверять систематически с помощью тестов – наподобие того, что изображен на рис. 4.4[107].
Многие основы современной детской психологии заложил швейцарский психолог Жан Пиаже, который в 1928 году посвятил одну из своих работ тому, как у детей возникает идея правого и левого. Он начинал с самых простых вопросов: «Покажи мне свою правую руку. Теперь левую. Покажи свою правую ногу. Теперь левую». К пяти-шести годам большинство детей отвечали правильно. Это, однако, не значит, что они понимали разницу между правым и левым. Детские психологи, как и все психологи, – люди искушенные и скептичные, а потому часто задаются вопросом, не может ли быть какой-либо сложный навык на самом деле проявлением более простых способностей. Поэтому Пиаже садился напротив ребенка и начинал задавать другие вопросы, очень похожие на предыдущие: «Покажи мне мою правую руку. Теперь мою левую. Покажи мне мою правую ногу. Теперь левую». Большинство пятилетних правильно отвечали на первую серию вопросов, но едва могли справиться со второй. Таким образом, пятилетние не могли в полной мере понять, что значит правое и левое. Фактически дети начинали правильно отвечать на вторую серию вопросов примерно с семилетнего возраста[108].
Рис. 4.4. Тест на знание левого и правого у детей и подростков, разработанный Соней Офте и Кеннетом Хагдалом. Какая «рука» правая у каждой из этих фигур? Поскольку часть фигур обращены к зрителю лицом, а часть – спиной, а руки у некоторых скрещены, правильно ответить можно, только если в полной мере понимаешь природу правого и левого
Следующий тест Пиаже был несколько сложнее. Ученый садился напротив ребенка, а между ними был стол, на котором лежали карандаш и монета, монета – слева от ребенка, карандаш – справа. Ученый спрашивал: «Карандаш лежит справа или слева от монеты? А монета справа или слева от карандаша?» Хотя эти вопросы кажутся не труднее предыдущих, дети начинали правильно понимать их лишь в возрасте семи с половиной лет. Но критически важным был следующий вопрос, хотя даже сам Пиаже не сознавал этого, когда готовил эксперимент. После первых исследований он отмечал: «Только после окончания эксперимента нам пришло в голову, что нужно было попросить ребенка подойти к противоположной стороне стола после того, как он скажет, что монета лежит слева от карандаша, и спросить: а теперь монета слева или справа от карандаша? Этот вопрос, конечно, сильно усложнял задачу, и дети не справлялись с ней вплоть до девятилетнего возраста. Один мальчик по имени Пай, которому было ровно семь с половиной лет, показал, в чем именно заключается проблема:
– Монета справа или слева от карандаша?
– Слева.
– А карандаш?
– Справа.
[Пай обходит стол и садится рядом с экспериментатором. Монета и карандаш лежат на тех же местах.]
– А теперь монета справа или слева от карандаша?
– Слева.
– Точно?
– Да.
– А карандаш?
– Справа.
– А как ты узнал?
– Просто. Я запомнил, где они были раньше.
Уверенность Пая поражает, хотя и эта ошибка, и подобная уверенность типичны для детей этого возраста. Его ошибка состояла в том, что он принимал правое и левое за постоянные свойства предметов, а не за относительные, зависящие от того, откуда смотрят на предмет»[109].
Даже к девяти годам ребенок еще не в полной мере понимает природу правого и левого, о чем говорит другой вариант эксперимента. На этот раз экспериментатор кладет на стол перед ребенком три предмета: слева – карандаш, посередине – ключ, а справа – монету. Затем он задает вопросы ребенку, сидящему напротив: «Карандаш лежит слева или справа от ключа? А от монеты? Ключ слева или справа от монеты? А от карандаша? Монета слева или справа от карандаша? А от ключа?» Это сбивает с толку даже взрослого, дополнительная трудность для нас состоит в том, что приходится воображать расположение вещей, но у ребенка все предметы перед глазами. И все же дети начинают правильно все понимать только в возрасте девяти с половиной – десяти лет. В конце концов у них формируется правильное понимание левого и правого, и они убедительно демонстрируют это в завершающем тесте, когда, обойдя вокруг стола, продолжают отвечать правильно.
Почему дети так долго осваивают понятия правого и левого и почему это вызывает такие проблемы? Полное понимание включает в себя координацию трех независимых навыков – понимание правого и левого, умение воспроизводить вращение в уме и способность смотреть на мир с иной точки зрения. Пиаже различал три стадии в детском восприятии правого и левого. На первой стадии дети понимают левое и правое только по отношению к себе. Это то, что Пиаже называл «эгоцентризмом» – видением мира с точки зрения ребенка, а не других людей. Это не нравственная или эгоистическая, но когнитивная проблема – неспособность взглянуть на задачу с другой стороны. Это означает, что понятия левого и правого воспринимаются как абсолютные, сопряженные с левой и правой стороной самого ребенка и затем проецируемые на остальной мир. Этот процесс выражается в небольшом изменении формулировки. На вопрос, находится ли предмет «левее», ребенок часто отвечает «слева», указывая на абсолютную, а не на относительную позицию[110].
На второй стадии ребенок более социализирован, уже понимает, что его точка зрения на левое и правое может не совпадать с точкой зрения других людей. Ребенок уже отличает свою левую ногу от моей левой ноги. Однако лишь на третьей стадии правое и левое воспринимаются им как свойства отношений между объектами, а не самих объектов. К примеру, относительно ребенка ключ может быть одновременно левее монеты и правее карандаша, но с точки зрения кого-то еще – располагаться совершенно иначе. Только на этой последней стадии, которую Пиаже называл «полной объективностью», достигается зрелое понимание.
Даже несмотря на то что большинство детей примерно к двенадцати годам успешно справляются с проблемами правого и левого, многие сталкиваются с трудностями на протяжении всей жизни. Прежде чем обратиться к фактам, ответьте на простой вопрос, выбрав один из пяти вариантов ответа:
Став взрослым, я сталкивался с затруднениями, когда нужно было быстро отличить правое от левого:
• Всегда
• Часто
• Время от времени
• Редко
• Никогда
Лорен Харрис спросила об этом 364 преподавателя Университета штата Мичиган. Вот как распределились ответы: два процента ответили «всегда», шесть процентов – «часто», одиннадцать процентов – «время от времени», тридцать шесть процентов – «редко» и сорок пять процентов – «никогда». Поразительно, что каждый пятый работающий в университете ученый испытывал проблемы время от времени, часто или всегда. Это не единственное подобное исследование: сходные результаты показали врачи, а еще одно исследование обнаружило наличие таких же проблем у выпускников университетов и членов таких обществ интеллектуалов, как Mensa и Intertel[111]. Некоторые люди особенно склонны путать правое и левое, и все исследования отмечают, что сильнее этому подвержены женщины и левши. О следующем случае, весьма типичном, рассказывал один левша, практикующий врач-невролог:
«Впервые я обнаружил, что путаю правое и левое, когда был в третьем классе и столкнулся со странным затруднением, когда требовалось сделать что-то в правой или левой части страницы. Чтобы сориентироваться, мне приходилось сначала начинать писать, чтобы определить, какая из моих рук – левая, и задать точку отсчета… Сейчас, в тридцать три года, мне все еще нужно сознательно решать, где правое, а где левое, в уме проверять свое решение, и я до сих пор ошибаюсь, если устал, очень занят или выпил. В других случаях у меня нет проблем с направлением».
Шекспир, как и этот невролог, тоже знал, что алкоголь только усиливает путаницу, и Кассио в «Отелло» подтверждает свою трезвость словами: «Не думайте, господа, что я пьян… вот моя правая рука, вот моя левая рука»[112].
Даже те, кто, по их словам, никогда не путал правое и левое, сталкиваются с проблемами в ходе эксперимента в лабораторных условиях. Чтобы получить о них представление, взгляните на рис. 4.5 и быстро назовите вслух, куда показывает каждая рука, вверх или вниз. Теперь посмотрите на рис. 4.6 и назовите вслух, куда направлены руки – вправо или влево. Большинство людей выполняют второе задание вдвое дольше первого. А теперь самое трудное испытание. Посмотрите еще раз на рис. 4.6 и скажите вслух, какие из изображенных рук правые, а какие – левые. Это намного труднее, и обычно на это требуется в два с половиной раза больше времени, чем просто сказать, вправо или влево указывают руки[113].
Даже взрослым определение правого и левого дается куда сложнее, чем определение верха или низа. Чтобы понять, почему это так, психологи разделяют два разных вида объяснений – перцептивное кодирование и вербальное маркирование. Когда мы различаем два объекта, то сначала видим разницу между ними (перцептивная стадия), а затем описываем ее (стадия маркирования). Тонкие эксперименты позволяют заметить эти процессы и применительно к различению правого и левого. Обычно задача состоит в том, чтобы отличить друг от друга символы наподобие <, >, ˄, ˅, стрелок, указывающих вверх, вниз, вправо или влево. Испытуемый видит один из символов, возникающий примерно на одну десятую секунды. Он реагирует словами «вправо», «влево», «вверх» или «вниз». Как правило, ответы «вправо» и «влево» занимают больше времени, чем «вверх» и «вниз», как и в предыдущем эксперименте. Однако в данном случае испытуемый должен и заметить разницу, и описать ее. Но в несколько ином варианте эксперимента, известном как «Ходи/Не ходи», испытуемый просто говорит «ходи» при появлении двух видов стрелок (> или ˅), но ничего не говорит при появлении других (˄ или <). То есть он должен распознать стрелки, но не должен называть их. В точно поставленном эксперименте левые и правые стрелки можно было сопоставить со стрелками вверх и вниз, и обнаруживалась значительная разница с предыдущими результатами. Испытуемые теперь так же быстро и точно реагировали на стрелки > и <, как и на ˄ и ˅, различить правое и левое оказалось не сложнее, чем верх и низ. Поскольку во втором эксперименте стимул был перцептивно закодирован, но вербально маркировать его не требовалось, похоже, проблемы с правым и левым связаны именно с вербальным маркированием[114].
Рис. 4.5. Тест «Руки» на распознавание правого и левого. Контрольное задание, в котором надо сказать, куда указывает каждая рука, вверх или вниз
Рис. 4.6. Тест «Руки» на распознание правого и левого. Главное задание, в котором нужно сказать, куда указывает каждая рука, влево или вправо
Что-то словно мешает нам произносить слова «правое» и «левое» с такой же легкостью, как, например, «вверх» и «вниз» или «над» и «под», «спереди» и «сзади». Задумаемся вначале о «над» и «под». Чтобы определить, находится ли один предмет над другим, мы сначала должны знать, что значит «вверх» и «вниз». Это просто: возьмите любой предмет в руки и затем отпустите. Направление, куда он падает – это «вниз», сила притяжения заставляет предметы двигаться вниз, а не вверх. Точно так же просто определяются положения «близко» и «далеко», «спереди» и «сзади»: мы можем дотронуться до передней части предмета, которая ближе к нам, но не можем коснуться задней, которая дальше. Но как насчет левого и правого? Мы возвращаемся к проблеме Канта – нет в пространстве ничего явного и очевидного, вроде силы тяготения или длины наших рук, что могло бы указать нам направление вправо или влево. А потому пользоваться этими понятиями труднее.
Весьма любопытно, что даже такие парные понятия, как «над» и «под», употребляются не совсем одинаково. О том, что один предмет находится над другим, испытуемые говорят быстрее, чем если он под другим. «Над» – это немаркированная форма описания, тогда как «под» – маркированная – в конечном счете она означает «не над», и мозгу необходимо больше времени на обработку этой информации. Чтобы выяснить, какое из двух понятий – «правое» или «левое» – маркировано, был поставлен простой эксперимент. Стимул снова появляется на экране на короткое время. В каждом случае испытуемый видит слово в рамке и пятно рядом с рамкой. Испытуемый должен сказать, правильно или неправильно соотносятся слово и пятно, и в том случае, если пятно именно там, где указывает слово, правильный ответ будет «верно». Стимулы и правильные ответы показаны ниже:
В каждом тесте ответы следовали примерно на одну десятую секунды быстрее, если в рамке было слово «справа», таким образом, понятие «правое» не маркировано, а «левое» – маркировано. Если вы попытались выполнить задание, о котором шла речь выше, вы могли догадаться, что есть и другой способ постановки этого эксперимента, то есть можно было определять левое и правое не с точки зрения испытуемого, но относительно рамки. Теперь правильные ответы отличаются от предыдущих.
В среднем в этом варианте эксперимента испытуемые отвечали примерно на одну шестую секунды медленнее. Таким образом, обозначение «правого» и «левого» с точки зрения субъекта более естественно, или лучше выучивается, чем обозначение относительно объекта, и это совпадает с данными Пиаже о том, что дети подходят к понятиям «правое» и «левое» со своей точки зрения и только потом начинают определять их относительно объекта. Несмотря на указанное отличие, результаты этого эксперимента близки к результатам предыдущего: «правое» воспринимается быстрее, чем «левое», что подтверждает маркированность понятия «правое» и немаркированность понятия «левое»[115].
Если вы левша, то, возможно, вы спросите, остается ли «правое» немаркированным и для леворуких или же для них не маркировано «левое»? К сожалению, эксперименты проводились только с правшами, и, хотя авторы исследований утверждали, что изучали и леворуких, похоже, результаты этих экспериментов так и не были опубликованы. Так что, боюсь, ответа на этот вопрос мы не знаем, хотя узнать его было бы интересно.
Есть, наконец, и еще один вариант проведения этого эксперимента. Мы уже видели, что проблема правого и левого, похоже, связана с вербальным маркированием. Мы можем проверить, так ли это, заменяя слова в рамках стрелками, указывающими вправо или влево, как показано ниже. Теперь перепутать стрелки, указывающие влево или вправо, невозможно. Проблемы возникают только со словами «правое» и «левое».
Очевидно, что людям нелегко отличать правое и левое, что у детей с этим возникает масса проблем, а многие взрослые всю жизнь испытывают затруднения. Если у людей это вызывает трудности, то что же насчет животных? Могут ли они различать правое и левое? Прежде чем отвечать, следует прояснить, что значит «отличать левое от правого». Если кошка чешет левое ухо, когда на него садится муха, это значит не то, что кошка может отличать левое и правое, а лишь то, что она способна реагировать на раздражающий стимул с левой стороны. Настоящее различение левого и правого требует произвольной, несимметричной реакции на зеркально-симметричный стимул, как в предыдущих экспериментах, например, когда при появлении изображений стрелок > и < требовалось произнести вслух «вправо» или «влево», или зеркально-симметричной реакции на произвольные несимметричные стимулы, например поворачиваться направо или налево, услышав произвольные звуки, соответствующие словам «правое» и «левое». Могут ли это делать животные? Обычно ответ на этот вопрос – нет; если же они и проявляют некоторые способности, то с большим трудом. Экспериментаторы проверяли осьминога, золотую рыбку, голубей, крыс, кроликов, морских свинок, кошек, собак, низших обезьян и шимпанзе, и в большинстве случаев не удалось обнаружить, что они как-то различают правое и левое. И хотя люди далеко не всегда успешно справляются с такими задачами, они все же делают это намного лучше животных. Лучшее объяснение такого отличия состоит в том, что человеческий мозг асимметричен, в отличие от симметричного мозга животных, а симметричный мозг не может различать асимметричные стимулы или реагировать асимметрично – впервые эту теоретическую догадку сформулировал австрийский физик Эрнст Мах[116].
Идеи Маха ввели в психологию Майкл Корбеллис и Айвен Бил. Для начала вообразите полностью симметричную машину, которая ведет себя как самолет на автопилоте, по-разному реагируя на события слева и справа – например, боковой ветер – поворотами руля вправо или влево. Как и в случае с кошкой, которой на ухо садится мошка, нельзя сказать, что такая машина понимает разницу между левым и правым, хотя и функционирует очень эффективно. Вообразите теперь полностью симметричную машину, самолет на автопилоте или полностью симметричный мозг, которые способны реагировать асимметрично, например, поворачивая налево при появлении впереди асимметричного стимула, например буквы p. Что произойдет, если вместо этого появится зеркальный стимул, например буква q? Машине придется среагировать зеркально, повернув вправо. Чтобы понять почему, представьте, что и буква p, и машина отражаются в зеркале. Мы уже отметили, что машина полностью симметрична и потому нисколько не меняется в зеркальном отражении. Однако стимул переворачивается, буква p превращается в q, и в этом случае реакция тоже становится противоположной, левый поворот меняется на правый. Если бы это было не так, машина не была бы полностью симметричной. Финальный поворот, однако, выворачивает всю теорию наизнанку. Если машина действительно поворачивает в разных направлениях в ответ на стимулы, которые не являются зеркальными, скажем, налево в ответ на «+» и направо на «*», тогда и сама машина должна быть асимметричной. Только асимметричная машина или асимметричный мозг способны отличать левое от правого[117].
Хотя рассуждения Маха были только мысленными экспериментами, они оказались весьма ценными для понимания того, как различаются правое и левое, и, как и идеи Канта, наложили жесткие ограничения на возможности симметричных систем. Поскольку мозг большинства животных в значительной мере симметричен, животные неизбежно сталкиваются с трудностями при различении правого и левого. Иногда животные обучаются различать стороны, но проделывают это хитроумным способом. Например, можно научить голубей различать зеркально-симметричные стимулы / и \. Но что они делают: наклоняют голову на 45 градусов, превращая / и \ в | и —, которые не зеркальны, а потому их можно отличить друг от друга. Фактически голубь, наклоняя голову, становится асимметричным. Можно получить такой же результат, если экспериментатор закроет один глаз голубя пластырем.
Теория Маха объясняет, почему некоторым взрослым бывает трудно различать правое и левое. Людям с более асимметричным мозгом сделать это легче, чем с симметричным. У леворуких степень латерализации мозга меньше, а у женщин – меньше, чем у мужчин, что объясняет некоторую разницу в определении правого и левого. Ярко выраженные правши и левши, как дети, так и взрослые, лучше различают правое и левое, чем те, у кого лево- или праворукость выражена менее сильно. Люди со значительной асимметрией тела, например с односторонним параличом, также лучше различают правое и левое. Поэтому самое простое практическое решение для тех, кто склонен путать правое и левое, – это придать своему телу некую асимметричность. Нью-йоркский судья Суда по семейным делам так решил эту проблему:
Я не могу сказать, где право, а где лево, не взглянув на свое обручальное кольцо или наручные часы. Я сказал жене, что наш брак – это навсегда, потому что если я окажусь без обручального кольца, то не смогу найти дорогу домой. Когда я веду машину, я потуже затягиваю ремешок наручных часов, чтобы, услышав от кого-то «налево», я бы знал, куда поворачивать. Или, когда я выхожу из дверей аэропорта – ну, там, где все эти знаки: багаж налево, такси направо, идите вперед, вверх, вниз, – я тоже всегда затягиваю туже ремешок часов[118].
Пока что речь шла о не слишком выраженных случаях путаницы левого и правого, присущих обычным взрослым людям, которые, хотя и могут выполнить задания на различение правого и левого, все же считают их сложнее других заданий. Более выраженные случаи путаницы правого и левого у взрослых людей связаны с повреждениями мозга: у этих больных встречается вызывающий у медиков споры синдром, названный по имени венского невролога Йозефа Герстмана, впервые описавшего его в 1920-х годах. Синдром включает четыре отдельных компонента: неспособность писать (аграфия), неспособность считать или выполнять простые арифметические действия (акалькулия), неспособность отличать пальцы рук (пальцевая агнозия) и право-левая дезориентация. Этот странный набор симптомов, который британский невролог Макдональд Критчли назвал «соединением неожиданных и маловероятных феноменов», столь странный, что многие даже сомневаются в его существовании. Хотя некоторые неврологи считают его просто случайным набором симптомов, а не истинным синдромом, он все же выдержал поверку временем. Причина в том, что синдром Герстмана обычно связывался с повреждением конкретной части мозга – угловой и надкраевой извилин в теменной доле левого полушария. Связь между столь специфической способностью, как различение правого и левого, с крошечной областью мозга обескураживает, хотя едва ли это удивило бы Оскара Уайльда, упомянувшего в «Портрете Дориана Грея» о «своеобразном удовольствии сводить все мысли и страсти людские к функции какой-нибудь клетки серого вещества мозга»[119].
Вот типичный случай синдрома Герстмана. Хорошо образованный, имеющий диплом по литературе страховой агент из Женевы в возрасте 59 лет пришел в Отделение первой помощи, жалуясь на внезапную утрату способности писать, считать и даже набирать телефонные номера. Сканирование мозга показало небольшое повреждение в белом веществе под угловой извилиной, возможно, произошедшее из-за недостатка кислорода. У него было еще несколько симптомов, но детальное обследование выявило и другие компоненты синдрома Герстмана. В частности, присутствовала право-левая дезориентация, проявившаяся не только в том, что он делал больше ошибок, указывая точки на своем теле, но также и в том, что он выполнял задание очень медленно: на то, что обычно занимало около 40 секунд, у него уходило до десяти минут. Его почерк тоже очень испортился и напоминал, по его словам, почерк ребенка, а кроме того, он путал буквы «b» и «d», и «p» и «q»[120].
Неврологов больше всего занимает вопрос о том, вызвана ли эта странная четверка симптомов при синдроме Герстмана одной причиной. Одно из предположений – существует проблема в понимании пространства, влияющая на то, как воспринимается пространственная организация правого и левого и как она меняется при вращении и движении объектов. Подобные трудности можно определить при тщательном исследовании умозрительного вращения – способности вообразить, как будет выглядеть предмет, если при повороте окажется в новом положении. Может ли такой недостаток в визуализации отличий левого и правого объяснить другие симптомы при синдроме Герстмана? Возможно. Неспособность писать, вероятно, объясняется проще всего, поскольку письмо очевидно связано с движением в определенном направлении (слева направо в английском). А потому смешение правого и левого самым серьезным образом скажется на способности писать.
Проблемы со счетом и арифметическими действиями объяснить сложнее, если не увидеть тесную связь между счетом и разграничением левого и правого. Если взять обычные арабские цифры, то самые левые обозначают большие числа, сотни и тысячи, а самые правые – меньшие, десятки и единицы. Смешение левого и правого вполне может повлиять на способность считать в уме. Левое и правое также присутствуют в «числовых формах», ментальных картах чисел, которые впервые описал в XIX веке сэр Фрэнсис Гальтон (Голтон). Почти каждый седьмой человек утверждает, что представляет числа в виде образов, которые могут быть достаточно сложными, как на рис. 4.7, хотя меньшие числа часто выстраиваются в прямую линию, направленную слева направо. Образ числа на рис. 4.7 особенно интересен, потому что у пациента была повреждена угловая извилина в левой теменной области – именно той, с которой связан синдром Герстмана – и образ числа после этого пропал.
Рис. 4.7. Образ числа
Еще одна математическая трудность соотносится с пальцевой агнозией – последней составляющей синдрома. Возможно, тот факт, что сначала мы учимся считать свои пальцы (и поэтому применяем десятичную систему счисления, по их количеству), вовсе не случаен. В английском языке и сами пальцы определяются по счету – первый палец, второй палец и так далее – и любая задача со счетом связывается с этим. Кроме того, способ, которым мы определяем наши пальцы, меняется вместе с положением рук: когда ладони обращены вниз, большие пальцы оказываются в середине, и мы отсчитываем пальцы от центра, тогда четвертый палец (мизинец) оказывается с краю; поверните руки ладонями вверх, и большие пальцы окажутся с краю, и подсчет пальцев пойдет от края к центру. Направление меняется по мере вращения – и именно способность это распознавать нарушается при синдроме Герстмана[121].
При синдроме Герстмана затруднения связаны со знанием о левом и правом. У некоторых пациентов возникает почти противоположное затруднение – они не могут отличить предмет от его зеркального образа. Ар Джей – 61-летний мужчина, перенесший инсульт в правой и в левой теменных долях. В ходе одного из экспериментов ему показывали рисунок и его зеркальное отражение, а экспериментатор продемонстрировал невозможность наложения одного рисунка на другой, иными словами, показал, что они как-то отличаются физически. Несмотря на это, Ар Джей сказал: «Из ваших действий я понимаю, что они должны отличаться… Но когда я смотрю сначала на один, а потом на другой, то для меня они выглядят одинаково». Ар Джей даже не мог указать отличную от других фигуру на рисунке (рис. 4.8), где две фигуры обращены в одну сторону, а третья – в противоположную. Проблема Ар Джея была не в плохом зрении или невнимательности к деталям – если все три медведя смотрели в одну сторону, но один чуть отличался от других, как на рис. 4.9, он без труда замечал это.
Небольшое изменение головы медведя на рис. 4.9 значило, что для Ар Джея этот медведь теперь был отличающимся, а не «таким же». В этом он прав лишь отчасти. В некотором смысле, медведи на рис. 4.8 действительно одинаковы. Слева ли смотреть на медведя или справа – это все тот же медведь, и часть зрительной системы Ар Джея знает это. Однако знание о том, что объект остается тем же самым, если смотреть на него с разных сторон, и знание о том, что при этом объект выглядит по-разному, – это отдельные процессы. Ар Джей знает первое, но не последнее, и часть его мозга, знающая об объекте, не знает или даже не испытывает необходимости знать о правом и левом[122].
Смешение левого и правого – распространенное явление, и от этого не застрахованы даже профессиональные ученые и художники. Анатом и хирург Фредерик Вуд Джонс обнаружил несколько примеров изображений «самых любопытных аномалий», на которых художники умудрились перепутать правое и левое (рис. 4.10). Знаменитый пример – портрет Гёте работы Тишбейна, который во Франкфурте имеет тот же статус, что Мона Лиза в Париже (рис. 4.11). Однако анатомически портрет имеет некоторые неправильности, левая нога выглядит слишком длинной, и это видно даже по раннему эскизу. Что бы ни было тому причиной, почти нет сомнений, что правая нога завершается левой ступней. Ученые в этом смысле не лучше. Например, элементарные частицы нейтрино всегда только левые[123]. Тем не менее несколько лет назад журнал Scientific American вынужден был опубликовать поправку после того, как назвал их правыми. Наиболее существенные ошибки происходят с самой знаменитой молекулой, ДНК, за расшифровку которой Джеймс Уотсон и Фрэнсис Крик в 1962 году были удостоены Нобелевской премии. Ее двойная спираль стала фактически символом самой науки, и ее изображения воспроизводились тысячи раз. Как правило, ДНК образует правостороннюю спираль (хотя изредка встречается и левосторонний вариант). Другими словами, она закручена, как обычный винт. Это, однако, не помешало появлению множества ее неверных изображений. Доктор Том Шнейдер собрал на своем веб-сайте сотни примеров неправильно нарисованной «левосторонней ДНК», найденных в основном в научных журналах. Многие из них были размещены на рекламных объявлениях, так что мы можем благородно предположить, что ученые их и не видели до печати, но далеко не все случаи объясняются так легко. И уж точно не появившийся в 2000 году редакционный комментарий в Nature, журнале, в котором впервые была опубликована структура ДНК, где так и говорилось, что «Уотсон и Крик смогли разгадать двойную левостороннюю спиральную структуру ДНК». Уотсону особенно не везло: в его учебнике 1978 года «Молекулярная биология гена» оказалось шесть иллюстраций, на которых ДНК изображена в виде левосторонней спирали, а в 1990 году американский журнал Science напечатал открытки, приглашавшие вступать в Американскую ассоциацию развития науки с цитатой Уотсона: «Я каждую неделю читаю Science с изображением ДНК, закрученной влево». Возможно, худший случай – это переиздание книги Уотсона «Двойная спираль», вышедшее в 1998 году, на обложке которого ДНК изображена левосторонней. Возможно, тот факт, что сам Уотсон – левша, не просто совпадение[124].
Рис. 4.8. Какой из трех медведей отличается от других?
Рис. 4.9. Какой из трех медведей отличается от других?
Рис. 4.10. а. Правая ступня на левой ноге. b. У правой и левой ноги левая и правая ступни. c. Правая кисть на левой руке
Рис. 4.11. Гёте в Римской Кампанье. Портрет работы Тишбейна. Похоже, у правой ноги левая ступня
Несмотря на то что левое и правое очень легко спутать, в целом природе удается избегать путаницы, формируя организмы, сердца которых постоянно располагаются на левой стороне, и лишь в редких случаях схема меняется на противоположную. Биологические основы левосторонних и правосторонних организмов станут предметом следующих двух глав.
5. Сердце дракона
Во втором акте вагнеровского «Зигфрида», третьей из четырех опер «Кольцо Нибелунга», герой знает, что ему предстоит убить дракона. Зигфрид уже наточил свой верный меч, Нотунг, и спрашивает кузнеца Миме о драконе Фафне́ре. Миме рассказывает, как Фафне́р хлещет своим чешуйчатым хвостом, какая огромная у него пасть, сочащаяся ядовитой пеной,
- и если хоть капля ее попадет на тебя,
- то прожжет и плоть твою, и кости.
Зигфрид готовится к битве и спрашивает Миме: «А есть ли сердце у этой твари?» – «Безжалостное, жестокое сердце», – отвечает Миме. И тогда Зигфрид задает еще один вопрос:
- А сердце это там же,
- где всегда, в обычном месте,
- слева в груди?
На что Миме́ просто отвечает:
- Конечно, у драконов сердца там же, где у людей.
И это говорит Зигфриду обо всем, что ему нужно знать. Позже, в схватке, «Фафне́р рычит, припадает на хвост, вздымаясь на дыбы, чтобы всей тушей обрушиться на Зигфрида, – и открывает свою грудь. Зигфрид тут же понимает, где сердце, и вонзает меч по самую рукоять». И Фафне́р умирает[125].
В связи с этой сценой возникают вопросы, прямо связанные с темой этой главы, и прежде всего – почему сердце дракона расположено слева и почему именно там «обычно» расположены сердца людей и многих животных. Вопросы об асимметрии сердца вызывают еще более глубокий вопрос: почему столь многие органы нашего тела оказались симметричными – мы автоматически предполагаем, например, что у дракона будут похожие друг на друга (хотя и зеркальные) правая и левая передние лапы, правая и левая задние лапы, а также правый и левый глаза по обеим сторонам головы – ведь именно так обычно изображают драконов. Само слово «похожие» вызывает вопрос, действительно ли две стороны тела полностью идентичны или просто похожи. Если они слегка отличаются, то почему, и почему это имеет значение?[126]
В оригинальном либретто «Зигфрида», которое Вагнер, как обычно, писал сам, нет слова «левый», а сказано лишь, что сердце дракона там же, где у человека и других зверей. Английский переводчик по умолчанию предположил то же, что и большинство людей, – что у зверей, даже мифологических, сердце находится слева. Похожее допущение сделал и анонимный автор англосаксонского эпоса «Беовульф», предположивший, что дракон Грендель – правша. Похоже, положение сердца занимало людей с доисторических времен, по крайней мере, если верить рекламе сердечных капель дигиталиса, выпущенной в 1920 году фармацевтической компанией «Берроуз—Велком» (рис. 5.1). На ней изображен наскальный рисунок мамонта или слона с ясно обозначенным положением сердца (хотя сердце выглядит странновато, словно оно сошло с открытки к Валентинову дню). Можно вообразить себе отважных охотников, которые, сидя у костра, размышляют, подобно Зигфриду, где в точности расположен этот жизненно важный орган. Из картинки не ясно, знали ли они, что сердце находится слева, но подозреваю, что первобытные люди, регулярно разделывавшие животных, точно знали, где искать сердце[127].
Левостороннее положение сердца обнаруживается у всех без исключения знакомых нам существ – кошек, собак, коров, лошадей и других млекопитающих, птиц, крокодилов, змей и всех пресмыкающихся, лягушек, жаб и прочих земноводных, а также бесчисленных видов рыб. Асимметрично не только сердце, но и большинство связанных с ним сосудов, тонкую сеть которых сэр Осберт Ситвелл назвал «хрупким алым древом, растущим внутри нас» – вены, подводящие кровь к сердцу, и артерии, несущие ее по всему телу. Невероятная красота кровеносной системы видна на рис. 5.2. Конструкция тела со смещенным сердцем создает те же проблемы, с которыми сталкиваются автомобилестроители, – как только принимается решение, что машина будет с левым расположением руля, тут же возникает цепочка следствий: каждая деталь должна соответствовать этому решению, как по необходимости, так и просто из-за ограниченного количества места. Подобным же образом в организмах позвоночных не только сердце смещено к левой стороне, но асимметрично положение и ряда других органов, наиболее подробно описанное применительно к человеку, но характерное и для большинства других позвоночных[128].
Рис. 5.1. Реклама настойки дигиталиса (наперстянки)[129], сердечных капель компании «Берроуз—Велком», выпущенная в 1926 году. Под изображением слона или мамонта расположена подпись: «Древнейшее свидетельство познаний людей каменного века в анатомии. Репродукция наскального рисунка из пещеры в Испании доказывает, что люди ориньякской культуры знали, что сердце – жизненно важный орган и средоточие жизни». Рисунок Анри Бреля по наскальному рисунку из пещеры Пиндал в Испании
В грудной клетке левое легкое зажато сердцем, и поэтому оно меньше по размеру и имеет только две доли, в отличие от более крупного и трехдольного правого. Аорта, очень крупный сосуд, по которому поток крови идет от сердца, прежде чем устремиться к нижней части тела сквозь диафрагму, сначала направлена вверх и налево. На рис. 5.2 самые заметные органы брюшной полости – это почки, левая, как обычно, немного больше и расположена чуть выше. Печень, самый большой орган брюшной полости, расположена справа, так же, как и желчный пузырь, а на противоположной стороне – намного меньшая селезенка, на рисунке она чуть выше левой почки. Не видны на рисунке желудок, смещенный влево, и двенадцатиперстная кишка, заворачивающаяся вправо, огибая сверху поджелудочную железу, которая тоже расположена справа. Витки тонкого кишечника, на вид беспорядочно спутанные, представляют собой ясную, упорядоченную и очень асимметричную структуру. Тонкий кишечник заканчивается в нижней правой стороне брюшной полости, переходя в слепую кишку толстого кишечника, от которой отходит аппендикс. Далее толстая кишка идет вверх по правой стороне брюшной полости, пересекает ее поверху и опускается вниз к сигмовидной кишке, переходящей в прямую кишку и анус, которые, наряду со ртом, глоткой и пищеводом, являются центральносимметричными частями пищеварительного тракта. Два яичка мужчин также асимметричны, правое обычно больше и расположено выше, что отчасти связано с необходимостью разместить эти органы в довольно странном месте, оставшемся для них в верхней части бедер. Намек на асимметрию мошонки есть у Джойса в «Улиссе», в ответе Блума на заигрывания Зои:
«Зоя. Где там твои орешки?
Блум. Сбоку. Интересно, что всегда справа. Наверно, потому что тяжелей. Мой портной, Мизайес, говорит, так у одного из миллиона».
Асимметрия органов брюшной полости ведет к тому, что хирургов особенно интересует, какая сторона тела у пациента болит – если, например, боль в правой подвздошной впадине, то диагнозом, скорее всего, будет аппендицит, если в левой – возможен дивертикулез сигмовидной кишки; если боли в правом подреберье, то причиной может быть болезнь желчного пузыря и так далее. Разумеется, некоторые заболевания возникают только в одном из парных органов, классический пример – варикоцеле, когда расширившиеся вены словно клубком опутывают тестикулы, что может привести к бесплодию – и почти всегда поражается левая сторона[130].
Рис. 5.2. Кровеносная система здорового добровольца, подвергнутого магнитно-резонансной ангиографии. Сосуды стали видимыми за счет использования контрастного вещества, которое кажется белым; оно начало накапливаться в мочевом пузыре, который виден в центре изображения
Описанное выше расположение органов кажется до банальности нормальным всем, кто хоть немного знает биологию, так что приходится напоминать себе, насколько это нетипично для живых организмов в целом. Значительная асимметрия такого рода в основном свойственна позвоночным. Что касается других животных, то их сердце не смещено влево, а сосудистая система не асимметрична. У земляных червей, например, несколько последовательных сердечных камер в нескольких сегментах тела, точно посередине; точно посередине расположены и симметричные сердца других беспозвоночных. Действительно, организм «рабочей лошадки» генетики, фруктовой мушки дрозофилы почти полностью симметричен (с тем любопытным исключением, что пенис в ходе развития вращается по часовой стрелке). Лишь наше близкое знакомство с позвоночными, чьи крупные тела сходны с нашими, позволяют с легкостью забыть о том, как странно, что сердце находится слева. Как, почему и когда возникла эта странность?
Часть этих «почему» связана с направлением течения жидкостей, проблемами большого размера тела и наличием внутреннего скелета. От прочих животных позвоночные отличаются твердым внутренним скелетом. Мелким животным, особенно живущим в воде, скелет не нужен – взять хотя бы каплю протоплазмы, амебу. Когда организм живет на суше и достигает определенного размера, ему требуется опора, чтобы сопротивляться постоянной силе гравитации. Простые животные, такие как земляные черви, справляются с ней с помощью гидростатического скелета – системы трубочек, в которые нагнетается вода и которые сохраняют свою форму, подобно воздушным шарам. Более крупным животным жесткий скелет необходим, и насекомые, ракообразные и им подобные обзавелись внешним скелетом – твердым наружным хитиновым панцирем, к которому прикрепляются мышцы. До какого-то момента это прекрасно работает, но рост вызывает проблемы – требуется регулярная линька.
Большая проблема, как указал Джон Холдейн в своей знаменитой работе 1928 года «О должном размере», – это возрастающая сложность снабжения кислородом разных частей организма. Частичное решение – это внутренний скелет, свойственный всем крупным животным на Земле, от динозавров до слонов и китов. Самая заметная его часть, по которой все позвоночные и получили это название, – позвоночник, состоящий из серии позвонков. Позвоночник формируется вдоль более примитивной формы скелета, нотохорда, прямого стержня, формирующегося в ходе развития эмбриона позвоночных организмов. Нотохорд обнаруживается не только у позвоночных, но и у таких примитивных организмов, как морские асцидии, которые, как и позвоночные, относятся к хордовым. Внутренний скелет позволил позвоночным вырастать до значительного размера: сначала в воде – рыбам и позже на суше – земноводным, пресмыкающимся, птицам и млекопитающим. К скелету прикреплено множество мышц, позволяющих организму двигаться, и всем им необходима кровь, которую поставляет более крупное и эффективное сердце[131].
Хотя теоретически можно было бы представить себе эффективное, симметричное и центрально расположенное сердце, на практике большая эффективность означает асимметрию. Сердце – это машина, перекачивающая жидкость, и чем интенсивнее она перекачивается, тем большее значение обретают ограничения, налагаемые гидродинамикой – самими особенностями течения жидкости. Поток не должен быть хаотичным и беспорядочным, то есть следует избегать турбулентности, поскольку при этом растрачивается энергия и повреждаются красные кровяные клетки, что может привести к образованию тромбов. В сердце кровь проходит сквозь несколько клапанов, что позволяет избежать столкновения потоков крови – поступающего в сердце и покидающего его. Поскольку клапаны хиральны и, следовательно, ориентированы вправо или влево, сердце неизбежно должно быть асимметричным. Это хорошо объясняет асимметрию самого сердца, но не дает ответа, почему у позвоночных сердце смещено к одной стороне тела, поскольку порождаемые гидродинамикой проблемы одинаково хорошо решало бы и левое и правое положение сердца. Чтобы понять, почему сердце именно слева, нам придется присмотреться к предкам позвоночных и выяснить, откуда возникла асимметрия живых организмов[132].
Долгое время не удавалось распознать в окаменелостях предшественников позвоночных. Существует огромное количество более поздних ископаемых, начиная с силурийского периода (около 430 миллионов лет назад), есть и несколько экземпляров ордовикского времени (около 480 миллионов лет назад), но более ранняя каменная летопись почти пуста. Впрочем, не так давно в Китае были найдены ископаемые возрастом около 550 миллионов лет – на данный момент это старейшие известные позвоночные. Их отличают характерные для позвоночных черты – череп, жаберные щели, плавники и крупное сердце – но вместе с тем они достаточно примитивны и еще не имеют челюстей, так же как и некоторые ныне живущие позвоночные. Как же возникли эти древние существа? Это сложная и требующая специальных знаний история, и здесь я могу лишь кратко очертить ее. Надо также признать, что история эта все еще пишется, и некоторые детали неизбежно изменятся в ближайшие несколько лет[133].
Древнейшие животные, вероятно, первоначально были одноклеточными, а позднее возникли многоклеточные – такие как губки. Далее появляется рот и нервная система, возникают организмы, живущие на субстрате – прикрепившись вертикально к скалам. Они засасывают пищу вместе с водой, переваривают ее в полости тела и выплевывают непереваренные остатки через рот. Следующий шаг в нашей истории очень важный. В какой-то момент появились организмы, которые вместо пассивного ожидания пищи перешли от вертикального положения к горизонтальному и стали ползать по морскому дну в активных поисках еды. Существа, находившиеся в вертикальном положении, прикрепившись к скалам, обладали радиальной симметрией, то есть формой напоминали банки или бутылки, у которых легко различить верх и низ, но поскольку в сечении они округлы, невозможно определить, где у них передняя, задняя, левая или правая стороны. Но как только они легли горизонтально на дно, прежние верх и низ оказались передней и задней частями, при этом рот оказался спереди. Наличие силы тяготения также означало, что у этих организмов появились новые верх и низ (рис. 5.3). Как только возникает верх, низ, перед и зад, появляется и возможность для определения левой и правой сторон, поскольку это возможно лишь тогда, когда определены направления верх-низ и перед-зад. На этой стадии, однако, левая и правая стороны еще идентичны, организм проявляет билатеральную симметрию и принадлежит к таксону двусторонне-симметричных (Bilateria)[134].
Рис. 5.3. Процесс, который Джеффрис назвал «плевротетизмом»: в ходе него радиально-симметричный организм ложится набок, движется вперед и становится двусторонне симметричным
Простейшие потомки первых двусторонне-симметричных – плоские черви, но в числе других – самые разные черви, включая земляных; членистоногие, включающие ракообразных, насекомых, пауков и вымерших трилобитов; моллюски, в том числе устрицы, слизни, улитки, кальмары и осьминоги; и, конечно, позвоночные. Однако – и это поворот в самом буквальном смысле слова – двусторонняя симметрия, которую мы видим в руках и ногах людей и других позвоночных, возможно, не та же самая двусторонняя симметрия, которая отличает древних двусторонне-симметричных и современных червей[135].
Здесь стоит остановиться на некоторых специальных терминах, используемых в описании животного. Возьмем собаку. Начнем с носа, с передней части, которая на латыни называется anterior, задняя, где хвост – posterior, вместе они образуют антериально-постериальную ось. Ноги и живот у собаки снизу, на латыни эта сторона называется ventral – вентральной, а противоположная, верхняя – dorsal, дорсальной. Таким образом, определяется дорсально-вентральная ось, перпендикулярная антериально-постериальной. Третье измерение, левая и правая сторона проявляются лишь после того, как заданы антериально-постериальная и дорсально-вентральная оси, под прямым углом к этим осям. Большинство животных, будь то рыбы, лягушки, змеи, летучие мыши или ленивцы, можно описать в этих координатах. Хотя может показаться, что проще использовать обыденные определения – верх, низ, перед и зад, это оказывается проблематичным, когда приходится описывать наши собственные тела. Когда люди встали на ноги, все в теле повернулось под прямым углом, за исключением головы, которая наклонена вперед на шее. «Впереди» значит антериально применительно к собаке, но вентрально к человеческому телу, «вверху» – дорсально, если речь о собаке, но антериально в грудной клетке и брюшной полости человека. Поэтому далее я буду придерживаться недвусмысленных терминов «антериальный», «постериальный», «дорсальный» и «вентральный», несмотря на не слишком привлекательный облик этих слов.
Палеонтология полна загадок. Находки немногочисленны и разрозненны, часто они раздавлены, смещены и разломаны толщей горных пород, под которыми находились сотни тысяч лет; мягкие ткани сохраняются крайне редко, а окаменелости зачастую указывают не на какую-то определенную предковую форму, но лишь на промежуточные стадии. Палеонтолог Дик Джеффрис из Лондонского музея естественной истории, долгие годы работающий над проблемой происхождения позвоночных, так говорит о своем подходе к множеству противоречивых данных: «Это словно кроссворд. Если достаточное количество фактов подходит к этим очень сложным ископаемым, я надеюсь, что я прав. Любое отдельное утверждение будет лишь предположительным, но, если они вместе хорошо соответствуют друг другу, я надеюсь, что конечный вывод верен». Чтобы заметить все следы и повороты истории, нужен ум любителя кроссвордов или, скорее, поклонника игры го[136].
Дик Джеффрис смог соединить их в замечательную и удивительную теорию, которая, прямо сказать, все еще вызывает споры, хотя объясняет множество чрезвычайно сложных феноменов. Главная идея Джеффриса состоит в предположении глубокой и очень древней связи между ныне живущим полухордовым существом Cephalodiscus и хрупким ископаемым Cothurnocystis, принадлежащим к группе древних иглокожих, известной как cornutes (рис. 5.4).
Рис. 5.4. Схема тела современных Cephalodiscus и давно вымерших Cothurnocystis
Но если Cephalodiscus симметричен, то Cothurnocystis асимметричен в самой высокой степени. На одном конце его тела рот и два шипа – это голова, хотя похоже, что животное передвигается хвостом вперед. Джеффрис долго пытался реконструировать, как двигался Cothurnocystis, и в итоге предположил, что он вытягивал свой жесткий, но мускулистый длинный хвост, ударяя им, словно кнутом, что позволяло ему зарыться в ил и удерживаться на месте, а затем вытащить себя из ила и переместиться.
Первоначально всего лишь элегантная догадка, основанная на изящной реконструкции хвоста, выполненной из картона и резиновой ленты, была основательно подкреплена, когда в 1995 году Вутер Зюдкамп обнаружил в одном из карьеров Германии замечательный кусок сланца. В камне возрастом 390 миллионов лет и площадью всего в треть квадратного метра сохранилось не менее четырех окаменевших митратов Rhenocystis, родственных Cothurnocystis. Два из них оставили ясные следы, видимые на камне, и следы эти подтверждали идею Джеффриса, что двигались эти животные задом наперед, как это показано на рис. 5.5[137].
Самое поразительное в Cothurnocystis – это асимметрия. Откуда она могла взяться, если эти существа развились из двусторонне-симметричных? Идея Джеффриса поражает своей простотой и одновременно совершенной эксцентричностью. Он называет этот процесс дексиотетизмом. Предположительно, предок Cothurnocystis просто свалился на правый бок и стал ползать по-другому. Иначе говоря, то, что изначально было левым и правым, стало дорсальным и вентральным, а прежние дорсальное и вентральное сделались левой и правой сторонами. Рис. 5.6 – объясняющая процесс схема, нарисованная самим Джеффрисом, а рис. 5.7 демонстрирует, как правое, левое, дорсальное и вентральное поменялись местами[138].
Рис. 5.5. Реконструкция способа передвижения животного Rhenocystis, родственного Cothurnocystis
Рис. 5.6. Процесс, который Джеффрис называет «дексотетизмом» и в ходе которого двусторонне-симметричный организм, предок Cephalodiscus, становится асимметричным организмом, таким как вымерший Cothurnocystis и современные иглокожие и хордовые, к числу которых принадлежат и позвоночные
Пребывание на правом боку должно было быть, мягко говоря, неудобным. Все отверстия тела с правой стороны открывались в ил, и лучше было бы держать их постоянно закрытыми. Так же и все щупальца с правой стороны оказывались погруженными в ил, и лучше было бы обойтись без них. Для любого ползающего, плавающего, бегающего или летающего организма асимметрия конечностей также вызывала бы проблемы, так как неизбежно заставляла бы его двигаться кругами. Поэтому за миллионы лет потомки Cothurnocystis утратили характерную «сапогообразную» форму и сделались стройнее, симметричнее и более гладкими. Или, по крайней мере, приобрели такой облик, потому что внешняя симметрия важна для выживания. Другое дело – внутренняя асимметрия, не столь практически важная для организма, сохранявшаяся в потомках Cothurnocystis. Двусторонняя внешняя симметрия поэтому наложилась на внутреннюю асимметрию. Мы сами – потомки организмов, подобных Cothurnocystis, и теория Джеффриса состоит в том, что в этих врожденных асимметриях и заключается причина того, что сердце у нас слева, печень справа и так далее[139].
Теория Джеффриса объясняет существующее многообразие ископаемых и показывает, как одна форма тела может перейти в другую. Чего в ней недостает, так это убедительного объяснения, почему способность сваливаться на правый бок оказалась для Cothurnocystis преимуществом, а какое-то преимущество в этом должно было быть, поскольку сопутствующие неудобства довольно очевидны. Полагаю, нужно признать, что в настоящее время никто не может предложить хоть какое-то решение этой загадки. На самом деле, может показаться сомнительным, что живые организмы действительно способны столь радикально изменять план своего тела. К счастью, у нас есть очень хороший пример именно такого изменения, включающего в себя формирование левой и правой сторон заново, и это говорит о том, что нет никакой причины считать, что Джеффрис не может быть прав. И такое изменение происходит не у какого-то малоизвестного существа: очень многим доводилось встречаться с ним за обеденным столом. Это камбала, плоская, как подошва.
Рис. 5.7. Схема, показывающая, как согласно теории Джеффриса правое и левое становятся вентральным и дорсальным
Живые существа постоянно ищут новые экологические ниши – те, что были свободны, и те, в которых им легче жить. Для камбалы лежать на дне моря, маскируясь под песок, оказалось очень выгодно. Однако довести себя до совершенно плоского состояния не так легко, особенно если ты, как и большинство рыб, вытянут и строен. Можно медленно менять гены рыбы так, что она сожмется и станет очень плоской – именно это удалось проделать скатам. Но камбала пошла другим путем, применив, так сказать, «латеральный подход»: она просто легла на бок и опустилась на дно. Ей, конечно, пришлось переместить глаза, чтобы оба смотрели вверх, потому что от глаза, погруженного в ил, никакой пользы нет, а проблем может быть немало. Так что один глаз у камбалы переместился на другой бок, и оба оказались на одной стороне тела. Еще более примечательно, что с камбалой это произошло не в ходе давней эволюции: каждая особь проделывает это на ранней стадии своего развития.
Только что вылупившегося малька камбалы не отличить от мальков большинства других рыб (рис. 5.8). В частности, глаза у них, как и у других рыб, расположены по обеим сторонам головы. Когда малек достигает примерно сантиметровой длины, хрящевая перегородка над одним глазом растворяется, позволяя глазу смещаться через верхнюю часть головы на противоположную сторону, и в это время поворачивается весь череп. Меняются и другие черты: наиболее примечательно то, что окрас на боках рыбы полностью преображается – так что рыба теперь совершенно замаскирована, если смотреть на нее сверху и снизу. Пример камбалы показывает, что организация тела животного может подвергнуться полной перестройке, в ходе которой правое и левое становятся дорсальным и вентральным. Если это может произойти за несколько дней в ходе развития организма, то уж тем более это могло случиться за миллионы лет эволюции[140].
Рис. 5.8. Пять стадий развития камбалы. На первом рисунке глаза на противоположных сторонах головы, но, по мере того как рыба растет, один глаз смещается, пока оба не окажутся с одной стороны тела. Стоит заметить, что рыба на верхнем рисунке плавает в нормальном положении, а та, что на нижнем, лежит на морском дне и плавает в таком положении
Таким образом, выстраивание тела животного проходит три различных стадии. На первом этапе, самом простом, в нем представлена только радиальная симметрия. На втором этапе появляется двусторонняя симметрия, органы начинают выстраиваться симметрично слева и справа от срединной линии. Третий этап, характерный для позвоночных, включает внешнюю симметрию в сочетании со значительной внутренней асимметрией. Вероятно, здесь стоит ненадолго вернуться к вопросу Зигфрида о том, где находится сердце дракона. Окажется ли оно слева? Кажется, можно без особого риска сказать «да». Любое животное такого размера, как дракон, должно иметь внутренний скелет и почти наверняка быть позвоночным, то есть у него должны быть кости, череп, четыре конечности и так далее. А поскольку все позвоночные внутренне асимметричны, то и дракон Фафнир – тоже, и поэтому его сердце находится слева.
Величественная картина эволюции от радиальной симметрии к двусторонней, а затем – к внутренней асимметрии, возможно, совершенно ясна, но очень мало говорит о механизмах, с помощью которых развивающийся организм достигает двусторонней симметрии (формируя конечности – руки и ноги) в сочетании с внутренней асимметрией, которая заметна в сердце, легких, печени и других органах. Что-то позволяет эмбрионам одновременно формировать руки, которые ничем не отличаются, и легкие, которые не походят друг на друга. Достижение двусторонней симметрии, например формирование правой и левой рук, которые в некоторой степени зеркальны по отношению к друг другу, – более простая задача.
С точки зрения генетики развития значительно проще создать нечто зеркальное – скажем, левую и правую руки, – чем не зеркальные органы – допустим, левую и правую руку, но обе с правой кистью. Важно осознать, что один и тот же набор правил ведет к развитию и левой, и правой рук. Представьте двух человек, стоящих спиной друг к другу в старой Королевской обсерватории в Гринвиче на линии меридиана, один смотрит на восток, другой – на запад. Полдень по Гринвичу, солнце точно на юге. У каждого в руках по пакету с мукой, которая высыпается на землю, когда они делают шаг, оставляя за ними белый след. Представьте, что им отдают команды:
Отойдите на два шага от меридиана, не просыпая муки.
Повернитесь и пройдите два шага на север, просыпая муку
Повернитесь и отойдите на два шага от меридиана, просыпая муку.
Поверните обратно и сделайте два шага на юг, не просыпая муку.
Пройдите еще на два шага к югу, просыпая муку.
Повернитесь и сделайте два шага к меридиану, просыпая муку.
Сделайте два последних шага к меридиану, не просыпая муку.
В итоге два человека снова окажутся вместе, лицом друг к другу. За тем, что восточнее, на земле останется след в виде большой буквы d, а за тем, что западнее, – след в виде буквы b. Один набор команд привел к зеркальным результатам. Теперь подумайте, какие нужно дать команды, чтобы оба нарисовали таким образом букву b – и к западу, и к востоку от Гринвича. Потребуется либо два набора команд для каждого человека, либо команды должны соотноситься не с гринвичским меридианом, а носить абсолютный характер («сделайте шаг на восток»). Любой вариант оказывается сложнее первого. Зеркальное отображение проще, поскольку никому из этих двоих не нужно ничего знать о правом и левом (или о востоке и западе, которые эквивалентны правому и левому); им нужно знать только свое положение относительно солнца (юга) и направление стартовой линии – меридиана.
Данные эмбриологии говорят о том, что правила, позволяющие формироваться правой и левой рукам, работают в точности так, как рассказано выше. Для трех измерений эти правила несколько сложнее, но поскольку эмбриону известны антериально-постериальная и дорсально-вентральная оси (перед-зад и верх-низ) – эквивалентные северу и югу в примере с Гринвичем – а также срединная линия – эквивалент меридиана – то формирование зеркальных по отношению друг к другу рук и ног представляет собой довольно простую задачу. Самые надежные доказательства того, что система работает именно таким образом, дали эксперименты, обычно проводимые на куриных эмбрионах, на которых под воздействием лекарств и других манипуляций можно получить все варианты дефектов, в том числе сильно деформированные конечности. При этом ни разу не сформировался организм с двумя правыми конечностями, одной слева, другой справа. Равным образом, хотя люди иногда рождаются с самыми разными и подчас ужасными искажениями конечностей, у них никогда не встречалось двух левых или двух правых рук. Может быть, «У него обе руки левые» – удачная метафора, но это ни в коей мере не эмбриологическая реальность[141].
Пример с Гринвичем – полезная аналогия для ряда аспектов биологии правой и левой сторон тела, потому что в системе правил есть определенные слабости. Старая Королевская Обсерватория взята как пример, потому что меридиан отмечен в ней прямой линией из меди, на которой туристы часто фотографируются, стоя одной ногой в Восточном, а другой в Западном полушарии. Но проделайте то же самое в нескольких сотнях метров оттуда, в Гринвичском парке. Там нет никакой прямой линии на земле. Вообразите также, что этих двух человек просят сделать не пару шагов, а пятьдесят. При повороте в сторону меридиана или от него у них нет никакой очевидной точки отсчета, никакой видимой линии. И направление на север или на юг они определяют, ориентируясь по солнцу. Наконец, поверхность земли менее ровная, и все это вместе увеличивает вероятность ошибки. Есть даже риск, что один или другой случайно окажется не со своей стороны меридиана. Задача легко выполнима в обсерватории именно потому, что линия на земле четко видна, позволяя обоим участникам перемещаться без ошибок. Медная отметка меридиана работает как срединная линия, разделяя мир на две половины. Эмбрионам также необходимо знать точное положение срединной линии. Она не так важна, если органы развиваются далеко от нее, так как мало что из важных процессов может пойти не так. Но близ срединной линии, где происходят точно скоординированные процессы, точное знание границы между правым и левым становится жизненно важным для правильного развития эмбриона. Это нечто вроде границы между Западной и Восточной Германией во времена холодной войны – отклониться на несколько сот метров не слишком важно, если ты в глубине страны, но та же ошибка на границе могла быть опасной и, возможно, даже фатальной.
Лишь в последние несколько лет контролирующая роль срединной линии в ходе развития организма стала изучаться на молекулярном уровне. Давно высказывались предположения, что срединная линия должна быть каким-то образом задана, потому что случайные, редкие, ужасающие пороки развития поражали или расположенные прямо на ней органы, такие как нос, или находящиеся близко к ней парные органы, например глаза. Циклопия, серьезнейший дефект, названный по имени одноглазого великана из гомеровской «Одиссеи», ведет к тому, что в середине головы формируется единственный глаз, иногда на стебле или хоботке. Часто это связано с другими угрожающими жизни аномалиями. Менее серьезный дефект – цебоцефалия, при которой в носу формируется лишь одна небольшая округлая ноздря, тогда как голопрозэнцефальное развитие лица и мозга столь катастрофично, что удается распознать лишь отдельные нормальные черты. Понимание этих пороков развития существенно продвинулось в 1996 году, когда выяснилось, что белок, получивший в науке странное название Sonic Hedgehog («Сверхзвуковой ежик», по имени персонажа одноименной игры), играет ключевую роль в определении срединной линии. У мышей с «выбитым» геном, кодирующим «Ежика», возникает много проблем, а деформированные эмбрионы погибают еще в период вынашивания плода. Самые ранние отклонения проявляются в переднем мозге, в котором два полушария сливаются в единый орган, так же как и глаза, которые образуют в центре лба зачаток единственного глаза. Хотя изучение того, как именно взаимодействуют Sonic Hedgehog с другими веществами, только в начале пути, ключевой принцип уже понятен: левое и правое должны определяться относительно чего-то даже в случае парных органов, и это «что-то» – срединная линия, которая должна быть ясно отмечена, чтобы клетки точно знали, где они должны, а где не должны находиться и что именно им следует делать. Не знать, где кончается левое и начинается правое, – настоящая катастрофа для развивающегося организма[142].
Четко определенная срединная линия нужна для формирования самого асимметричного из органов, сердца. Вначале сердце выглядит как одна прямолинейная трубочка, проходящая посередине эмбриона, затем трубочка загибается вбок и формирует асимметричное сердце. Клетки, составляющие эту единственную срединную трубочку, возникают по левую и правую стороны от срединной линии и поэтому должны сначала отыскать друг друга, чтобы соединиться в один срединный орган. Сделать это позволяет белок, получивший название miles apart («за много миль»), изученный на примере любимого биологами-эмбриологами морского организма данио-рерио, поскольку он почти прозрачен, что позволяет наглядно видеть этапы его развития. Если белок miles apart не работает, тогда вместо одной проходящей посередине сердечной трубочки у рыбы формируются два отдельных сердца, патология, известная как cardia bifida, неизбежно ведущая к гибели организма[143].
Симметрия хороша для того, чему предназначено быть парным и симметричным, но разрушительна для того, что должно быть асимметричным. Проблемы с излишней симметрией проявляются в такой патологии, как «изомерический дефект». При нормальном строении тела сердце, селезенка и желудок смещены влево, а печень и желчный пузырь – вправо. У некоторых людей, подобных Джону Риду или Сьюзан Райт, о которых мы знаем по описаниям сэра Томаса Уотсона (см. главу 1), все устроено противоположным образом – сердце, селезенка и желудок смещены вправо, а печень и желчный пузырь – влево, и такое строение тела называется situs inversus. В большинстве случаев люди с подобным строением тела не испытывают проблем – как раз потому, что в таких случаях в теле буквально все находится на противоположном месте, и организм остается асимметричным и функционирует нормально. Куда реже встречаются люди с изомерическими дефектами (рис. 5.9). Они намного симметричнее обычного, и это может привести к серьезным проблемам с сердцем и легкими. Вместо ярко выраженных правой и левой сторон тела у людей с изомеризмом присутствуют как бы две правых или две левых стороны. При правом изомеризме и правое, и левое легкое трехдольны (как нормальное правое легкое), у предсердия два правых ушка, нет селезенки, которая обычно расположена слева, печень находится на срединной линии, а у мужчин тестикулы расположены на одной высоте (а не так, как обычно, когда правая несколько выше). Левый изомеризм представляет собой противоположность правому: легкие двудольны (как нормальное левое легкое), у предсердия два левых ушка, печень расположена в центре, но, в отличие от правого изомеризма, селезенок может быть несколько. У людей и с правым, и с левым изомеризмом могут возникать серьезные проблемы с работой сердца. Можно привести такую аналогию: нет особых проблем в конструировании автомобиля с левым или правым управлением, но вообразите автомобиль, состоящий из двух правых половинок леворульной машины: нет ни руля, ни педалей, ни приборной панели. Не лучше был бы и противоположный вариант – тогда руль, педали и приборы были бы с двух сторон[144].
Рис. 5.9. Нормальное расположение сердца, легких и органов брюшной полости (situs solitus), полностью обратное расположение (situs inversus), левый изомеризм и правый изомеризм
Давайте вернемся в Гринвичский парк и еще раз задумаемся, почему попытка нарисовать буквы b и d могла оказаться неудачной. Представьте, что эти огромные буквы, нарисованные на земле, сфотографированы с вертолета, затем фото сканируют, вырезают из скана букву b, переворачивают ее и переносят слева направо и накладывают сверху на букву d. Совпадут ли они? Наверняка нет или, по крайней мере, совмещение не будет точным. Хотя в правилах может быть заложено, что b и d должны быть полностью зеркальны (и они были бы такими, если бы все происходило на экране компьютера с помощью соответствующей программы), реальный мир функционирует не как формула или алгоритм. Держат мешки с мукой люди из плоти и крови, ноги у них немного разной длины, шаги тоже, время реакции отличается, мешки с мукой они открывают не синхронно и так далее. Вот почему b и d будут лишь приблизительно зеркальны. Есть способы, с помощью которых можно добиться максимального сходства между буквами, например за счет участия близнецов, у которых одинаковы и рост и походка и которых можно научить открывать свои мешки строго одновременно. Противоположность им – два человека разного роста, невнимательных и торопливых, один из которых слушает плеер, а чтобы уж совсем усугубить положение, добавьте порывы ветра, развевающие муку как придется, так, что она почти не попадает на нужное место. Буквы в этом случае будут мало походить друг на друга. Правила останутся прежними, но, как заметил Роберт Бернс в стихотворении «К полевой мыши», «неверен здесь ничей расчет»[145].
Наши зубы, глаза, руки и ноги – да почти все парные части тела, расположенные с левой или правой его сторон – несколько отличаются, они не зеркальны. Посмотрите в зеркало на два своих верхних резца, два крупных зуба в самом центре рта. Одинаковой ли они ширины? На первый взгляд они могут показаться одинаковыми, но измерьте их или, лучше, их оттиск кронциркулем – и окажется, что один немного больше другого. У кого-то правый резец может оказаться на миллиметр шире левого, у кого-то другого – наоборот. Если взять несколько сот человек и отобразить разницу размеров на графике, то обнаружатся два обстоятельства. Во-первых, колоколовидное распределение, часто встречающееся в биологии: в большинстве случаев отличия почти незаметны, иногда различия заметнее, и совсем редко встречаются значительные отличия. Самое важное здесь то, что в большой популяции примерно у половины населения чуть больше окажется правый зуб, а у другой половины – левый. Правый и левый резцы развиваются по одному и тому же плану, у них одна и та же ДНК – так почему же они не зеркальны?[146]
Причины – те же, из-за которых буквы b и d в Гринвичском парке оказались неодинаковыми. Правила, в соответствии с которыми формируется рука, нога или зуб, закодированы в генах, и клетки на обеих сторонах тела содержат один и тот набор команд. Но гладко бывает только на бумаге, и одни и те же команды не ведут к совершенно одинаковым результатам. Клетки, формирующиеся по обеим сторонам тела, испытывают удары внешней среды, жестокая судьба выступает в виде тепла, холода, вирусов, ядовитых веществ, радиации – от рентгеновских лучей до фонового облучения, вплоть до случайных ударов космических лучей, – тысячи естественных ударов, которым подвержена плоть. Ни один формирующийся организм не застрахован от этого. Деление клеток хотя и достаточно надежно, но не обходится без ошибок, а это значит, что количество клеток по обеим сторонам тела не может быть одинаковым. Как только по обеим сторонам тела возникают различия, формирующийся организм уже никак не может их устранить, поскольку одна сторона тела никак не может повлиять на другую. Вопрос не в том, окажутся ли две стороны тела различными, а в том, велики ли будут эти отличия. Такие различия между правым и левым называются флуктуирующей асимметрией. Термин этот связан с тем, что если, например, у обоих родителей крупнее левый резец, то у ребенка с равной вероятностью окажется больше либо левый, либо правый резец. Направление асимметрии меняется случайным образом (флуктуирует) от поколения к поколению[147].
Флуктуирующая асимметрия возникает из-за вариаций среды, в которой развиваются клетки – это называют «биологическим шумом». Частично эта среда связана с внешним миром, но в основном состоит из других клеток, а внутри любой конкретной клетки среда любого гена состоит из множества химических веществ, омывающих его под влиянием других генов. Гены влияют на процесс развития последовательнее и надежнее, если функционируют в предсказуемой клеточной среде – в условиях так называемой устойчивости индивидуального развития. Если внутренняя среда организма надежно защищена, то работа одного и того же гена в разных местах, например на двух сторонах тела, приведет к одинаковому результату. Другими словами, чем более устойчиво развитие, тем симметричнее руки, ноги, глаза, зубы и т. д. Представьте еще один вариант эксперимента в Гринвичском парке, только в этот раз муку рассыпают два тощих хиляка и два боксера-тяжеловеса. Если кто-то попытается помешать их действиям, то хилых и слабосильных гораздо легче сбить с курса, чем тяжеловесов, куда более устойчивых и способных противостоять внешним влияниям – проще говоря, они в значительной степени непробиваемы[148].
Поэтому флуктуирующая асимметрия есть показатель устойчивости индивидуального развития. Особи, испытавшие не столь значительное воздействие среды, или те, что были лучше защищены от такого воздействия, окажутся более симметричными. Малая флуктуирующая асимметрия, особенно лица и конечностей, может быть мерой общего биологического качества, и похоже, что это и в самом деле так. У более симметричных людей уровень интеллекта выше, у них лучше память, и они легче переносят действие лекарств. Известно, что породистые скаковые лошади с наименьшей флуктуирующей асимметрией показывают на скачках лучшие результаты. Высокосимметричные особи обязаны своей симметрией низкому уровню давления среды, а потому процесс их развития почти не нарушается, и их дети, вероятно, унаследуют это качество. И если их сексуальные партнеры будут столь же привлекательны, у них будут более биологически приспособленные дети. Поскольку симметричность очевидна, она вполне может лежать в основе сексуальной привлекательности и полового отбора[149].
Сексуальная привлекательность в значительной мере зависит от внешности и такого неопределенного качества, как красота. Дать ей точное определение всегда было нелегко, но одно из них повторяется наиболее часто. В книге «Рука левая, рука правая!» Осберт Ситвелл пишет о своей бабушке, Луизе Хили-Хатчинсон: «В юности она считалась красавицей, отличаясь орлиным профилем и симметричным обликом» (курсив наш). Красивые лица могут быть очень разными, как признает Осберт, упоминая, например, об отличавшем Ситвеллов орлином носе, который придал Эдит своеобразную, довольно драматичную красоту. Доказать, что красота определяется симметрией лица, нелегко, поскольку нужно принимать во внимание такие черты, как форма носа, которая очень изменчива и также определяется генетически. Отчасти трудность можно преодолеть, изучая однояйцевых близнецов, которые, хотя и генетически идентичны, редко обладают в точности одинаковой внешностью, не в последнюю очередь из-за флуктуирующей асимметрии. Предпочтение одного близнеца другому никак не может быть связано с генетическими отличиями. Когда в ходе экспериментов спрашивали, какой из близнецов более привлекателен, явное предпочтение оказывалось тому, чьи черты были более симметричными.
Важность симметрии может быть также продемонстрирована с помощью компьютерной обработки фотографий лиц. Какое из двух лиц на рис. 5.10 кажется вам более привлекательным? Хотя это фото одного человека, на снимке слева запечатлена небольшая асимметрия лица, а на правом снимке оно слегка подправлено и сделано совершенно симметричным. Большинство людей находят более привлекательным лицо справа, потому что симметричное лицо кажется красивее. Но влияет ли симметрия на сексуальный успех? Несомненно, если взглянуть на животных, обладающих рогами, кажется, что есть связь между симметрией и репродуктивным успехом. Однако это лишь корреляция. Возможно, более убедительны экспериментальные работы Андерса Папе Мёллера с ласточками-касатками. С помощью клея и ножниц он увеличивал или уменьшал длину их хвостовых перьев, делая их более симметричными или менее симметричными. Ласточки, чьи хвосты стали длиннее и симметричнее, тратили меньше времени на поиск партнера и были успешнее в размножении. Похоже, что симметрия и в самом деле хороший показатель устойчивости индивидуального развития, а также прямо связана с сексуальным успехом[150].
Рис. 5.10. Слева – обычная фотография, справа – ее вариация, ставшая более симметричной после компьютерной обработки
Пример с Гринвичем показывает, что формирование правой и левой рук как зеркально симметричных органов – довольно простая задача, хотя добиться зеркальной точности нелегко. Но как быть с проблемой, о которой речь шла в начале этой главы – почему сердце находится только с одной стороны и как формируются другие асимметричные внутренние органы? Единственный способ достичь этого, действуя по гринвичской модели, – задать четкие правила для левой и правой сторон (или, что то же самое, для восточной и западной). Представим себе серию указаний человеку, рисующему букву b к востоку от Гринвича: «Сделать два шага от меридиана, не высыпая муку, повернуться и сделать два шага на север, оставляя за собой след» и так далее. Это позволит успешно выполнить задачу. Или, скорее, это получится в том случае, если человек знает, к востоку или к западу от Гринвича он находится. Но как он может это знать? Мы возвращаемся к сложностям, с которыми столкнулись в главе 3, оказавшись в итоге перед проблемой Озма. До тех пор, пока нет какой-то договоренности, общего согласия, точки отсчета, чего-то видимого, невозможно сказать, какая сторона левая, а какая – правая (или восточная или западная). Удивительно, но на протяжении большей части XX века эмбриологов, похоже, не слишком занимала эта проблема. Тем не менее два определяющих эксперимента классической эмбриологии из тех, что были осуществлены в конце XIX – начале XX века, касались сердца и сторон тела.
Жизнь организма начинается с единственной клетки, возникающей в момент, когда сперматозоид оплодотворяет яйцеклетку, формируя эмбрион. Клетка делится снова и снова, и в итоге возникают миллионы клеток, составляющих животное. Человеческая оплодотворенная яйцеклетка – крошечная, в диаметре около десятой доли миллиметра, она спрятана глубоко в теле матери, поэтому изучать ее затруднительно. Проще сделать это на других животных. После того как курица снесет яйцо, изучать развитие цыпленка очень просто. Одним из первых это сделал в XVII веке сэр Томас Браун, который, сняв скорлупу, увидел, «как в крошечном cicatricula – крошечном белом кольце – начинается формирование новой жизни». В конце XIX века у эмбриологов, изучавших ранние стадии развития, наибольшей популярностью пользовались амфибии – лягушки, жабы и тритоны, мечущие оплодотворенную икру в воду. Маленькая черная точка в каждой икринке – это эмбрион, а прозрачная жидкость, окружающая его, – питательные вещества, поддерживающие его жизнь до тех пор, пока он не вырастет до стадии головастика. Под микроскопом легко увидеть, как одна клетка делится надвое, потом на четыре, и наконец, на третьем этапе, делится под прямыми углами к первым двум клеткам еще на восемь и так далее (рис. 5.11). Через день-другой проступают черты головастика, с бьющимся асимметричным сердцем и витком кишечника, повернутым против часовой стрелки (рис. 5.12)[151].
В конце XIX века было очень мало известно о том, как из единственной клетки в итоге формируются различные органы взрослого организма и каким образом одни клетки образуют правую, а другие – левую сторону тела. В 1885 году зоолог Август Вейсман представил два противоположных объяснения, оба из которых на тот момент звучали правдоподобно. Согласно «мозаичной теории», в ходе деления каждой клетки делится и генетический материал. Когда клетка впервые разделяется надвое, в одной клетке содержится генетический материал для левой половины организма, а в другой – для правой. При каждом делении дочерние клетки содержат все более ограниченный набор генетического материала, пока в конечном счете в тех клетках, которые формируют печень, не окажется материал, позволяющий сформировать только клетки печени. Противоположная теория «регулирования» утверждала, что при каждом делении новые клетки получают полную копию генетического материала, а сформируется ли из клетки сердце, мозг или печень зависит от того, как клетка взаимодействует с соседями. В 1888 году Вильгельм Ру, один из основателей экспериментальной эмбриологии, описал важный опыт, свидетельствовавший в пользу мозаичной теории. Работая с лягушачьей икрой, Ру взял эмбрион на двуклеточной стадии развития, а затем убил одну из клеток, с большим трудом пронзив ее раскаленной иглой.
Рис. 5.11. Ранние стадии деления клеток эмбриона ксенопуса (Xenopus), африканской шпорцевой лягушки
Рис. 5.12. Слева – нормальный головастик, вид снизу (вентрально). На рисунке видно, что сердце смещено вправо, а кишечник закручен против часовой стрелки. Справа – головастик с situs inversus, сердце смещено влево, а кишечник закручен по часовой стрелке
Как развивался бы такой эмбрион? Согласно мозаичной теории в оставшейся живой клетке содержалась лишь половина генетической информации, и поэтому сформировалась бы только половина эмбриона; регуляционная теория, напротив, предполагала, что эмбрион будет полноценным. Результат опыта Ру выглядел достаточно ясным (рис. 5.13). Как и предполагала мозаичная теория, сформировалась только половина эмбриона.
Хотя опыт Ру казался сильным аргументом в пользу мозаичной теории, на самом деле он был несостоятелен. Ру допустил критическую ошибку, потому что рядом с живой клеткой оказалась «безжизненная половина… приклеенная к ней распадающаяся масса». Тремя годами спустя Ганс Дитрих провел более тщательный опыт, полностью разделив клетки на двуклеточной стадии, чтобы выяснить, как будет развиваться каждая из них. Результат опыта Ру предполагал, что из одной сформируется левая, а из другой правая половина эмбриона, и сам Дитрих «был убежден, что увидит эффект Ру во всех деталях». Этого не случилось. «Вопреки моим ожиданиям, все обернулось так, как и должно было: на следующее утро в чашечке была типичная целая гаструла, отличавшаяся от нормальной только малым размером». Это значило, что каждая клетка содержит полную наследственную информацию для формирования всего организма – факт, в полной мере подтвердившийся век спустя, когда целая особь, овца Долли, была клонирована из взятой у взрослой овцы единственной клетки тела, которая должна была содержать всю необходимую генетическую информацию[152].
Рис. 5.13. Опыт Ру, в ходе которого половина эмбриона была убита уколом раскаленной иглы
В результате эти эксперименты подтолкнули ученых изучить, как можно разделить клетки развивающегося эмбриона. Обычной для проведения необходимых тонких манипуляций стала техника, разработанная Гансом Шпеманом, в 1935 году ставшим первым эмбриологом, удостоенным Нобелевской премии (рис. 5.14). В 1897 году Шпеман начал серию опытов с эмбрионами саламандр. Он завязал скользящий узел на тонком волосе, взятом у своего маленького сына, а затем накидывал петлю на эмбрион и осторожно затягивал ее, либо полностью разделяя клетки, либо оставляя между ними тонкий перешеек. Во втором случае получались «сиамские близнецы», два организма, соединенные друг с другом в какой-то части тела. Особый интерес представляют те, что, как показано на рис. 5.15, были соединены хвостами, но разделены со стороны голов, причем у каждого было свое сердце.
Рис. 5.14. Ханс Шпеман (1869–1941)
Один из дипломников Шпемана, Герман Фалькенберг, использовал «метод удавки», чтобы выяснить, справа или слева окажется сердце у соединенных тритонов-близнецов. Он не дожил до публикации результатов своей работы, потому что, как и Роберт Герц, погиб на Первой мировой войне в Битве на Сомме, возглавив ночную атаку немцев 5 сентября 1916 года близ Беллуа-ан-Сантерр. В 1919 году Шпеман опубликовал результаты этих экспериментов. Они оказались поразительными и неожиданными. Хотя сердца обоих тритонов были нормальными, и у левого тритона оно почти всегда оказывалось, как обычно, слева, у правого тритона почти в половине случаев сердце было зеркальным и оказывалось не с той стороны (справа). Чем бы ни было вызвано такое отклонение, но к мозаичной теории это не имело никакого отношения, потому что в случаях, когда эмбрион разделяли надвое волосяной петлей, нормальные расположенные слева сердца развивались в обеих половинах. А два частично разделенных эмбриона каким-то образом взаимодействовали друг с другом[153].
Рис. 5.15. Опыт Шпемана и Фалкенберга со сросшимися тритонами-близнецами. а. Петля из тонкого волоса затягивается так, чтобы сдавить эмбрион, но не разделить его. b. Сиамские близнецы на стадии нейрулы, видна нейральная складка, из которой сформируется головной и спинной мозг. c. Оригинальное фото сиамских близнецов, сделанное Шпеманом и Фалькенбергом в 1919 г. d. Рисунок тех же близнецов, сделанный Хаксли и де Биром в 1934-м, на котором видно situs inversus в правом близнеце (который на рисунке слева, так как снимок сделан снизу, с вентральной позиции). L – печень, которая обычно справа; P – расположенная в центре поджелудочная железа
Годы после Первой мировой войны отмечены широким интересом к экспериментальной эмбриологии, и многие ученые совершенствовали технику Ру и Шпемана, как, например, лорд Эдвард Тентемаунт, второй сын в семье из знатного рода, восходящего ко временам Генриха VIII. Хотя младшие сыновья, как правило, становились военными, Эдварду, поскольку его старший брат был инвалидом, судьба сулила карьеру политика – путь, который, как и многое другое в жизни, не слишком его интересовал. Но все изменилось в полдень 18 апреля 1887 года, когда тридцатилетний Эдвард, вяло перелистывая толстый ежеквартальный журнал, наткнулся на цитату французского физиолога Клода Бернара: «Живые существа не составляют исключения из великой гармонии природы, заставляющей все приспосабливаться друг к другу». Внезапно Эдвард осознал, чем он хочет заниматься – быть биологом. Он начал учиться и на следующий год уже работал в Берлине под руководством Дюбуа-Реймонда, немецкого физиолога, специалиста по нервам и мышцам, изучая проблемы ассимиляции и роста. Несмотря на запоздалый старт, Тентемаунт быстро достиг успеха, и в 1897 году на собрании Британской ассоциации в Торонто его доклад об осмосе привлек широкое внимание, в том числе со стороны юной канадской дамы, вступившей в дискуссию с сорокалетним Тентемаунтом и спустя несколько месяцев ставшей леди Тентемаунт. Пара вернулась в Лондон, где дама стала хозяйкой одного из самых заметных салонов города, а Эдвард продолжил работать в своей частной лаборатории на верхнем этаже их особняка на Пикадилли.
В 1922 году Тентемаунт вместе со своим ассистентом Иллиджем начал работать над новой, захватывающей областью экспериментальной эмбриологии, пересаживая формирующийся хвост тритона в другие части тела, чтобы выяснить, разовьется ли в новом месте хвост или, например, нога. Эмбриология оставалась одной из загадочных областей биологии. Как может единственная оплодотворенная яйцеклетка расти и делиться и все же не превращаться в бесконечно делящуюся раковую клетку, а формировать весь набор тканей и органов? Как замечает Тентемаунт, «если задуматься, рост и принятие определенной формы очень маловероятны». Очевидно, что-то должно контролировать этот процесс и влиять на него, и не в последнюю очередь из-за этого две стороны тела столь различны. Однажды вечером, когда в доме Тентемаунтов в самом разгаре был прием, Тентемаунт и Иллидж, как обычно, были заняты совсем другими проблемами: «Что там с нашими головастиками?» – спросил Тентемаунт у Иллиджа. «С асимметричными?» У них был выводок головастиков из икринок, которые с одной стороны держали в холоде, а с другой – в тепле. Нечасто удается подслушать реплики ученых, занятых своей работой, и пришло время раскрыть карты. Эдвард Тентемаунт и в самом деле редкая птица – ученый-герой великого романа Олдоса Хаксли «Контрапункт», книги, которую по полноте описания современной жизни вполне можно сопоставить с «Ярмаркой тщеславия» Теккерея[154].
Роман Хаксли, опубликованный в 1928 году и сразу ставший бестселлером, – редкий случай поверхностного, но осознанного понимания научных идей – в нем встречаются мимолетные отсылки к Дарвину, Пастеру, Маху, Канту, Геккелю, Ньютону, Монду и Фарадею, а также к Бернару и Дюбуа-Реймону. Хаксли свободно ориентировался в этих сферах. Его дедом был Томас Генри Хаксли (Гексли), а его старший брат Джулиан Хаксли в 1920-х занимался экспериментальной эмбриологией и работал с эмбрионами тритонов, а в 1934 году в соавторстве с Гэвином де Биром опубликовал объемный труд «Основы экспериментальной эмбриологии» (The Elements of Experimental Embryology)[155].
Несмотря на усилия таких эмбриологов, как Хаксли и де Бир, за следующие более чем полвека особого прогресса достигнуто не было, и лишь немногие эмбриологи проявляли интерес к тому, как эмбрион различает левое и правое. Позже внимание к теоретическим вопросам возродилось, но, как ни удивительно, – со стороны психологии. Интерес к тому, каким образом мозг оказался разделен на два полушария, постепенно возрастал во время и после Второй мировой войны, усилившись в 1960-е годы. В результате психологи стали задаваться вопросами о формировании полушарий мозга и о биологической основе значительной разницы в психологических феноменах, связанных с разными полушариями. Но чего здесь не хватало, так это эмпирических данных, которые позволили бы понять биологические процессы, посредством которых в организме определяется левая и правая сторона. В 1976 году появились две научные работы, заново открывшие эту область, не в последнюю очередь потому, что взаимно подтверждали друг друга – в одной шла речь о лабораторной мыши, в другой – о пациентах с необычным наследственным синдромом[156].
Джексоновская лаборатория в Бар-Харбор в штате Мэн с 1929 года специализируется на разведении лабораторных мышей, в частности на выведении мышей с необычными генетическими отклонениями. В 1959 году двое ученых сообщили, что у некоторых мышей внутренние органы, обычно расположенные справа, находятся слева и наоборот. Мутацию, вызвавшую это, назвали iv – сокращение от inverted viscera. В 1971 году анатом Уильям Лейтон получил десять потомков первых iv-мышей и приступил к их разведению. В 1976 году ему удалось описать 441 потомка исходных десяти мышей, в дополнение к еще 507 мышам, описанным в более ранней работе 1959 года. К счастью, есть простой способ узнать, слева или справа сердце у крошечного новорожденного мышонка, – подождать 24 часа, и тогда крошечный желудок, обычно расположенный справа, окажется полон молока – он виден как белый пузырек под почти прозрачной розовой стенкой животика голого новорожденного. Если пузырек слева, значит, в мыши все наоборот и ее органы в situs inversus. Лейтон сосредоточился на тех мышах, которые, как точно было известно, получили от своих предков двойную копию iv-гена, гомозиготных, получивших этот ген от обоих родителей. Почти ровно у половины из 948 мышей, у 50,8 %, если быть точным, сердце оказалось справа, а у остальных – слева. 50 % – это как раз столько, сколько должно получиться, если предположить, что положение сердца справа или слева определяется случайным образом. И, как отмечает Лейтон, такую же долю situs inversus наблюдали Шпеман и другие в правых сиамских близнецах тритонов, лягушек и саламандр[157].
Вторую важную работу в 1976 году представил шведский врач-исследователь Бьёрн Афзелиус, наблюдавший пациентов с синдромом Картагенера. Хотя обычно его обнаруживают в детстве, этот синдром может проявиться и в среднем возрасте, как в случае с 48-летним лондонцем, который на протяжении четырех месяцев выкашливал значительное количество зеленой мокроты. За два дня до поступления в больницу он испытывал боль в левой стороне груди из-за острой пневмонии. В течение долгих лет у него ежедневно с кашлем выходило до полной чашки мокроты, чему, безусловно, способствовали и два десятка сигарет, которые он ежедневно выкуривал. Так что это было уже не первое его серьезное легочное заболевание, кроме того, он страдал от тяжелых приступов синусита. При обследовании и в ходе рентгеноскопии стало ясно, что у пациента не только сердце расположено в правой стороне груди, но и все органы размещены зеркально – как раз случай situs inversus. Помимо проведения анализов, обычных для пациентов с легочными заболеваниями, врачи также обратились к нему с просьбой, которая могла показаться очень странной – провести анализ спермы. На самом деле это был тонкий диагностический ход, так как под микроскопом стало очевидно, что сперматозоиды неподвижны. У пациента был классический случай синдрома Картагенера, в котором сочетается необычная триада симптомов: бронхоэктазия (производство большого количества инфицированной мокроты), синусита и situs inversus. Мужчины с таким синдромом бесплодны, в отличие от женщин[158].
В любом синдроме, сочетающем на первый взгляд странную комбинацию симптомов, должна существовать какая-то объединяющая их скрытая причина. Афзелиус предположил, что бронхоэктазия и синусит связаны с какой-то проблемой с ресничками респираторного эпителия. Этими ресничками покрыт эпителий и бронхов, и синусов носа – эти крошечные ворсинки регулярно колышутся, выгоняя вверх и наружу всевозможные загрязнения, попадающие в дыхательные пути и способные вызвать инфекцию. Проблемы возникают, если реснички не работают. Афзелиус изучал работу ресничек пациентов с синдромом Картагенера с помощью электронного микроскопа. У нормальной реснички очень характерный вид, известный как «строение 9+2» – две крохотные микротрубочки, спрятанные в центральной оболочке, и девять микротубул вокруг нее (рис. 5.16). С одной стороны каждой из девяти микротрубочек находится так называемая динеиновая ручка; динеин – это содержащийся в клетках белок, вызывающий их движение. Афзелиус выяснил, что у пациентов с синдромом Картагенера реснички дефектны, у них нет динеиновых ручек. Так как ресничка не в состоянии двигаться, легкие и синусы не очищаются от всяческих загрязнений, и в результате возникает инфекция. Мужчины, страдающие этим синдромом, бесплодны, поскольку динеиновых ручек нет и в хвостах их сперматозоидов, а неподвижные сперматозоиды не могут оплодотворить яйцеклетку[159].
Дефекты ресничек изящно объясняют большинство компонентов синдрома Картагенера, но как в эту картину вписывается situs inversus? Что общего между ресничками и положением сердца? Ключ в том, что среди братьев и сестер людей с выраженным синдромом Картагенера есть те, кто также страдает бронхоэктазисом, синуситами, а если это мужчины, то и бесплодием – но сердце у них слева, а не справа. Похоже, на каждого пациента с выраженным синдромом приходится один пациент без situs inversus. Другими словами, похоже, что реальный синдром заключается в сочетании бронхоэктазии, синусита, бесплодия и случайного расположения сердца, при этом у половины пациентов сердце окажется справа, а у половины – слева. И снова появляются эти 50 %. Возможно, нормальная работа ресничек каким-то образом подтверждает, что сердце – слева, а если реснички не движутся, то сердце оказывается или слева, или справа. Именно это и предположил Афзелиус в своей первоначальной работе. Однако эта теория столкнулась с проблемами, не в последнюю очередь связанными с тем, что никто не мог представить себе механизм, посредством которого реснички могли бы определять положение сердца. Еще больше вопросов возникало из-за того, что пациенты с похожим расстройством, известным как полинезийский бронхоэктаз, страдали бронхоэктазом, синуситом, дефектами ресничек, но не situs inversus. Более того, iv-мыши Лейтона демонстрировали прямо противоположное, поскольку никаких проблем с ресничками у них не было, да и у людей с situs inversus часто не было никаких других составляющих синдрома Картагенера. На этом этапе теория ресничек зашла в тупик и была практически забыта, и лишь некоторые работавшие в этой области специалисты упоминали о ней, как о еще одном курьезе латерализации, которых уже набралось немало[160].
Рис. 5.16. Сечение нормальной человеческой реснички (A) и реснички пациента с синдромом неподвижных ресничек, сходным с синдромом Картагенера (B). С – схема организации 9+2. Стрелка в А и C указывает на одну из динеиновых ручек, а стрелка в B указывает на место, где динеиновая ручка должна была быть – у пациента их нет, и поэтому реснички не могут двигаться. Вид реснички дан снизу вверх по ее длине, а динеиновые ручки размещены по часовой стрелке
В 1980-х годах вопрос о причине, из-за которой сердце расположено слева, снова стал интересовать биологов, хотя проведению экспериментов мешало отсутствие убедительной биологической модели. Положение изменилось в конце 1980-х с появлением двух совместных работ Найджела Брауна и Льюиса Уолперта. Первая открывалась подтверждением старого, но странного открытия: высокие дозы ацетозоламида вызывают дефекты конечностей у эмбрионов мыши, и при этом поражается практически вся правая сторона тела. При этом интересно, что, как далее показали Браун и Уолперт, у iv-мышей с situs inversus лекарство вызывало дефекты левой стороны. Каким-то образом это простое вещество различало, с какой стороны тела расположено сердце – факт, предполагающий, что на это указывает какой-то очень простой знак или индикатор. Но что бы это могло быть? В 1990 году Браун и Уолперт предложили теоретическую модель того, как развивающийся эмбрион мог бы различать левое и правое. На философском уровне модель предлагала все то же, о чем говорил Кант на двести лет раньше – что левое и правое можно различить, только если есть некая общая точка отсчета. Однако Браун и Уолперт сформулировали эту идею на практическом уровне, так, чтобы биологи ее поняли и захотели идти дальше. В частности, они предположили существование так называемой F-молекулы, которая могла бы ориентироваться относительно антериально-постериальной и дорсально-вентральной осей организма; при этом асимметричная молекула заодно указывала бы левое и правое. Одновременно с этим Браун предложил в феврале 1991 года провести в Лондоне в Фонде Ciba встречу небольшой, тщательно подобранной группы ученых самых разных специальностей, чтобы обсудить проблемы, – встречу, на которой Уолперт был председателем и которая продолжалась три дня. Хотя она называлась «Биологическая асимметрия и предпочтение рук», лучше было бы назвать ее «Двадцать девять ученых в поисках F-молекулы». При взгляде назад не возникает сомнений, что именно в этот момент лево-правая асимметрия стала солидной, обсуждаемой и, что примечательно, глубокой проблемой, которую предстояло решить биологии. Итак, в 1990-х годах, после полувекового слабого прогресса, биологи неожиданно снова продвинулись вперед благодаря появлению новых мощных инструментов, предоставляемых молекулярной биологией[161].
По-настоящему исследования в этой области начались с эксперимента, результаты которого в 1995 году опубликовали Майк Левин и его коллеги из лаборатории Клиффа Тэбина в Гарвардском университете. Они изучали развитие сердца в эмбрионе курицы, сосредоточившись на этапе, когда сердце и другие органы еще невидимы, а эмбрион выглядит совершенно симметричным. На этой стадии, примерно спустя 16 часов после того, как яйцо снесено, эмбрион курицы соответствует пятнадцатидневному эмбриону человека и представляет собой узкий гребень – первичную полоску. На переднем крае полоски формируется «гензеновский узелок», который медленно смещается назад, оставляя за собой клетки, из которых разовьется голова. Перед гензеновским узелком формируется проходящая по центру прямая трубка, из которой позже сформируется сердце. Хотя изначально она симметрична, первый видимый признак того, что сердце становится асимметричным, проявляется в слабом смещении влево, так называемом джоггинге, после которого трубка начинает выпячиваться вправо (рис. 5.17). Далее следует долгая и сложная последовательность смещений и поворотов, пока не проявится окончательная схема, обычно с сердцем в левой стороне грудной клетки, где и можно почувствовать его биение. Левин и его коллеги выяснили, что на столь ранней стадии развития белки, подобные Sonic hedgehog, присутствуют по обеим сторонам эмбриона в очень разном количестве. На рис. 5.18, где изображен эмбрион задолго до формирования сердца, темное пятно, соответствующее Sonic hedgehog, ясно видно с левой стороны, а с правой почти не заметно[162].
Рис. 5.17. Девятидневный эмбрион мыши, вид со стороны будущей морды. Два больших пятна в верхней части – головные складки, которые соединятся, формируя голову и мозг. Под ними единственная трубочка сердца. На левом рисунке сердечная трубка изогнута вправо, и у этого эмбриона сердце в результате окажется с обычной левой стороны. На правом рисунке – эмбрион с situs inversus, сердечная трубка изгибается влево
Итак, было изящно продемонстрировано, что белок Sonic hedgehog активнее накапливается на левой половине эмбриона, но тут возникла вечная проблема биологии: корреляция – это не объяснение. Но работа Левина тем и отличалась, что могла дать ответ на подобную критику. Ученые поместили крошечную группу клеток, вырабатывающих Sonic hedgehog, справа от гензеновского узелка и посмотрели, что получится на следующий день. Сердце развивалось нормально, только не слева, как обычно, а справа. Впервые выяснилось, что точно размещенное химическое вещество может предопределить, справа или слева окажется сердце животного. Разместите группу клеток справа – и сердце окажется справа, поместите слева – и сердце будет слева. С той поры последовал шлейф открытий различных сигнальных молекул, одной из которых оказался и Sonic hedgehog. И все же ключевого элемента все еще не хватало: что же все-таки отличает левую сторону гензеновского узелка от правой?[163]
Рис. 5.18. Асимметричность выделения белка Sonic hedgehog в эмбрионе курицы. На верхнем рисунке показано схематическое изображение эмбриона: HP – формирующаяся голова, HN – гензеновский узелок, PS – первичная полоска. На нижнем рисунке – сечение эмбриона на уровне гензеновского узелка, показанное на верхнем рисунке пунктиром, PP – первичная ямка в гензеновском узелке, E – внешний эктодермальный слой, M – внутренний мезодермальный. Эмбрион был окрашен, чтобы выделить белок Sonic hedgehog, который выглядит как большое черное пятно слева от срединной линии в верхней части эмбриона
Пока Левин и другие искали сигнальные молекулы, Мартина Брюкнер и ее сотрудники, работавшие в лаборатории Артура Хорвича в Йельском университете, пытались выяснить, что не так с iv-мышами, стараясь найти дефектный ген. Этот долгий и трудный поиск Хорвич назвал лаконично: «Скучная работа». Понадобилось шесть лет, чтобы отыскать этот ген, и его расшифровка была опубликована в 1997 году. Выяснилось, что iv-ген отвечает за выработку белка, который группа Брюкнер назвала «лево-правый динеин». Ненормальность динеинов при синдроме Картагенера уже говорила о том, что эти молекулярные моторы клеток как-то связаны с латерализацией сердца. Однако единственное, что было совершенно ясно в отношении лево-правого динеина, – это то, что он не имеет никакого отношения к формированию реснитчатого эпителия в дыхательных путях и синусов iv-мышей, поскольку они были в норме. Так как же он был связан с различением левого и правого? Теории множились, некоторые предполагали, что, возможно, молекулы работают примерно так же, как F-молекула Брауна и Уолперта, перекачивая химические вещества из левой части клетки в правую, таким образом показывая эмбриону, где какая сторона. Но, похоже, дело было совсем не в этом. В некотором отношении все оказалось куда проще, намного проще, чем четверть века назад предполагал Афзелиус. У iv-мышей оказался ненормальный реснитчатый эпителий, но совсем не там, где его раньше искали, и не того же типа, как тот, что был дефектным при синдроме Картагенера[164].
Ключевое открытие сделала группа ученых под руководством Нобутаки Хирокавы из Университета Токио. Они изучали кинезины, которые, как и динеины, представляют собой молекулярные моторы, которые, скользя по микротрубочкам, перемещают молекулы в клетке. Каждый кинезин состоит из более мелких белков, два из которых называются KIF3A и KIF3B. Хирокава и его коллеги изучали, какую роль в развитии играют KIF3A и KIF3B, выведя мышь, в которой один из этих белков был выключен. Оба белка явно очень важны, так как подвергнутые эксперименту эмбрионы оказывались очень по-разному деформированы и погибали на ранней стадии беременности. Неожиданно выяснилось, что примерно у половины эмбрионов сердце оказалось справа, что добавило еще одно генетическое отклонение в список тех, что вызывают situs inversus. Зная, что узел считался ключевым в установлении лево-правой асимметрии, поскольку кинезины участвовали в формировании таких тканей, как реснитчатый эпителий, Хирокава внимательно изучил узелковую область под микроскопом. Узел показан на рис. 5.19, где он выглядит как небольшая ямка примерно треугольной формы, под которой около двадцати клеток – так называемых моноцилий[165].
Хотя моноцилии и состоят в отдаленном родстве с обычным реснитчатым эпителием, дефект которого вызывает синдром Картагенера, они во многом от него отличаются. У них нет двух микротрубочек в центральной части, и их структура организована по формуле 9+0, а не 9+2, как у клеток обычного реснитчатого эпителия. Большинство биологов считают, что и функционируют моноцилии иначе, и в отличие от обычных ресничек, не могут двигаться. К удивлению Хирокавы, у мышей с выключенным белком в гензеновском узелке полностью отсутствуют моноцилии. Еще большим сюрпризом оказалось, что в узелке нормальных, живых эмбрионов моноцилии движутся, что стало ясно при исследовании под микроскопом. И они не просто двигались, но вместо волнообразного движения, свойственного обычным ресничкам, они вращались по часовой стрелке, словно пропеллеры. Это сразу же изменило все представления о происхождении лево-правой асимметрии. «F-молекула», которую искали Браун и Уолперт, оказалась вообще не молекулой, но объектом куда более крупным: клеточной органеллой, видимой даже в световой микроскоп. Более того, поскольку она вращалась в одном направлении, а нижним концом крепилась к основанию узелка, который в свою очередь был зафиксирован относительно срединной линии организма и дорсально-вентральной оси (то есть верха и низа), то это могло бы задавать точку отсчета и репер, сообщающий организму, какая сторона правая, а какая – левая. Но каким образом?[166]
Рис. 5.19. Узелок в трех последовательных увеличениях. a. Эмбрион, узелок внизу. b. Увеличенный вид узелка. с. Моноцилии в основании узелка, при еще большем увеличении
В отличие от ученых, увидевших вращение моноцилий под микроскопом, другие клетки растущего эмбриона лишены такой возможности. Так каким же образом моноцилии сообщают остальным клеткам эмбриона, где правая, а где левая сторона? Последним сюрпризом для группы Хирокавы стал эффект, который возник после того, как они поместили в узелок крошечные флуоресцирующие латексные крупинки и увидели, как их с большой скоростью выстреливает с правой стороны узелка на левую – и только справа налево. Это был мощный поток, означавший, что моноцилии перекачивают любые сигнальные молекулы, вырабатываемые узелком, почти исключительно на левую сторону, где они могут породить каскад сигнальных молекул, подобных белку Sonic hedgehog. Если это происходит у нормальных мышей, то у мышей с выключенными белками KIF3A и KIF3B должны быть какие-то нарушения. Поскольку у таких мышей нет реснитчатого эпителия, то сигнальные молекулы, вырабатываемые узелком, должны примерно в равных количествах появляться и справа, и слева. «Примерно в равных» – потому что, как и всюду, флуктуирующая асимметрия означает, что у половины мышей несколько более высокая их концентрация окажется слева, и сердце у них поэтому будет слева, а у половины более высокая концентрация окажется справа, и органы окажутся в положении situs inversus. Несмотря на то что у iv-мышей частота situs inversus также составляла 50 %, поначалу казалось, что подобное объяснение в их случае не работает, потому что под микроскопом было ясно видно, что у них в узелке присутствуют реснитчатые клетки. Однако хотя реснички и выглядели совершенно нормальными, они не двигались – по описаниям «они явно застыли», – а потому этот механизм, как в случае с мышами, у которых не было KIF3A и KIF3B, должен приводить к тому, что у половины сердце окажется справа, а у половины – слева[167].
Моноцилии в узелке, казалось, объясняют большую часть происходящего самым прекрасным образом. Прекрасным, если не считать того, что с 1992 года в этой бочке меда появилась изрядная ложка дегтя. Группа ученых из Бейлорского медицинского колледжа в Хьюстоне поместила в мышь новый ген – процедура, которая могла привести к очень неожиданным результатам. Ген, который ввел Пол Овербик и его группа, должен был быть вставлен точно в середину другого важного гена, потому что мыши со слишком серьезными отклонениями умирали бы слишком рано. Самым удивительным в этих мышах оказалось то, что у всех до одной сердце было справа. Не у пятидесяти процентов, как у iv-мышей, а у всех ста. Новую мутацию не слишком удачно назвали inv-мутацией, по первым буквам слов «inversion of embryonic turning» – «инверсия эмбрионального вращения». Как именно работала эта мутация, было полной загадкой, потому что со времен Шпемана ученые полагали, что как бы серьезно ни нарушалось развитие сердца – мутациями, травмой или чем-то еще, доля случаев situs inversus могла составлять максимум половину. Превзойти этот барьер случайности казалось невозможным, но каким-то образом inv-мутация его преодолевала[168].
Когда были открыты вращающиеся моноцилии, возникла вероятность, что моноцилии inv-мышей вращаются иначе, хотя это казалось чрезвычайно маловероятным. Действительно, когда Хирокава и его сотрудники взглянули на моноцилии в inv-мышах, обнаружилось, что они вращаются с той же скоростью (около 600 оборотов в минуту) и в том же направлении, что и у нормальных мышей. Однако, хотя движение inv-моноцилий выглядело нормально, с потоком жидкости, проходящим через узелок, что-то было не так. Латексные крупинки, быстро пересекавшие нормальный узелок, не набирали обычной скорости, а поток выглядел турбулентным. Похоже, что нормальный поток через узелок связан не только с вращением моноцилий, но также и с тем, что узелок имеет точно треугольную форму. Однако у inv-мышей узелок был меньше, длиннее и тоньше нормального, и это нарушало нормальное левостороннее течение. Тем не менее, хотя поток был медленнее, он все же был направлен влево, а не вправо, так что требовалось объяснить, почему у inv-мышей сердце всегда оказывается справа. Хирокава и его сотрудники дали такое объяснение с помощью элегантной модели[169].
Большая часть модели Хирокавы симметрична (рис. 5.20). По обеим сторонам узелка находятся клетки, выделяющие сигнальные молекулы, а по всему основанию узелка расположены рецепторы, реагирующие на сигнал. Сигнальная молекула выделяется не в активной форме, но в виде прекурсора, который активируется нодальной жидкостью, а затем, спустя несколько секунд, деактивируется и разрушается. Таким образом, молекула активна лишь в течение нескольких секунд. За эти критичные секунды нодальный поток обычно уносит неактивный прекурсор с правой стороны, и активируется он, лишь достигнув левой стороны узелка. За то время, пока молекула активна, на нее реагируют рецепторы с левой стороны узелка, вызывая каскад сигналов, приводящих к формированию сердца слева. У inv-мышей сигнальная молекула выделяется в виде обычного неактивного прекурсора. Попадая в бурный и турбулентный поток нодальной жидкости, она движется столь медленно, что активируется, не достигнув еще срединной линии, то есть с правой стороны узелка. После этого она вызывает каскад сигналов, ведущих к развитию у inv-мышей сердца с правой стороны, противоположно обычному положению. На рис. 5.20 приведена сравнительная диаграмма, показывающая, что происходит у обычных мышей, мышей без KIF3A/B, а также iv- и inv-мышей[170].
Рис. 5.20. Схема нодального потока у нормальных мышей и мышей с мутациями iv, inv и kif3a/b. Слева и справа от углубления звездочками отмечены клетки, выделяющие сигнальные молекулы, которые высвобождаются как неактивные (маленькие серые пятна), активируются (большие черные пятна) и затем снова становятся неактивными (маленькие белые пятна). Моноцилии, показанные у нормальных и inv-мышей, вращаются, тогда как у iv-мышей они неподвижны, а у kif3a/b-мышей отсутствуют. Большой стрелкой влево у нормальных мышей показано быстрое и спокойное перетекание жидкости влево, а у inv-мышей поток медленнее и менее интенсивен. У iv– и kif3a/b-мышей перетекание осуществляется только за счет диффузии и отмечено маленькими пунктирными стрелками. Сигнальные молекулы улавливаются рецепторами, чашечками в основании узелка, а количество уловленных сигнальных молекул показано на полосках внизу, максимальное слева у нормальной мыши, максимальное справа у inv-мыши и максимальное в центре у iv- и kif3a/b-мышей
Эта весьма элегантная модель объясняет, почему у нормальных мышей сердце слева, а также показывает, какие отклонения могут возникать в ходе этого процесса. Мне она нравится не только правдоподобным объяснением большинства наблюдаемых явлений, но еще и духом подлинной биологии, который теряется в простом списке последовательностей ДНК. Хирокава и его коллеги посмотрели в микроскоп и соединили увиденное там с результатами других сложных биохимических и генетических исследований. На сегодняшний день, однако, это все еще очень молодая теория, и у многих биологов есть немало вопросов относительно ее деталей. Один из главных касается очевидных различий между лягушкой, рыбой, мышью и человеком – для всех ли существ нодальный поток играет ключевую роль? Одинакова ли она для всех или только для некоторых видов? Остаются и непростые вопросы, касающиеся того, каким образом в ходе эволюции возникла сложная и тонкая структура гензеновского узелка. На подобные вопросы ответить трудно, потому что ископаемые эмбрионы почти не известны, и уж точно не будет никаких данных о вращении их моноцилий. Но где-то каким-то образом возникло такое устройство – и возникло с определенной целью. Другой серьезный вопрос: почему моноцилии вращаются по часовой стрелке, что заставляет нодальный поток течь справа налево. На этот вопрос фактически есть ответ, который, в некотором смысле, довольно прост. Пастер хорошо бы это понял, потому что аминокислоты – строительные блоки, из которых состоят наши тела, – левосторонни, а любой двигатель, построенный из асимметричных компонентов, будет вращаться в одном определенном направлении. Это, однако, тянет за собой другой, более глубокий вопрос: почему почти все белки нашего тела построены из L-аминокислот, где L означает левый или левосторонний? Происхождение этой вездесущей биологической и физической асимметрии станет темой следующей главы[171].
6. Жаба, отвратительная и ядовитая
Одна из самых знаменитых книг «Алиса в Зазеркалье» Льюиса Кэрролла начинается с того, что Алиса подносит своего черного котенка Китти к зеркалу и задается вопросами о Зазеркальном доме, гостиная которого так похожа на ее собственную, если не считать некоторых деталей – книги, например, там выглядят в точности как здесь, только их названия перевернуты. А когда она, наконец, оказывается по ту сторону зеркала, она обнаруживает, что все правила там очень странные – Черной королеве приходится бежать все быстрее, чтобы только остаться на месте, вспомнить можно и то, что было, и то, что будет, а до завтрака нужно поверить в шесть невозможных вещей. Однако нет ничего страннее, чем деталь, о которой Кэрролл мельком упоминает еще до того, как Алиса оказывается в Зазеркалье. Алиса спрашивает Китти, понравилось бы той жить в Зазеркальном доме, и задумывается, найдется ли там молоко для котенка – а если найдется, то «возможно, зазеркальное молоко не очень-то годится для питья». Вне всяких сомнений, это так – по крайней мере, если пить его по эту сторону зеркала. Чтобы понять, почему мы должны вернуться к фундаментальному открытию Пастера, о котором Кэрролл мог хорошо знать: что молекулы могут быть как право-, так и левосторонними, хотя те, из которых состоят живые существа, обычно бывают лишь одного типа. И в Зазеральном доме молекулы в живых существах, конечно же, были бы другими[172].
Перейдем к сухому языку науки. Молоко представляет собой сложную смесь богатых энергией жиров, белков, например казеина, и углеводов, таких как лактоза. Проще всего рассмотреть белки, хотя аналогичные соображения применимы к лактозе и многим другим молекулам. Белки – это длинные цепочки простых молекул, аминокислот, на одном конце которых расположена аминная группа (-NH2), состоящая из атома азота и двух атомов водорода, а на другом – кислая карбоксильная группа (-COOH), состоящая из атома углерода, атома водорода и двух атомов кислорода. Аминная группа одной аминокислоты способна прикрепляться к карбоксильной группе другой, образуя составные молекулы, включающие десятки, сотни и даже тысячи аминокислот. Короткие молекулы называются пептидами, более длинные – полипептидами, а самые длинные – белками. Молекулы ДНК, несущие нашу наследственную информацию, функционируют почти исключительно посредством определения последовательности аминокислот в пептидах и белках. Последние в итоге становятся важнейшей составляющей наших мышц, клеток крови, зубов и иммунной системы; некоторые белки, например инсулин, работают как передатчики, другие образуют энзимы, сложные фрагменты биохимической машинерии, захватывающей одни группы молекул, перемалывающих их, реорганизующей и превращающей в другие. Без аминокислот жизнь на Земле едва ли была бы возможна[173].
Особенности аминокислот, как и большинства молекул нашего тела, связаны в основном с химическими свойствами углерода. Атомы отличаются своей валентностью, то есть количеством химических связей, которые они могут установить с другими атомами. Углерод четырехвалентен, следовательно, к нему могут прикрепляться четыре других атома. Валентность других атомов также различна – у водорода она равна единице, у кислорода – двум, у азота – трем. Поэтому к атому углерода могут прикрепиться четыре атома водорода, а так как к водороду уже больше ничего присоединиться не может, молекула полностью сформирована: CH4. Это газ метан, вещество, составляющее большую часть природного газа, который мы используем для обогрева и приготовления пищи. Схематически ее структура выглядит так:
У этого удобного и традиционного способа изображения молекул есть, однако, серьезный изъян. Молекулы не плоские, а трехмерные, и четыре атома водорода в метане расположены по углам трехгранной пирамиды, тетраэдра. Этой трехмерной структуре больше соответствует схема внизу, две ножки в правом нижнем углу выступают из страницы, а две другие соответственно погружены в страницу, словно ножки штатива:
В центре каждой аминокислоты находится атом углерода. К нему прикреплены четыре различные химические группы: аминная группа, карбоксильная группа, единственный атом водорода и «что-то еще» – боковая цепь, обычно обозначаемая как R. Именно благодаря R аминокислоты так отличаются друг от друга – аланин содержит метиловую группу CH3-, метионин представляет собой сложную цепь атомов CH3-S-CH2-CH2-, включающую серу (S), а такие аминокислоты, как фенилаланин, – сложные кольца атомов углерода. Хотя эти подробности нам не так уж важны, существенно, что если все прикрепленные к атому углерода химические группы различны, то вокруг находящегося в центре атома углерода они могут располагаться двумя способами. Лучше всего это видно на трехмерных схемах двух различных форм.
Хотя такие схемы – лишь грубый способ изображения трехмерных молекул, тем не менее очевидно, что в некотором смысле они зеркальны по отношению друг к другу. Еще более очевидным это становится, если использовать компьютерную графику, показывающую атомы в трех измерениях, как два типа аминокислоты валин на рис. 6.1, или с использованием замечательных старомодных моделей из шариков и спичек на рис. 6.2. Главное – как ни пытайся, но молекулы L-валина или L-аланина (слева) нельзя повернуть таким образом, чтобы они выглядели в точности как молекулы D-валина и D-аланина (справа). Таким образом, аминокислоты существуют в двух формах, левой (L) и правой (D), точно так же, как и обнаруженные Пастером две формы винной кислоты (см. главу 1), одна поворачивает поляризованный свет влево, другая – вправо. Два разных типа аминокислот называются стереоизомерами или энантиомерами, о них говорят, что они хиральны [174].
Термин «хиральность» для описания объектов, представляющих собой зеркальное отражение друг друга, ввел физик сэр Уильям Томсон, впоследствии лорд Кельвин, по имени которого названа абсолютная температурная шкала (градусы Кельвина). 16 мая 1883 года он читал лекцию о кристаллах в Студенческом научном клубе Оксфордского университета. Лекции Кельвина отнюдь не славились легкостью, и эта не стала исключением. За несколько дней до этого в Королевском институте он поинтересовался у лорда Олверстона, как тот нашел другую его лекцию, показалась ли она ему интересной. «Несомненно, показалась бы, мой дорогой лорд Кельвин, если бы мы ее поняли», – отвечал Олверстон. В напечатанном виде Оксфордская лекция насчитывала 41 страницу. К 35-й странице Кельвин стал опасаться, что аудитория сникает и что он только испытывает ее терпение – а ведь он еще не сказал и половины из того, что планировал. Он преодолел еще пять страниц и затем, несмотря на свое желание представить несчастным студентам «более подробный» рассказ о геометрии хиральности, заключил: «…но с сожалением я умолкаю». Кельвин дал определение хиральности лишь в примечании к печатной версии лекции, и если в ее ходе он не прибегал к сноскам, что бывает нелегко воспринять даже опытным ученым, то, скорее всего, студенты даже и не понимали толком, о чем речь, – ведь прежде этого слова не было в английском языке, и оно использовалось впервые. «Я называю любую геометрическую фигуру, или группу точек, хиральной, и говорю, что она обладает хиральностью, если ее образ в плоском зеркале… не может быть совмещен с самим собой». Таким образом, наши правая и левая рука – хиральные объекты, поскольку правая рука в зеркале не может полностью совместиться с собой. Это верно и в отношении аминокислот, как мы видим на рис. 6.1. и 6.2[175].
Многие соединения углерода хиральны, но далеко не все, например спирт CH3-CH2-OH, в котором к одному атому углерода прикреплены два атома водорода, а к другому – три. Это отчасти отвечает на взрослый вариант вопроса Алисы, которым задался Уистен Оден. Квант, вдовец и правша, работающий в транспортной конторе близ нью-йоркской Баттери, смотрит на свое отражение в зеркале за перегородкой и спрашивает: «И что за вкус / у того пойла, что ты поднимаешь левой рукой?» Несомненно, зеркальный алкоголь так же пьянит, как и обычный, потому что молекула спирта не хиральна. Иное дело – вкус спиртного. Многие биологические молекулы – стереоизомеры, и свойства их левой и правой формы очень различны. Хороший пример – молекула карвона, D-стереоизомер которой пахнет мятой, а L-стереоизомер – тмином. Подобным же образом один стереоизомер α-фелландрена пахнет эвкалиптом, а другой – фенхелем. Во многих книгах упоминается также молекула лимонена, в одной хиральной форме пахнущая апельсином, в другой – лимоном. Красивая идея, стоит лишь заменить апельсины и лимоны из детской считалочки на изомеры и хирали. Жаль, что это не работает: разница в запахах связана с примесями, попавшими в L- и D-формы в ходе синтеза. И апельсины, и лимоны содержат D-лимонен, в чистом виде обладающий общим цитрусовым ароматом. L-лимонен содержится в масле перечной мяты и в чистом виде пахнет хвоей. В общем, D- и L-изомеры пахнут по-разному, потому что наше обоняние определяет трехмерную форму молекул, которые подходят к рецепторам обонятельной мембраны, словно ключ к замку. Если у двух молекул разная трехмерная конфигурация и они включают разные рецепторы, то и пахнут они по-разному. Поскольку трехмерная конфигурация стереоизомеров отличается, они часто пахнут по-разному. И вкус спиртного в Зазеркалье был бы иным[176].
Рис. 6.1. Трехмерная организация атомов в аминокислотах D-валин и L-валин
Рис. 6.2. Модели молекул из шариков и спичек, которыми пользовался Ричард Фейнман, объясняя разницу между L-аланином (слева) и D-аланином (справа). В оригинале нет аннотаций. Несмотря на то что модели молекул симметричны, сама фотография не симметрична из-за асимметричности освещения
Эти различия проявляются не только в запахах. Гормоны, например вырабатываемый щитовидной железой тироксин, поступают в кровь, с тем чтобы воздействовать на отдаленные клетки. Как правило, гормоны связываются с оболочкой клеток или, иногда, проникают внутрь клетки. Рецепторы клеток, как и рецепторы в носу, определяют трехмерную форму молекул и, как правило, распознают лишь один из хиральных вариантов молекулы. Это словно дверной замок, ключ к которому, как правило, хирален, а значит, зеркально сделанным ключом дверь не откроешь. Что касается гормона тироксина, то естественный его вариант – L-форма, а в D-форме он неактивен. Больным, страдающим микседемой – недостатком тироксина, необходимо давать L-тироксин, поскольку D-тироксин не эффективен[177].
Хиральны гормоны и другие природные химические вещества, а также и многие привычные нам лекарства, причем один стереоизомер бывает эффективнее другого. Таков, например салбутанол, применяемый при купировании острых астматических приступов. Хотя, как правило, эффективен только один стереоизомер хирального лекарства, в прошлом и этот, и другие хиральные препараты предлагались фармацевтами в виде рацемической смеси D- и L-форм, поскольку большинство лекарств синтезировались химически. Именно с этим столкнулся Пастер в 1840-х годах, обнаружив, что в полученной химическим путем винной кислоте D- и L-формы присутствуют в равной пропорции, образуя так называемый рацемат, тогда как винная кислота, выделяемая микроорганизмами в ходе созревания вина, состоит исключительно из D-изомеров винной кислоты. Поэтому пациенты вместо чистого лекарства получали два стереохимически разных вещества, в основном потому, что в прошлом было сложно разработать технологию, позволяющую получить только один стереоизомер лекарства.
Фармацевтические компании, однако, заинтересованы в производстве чистых стереоизомеров лекарств, отчасти потому, что контролирующим фармацевтику службам прекрасно известно, что один стереоизомер может обладать терапевтическим эффектом, а другой – вызывать нежелательные побочные эффекты. Например, бупивакаин, вариант лигнокаина (лидокаина, широко применяемого в качестве обезболивающего в стоматологии), но более длительного действия, вводится внутривенно перед операцией, чтобы обеспечить местное обезболивание в руке или ноге. Хотя в общем он безопасен, в 1979 году несколько сердечных приступов были вызваны применением бупивакаина, и оказалось, что это связано с обычно неактивной D-формой. Активная L-форма не вызывала такой побочный эффект, и в результате сегодня производится L-бупивакаин, или левобупивакаин, к несомненному благу пациентов. Менее достойная причина, заставляющая компании идти на «хиральное переключение» – замену рацемической смеси чистым стереоизомером, – совершенно коммерческая: если лекарство первоначально было запатентовано как рацемическая смесь, то выпуск чистого стереоизомера расширяет патент, прежде чем конкуренты смогут начать выпуск дженерика. Иногда такая стратегия дает сбой, как у производителей флюоксетина (прозака). Компания запатентовала только рацемическую смесь, а не энантиомеры, что привело к тому, что в конечном счете им пришлось заключить лицензионное соглашение с компанией, выпускающей активный стереоизомер[178].
В последние годы резко возросло количество лекарств, предлагаемых на рынке в виде единственного стереоизомера – по одной из оценок, половина из первой сотни названий – в основном благодаря тихой революции в химическом синтезе, который ныне располагает множеством технологий промышленного синтеза стереоизомеров. Во многих новшествах применяются технологии, напоминающие работу биологических ферментов, проделывающих крошечные трещины или поры в катализаторах, совпадающие только с лево- или правоориентированными молекулами, так что в итоге в химической реакции участвует только какая-то одна форма (рис. 6.3). За разработку подобных методов Уильям Наулз, Риочи Ноёри и Барри Шарплес были в 2001 году удостоены Нобелевской премии по химии[179].
Стереоселективные лекарства, хотя зачастую и полезные, вовсе не панацея. Так, возникла целая мифология вокруг одного печально известного средства – талидомида, первоначально предназначенного для помощи беременным. Многократно говорилось, что D-талидомид – безопасное и эффективное снотворное, а ужасное побочное действие на развитие плода – всецело эффект L-талидомида. Но в этой истории катастрофически не хватает логики. Хотя многие вещества существуют в L- и D-формах, они не всегда жестко сохраняют их. Некоторые – да, но другие, в том числе талидомид, очень нестабильны и в процессе рацемизации переходят в другой стереоизомер. Из-за рацемизации в крови пациента, принимающего только D-талидомид, через шесть – двенадцать часов обнаружилось бы значительное количество L-талидомида. D-талидомид был бы так же опасен, как и первоначальная версия – если только не был модифицирован с тем, чтобы избежать рацемизации[180].
После некоторого отступления пора, однако, вернуться к аминокислотам и рассмотреть, как они соединяются, превращаясь в белки. Аминокислоты в белке кодируются в ДНК триплетами, которые составляют четыре основания – цитозин, гуанин, аденин и тимин (C, G, A и T). Любое из четырех встречается в каждой из трех позиций, образуя в итоге 4 × 4 × 4 = 64 потенциально различных комбинаций, которые вместе определяют набор из двадцати аминокислот, составляющих живые организмы. Первый шаг в синтезе белка – создание РНК-копии последовательности ДНК. Рибосома движется вдоль РНК, останавливаясь у каждого очередного триплета. Молекула транспортной РНК переносит аминокислоту, закодированную в этом триплете, и прицепляет ее на конец растущей цепочки аминокислот. Затем рибосома движется к следующему триплету, считывает его и добавляет закодированную в нем аминокислоту – и так далее, пока не будет выстроен весь белок. И каждый раз к растущей белковой цепочке добавляется именно L-аминокислота. Генетический код и весь механизм трансляции основан только на L-аминокислотах. Насколько нам известно, это верно для каждого организма на нашей планете. Столь полная зависимость от L-аминокислот ставит множество фундаментальных вопросов перед биологией, ответы на которые выходят далеко за пределы самой биологии, одновременно и за границы нашей Солнечной системы, и глубоко в мир физики элементарных частиц.
Рис. 6.3. Принцип хирального катализа. Катализатор, условно обозначенный стрелкой вправо, лучше и более естественно совпадает с правой рукой (вверху), чем с левой (внизу), и в результате энергия его ниже, поэтому правого изомера производится больше, чем левого
Биохимическую асимметрию можно обнаружить не только в аминокислотах. Углеводы, входящие в состав нашего тела, например глюкоза, также присутствуют лишь в одной форме, но на этот раз в виде D-изомера. И этот ошеломляющий факт также требует глубокого объяснения[181].
Итак, наши тела состоят только из L-аминокислот и D-углеводов. Но каков был бы организм, выстроенный из D-аминокислот и L-углеводов? Функционировал бы он так же хорошо, как обычный «L-организм»? Хотя маловероятно, что мы сможем ответить на этот вопрос в обозримом будущем, сейчас уже возможно синтезировать пептиды, полипептиды и даже белки, состоящие только из D-аминокислот. Если белок является ферментом, тогда трехмерная структура D-фермента представляет собой зеркальный вариант нормального L-фермента и поэтому должна взаимодействовать с D-аминокислотами, а не с L-аминокислотами – так же, как зазеркальный замок можно открыть зазеркальным ключом. В одном случае это было проверено на ферменте протеазы из вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), и фермент работал точно так, как предсказывалось. Фермент был выстроен как бы задом наперед, и оказалось, что зазеркальная D-протеаза так же хорошо разделяет D-пептиды на мелкие кусочки, как обычная L-протеаза разделывается с L-пептидами. Похоже, есть все основания полагать, что подобное верно и по отношению к полностью зазеркальному организму – пока он живет в зазеркальном мире, где может пить зазеркальное молоко и тому подобное[182].
Хотя наши тела почти полностью строятся из L-аминокислот, D-аминокислоты встречаются в природе, и их присутствие часто проясняет многие биологические процессы. Фактически D-аминокислоты присутствуют постоянно из-за спонтанной рацемизации. Когда Пастер в течение шести часов нагревал кристаллы D-винной кислоты до температуры 170 °C, он обнаружил, что они превращаются в рацемат, смесь, в равной пропорции состоящую из D- и L-изомеров винной кислоты. Природные L-аминокислоты также рацемизируются, превращаясь в смесь D- и L-изомеров, процесс этот легче всего осуществляется в аминокислотах, находящихся в свободном состоянии, но подвержены ему и аминокислоты, находящиеся в составе белков, например в ходе приготовления пищи. Для белков рацемизация может стать разрушительной, потому что D-аминокислоты обладают иной трехмерной конфигурацией, отличной от L-аминокислот, что изменяет форму белка и не позволяет ему правильно связываться с другими белками. Клеткам обычно удается избежать «белковой усталости» – явления, отчасти сходного с усталостью металла, – посредством постоянной замены старых изношенных белков свежими, синтезируемыми рибосомами и содержащими только чистые L-аминокислоты. Иногда, однако, процесс постоянной замены нарушается. Некоторые белки нашего тела – дентин в зубах или кристаллин в хрусталиках глаз – живут очень долго, потому что образуют физическую структуру органа, и с возрастом в них неизбежно накапливаются D-аминокислоты.
С другой проблемой сталкиваются короткоживущие красные клетки крови – эритроциты. Эти переносящие кислород клетки чрезвычайно активны и не успевают заменять старые белки новыми, поскольку не содержат главных механизмов производства белков – ядра и рибосом. Все белки, которые содержит клетка, присутствуют в ней с момента ее образования и до конца ее естественного существования. Белковая усталость проявляется в постепенно накапливающихся ошибках, и нет никакого способа заменить неисправные старые белки. Это сценарий ветшающей космической станции, экипаж которой вынужден обходиться лишь тем, что есть на борту, поскольку никакие изношенные части заменить нельзя – до тех пор, пока весь корабль окончательно не выйдет из строя из-за накопления поломок. Хотя эритроциты живут недолго – у людей не более 120 дней, – для изучения белковой усталости они представляют собой идеальную систему. В течение сорока дней около одного процента содержащихся в них L-аспарагиновой кислоты превращается в D-аспарагиновую кислоту – удивительно быстрая деградация. К счастью, большинство аминокислот рацемизируются не так быстро, особенно те, что составляют белки. Для большинства аминокислот процесс рацемизации длится существенно дольше и может служить своего рода «биологическими часами» для определения возраста биологических объектов. Долговременная рацемизация белков отмечена у «ледяного человека» Этци, чье тело обнаружили в сентябре 1991 года в леднике в Тирольских Альпах. По данным радиоуглеродного анализа, он жил около 5000 лет назад, между 3350 и 3100 годами до н. э. В его волосах 37 процентов аминокислоты гидроксипролин оказалось в виде D-изомера, тогда как доля этого изомера в образцах волос возрастом 3000 лет оставляла 31 %, 19 % – в волосах тысячелетней давности и всего 4 % в образцах, собранных недавно[183].
Белки – сильнодействующие вещества, и они могут быть чрезвычайно опасны, если попадают в организм в виде ядов. Самый скромный пример – вяжущий вкус во рту, возникающий от свежего ананаса, который возникает под воздействием бромелаина, растворяющего белки фермента, содержащегося в ананасе. Фактически, когда вы едите ананас, он начинает переваривать поверхность ваших губ и языка – проще говоря, поедать вас. Белки могут быть опасны, но они необходимы организму и как источник энергии, и как источник девяти жизненно важных аминокислот – таких, как фенилаланин, который не вырабатывается нашим организмом и должен поступать извне. Иначе говоря, мы должны их есть. Потенциальный риск съесть опасный белок минимизируется нашей пищеварительной системой, вырабатывающей большое количество особых ферментов – в частности, трипсин, пепсин и эластазу, в совокупности именуемых протеазами, которые разделяют белки на оставляющие их аминокислоты. Прежде чем усвоиться, опасные съедобные белки нейтрализуются посредством переработки их в безопасные неядовитые аминокислоты, поступающие в кровь. Протеазы, как и все ферменты, выискивают конкретные трехмерные структуры, специфичные для каждого фермента. Так, трипсин расщепляет белки рядом с такими аминокислотами, как лизин или аргинин, и, хотя учебники биохимии редко подчеркивают это, трипсин реагирует именно на L-лизин и L-аргинин. Но что происходит, если трипсин обнаруживает D-лизин и D-аргинин? Ответ прост: ничего. Это все равно что пытаться надеть на левую ногу правый ботинок или открыть замок зазеркальным ключом – совмещения не произойдет. Белки и пептиды, содержащие D-аминокислоты, не перевариваются и выходят из организма неизменными с мочой и калом. Поэтому зазеркальное молоко непригодно для питья, D-казеин и другие D-белки не усвоятся, а просто пройдут через кишечник – возможно, вызвав диарею[184].
Иногда неспособность протеаз расщепить D-белки может стать причиной болезни. Потенциально важный пример – это амилоид, белок, катастрофически накапливающийся у людей с болезнью Альцгеймера. Амилоид, что несколько удивительно, содержит D-аминокислоту, D-серин. Чтобы выяснить его роль, ученые синтезировали пептид из одиннадцати аминокислот из середины амилоида и вставили в него или D-серин, обнаруженный у пациентов с болезнью Альцгеймера, или более нормальный L-серин. Оба варианта серина токсичны для клеток мозга, но протеазы мозга быстро ликвидировали L-серин, оставляя D-серин нетронутым. Возможно, дело в том, что L-серин в белке спонтанно рацемизируется в неудаляемый D-серин, который медленно накапливается, повреждая клетки мозга[185].
Хотя белки, содержащие D-аминокислоты, не перевариваются, некоторые D-аминокислоты все же обнаруживаются в крови, попадая туда либо из пищи (особенно подвергнутой кулинарной обработке), либо как побочный продукт жизнедеятельности бактерий, живущих в толстом кишечнике (было доказано, что у крыс, выращенных в безбактериальной среде, содержание D-аминокислот ниже). Вне зависимости от происхождения D-аминокислоты долго считались нежелательным феноменом, особенно после работ 1940-х годов, показавших, что D-серин и D-аспартат повреждают почки, а у крыс замедляют рост. Однако организм, похоже, решил эту проблему. В 1935 году Ханс Кребс, позже удостоенный Нобелевской премии за открытие цикла Кребса, обнаружил фермент, который назвал оксидазой D-аминокислот, в больших количествах присутствующий в почках и нейтрализующий вредные D-аминокислоты так, чтобы они могли выводиться с мочой. Вплоть до 1990-х годов казалось, что на этом история свободных D-аминокислот заканчивается. Но в 1984 году японский ученый Ацухи Хасимото и его коллеги из Медицинской школы Токайского университета обнаружили высокое содержание D-серина в мозге крыс, а вскоре был найден и D-аспартат. Ни то, ни другое, похоже, не было результатом спонтанной рацемизации или крысиной диеты. Эксперименты привели к открытию в мозге нового фермента, серин-рацемазы, преобразующего стандартный скучный L-серин в новый волнующий воображение D-серин. Позже оксидаза D-аминокислот была найдена в мозге везде, где присутствовали D-серин и серин-рацемаза, и оказалось, что этот старый фермент, отчаянно ищущий себе интересное занятие, особенно эффективно справляется с удалением D-серина. Если в мозге содержатся ферменты, создающие D-серин, и ферменты, расщепляющие его, и при этом большое количество D-серина содержится в гиппокампе и в коре мозга, значит, роль D-серина должна быть очень велика. Хотя это еще до конца не ясно, но, кажется, D-серин участвует в настройке одной из самых занимательных нейротрансмиттерных систем, открытых в последние годы, NMDA, связанной с памятью, обучением, эпилепсией, а также с повреждениями головного мозга, приводящими к инсульту. Однако почему именно D-аминокислота оказалась столь важным нейротрансмиттером, пока остается предметом догадок[186].
Ранее обсуждаемые D-аминокислоты, встречающиеся в виде свободных D-аминокислот в мозге или по ошибке в результате самопроизвольной рацемизации, не нарушают традиционного представления о том, что белки у высших животных состоят только из L-аминокислот. Основная догма молекулярной биологии, которая гласит, что ДНК продуцирует РНК, которая продуцирует белки, имеет следствие, что, поскольку ДНК кодирует только L-аминокислоты, а трансфер-РНК несут только L-аминокислоты, то белки должны состоять из L-аминокислот. Это действительно так, но нужно иметь в виду, что, хотя белки могут возникать только из L-аминокислот, они не обязаны сохранять эту форму всегда. Если организм считает полезным заменить L-аминокислоту в белке на D-аминокислоту, то с точки зрения биологии нет ничего, что могло бы этому воспрепятствовать. В действительности этот процесс очень распространен у бактерий и грибов, которые содержат много белков, состоящих из D-аминокислот[187].
Клеточная стенка бактерий действует как физическая защита и поддерживает постоянную внутреннюю среду в жарких или сухих условиях. Бактериальные стенки часто содержат необычные аминокислоты, включая экзотические L-аминокислоты, не входящие в те двадцать, что кодируются генетическим кодом, а также D-аминокислоты, такие как D-аланин, D-аспарагиновая кислота, D-глутаминовая кислота и D-фенилаланин. Преимущество, вероятно, состоит в том, что обычные протеазы, ферменты, переваривающие белки других организмов, не могут переваривать необычные аминокислоты в белках клеточной стенки, и поэтому бактерии защищены от нападения. Проблема такого эффективного защитного механизма в том, что он неизбежно начинает гонку вооружений. Как бактерии с почти неусваиваемыми клеточными стенками заражают другие микроорганизмы, так и сами эти микроорганизмы выработали новый защитный механизм, производящий химические вещества, которые могут ингибировать рост бактерий. Наиболее известное из них было обнаружено сэром Александром Флемингом в 1928 году, когда он заметил, что на чашке для культивирования вокруг пятна плесени не было бактерий. Плесень продуцировала пенициллин, который обладал необычным свойством блокировать рост бактериальной клеточной стенки – другими словами, он препятствовал эффективной защите D-аминокислот в клеточной стенке[188].
Для простых организмов, таких как бактерии (прокариоты), нормально производить белки, содержащие D-аминокислоты, обычно для специальных оборонительных целей, но что насчет многоклеточных организмов (эукариот), к которым относятся растения, животные и, конечно же, мы сами? В этом отношении сложилось четкое суждение. В 1965 году в своей авторитетной книге по аминокислотам Альтон Мейстер писал: «В настоящее время нет никаких убедительных доказательств наличия D-аминокислот в белках растений и животных». Вполне возможно, что все бы так и считали, если бы не работы Витторио Эрспамера, который в 1962 году обнаружил в коже южноамериканской лягушки пептид под названием физалемин, оказавшийся мощным стимулятором гладкой мускулатуры. Хотя это первое открытие стало чистой случайностью, в последующие три десятилетия были предприняты усилия по анализу кожи амфибий со всего мира на наличие биологически активных пептидов. Для Эрспамера эта работа была не только любимым делом, но и способом покрыть боль утраты. В кратких биографических подробностях, так редко встречающихся в научных работах, Эрспамер пишет, что труд всей его жизни «дал результаты, намного превосходящие самые смелые ожидания. Это был долгий поиск, в котором незаметно пролетали месяцы и годы, и он стал единственным утешением в страшный момент, когда я трагически лишился своей восемнадцатилетней дочери Марии Луизы, сердца моего сердца»[189].
Работа Эрспамера подтолкнула многих ученых к исследованию обнаруженных им странных, загадочных и увлекательных пептидов. В 1990-х работу подстегнули два обстоятельных обзорных труда фармаколога Лоренса Лазаруса, оба с шекспировскими названиями, превозносивших жаб и лягушек и восхвалявших их место в истории культуры, народной медицине, языке и литературе и, конечно, в фармакологии. Из одного из этих трудов взято и название этой главы, цитата из «Как вам это понравится» (акт II, сцена 1):
- Мы счастье и в несчастье обретаем,
- Как драгоценный камень в голове
- У жабы, ядовитой и поганой.
- Вдали от света внятны стали нам
- И лепет лип, и речи ручейков,
- И говор гор, и смысл существованья[190].
Лазарус нашел свой драгоценный камень не в голове жабы, а в ее коже. А Витторио Эрспамер в своем несчастье нашел язык, на котором фармакология говорит в земноводных, живущих на деревьях, а лекарственную книгу – в лягушках и жабах, обитающих в ручьях и под камнями. Сегодня новые биологически активные пептиды, найденные в коже земноводных, исчисляются трехзначными числами, и конца им не видно. Но нас здесь интересует лишь одна группа веществ, дерморфины и дельторфины, в совокупности известные как опиоидные пептиды[191].
Слова Мейстера, в 1965 году утверждавшего, что D-аминокислоты не встречаются в белках растений и животных, были окончательно опровергнуты в 1981 году, когда сначала был открыт дерморфин, а затем еще несколько веществ, содержащих D-аминокислоты. И дерморфины, и дельтрофины содержат семь аминокислот, и в обоих случаях на второй позиции встречается или D-аланин, или D-метионин. По-видимому, наличие D-аминокислот критически важно, поскольку с заменой их на эквивалентную L-аминокислоту пептид становится совершенно не активен. D-аминокислота создает острый выступ в пептидной цепи, что позволяет сформировать ключ, подходящий ко многим биологическим замкам[192].
Дерморфины и дельторфины относят к опиоидным пептидам, потому что они оказывают на мозг такое же действие, как естественные опиаты, например морфин и героин. Фактически, в пересчете на массу, дерморфин в тысячу раз сильнее морфина и в десятки тысяч раз сильнее нейротрансмиттера энкефалина, участвующего в передаче болевых ощущений. Из дерморфинов и дельторфинов вполне можно создать заменяющие морфин сильные болеутоляющие, при этом не вызывающие привыкания и побочных эффектов – вялости и застоя пищеварительной системы. Конечно, злоупотребления возможны и с синтетическими лекарствами – достаточно заменить маковый сок простым пептидом. Действительно, к счастью или к несчастью, уже известно, что в коже жаб содержатся психоактивные вещества, и наркоманы в Австралии лижут высушенную кожу Bufo marinus, а в Америке курят высушенную кожу Bufo alvarius (журнал Newsweek назвал ее «дедушкиным галлюциногеном, столь сильным, что ЛСД в сравнении с ним – все равно что стакан молока»). Но едва ли в этом есть что-то новое. Во время традиционных шаманских обрядов индейцы матсес, живущие в верховьях Амазонки, вызывали у себя галлюцинации, посыпая раны на коже высушенным секретом жабы Phyllomedusa bicolo [193].
До сих пор белки, содержащие D-аминокислоты, у позвоночных встречались только в коже земноводных, но нет сомнений, что это не исключение. Помимо позвоночных D-аминокислоты обнаруживаются у многих других животных. Например, медлительные и красивые моллюски из семейства конус – это сложно устроенные машины смерти, привлекающие быстро плавающих рыб своими аппетитными на вид носиками. Внутри носика прячется одноразовый гарпунообразный зуб, который выстреливается и впрыскивает в жертву смесь ядов, вызывающих мгновенный паралич и судороги. После этого конус наползает на добычу и съедает ее. В состав сильнодействующего яда входит пептид контрифан, состоящий из девяти аминокислот, в середине цепочки которых находится D-триптофан, аминокислота, отличающаяся от входящей в дерморфины и дельторфины и расположенная иначе. Можно предположить, что белки, в состав которых входят D-аминокислоты, более разнообразны, чем считалось прежде. Последний пример D-аминокислотного белка обнаружен у австралийского воронкового водяного паука Agelenopsis aperta, также парализующего жертву с помощью яда. На одном конце этого белка расположен D-серин, придающий ему форму длинного тонкого щупа, блокирующего кальциевые каналы мозга, что ведет к остановке передачи сигналов между нейронами. Самое поразительное, что в случае этого яда впервые удалось выяснить происхождение D-аминокислоты. Фермент изомераза берет обыкновенный L-серин из белковой цепочки и прямо на месте превращает его в D-серин. Фермент этот обладает замечательным сходством с обычным расщепляющим белки ферментом трипсином, демонстрируя, как эволюция, как всегда, использует доступные ресурсы, не прибегая к изобретению новой технологии. Это также предполагает, что D-аминокислоты могут содержаться во многих белках животного происхождения[194].
Хотя D-аминокислоты, конечно, можно встретить в самых разных существах, от бактерий до пауков, от моллюсков до жаб, лягушек и человеческого мозга, их редкость только подчеркивает главный вопрос: почему все живое на Земле состоит почти исключительно из L-аминокислот и D-углеводов. В нем прячутся еще два вопроса, простой и сложный. Простой – почему хиральность аминокислот и углеводов одинакова? То есть почему все аминокислоты – именно L-аминокислоты, а все углеводы – именно D-углеводы? Причина проста – легче что-то строить из одинаковых кирпичиков, даже асимметричных, чем из разнотипных. Хорошими примерами могут быть ДНК и РНК, состоящие из нуклеотидов, содержащих углеводы (рибоза в РНК и дезоксирибоза в ДНК). Как и все остальные углеводы, это D-рибоза и D-дезоксирибоза. Легко построить зеркальную форму ДНК, включающую L-дезоксирибозу, и она так же хорошо бы функционировала. Однако почти невозможно построить стабильную молекулу, содержащую смесь D- и L-углеводов. Для функционирования ДНК стабильность имеет ключевое значение, а потому ключевое значение имеет и гомохиральность – однонаправленность всех ее компонентов. Те же соображения верны и для аминокислот, формирующих белковые цепочки, которые более стабильны, если полностью состоят из аминокислот одного типа. Но это был легкий вопрос. Куда сложнее ответить, почему жизнь основана на D-углеводах и L-аминокислотах, а не наоборот[195].
Одна из распространенных теорий, объясняющих преобладание L-аминокислот и D-углеводов, сводится к тому, что объяснять здесь нечего: это результат случайности и только случайности. Генетик Джон Холдейн, биохимик Лесли Оргел и физик Мюррей Гелл-Манн предполагали, что первый живой организм на Земле сложился из L-аминокислот только по воле случая, и все вполне могло обернуться иначе. Но с того момента, как это произошло, использование L-аминокислот сделалось постоянной, произвольной, но полностью неизменной характеристикой живого – замороженная случайность, навсегда закрепившаяся во всех потомках первых форм жизни. Представьте, что вы бросаете монету – кому из двух игроков ходить первым во всей серии игр. Возможны два равно вероятных исхода. Однако множество мелких факторов ведут к тому, что монета падает определенным образом, скажем, орлом, и результат этот определяет весь ход дальнейшего состязания. Не было никаких специальных факторов, ведущих к тому, что монета выпала орлом, и другая монета в другой день легко могла выпасть решкой, но как только первое решение было принято, оно предопределило все последующее. Разница между игрой и жизнью в том, что жизнь на Земле разыгрывается лишь один раз, и игра все еще продолжается. Хотя свести все только к случайности – идея приятная и привлекательная, множится число ученых, считающих ее недостаточной для объяснения преобладания на Земле L-аминокислот, и, как мы увидим, в основе этого мнения лежат свидетельства, обнаруженные за много миллионов миль от нашей планеты[196].
Жизнь на Земле возникла в условиях, совершенно отличных от тех, что мы наблюдаем сегодня. Есть искушение вообразить себе благоприятную среду, в которой нежные, хрупкие конгломераты нуклеиновых кислот, углеводов, аминокислот и мембран робко искали бы способ самовоспроизведения – то, что Дарвин называл «теплым мелким водоемом, полным всех видов азотных и фосфорных соединений, в присутствии света, тепла, электричества и т. д.». На протяжении XX века ученым виделись все более суровые условия: Джон Холдейн рисовал более жаркий мир, с проливными дождями, смывающими химические вещества в моря, «достигавшими консистенции горячего бульона», а в 1950-х биохимик Стэнли Миллер пропускал электрические разряды сквозь смесь метана, аммиака, водорода и водяного пара, предположительно преобладавших в атмосфере ранней Земли. Но, возможно, и эти условия были слишком благоприятными. Химик Уильям Боннер пишет, что «в течение первых примерно 700 миллионов лет первичная Земля подвергалась интенсивной бомбардировке бесчисленных комет и астероидов, размером не менее и даже более кометы Галлея, и энергии, выделявшейся при некоторых ударах, хватало, чтобы испарить океаны, сформировать атмосферу из испарившихся горных пород и стерилизовать поверхность Земли до глубины в несколько десятков метров». Едва ли это было похоже на идеальное место для тонких химических и биологических экспериментов, представлявшееся теплым, ласкаемым волнами пляжем. Тем не менее каким-то образом сложные организмы начали развиваться в этом мире, и они использовали генетический код, основанный на ДНК, состоящей из D-углеводов и сложных ферментов, составленных из L-аминокислот[197].
Если преобладание L-аминокислот или, в данном случае, D-углеводов не объясняется всего лишь случайностью, то что-то должно было дать небольшое преимущество жизни, основанной на L-аминокислотах, перед жизнью на D-аминокислотах. И снова возникают два отдельных вопроса – каким образом L-аминокислоты получили преимущество над D-аминокислотами и как получилось, что это небольшое преимущество усилилось настолько, что D-аминокислоты практически не встречаются в живых организмах. В основном суждения касаются преимущества L-аминокислот над D-аминокислотами, сочетаясь со смутными надеждами на то, что и все остальное как-нибудь утрясется сообразно этой теории. Дьявол, однако, в деталях: не ясно, сколь велик должен был быть избыток L-аминокислот. Если бы он был слишком мал (а обычно он чрезвычайно мал), то он был бы поглощен, в буквальном смысле смыт в хаосе первобытной Земли. Многие теории говорили о некоторой асимметрии самой Земли, возможно, ее магнитного поля или кристаллов кварца, или гравитационных полей, но в конечном счете все они оказались неудачными теоретически, эмпирически или с обеих сторон. Поэтому любое возможное объяснение должно отойти от собственно самой планеты и обратиться или вглубь, к работе атома, или вовне, в глубины космоса[198].
Физики называют симметрию левого и правого «четностью», и они всегда исходили из того, что Вселенная симметрична – или, говоря их языком, в ней сохраняется четность. С точки зрения физики «положительная четность» означает, что отражение в зеркале ничего не меняет, а «отрицательная четность» зеркальна. У штопора четность отрицательная, и левый штопор, отраженный в зеркале, выглядит правым, но у винных бокалов четность положительна, зеркальное отражение ничего в них не меняет. По словам лорда Блэкетта, сохранение четности означает, что «в лавке Природы всегда в наличии одинаковое количество левых и правых штопоров». Представьте, что вы смотрите на игру в бильярд – непосредственно или в зеркале. Невозможно только по движению шаров определить, где реальность, а где зеркальное отражение, потому что законы физики, определяющие движение шаров, одинаковы и в реальности, и в зеркале. Однако это не так применительно ко многим ситуациям обыденной жизни. Допустим, ваш друг-правша открывает бутылку вина, наполняет бокал и садится почитать «Таймс». Множество деталей подскажут, какой вариант зеркален: штопор окажется закручен влево, и вращать его будут против часовой стрелки, вино будут наливать левой рукой, а текст в газете будет зеркальным. В повседневной жизни четность не сохраняется, в лавках у людей количество левых и правых штопоров не совпадает, и присущая людям сильная лево-правая асимметрия накладывает отпечаток на все, с чем они соприкасаются. Четности, однако, есть место в физике. Янг Чжэньнин в своей Нобелевской речи отметил, что «законы физики всегда демонстрировали полную симметрию левого и правого». Однако в 1957 году большой шум вызвало, по выражению лорда Блэкетта, «одно из самых любопытных и волнующих событий в истории современной физики»: в Вашингтоне в ходе занявшего всего 48 часов эксперимента Ву Цзяньсюн продемонстрировала совершенно противоположное ожиданиям большинства физиков. Оказалось, что четность не сохраняется[199].
Между тем представление о сохранении четности отнюдь не было нелепостью. Физика признает в природе четыре очень разных типа взаимодействий – электромагнитное, сильное, слабое и гравитационное, – и для трех из них, электромагнитного, сильного и гравитационного, существовали явные признаки сохранения четности. Поэтому, когда два молодых американских физика китайского происхождения Ли Чжэндао и Янг Чжэньнин в октябре 1956 года опубликовали теоретическую работу, в которой предположили, что для слабых взаимодействий четность может не сохраняться, и предложили проверить это экспериментально, они столкнулись с волной скептицизма, несмотря на то что само предположение основывалось на обнаруженных Янгом и Ли аномалиях в более ранних данных. Убедить Национальное бюро стандартов в Вашингтоне провести эксперимент было непросто, поскольку в Бюро были убеждены, что это пустая трата времени, и эксперимент лишь неизбежно подтвердит сохранение четности. И теоретики в Бюро были не одиноки – одним из классических примеров верности теории, о которых ученые впоследствии сожалели, стало письмо, присланное из Цюриха знаменитым физиком-теоретиком, нобелевским лауреатом Вольфгангом Паули: «Я не верю, что Господь – левша, и готов поставить кругленькую сумму на то, что эксперимент покажет симметричные результаты». Неизвестно, сделал ли он ставку на самом деле, но если и сделал, то проиграл[200].
В эксперименте использовался радиоактивный кобальт-60. В ходе бета-распада он испускает электрон и неуловимую элементарную частицу – нейтрино. Атомы кобальта вращаются примерно так, как вращается Земля, а потому можно говорить о «северном» и «южном» полюсах, хотя определяются они произвольно. Если атомы кобальта в сильном электромагнитном поле охладить почти до абсолютного нуля, они выстроятся так, что вращаться будут в одном направлении (например, по часовой стрелке, если смотреть сверху). Они продолжат испускать электроны, но ключевой вопрос – в каком направлении. Сохранение четности предполагает, что в обоих направлениях, северном и южном. Если бы это было не так, то в зеркальном отображении картина эксперимента выглядела бы иначе, точно так же, как отличается отражение штопора в зеркале, и система не сохраняла бы положительную четность. Но это требовалось доказать. Если с «юга» электронов испускалось бы больше, чем с «севера», значит, четность не сохранялась. Электроны, как выяснилось, закручены влево. Паули называл эксперимент «весьма сенсационным», и результаты опыта за несколько дней облетели весь мир физики. Нобелевский комитет согласился с Паули и признал открытие, удостоив в 1957 году Янга и Ли Нобелевской премии по физике[201].
Людям, далеким от науки, значение открытия Янга и Ли хорошо объясняет пакистанский физик Абдус Салам, сам ставший нобелевским лауреатом в 1979 году. В письме к другу, филологу-классику, он рассказывает, почему результаты опыта так всех взволновали:
«Я спросил его, упоминали ли античные авторы о гигантах лишь с одним левым глазом. Конечно, упоминали, и он предоставил мне полный их список, но у всех, как у Циклопа в гомеровской «Одиссее», единственный глаз был в середине лба. А я полагаю, мы обнаружили, что вселенная – гигант, слепой на левый глаз».
Следствия несохранения четности разнообразны – вплоть до преобладания галактик, закрученных влево, а не вправо. Это позволяет решить и Проблему Озма, о которой речь шла в третьей главе: как объяснить пришельцу из дальнего космоса, какая из двух перчаток – левая. Решение просто, если в наличии есть оборудование, позволяющее увидеть движение множества электронов – большинство из которых в основном закручены влево, а еще лучше – нейтрино, которые закручены влево все до единого – как заметил физик Отто Фриш, нейтрино летит, словно пуля из винтовки с левой нарезкой ствола. Как только возникнет понимание, что левое соответствует направлению вращения нейтрино, так тут же и решится вопрос о том, какую перчатку считать левой. Итак, почти через двести лет после эссе Канта 1768 года Проблема Озма поучила решение в 1957-м[202].
Реальная сложность, однако, состоит в том, можно ли асимметрией слабых взаимодействий объяснить и биологическое преобладание L-аминокислот и D-углеводов. Вскоре после эксперимента Ву Джон Холдейн отметил, что предположение Пастера об асимметричности живого может отражать асимметричность самой Вселенной. Не в этом ли все дело? Может ли существовать связь между спином элементарных частиц и формами углеводов и аминокислот? Действительно, многие физики-теоретики и химики предполагали подобное и проводили немало опытов, хотя в целом и не слишком успешных: эффекты были либо очень малы и оказывались за пределом чувствительности, либо их не удавалось в полной мере воспроизвести в аналогичных экспериментах. Проблему легко понять, если принять во внимание ее численную составляющую[203].
С 1957 года теория подчеркивала, что хотя L- и D-аминокислоты похожи как в зеркале, они не являются точным зеркальным отражением друг друга, поскольку электроны в них в основном имеют левый спин. Таким образом, физические свойства D- и L-аминокислот несколько различны, в частности D-аминокислоты менее стабильны и легче разрушаются. Это означало, что в конечном счете возникнет преобладание L-аминокислот. Если этот процесс мог как-то усилиться, то и все живые организмы должны были бы полностью состоять из L-аминокислот. Это заманчивая теория, и несколько теоретиков усиленно искали доводы в ее пользу. Их вычисления показали, что преобладание L-аминокислот возникло бы обязательно, но соотношение оказалось крайне мало – около 1 на 1017. Чтобы понять, сколь малая это величина (1 часть на 100 000 000 000 000 000), вспомните, что длина окружности земного шара – около 40 тысяч километров. Если увеличить ее на 1/1017, она удлинится на полумиллионную долю миллиметра – около 4 ангстрем – на диаметр всего лишь пары атомов. То есть на крошечную величину. Если подойти к проблеме с этой стороны, трудно поверить, что столь незначительное преобладание атомов может иметь какие-то реальные биологические следствия[204].
Важно, что столь малый эффект требует усиления. Одна из возможностей – так называемая положительная обратная связь – то, что многие могут наблюдать, если электрогитара или микрофон оказываются перед динамиком. Микрофон улавливает тихий звук, который затем несколько усиливается динамиком, так что микрофон улавливает чуть более громкий звук из динамика, который снова усиливается динамиком, и так далее, пока почти сразу все не заглушит воющий звук на максимальной громкости. Подобным образом в химических системах могут усиливаться первоначально очень слабые различия. Не исключено, что какие-то первоначальные химические реакции D-форм веществ подавляют действие L-форм и наоборот. Любые малые различия в концентрации двух веществ могут поэтому усиливаться до тех пор, пока одно из них возобладает полностью. Если с самого начала концентрация одной из форм была чуть выше, пусть даже на 1 в 1017, то в результате эта форма стала бы преобладающей. Подобные химические системы были продемонстрированы экспериментально, показав, что такой механизм действительно мог усилить крошечные различия, возникшие из-за несохранения четности[205].
Если причина преобладания в наших телах L-аминокислот связана с микроскопическими различиями, возникшими на уровне слабых взаимодействий, то как можно проверить или доказать эту теорию? Между тем способ существует и, как ни странно, не на Земле. Из любой теории, основанной на слабом взаимодействии, следуют очень ясные выводы, а именно, если законы физики применимы во всей Вселенной, значит, и четность не сохраняется во всей Вселенной, и повсюду, где обнаружатся аминокислоты, должна преобладать именно L-форма. Иначе говоря, жизнь или, по крайней мере, аминокислоты, повсюду должны быть похожи. Это предположение в 1960-х легло в основу так называемого «Пастеровского анализа», космического исследования по поиску признаков внеземной жизни по оптической активности[206].
Хотя научные теории обладают предсказательной силой, предположения, выдвигаемые на этой основе, довольно бессодержательны, если их невозможно проверить на практике; так и рассуждения об аминокислотах в других мирах могут показаться пустой игрой ума, если нет возможности их увидеть. Но это не так. Вещество из глубин космоса постоянно попадает на Землю в виде метеоритов. Большинство метеоритов представляют собой плотные глыбы железа или горных пород и не слишком интересны биологам. Но есть исключения, такие как углистые хондриты, один из которых упал в Австралии близ города Мерчисон в 11 утра 28 сентября 1969 года. Метеорит развалился, и его куски были разбросаны на площади около пяти квадратных миль. Важность его была очевидна почти сразу, поскольку куски черного камня состояли в основном из «обугленного черного вещества» с сильным запахом органики, напоминающим денатурат. Обломки были собраны и подвергнуты интенсивным исследованиям. Очень скоро выяснилось, что метеорит, в составе которого было 3 % углерода, богат и аминокислотами. Нельзя было исключить возможность загрязнения в момент, когда метеорит врезался в Землю, которая фактически покрыта аминокислотами, содержащимися в живых организмах. Однако вскоре ученые исключили этот вариант, заглянув внутрь осколков метеорита и обнаружив в нем аминокислоты, которые в живых организмах не встречаются – метилаланин, саркосин и метилнорвалин. Поначалу решили, что обнаруженные аминокислоты представляют собой рацемическую смесь L- и D-форм, но первый образец был очень мал, а техника анализа несовершенна. Однако в ходе последующих исследований было ясно и определенно установлено преобладание в метеорите Мерчисон L-аминокислот – до 97 % в случае лейцина. Впервые было получено надежное доказательство того, что в аминокислотах, происходящих не с нашей планеты, также преобладают L-формы. К сожалению, углистые хондриты редки, хотя и в метеорите Муррей, упавшем в Кентукки в 1950 году, также обнаружилось преобладание L-аминокислот. В более близкое к нам время, 18 января 2000 года, большой углистый хондрит упал в озеро Тагиш в канадской провинции Британская Колумбия. Осколки были быстро извлечены из замерзшего озера и немедленно подвергнуты глубокой заморозке, что сделало их идеальными для научных исследований. Результаты анализа аминокислот скоро будут известны[207].
Большинство теорий относительно преобладания L-аминокислот основывается на принципе, выдвинутом Пьером Кюри, удостоенным вместе со своей женой Мари Нобелевской премии за открытие радиоактивности. Кюри говорил, что «асимметрия не может произойти из симметрии». Поскольку все законы физики, за исключением тех, что связаны со слабым взаимодействием, демонстрируют симметрию, единственной областью поисков остается слабое взаимодействие. Здесь, однако, упускается из виду тот факт, что Вселенная чрезвычайно велика. И если в некоторой ограниченной ее части присутствует асимметрия, а в другой – противоположная асимметрия, тогда законы физики все же останутся симметричными, поскольку Вселенная в целом останется симметричной, даже если асимметричным покажется состояние аминокислот в местной ее области. «Местная область», если говорить о Вселенной, фактически может быть и огромной. На этом принципе основывается теория Уильяма Боннера, химика из Стэнфордского университета, предположившего, что причина преобладания L-аминокислот на Земле связана с круговой поляризацией света. В то время как распространение волн обычного поляризованного света ограничено определенным направлением, например вверх или вниз, волны поляризованного по кругу света закручены либо по часовой стрелке (вправо), либо против часовой стрелки (влево). Этим может объясняться преобладание L-аминокислот, поскольку поляризованный по кругу свет по-разному взаимодействует с хиральными молекулами, то есть стереоизомерами, обеспечивая одним преобладание над другими. Однако, чтобы это оказалось полезным для объяснения преобладания L-аминокислот, нужно еще найти мощный источник поляризованного по кругу света. Боннер предположил, что лучше всего искать его близ нейтронной звезды. Эти невероятно плотные объекты формируются после взрывов сверхновых, и достаточно часто – так, в нашей Галактике за минувшую тысячу лет такое случалось трижды[208][209].
Нейтронные звезды – крошечные, невероятно плотные объекты, масса их примерно такая же, как у нашего Солнца, но диаметр всего 20–30 километров – величина небольшого города. Они также обладают сильным магнитным полем, а быстрое вращение генерирует характерные пульсирующие радиосигналы, вращающееся магнитное поле порождает сильнейшее электрическое поле, заставляющее электроны звезды вращаться вокруг ядра по круговым орбитам, испуская излучение. Часть этого излучения – поляризованный по кругу свет. Над экватором звезды свет поляризован в одном направлении, например по часовой стрелке, под экватором – в противоположном направлении, то есть против часовой стрелки. Глубокий космос полон молекулярных облаков, самые разные молекулы вморожены в поверхность крошечных силикатных пылинок, плавающих в межзвездном пространстве. Те, что оказываются близ нейтронной звезды, бомбардируются лучами поляризованного по кругу света, и из воды, аммиака, метана, углекислого газа и других простых молекул, содержащихся во льду, образуются аминокислоты. По одну сторону нейтронной звезды окажутся в основном L-аминокислоты, по другую – D-аминокислоты. Пыль медленно собирается в комки, образуя крупные глыбы, которые перемещаются по Галактике под действием сил тяготения, оказываясь в конечном счете в пределах Солнечных систем, подобных нашей, в виде комет или метеоров. Если они образовались по одну сторону от нейтронной звезды, они будут содержать L-аминокислоты, по другую – D-аминокислоты. И здесь возникает важное отступление от теории, утверждающей, что преобладание L-аминокислот возникло из-за несохранения четности, и поэтому во Вселенной везде в метеорах будут содержаться L-аминокислоты. Теория поляризованного по кругу света предполагает, что аминокислоты одного типа будут преобладать лишь по одну сторону от нейтронной звезды. Это элегантное решение, но какое-то значение оно будет иметь, лишь когда мы сможем изучить кометы или аминокислоты из отдаленных областей Вселенной[210].
Метеоры в нашей местной области Вселенной могут быть полны L-аминокислот, но до определения связи этого с тем, что наши тела тоже полны L-аминокислот, предстоит еще долгий путь. Определенно, мы находимся слишком далеко от любой нейтронной звезды, чтобы ее поляризованный по кругу свет, достигая поверхности Земли, привел бы к избытку L-аминокислот. Боннер находит этому единственное объяснение: аминокислоты первоначально попали на Землю с метеорами. Хотя поначалу такое объяснение кажется невероятным, многое говорит в его пользу. Прежде всего оно не подразумевает, что метеоры занесли на Землю полностью сформировавшуюся жизнь, но только обломки, полные L-аминокислот (а если это кажется маловероятным, то стоит напомнить, что большая часть золота и платины попала на Землю именно таким образом). Во-вторых, далеко не очевидно, что аминокислоты могли сложиться из более простых веществ в условиях, существовавших на ранней Земле, поэтому предположение, что они могли быть занесены откуда-то извне, имеет некоторые преимущества. Почти нет сомнений, что метеориты в большом количестве падали на Землю с самого начала ее формирования; одним из самых драматичных стал удар, 65 миллионов лет назад пришедшийся по Юкатану в Чикшулубе и погубивший динозавров. Что бы произошло с аминокислотами в этих метеоритах после того, как они оказались на Земле? Если они просто растворились в обширном горячем океане, их концентрация была бы слишком мала, чтобы дать начало жизни. Но что, если жизнь зародилась не в океане, но в горных породах Земли?[211]
Замечательным биологическим открытием последних десятилетий стали бактерии «экстремофилы», предпочитающие условия, которые нам кажутся экстремальными и невыносимыми. Среди них есть гипертермофилы, обитающие в горячих источниках при температуре кипения, психрофилы, найденные в почти не тающих морских льдах Антарктики, алкалифилы, обнаруженные в щелочных озерах Египта, ацидофилы, живущие в серной кислоте, и галофилы, обитатели соляных озер. Хотя легко списать все это на редкую игру природы, Стивен Джей Гулд подчеркивал, что совокупное количество таких организмов, таящихся в глубине горных пород, может превосходить число всех прочих живых существ. Молекулярная генетика расшифровывала геномы таких организмов и сравнила их с другими бактериями, а также многоклеточными организмами, эукариотами. Обнаружилось много удивительного. Экстремофилы отличаются от обычных бактерий, располагаясь ближе к «корню» эволюционного древа, чем другие организмы, и теперь их относят к отдельному домену живых существ – археям, то есть «древним». Археи также могут быть ближе к многоклеточным организмам, чем обычные бактерии, что делает их ближе к людям, чем даже те бактерии, что живут на нашей коже и в кишечнике. Но каким бы странным это ни показалось, экстремофилы в главных характеристиках сходны со всеми другими живыми организмами на Земле – у них такой же генетический код, а белки их состоят из L-аминокислот. Никакой иной модели на Земле не встречается. Интересно, однако, что, в отличие от обычных бактерий, археи содержат в своих клетках свободные D-аминокислоты, в частности D-серин, аминокислоту, также содержащуюся в больших количествах в головном мозге млекопитающих – от крыс до людей. И это еще один фрагмент доказательства нашего родства с очень древними археями[212].
Если горные породы Земли так полны жизни, то, может быть, и жизнь впервые возникла в них, а не в океане. Хотя эта идея может показаться странной, чем больше ее обдумываешь, тем она кажется привлекательнее. Теплое место, с изобилием энергии, поступающей от таких веществ, как сероводород и нитраты, раздробленное на мелкие взаимосвязанные ячейки, защищенное от бурь, бушующих в атмосфере и океане, предоставляющее пространство, где могут образовываться высокие концентрации необычных химических веществ, а живые организмы могут самыми разными способами решать проблему метаболизма и размножения, – все это представляется идеальным испытательным стендом для новых форм жизни. Лишь когда все сложные биохимические системы отлажены, организму есть смысл выходить в действительно враждебную среду – на поверхность Земли. Теория также предлагает изящное решение проблемы преобладания L-аминокислот. При падении на Землю метеора с L-аминокислотами большое количество насыщенной смеси углеродных соединений проникло глубоко внутрь разогретых пород, и поскольку предтечами жизни оказались именно L-аминокислоты, неудивительно, что и живые организмы, развившиеся из них, также построены исключительно из L-аминокислот[213].
Итак, к чему же мы пришли? Ясно одно: жизнь на Земле основана именно на L-аминокислотах, и отдельные исключения только подчеркивают преобладающее господство L-аминокислот. Совершенно убедительной теории, которая объясняла бы это, пока еще не разработано, но идея, что причина в чистой случайности, выглядит все менее вероятной – так же как и с любым механизмом, возникшим на нашей планете. Изучение метеоритов показывает, что некие асимметричные процессы происходят в куда более обширной области Вселенной, и определенная направленность существует на уровне физики и химии. Свет, поляризованный по кругу, может обеспечить обширные области пространства левыми или правыми изомерами аминокислот, и если Земля была в пределах области формирования L-аминокислот, то и падающие на Землю метеориты должны были содержать L-аминокислоты, а земная жизнь – строиться на их основе. Но как быть с несохранением четности и асимметрией слабого взаимодействия? Могло ли это также способствовать преобладанию L-аминокислот? Многие были бы рады установить такую связь между физикой и биологией, и энтузиасты этой теории пока не сдаются. Одно из предположений состоит в том, что в холодных пустошах межгалактических молекулярных облаков несохранение четности взаимодействует с поляризованным по кругу светом и, возможно, с иными эзотерическими феноменами, такими как магнитохиральный эффект, внося свою лепту в общий результат.
Если многое из этого кажется отвлеченными размышлениями, то стоит задуматься о величии биологической проблемы, которая так и не решена – и которая была поставлена еще во времена Пастера, – и о том, что различные теории асимметрии слабого взаимодействия и воздействия света с круговой поляризацией ведут к разным заключениям. Если из теорий асимметрии слабого взаимодействия следует, что во всей Вселенной должны преобладать L-аминокислоты, то теория, в основе которой лежит круговая поляризация света, предполагает, что L- и D-аминокислоты равно преобладают, но в разных областях. Требуется, однако, найти способ узнать хиральность аминокислот не только в нашей Солнечной системе, но и в других областях Вселенной, например в разбросанных по ней далеких молекулярных облаках. Если аминокислоты в равной мере представлены там в D- и L-формах, то слабое взаимодействие не имеет отношения к существующей на Земле асимметрии, если же решительно преобладают L-аминокислоты, то все объясняется именно слабым взаимодействием. Если же три четверти аминокислот представлены L-формой, значит, обе теории верны лишь отчасти. В настоящий момент у нас нет способа выяснить, в какой форме присутствуют аминокислоты в нашей Солнечной системе, L- или D-, хотя вскоре это может проясниться. Проект по поиску внеземной гомохиральности SETH (Search for Extra-Terrestrial Homochirality) использует универсальные инструменты, способные оценить хиральность химических веществ в космосе, и может принести позитивный результат намного раньше, чем SETI – знаменитый проект по поиску внеземных цивилизаций. Успехи астрономии, возможно, позволят узнать хиральность аминокислот и в гигантских молекулярных облаках – и тогда мы получим ответ на один из главных вопросов, касающихся происхождения жизни[214].
В этой главе мы рассмотрели хиральность на самом микроскопическом уровне, который встречается в биологии и в физике. Теперь пора вернуться к человеческому масштабу и задаться вопросом о самой очевидной всем нам асимметрии, той, из-за которой мы в буквальном смысле оказываемся правшами или левшами.
7. Ловкий и неловкий
В 1839 году Чарльз Дарвин еще не был знаменит. Тремя годами раньше, в октябре 1836 года, он вернулся из пятилетнего грандиозного кругосветного путешествия на «Бигле», в ходе которого у него сложились идеи естественного отбора и эволюции, ставшей в итоге основой «Происхождения видов». Теперь пришло время остепениться. В январе он женился на своей кузине, Эмме Веджвуд, а 27 декабря 1839 года родился их первый сын Уильям (рис. 7.1). Дарвин, несомненно, был весь во власти отцовских чувств, что видно по тому, как он пишет о Уильяме в июне 1849 года:
«Он чудо красоты и интеллекта. Он настолько очарователен, что я не могу претендовать на любую скромность. Я призываю каждого отдать должное его достоинствам, которых мы даже не осознаем полностью.
Он очаровательный малыш, я и представления не имел, что в пятимесячном ребенке может быть так много. Так что вы поймете, что я в высшей степени преисполнен отцовской страсти».
Всего в семье родилось десять детей, хотя девочка Мэри умерла в младенчестве, в возрасте трех недель. Еще один сын, Чарльз, умер в 18 месяцев, а старшая дочь Дарвина Анна (Энни), умерла в 10 лет от одной из форм гастроэнтерита. По словам великого психоаналитика и биографа Дарвина Джона Баулби, смерть Энни оставила «печаль, которую так и не удалось полностью преодолеть». Через тринадцать лет после ее смерти Дарвин писал: «Нет в мире ничего горше такой потери». Как будто чтобы показать превратности судьбы и капризную природу инфекционных болезней в викторианской Англии, оставшиеся семеро детей процветали и жили до старости, скончавшись в возрасте 67, 75, 77, 77, 79, 84 и 93 лет[215].
Рис. 7.1. Чарльз Дарвин и его сын Уильям (Додди). Изображение с дагерротипа, 23 августа 1842 года, когда Уильяму было 2 года и 8 месяцев, а Чарльзу – 33 года
Еще до рождения Уильяма Дарвин рассматривал развитие ребенка как эволюцию и соответствующий раздел в своем научном дневнике озаглавил «Естественная история детей», добавив несколько вопросов, требующих ответа. Дарвин отмечал развитие Уильяма в дневнике: «В течение первой недели: зевнул, выпрямился, словно старик – в основном верхние конечности – икнул – чихал, сосал». Есть несколько прекрасных рассказов о том, как Уильям (по прозвищу Додди, или Мистер Ходди Додди), когда ему был всего лишь год, придумывал слова: например, «mum»[216] означало еду, и вскоре сделалось обобщающим: «shu-mum»[217] означало сахар, а слово «black-shu-mum»[218] означало лакрицу[219].
Дарвин не ограничивался одними наблюдениями: 19 мая, когда Уильяму было четыре с половиной месяца, он попытался провести эксперимент:
«Я громко фыркнул возле его лица, из-за чего он выглядел серьезным и испуганным, а затем внезапно заплакал. Это любопытно, учитывая удивительное количество странных звуков и гримас, которые я производил и которые он всегда воспринимал как добрую шутку. Я повторил опыт».
«Я повторил опыт». В этой фразе вся суть Дарвина, отца, натуралиста и экспериментатора. Должно быть, маленький Додди снова заплакал, к ужасу няни и матери[220].
Верный своей обычной практике, Дарвин, предпочитавший держать свои идеи и подробные записи о своей работе при себе, долгие годы не публиковал свои размышления. Только в 1877 году, прочитав статью Ипполита Тэна в новом философском и психологическом журнале Mind, в которой говорилось о развитии речи у детей, Дарвин вновь обратился к своим записям о ребенке – которому уже исполнилось 37 и который стал банкиром в Саутхэмптоне – чтобы написать одну из самых личных своих работ, озаглавленную «Биографический очерк одного ребенка». Изучение развития ребенка находилось в зачаточном состоянии, и наблюдения Дарвина вошли в число первых систематических наблюдений за конкретным ребенком. А кроме того, он помог создать еще одну область исследований[221].
Когда Уильяму было всего 11 недель, Дарвин решил выяснить, правша он или левша. И вот что он записал:
«Сейчас одиннадцатинедельный малыш берет свою бутылочку правой рукой – когда ее дают правой или левой рукой. Он не понимает, как можно ухватить ее левой рукой, даже если ее положить прямо на него – у этого малыша пока не было подобного опыта использования рук.
Ему ровно 12 недель. И на следующий день он схватил бутылочку левой рукой – так же, как делал до этого правой. Поэтому его правая рука по меньшей мере на одну неделю опережает левую. Я говорю «по меньшей мере», потому что не вполне точно заметил время, когда он впервые использовал правую руку».
Конечно, в итоговой научной работе эти простые заметки, мысли и наблюдения были приглажены:
«В возрасте 77 дней он брал бутылочку (из которой его прикармливали) правой рукой независимо от того, в левой или правой руке его держала кормилица, и еще в течение недели он не брал бутылочку левой рукой, хотя я пытался подвести его к этому; таким образом, его правая рука на неделю опережала левую».
Основываясь на этих наблюдениях, Дарвин решил, что его сын окажется правшой. Однако этого не произошло, как он позже отметил в своей работе: «И все же этот малыш оказался левшой – склонность, несомненно, наследственная: его дед, мать и брат были и остаются левшами». В другом месте Дарвин замечает в том же духе: «Хорошо известно, что леворукость передается по наследству»[222].
Понятно, почему Дарвина интересовало, не проявляется ли предпочтение той или другой руки уже в младенчестве. Хотя сам он был правшой, левшой была его жена Эмма, а также один из дедов Уильяма. Хотя мы не знаем, какой именно, по статистике более вероятно, что это был отец Эммы, Джосайя Веджвуд II, а не Роберт Дарвин. Как бы то ни было, леворукость имела давние семейные корни, и потому неудивительно, что из восьми детей Дарвина, доживших до возраста, когда стало очевидно, какой руке они отдают предпочтение, двое оказались левшами. Такая пропорция типична для детей, если один из родителей левша, а другой – правша[223].
Интерес Дарвина к тому, какая рука оказывается ведущей, в частности у его собственных детей, и сегодня не кажется необычным. Я изучаю лево- и праворукость с начала 1970-х, и один из самых частых вопросов, которые задают родители – окажется ли их ребенок правшой или левшой. Однако чаще всего спрашивают: «Широко ли распространена леворукость?» Чтобы ответить на него, начнем с краткой анкеты о том, какой рукой вы чаще пользуетесь при выполнении следующих задач:
Отметьте либо «левой», либо «правой», но не «и той, и другой»
Пишу
Левой / Правой
Рисую
Левой / Правой
Бросаю мяч
Левой / Правой
Чищу зубы
Левой / Правой
Держу ножницы
Левой / Правой
Держу нож (без вилки)
Левой / Правой
Держу ложку
Левой / Правой
Держу чашку
Левой / Правой
Держу пульт от телевизора
Левой / Правой
Открываю банку шипучего напитка (за кольцо)
Левой / Правой
Хотя этот опрос о предпочтениях в использовании рук далеко не самый сложный и изощренный, он более чем отвечает своей задаче. Недавно Найджел Сэдлер из Музея Вестри-хаус предложил ответить на эти вопросы большой и репрезентативной группе школьников в количестве почти три тысячи человек из Уолтхэм Форест в Северном Лондоне[224].
Результаты опроса оценить просто: подсчитайте, сколько раз вы ответили «левой», и ответ окажется где-то между нулем (если вы выраженный правша) и десятью (если вы выраженный левша). Чтобы определить ваше место среди других людей, взгляните на рис. 7.2. На горизонтальной оси главного графика в порядке от 10 до 0 расположены ответы, связанные с предпочтением левой руки. На вертикальной оси – соответствующая доля людей. Сразу становится очевидным, что большинство людей, примерно две трети, ничего не делают левой рукой и могут считаться выраженными правшами. Фактически выраженные правши настолько преобладают, что за ними трудно рассмотреть что-либо еще. Чтобы несколько прояснить это, на меньшем графике-врезке даны в увеличенном виде левая и центральная часть основного графика.
Рис. 7.2. Результаты исследования предпочтительности использования рук у школьников в Уолтхэм Форест, Северный Лондон (основано на неопубликованных данных Найджела Сэдлера). Доля сведений о мальчиках выделена светло-серым, о девочках – темно-серым. Большее количество левшей среди мальчиков легко заметить, сравнив столбцы «10» и «0»: светло-серый выше темно-серого в столбце «10», а в столбце «0» темно-серый выше светло-серого
В целом результаты образуют экспоненту, круто взлетающую вверх в правой части (выраженные правши), опускающуюся почти до горизонтальной оси и снова взлетающую слева (выраженные левши). Между выраженными правшами и левшами – все промежуточные состояния: те, кого называют слабо выраженными левшами, если они пользуются левой рукой в шести–девяти случаях, или слабо выраженными правшами, если они пользуются левой рукой в одном–пяти случаях. А что же с теми немногими, кто в пяти случаях пользуются левой рукой и в пяти – правой? Можно ли считать их амбидекстрами? Вероятно, нет. Более обстоятельный и подробный опрос показывает, что большинство из них все же предпочитают одну из сторон, иначе говоря, на самом деле они слабо выраженные правши или левши. Хотя существуют люди, утверждающие, что они подлинные амбидекстры, при тщательной проверке в лаборатории оказывается, что каждый из них отдает предпочтение правой или левой руке. Без основательной тренировки, такой же как для выполнения циркового трюка, почти никто не способен одинаково хорошо писать обеими руками. Если вы считаете себя настоящим амбидекстром, попробуйте выполнить задание с рис. 7.3. Установите таймер на 30 секунд и попытайтесь за это время поставить фломастером точку в максимальное количество кружков. Потом попытайтесь сделать то же самое другой рукой. Почти никому не удается проделать это одинаково обеими руками.
Так сколько же в мире левшей? Обычно те, кто пользуется левой рукой для выполнения более половины заданий, считается левшой. В примере с Уолтхэм Форест, типичном для населения в целом, как в Великобритании, так и на всем Западе, левши составляют чуть более десяти процентов, хотя, как мы увидим далее, доля эта слегка меньше среди людей старшего возраста и в некоторых других регионах мира[225].
График сообщает и еще кое-что: если среди мужчин левшей 11,6 %, то среди женщин – только 8,6 %. То есть леворукость почему-то более свойственна мужчинам, чем женщинам. Этот результат неоднократно повторялся во многих исследованиях, и в целом выяснилось, что на четырех женщин-левшей приходится чуть более пяти мужчин-левшей. Не слишком большая разница, но, похоже, она сохраняется всегда и должна отражать нечто важное в биологии леворукости. Признаки такого полового различия можно увидеть даже в семье самого Дарвина, в которой левшами были трое из восьми мужчин (38 %) и лишь одна из шести женщин (17 %)[226].
Рис. 7.3. Тест Тэйпли и Брайдена на владение обеими руками. За тридцать секунд поставьте как можно больше точек в кружки, сначала одной рукой, потом другой
Идея о том, что пол как-то связан с право- и леворукостью, давно укоренилась в психологии. Фрейд в переписке с Флиссом обсуждал это в 1897 и 1898 годах, хотя главным образом его интересовала выдвинутая Флиссом теория «Би – Би», а именно, что бисексуальность и билатеральность как-то связаны, и латентная леворукость связана с латентной гомосексуальностью. В дальнейшем эта идея получила развитие. Как правило, гомосексуальные мужчины чуть чаще оказываются левшами, чем гетеросексуальные, хотя интерпретацию данных осложняет тот факт, что с 1920-х до 1970-х годов в американском сленге слово «левша» означало «гомосексуал». Также, похоже, что леворукость чаще встречается у транссексуалов, то есть тех, кто хирургически сменил пол с мужского на женский или с женского на мужской. Кроме того, американские дети с неустоявшейся гендерной идентичностью чаще оказываются левшами. Как именно следует интерпретировать эти данные, в особенности в сочетании с тем, что по статистике леворукость у мужчин встречается чаще, чем у женщин, еще далеко не ясно, но, несомненно, здесь имеется закономерность, требующая объяснения[227].
Рис. 7.2 указывает еще на одно обстоятельство. Взгляните пристальнее на тех правшей, что набрали ноль очков, и тех, чей счет составил от одного до четырех. Почти две трети правшей – это ярко выраженные правши. В отношении левшей разница не столь резкая. Сравните тех, что набрали 10 баллов, и тех, что набрали от девяти до шести. Оказывается, что только треть левшей – левши ярко выраженные. Иначе говоря, праворукость выражена сильнее, чем леворукость. Отчасти это связано с тем, что левши живут в «праворуком мире», где самые разные предметы, от микроволновки до компьютерной или фортепьянной клавиатуры устроены в основном «под правую руку». В результате левши вынуждены приспосабливаться к миру правшей и часто пользоваться правой рукой, несмотря на естественную склонность использовать левую. Этим могут объясняться некоторые детали графика на рис. 7.2, но это не может служить полным объяснением, поскольку лишь в одном вопросе (о ножницах) упоминается предмет, специально сконструированный для использования правой рукой.
Более полное объяснение куда интереснее и отражает тот факт, что многие левши, и в данном случае некоторые правши непостоянны в использовании рук, и какие-то тонкие действия производят одной рукой, а какие-то – другой. Я узнал это о себе, когда мне было двенадцать, в летнем лагере. Меня учили работать ручным топориком, и я, правша, работал им правой рукой. После этого я учился работать длинным лесорубным топором, и, когда я работал, кто-то спросил меня: «Ты не левша?», потому что я рубил топором от левого плеча. Мне до сих пор кажется неудобным делать это как-то иначе. Многие правши и левши на рис. 7.2, набравшие от одного до девяти баллов, проявляют такое же непостоянство[228].
Только в последние два десятка лет ученые стали принимать во внимание, что многие люди не склонны постоянно отдавать предпочтение какой-либо одной руке. Интересу ученых способствовала в основном работа Майкла Питерса из Университета Гельфа в канадской провинции Онтарио, из которой следовало, что около трети левшей, пишущих левой рукой, предпочитают бросать мяч правой, и правой рукой броски получаются точнее. С тех пор также стало ясно, что два-три процента правшей, пишущих правой рукой, также предпочитают броски левой рукой. Хотя для ученых это стало открытием, люди давно знали и писали об этом феномене. Так, пионер сексологии Хевлок Эллис в автобиографии писал: «Я правша, если не считать тех случаев, когда приходится бросать камень или мяч… я никогда не мог бросить мяч правой рукой и я никогда не писал левой»[229].
Хотя до сих пор речь шла о право- и леворукости, некоторые предпочитают говорить о предпочтении той или иной стороны, потому что многие типы поведения, по-видимому, связаны с предпочтением одной стороны тела и происходят с участием рук, ног, глаз, ушей и т. д. Некоторые из этих асимметричных актов соотносятся с лево- и праворукостью, но не все[230].
Склонность использовать ту или иную руку в полной мере относится и к ногам: как правило, у правшей ведущая нога – правая, у левшей – левая. Проверить это легко – попросите кого-нибудь забить мяч в ворота, и та нога, которой бьют по мячу, и будет ведущей. Свойство это у профессиональных футболистов оценивают по тому, какой ногой они чаще ведут мяч – левой или правой. Большинство из них в 85 % случаев использует ведущую ногу, и почти никто не использует обе ноги одинаково часто. Иначе говоря, даже профессиональные футболисты не владеют обеими ногами одинаково хорошо, они в этом смысле не амбидекстры. Как и все прочие люди, двадцать процентов футболистов «левоногие», и доля эта существенно выше, чем обычные для любой популяции десять процентов леворуких. Так что достаточно много правшей оказываются «кросслатеральны» – пишут они правой рукой, но бьют по мячу левой[231].
Можно определить и ведущее ухо – в основном по тому, у какого из них люди держат телефон. Около 60 % предпочитают слушать правым ухом, 40 % – левым, правши предпочитают правое, левши – левое. Хотя эта особенность в прошлом изучалась мало, сейчас, при почти повсеместном распространении мобильных телефонов, положение меняется.
В отличие от почти незаметной проблемы «ведущего уха», вопрос о доминирующем глазе изучался более тщательно. Чтобы определить, какой глаз у вас ведущий, вытяните руку и укажите на какой-нибудь небольшой объект вдалеке. Теперь закройте один глаз. Если палец все еще совмещен с объектом, то открытый глаз и будет ведущим. Если вы посмотрите другим глазом, не ведущим, то палец больше не будет указывать на объект. Это и есть «прицельное», или окулярное, доминирование – предпочтение видеть объект тем или другим глазом. Ведущий глаз легко определяется, если спросить, каким глазом человек смотрит в замочную скважину или в окуляр микроскопа. Около 70 % людей предпочитают смотреть правым глазом, около 30 % – левым. Хотя левши склонны отдавать предпочтение левому глазу, а правши – правому, многие люди кросслатеральны, то есть их ведущий глаз и ведущая рука не совпадают. Имеет ли это значение – вопрос дискуссионный. В 1920-х Сэмуэль Ортон предположил, что перекрестное доминирование может быть причиной затруднений при чтении и приводить к дислексии. У этой теории все еще есть сторонники, но доводы в ее пользу слабы[232].
Существует и множество других функциональных асимметрий, как правило, не привлекающих большого интереса – например, большая часть людей предпочитает жевать правой стороной челюстей. И все же меня давно занимают две особенности, совершенно тривиальные и неважные, – как люди складывают руки и скрещивают кисти рук. Чтобы проверить это, быстро соедините кисти рук, чтобы пальцы переплелись. Который из больших пальцев сверху – правый или левый? Теперь попробуйте сделать так, чтобы получилось наоборот, и вам придется на мгновение задуматься, само действие займет больше времени, да еще и покажется, что пальцы сплелись не так удобно. Первое инстинктивное движение вы проделали легче и более естественно. Этому движению не учатся, фактически, люди даже не замечают его, если им на это не указать. И появляется оно очень рано, как на рис. 7.4, на котором моя дочь Франциска, которой тогда было всего шесть недель, спонтанно соединяет руки. В Британии у почти 60 % людей сверху оказывается левый большой палец, и пропорция эта одинакова и у правшей и у левшей. Особенно интересно, что по мере продвижения на восток – через Европу, Азию и к Океании – доля тех, у кого левый большой палец оказывается сверху, сокращается, и на Соломоновых островах, восточнее Новой Гвинеи, только у тридцати процентов людей сверху оказывается левый большой палец. Еще более загадочно, что свойство это передается в роду, хотя довольно слабо, так что ребенок родителей, у которых сверху оказывается левый большой палец, вероятнее всего, унаследует эту особенность[233].
Другая асимметричность, которую вы можете проверить на себе, – это сложение рук. Быстро скрестите руки. Какое запястье сверху, правое или левое? А теперь попробуйте по-другому. Когда я просил проделать это на лекции, неизменно раздавался взрыв смеха, когда люди, покрутив руками перед собой, неизменно осознавали, что пришли к тому же, с чего начали – сверху все время оказывалось одно и то же запястье. Попытка поместить сверху другое запястье неизменно вызывала затруднения, приходилось над этим задумываться, и ощущения при этом возникали странные. В Великобритании левое запястье оказывается сверху у около 60 % людей, и эта доля одинакова не только среди правшей и левшей, но и среди тех, у кого при скрещивании рук верхним оказывается правый или левый большой палец. Таким образом, лево- и праворукость, скрещивание кистей рук и сложение рук имеют разные причины. Список небольших асимметрий можно продолжать почти до бесконечности. Например, один из пяти человек способен шевелить ушами, а из тех, кто может шевелить лишь одним ухом, тех, кто может шевелить лишь левым, вдвое больше, чем тех, кто может шевелить только правым. Как ни удивительно и странно, но причины существования асимметрии такого рода в настоящее время почти совершенно не известны[234].
Рис. 7.4. Франциска спонтанно скрещивает руки в возрасте шести недель
Тем не менее предпочтение левого или правого действительно требует объяснения, и по многим причинам ученые приложили массу усилий именно к поведенческой асимметрии. Во-первых, это своего рода крайний случай, далее всего отстоящий от пятидесятипроцентной смеси, возникающей в результате случайных процессов флуктуирующей асимметрии. Кроме того, ее очень легко надежно измерить у большого количества людей либо с помощью анкет, либо просто наблюдая за ними, будь то в реальной жизни или на фотографиях. Так как же, когда и почему получилось так, что большинство людей – правши, а меньшинство – левши? Чарльза Дарвина особенно интересовало, окажется ли Уильям правшой или левшой, и все же, несмотря на обстоятельные наблюдения, он ошибся. Так когда же выясняется, правшой ли левшой станет ребенок? Определить ведущую руку у маленьких детей непросто, особенно в первые два года жизни. В частности, похоже, что существует некий этап, известный как «хаотическая фаза», когда ребенок чуть ли не ежедневно отдает предпочтение то одной, то другой руке – сегодня правой, завтра левой. Окончание хаотической фазы точно не определено, поэтому ясно определить ведущую руку можно лишь по достижении 18 месяцев, а то и двух лет, но с того времени предпочтения уже устанавливаются на всю жизнь[235].
Поскольку ведущую руку можно ясно определить лишь на втором году жизни, ученые не видели особого смысла изучать, какой стороне отдает предпочтение ребенок до этого возраста. Однако специалист по поведению человеческого плода Питер Хеппер из Королевского Университета Белфаста горячо отвергает подобный подход, считая его ошибочным. С помощью ультразвукового сканирования он изучил несколько сот еще не рожденных младенцев и выяснил, что плод и в утробе матери сосет палец уже после 12 недель беременности, и в более чем 90 % случаев это палец именно правой руки. Возникает искушение объяснить это асимметрией мозга, поскольку на этой же стадии развития обнаруживаются и первые признаки асимметрии коры головного мозга. Однако позже Хеппер, изучая поведение десятинедельного плода, выяснил, что на этой стадии палец еще не сосут, но уже шевелят руками и ногами. Он решил узнать, какой рукой плод шевелит чаще – и оказалось, что в 85 % случаев – правой. Это нельзя считать указанием на то, что асимметрия мозга возникает ранее, чем считалось прежде, потому что на столь ранней стадии развития нейроны мозга еще не соединены со спинным мозгом. Столь ранняя асимметрия поведения, таким образом, связана со спинным мозгом или с самими конечностями, а потому возникает вероятность, что предпочтение той или иной стороны формируется не в коре головного мозга, а на каком-то более низком уровне нервной системы, но как и на каком – пока неизвестно[236].
Дарвина интересовало, как будут развиваться руки Уильяма, потому что он подозревал, что Уильям вполне мог оказаться левшой – ведь левшой была мать Уильяма, а предрасположенность, «как хорошо известно, передается по наследству». Если это было «хорошо известно», то не потому, что проводились какие-то систематические научные исследования, но просто по случайным и обыденным наблюдениям. Даже сегодня данные противоречивы, и некоторые ученые все еще настаивают, что склонность к предпочтению той или иной стороны не наследуется. Бесспорно, однако, то, что лево- и праворукость – семейная черта. Некоторое время назад мы с покойным Филом Брайденом изучили все работы по этому вопросу, которые могли найти в научной литературе, что в совокупности составило сведения о более 70 тысячах детей, у которых родители были либо только правшами, либо только левшами, либо, как в семье Дарвина, один из родителей был правшой, другой – левшой. Выяснилось, что шанс появления ребенка-левши у двух праворуких родителей составляет 9,5 %; в случае, если один левша, а другой правша – 19,5 %, а у двух леворуких – 26,1 %.
Эти цифры многое проясняют. Нет «чистокровных» правшей и левшей, у двух левшей дети правши, у двух правшей – левши. По сути, большинство детей двух левшей оказываются правшами – трое из четверых. И все же более вероятно, что дети левшей тоже будут левшами. Если быть точным, если один из родителей левша, то вероятность того, что ребенок окажется левшой, увеличивается в 2,05 раза, а если оба родители левши – в 2,75 раза больше, чем в случае, если оба родителя – правши. Но даже в этом случае нет никакой очевидной картины того, как именно это свойство передается в семьях. Так, одно из наших массовых исследований показало, что у половины левшей вообще не было других левшей среди родственников[237].
И все же в том, что леворукость – свойство семейное, сомневаться не приходится. Значит ли это, что леворукость – генетическая черта? Необязательно, потому что многие семейные свойства передаются не генетически – деньги, возможно, самый очевидный пример. Если ваши родители были очень богаты, то и вы, вероятно, тоже, хотя никаких генов богатства нет, деньги переходят к вам в силу культурного наследования, которое представляет собой часть того, что биологи в широком смысле называют «окружающей средой». Не может ли и леворукость так же быть связана со «средой»? Одна из самых старых идей в психологии гласит, что навык пользоваться той или иной рукой приобретается через социальное давление учителей и сверстников, через подражание родителям и нянькам. В IV веке до н. э. философ Платон четко обозначил эту позицию:
«Что же касается рук, то здесь каждый из нас может стать калекой по неразумию кормилиц и матерей. В самом деле: природа почти уравновесила те и другие конечности, и уже мы сами путем привычки сделали их различными, пользуясь ими ненадлежащим образом».
Разумеется, слова Платона имеют некоторое основание. В конечном счете мы столь многому учимся, подражая родителям, что едва ли можно считать удивительным, что дети леворуких родителей будут копировать их поведение и пользоваться левой рукой, а если оба родителя левши, это будет еще вероятнее. Тот факт, что дети двух родителей-левшей оказываются правшами, может просто отражать силу праворукого мира, в котором школы, учителя и общество в целом объединились в том, чтобы заставить людей быть правшами. Однако почти через столетие после Платона появилась альтернативная теория. Выдвинул ее Аристотель, возможно, величайший из биологов. Он предположил, что склонность использования той или другой руки зависит «от природы» и потому наследуется. В «Никомаховой этике» он пишет:
«Если бы мы постоянно упражнялись в броске левой рукой, то вскоре бы обе руки стали одинаково сильны, и мы одинаково хорошо владели бы ими. И все же как бы мы ни упражнялись, природа левой руки останется той же, и правая все же будет преобладать, упражнениями не устранить естественное различие».
В отношении платоновской теории влияния среды, дьявол, как всегда, скрывается в деталях – в деталях как логических построений, так и фактических данных. С точки зрения логики в середине XIX века сэр Чарльз Белл одним из первых подчеркивал, что левши становятся левшами несмотря на предполагаемое давление со стороны праворукого общества: «Все, что они видят и чем пользуются, ведет их к предпочтению правой руки, и все же они предпочитают пользоваться левой». Но, как далее утверждал Белл, если левши остаются левшами, несмотря на социальное давление правшей, нет никакого смысла утверждать, что правши становятся правшами из-за социального давления – не меньшую роль могут играть и врожденные факторы. Если говорить о фактических данных, то здесь сложности возникают из-за семей, в которых оба родителя правши, но кто-то из их родителей – левша. Вероятность того, что кто-то из детей в такой семье будет левшой, выше, чем в семьях, где все только правши. Леворукость детей, таким образом, не может быть связана с подражанием родителям, поскольку родители сами правши, и весьма сомнительно, что дедушка или бабушка станут приучать или заставлять внуков пользоваться левой рукой. Более вероятно, что они несут ген леворукости, который «спит» в их собственных детях, но проявляется в ком-то из внуков[238].
Среда, однако, может влиять самыми разными способами, в числе которых сочетание культурного усвоения, социального давления и обучения – способ далеко не единственный. Иначе говоря, даже если отбросить гены, могут быть и другие факторы, увеличивающие вероятность того, что потомки левшей окажутся левшами. Когда я начинал свои исследования, в моде была теория, что леворукость связана с повреждениями мозга из-за физических травм во время родов. Роды, несомненно, опасный процесс даже при современном уровне акушерства, а были еще опаснее в прежние времена. Два противоборствующих эволюционных процесса сказываются на человеческой голове: с одной стороны, она должна быть как можно больше, чтобы вместить крупный мозг, с другой стороны, достаточно маленькой, чтобы пройти сквозь женский таз. Череп младенца с трудом протискивается сквозь родовой канал, проскальзывая его под давлением. В результате нежный и уязвимый мозг иногда получает повреждения.
Но почему повреждение мозга увеличивает вероятность леворукости? Представим, что всем суждено стать правшами, а движениями правой стороны тела руководит левое полушарие мозга. Что произойдет, если мозг будет сдавлен при прохождении родовых путей? Ничего, если сдавлено будет правое полушарие, поскольку движения правой стороны тела контролирует левое полушарие. Но при повреждении левого полушария правая рука будет действовать неправильно, а контроль над точными сложными движениями возьмет на себя правое полушарие. А так как оно контролирует левую половину тела, человек окажется левшой. Травма при родах (или любая другая травма мозга на ранних этапах жизни), таким образом, увеличивает вероятность леворукости. Может ли эта теория заодно объяснить семейную леворукость? Вот изящный ответ: да, может, потому что женщина оказывается левшой из-за того, что у ее матери был узкий таз, и при родах мозг дочери был сдавлен, а вероятность того, что и у нее окажется узкий таз, запечатлена в генах, а потому и ее дети могут с большей вероятностью оказаться левшами[239].
Это разумная теория, и мне, тогда еще студенту-дипломнику, выпал случай проверить ее. В 1958 году в Британии проводилось общенациональное изучение развития детей, в ходе которого были собраны сведения обо всех детях, родившихся с 3 по 9 марта. Этих 16 тысяч детей обследовали в возрасте семи, одиннадцати и шестнадцати лет и далее наблюдали на протяжении всей жизни, что позволило создать один из величайших источников для современных психосоциальных исследований. Моя удача заключалась в том, что некий безвестный, но дальновидный ученый включил в обзор несколько вопросов, касающихся ведущей руки у детей. Данные, хранившиеся тогда в архиве Эссекского университета, не говорили ничего, что указывало бы на связь между осложнениями при родах и последующей леворукостью. Несмотря на формальную красоту, теория, связывающая леворукость с травмами, полученными при рождении, оказалась неверной. И в очередной раз я остался с единственным объяснением – вероятно, ведущая рука как-то связана с генами[240].
Теории, объясняющие лево- и праворукость наследственностью, всегда сталкивались с одной явной и, кажется, непреодолимой проблемой: близнецов. Посмотрите на рис. 7.5 – фото моих дочерей Анны и Франциски в возрасте примерно 14 месяцев. Франциска слева, держит ложку в левой руке, а Анна справа, держит ложку в правой. Франциска и Анна – полные близнецы, так называемые монозиготные, то есть выросшие из единственной оплодотворенной яйцеклетки, а потому обладают одинаковыми генами. Если ведущая рука определяется генетически, разве не должны были Анна и Франциска быть одинаковыми и в этом отношении? Примерно в одной из пяти пар идентичных близнецов ведущие руки не совпадают, один оказывается левшой, другой правшой. Хотя это может показаться странным, ведущая рука тем не менее все же может определяться генетически, даже в тех случаях, когда она не совпадает у идентичных близнецов. Следует принять во внимание два обстоятельства. Во-первых, генетическое сходство вовсе не ведет к тому, что идентичные близнецы должны быть совершенно одинаковыми во всех отношениях, и различия обязательно связаны с влиянием окружающей среды. Соответствует истине лишь то, что идентичные близнецы более схожи между собой, чем неидентичные (так называемые дизиготные), которые в генетическом отношении ничем не отличаются от обыкновенных братьев и сестер. И более тщательный анализ данных говорит, что идентичные близнецы как раз более похожи и в отношении ведущей руки, чем неидентичные[241].
Рис. 7.5. Франциска и Анна в возрасте 14 месяцев. Франциска держит ложку в левой руке, а Анна – в правой
Далее, говоря об идентичных близнецах, нужно задаться вопросом, как именно могут наследоваться право- и леворукость, если они все же связаны с генами, и что за механизм срабатывает, если у идентичных близнецов ведущие руки разные. Хотя большинство врожденных качеств непосредственно связаны с генами, это не всегда так, и случайность порой играет важную роль. Об одном из таких казусов, iv-мышах, упоминалось в пятой главе. Удвоенное количество нормального гена ведет к тому, что сердце мыши оказывается слева. Но два iv-гена создают ситуацию, когда сердце мыши с пятидесятипроцентной вероятностью может оказаться или слева, или справа (situs inversus). Что случится с мышами-близнецами с двойным iv-геном? Так, у одной мыши сердце может оказаться справа, у другой – слева. Похоже, это изредка случается и с людьми, когда у одного близнеца сердце справа, а у другого – на обычном месте. Таким образом, у близнецов – и мышей, и людей – латеральность сердца не обязательно совпадает, хотя положение сердца и определяется генетически. Точно такая же ситуация возникает и применительно к ведущей руке у близнецов[242].
Любая приемлемая модель наследования ведущей руки должна объяснять не только разницу между идентичными близнецами, но также и почему у родителей-правшей рождаются дети-левши и почему у родителей-левшей три четверти детей оказываются правшами. Когда я только подходил к этой проблеме, еще будучи аспирантом, у меня было чувство, что любая генетическая модель ведущей руки должна почерпнуть что-то из моделей других обусловленных генетически латеральностей. Лишь некоторые были описаны детально, но только что появившиеся данные об iv-мышах казались как раз тем, что я искал, и предполагалось, что параллельная модель наследования ведущей руки у людей могла бы соответствовать данным. Поэтому тогда я поэкспериментировал с геном (строго говоря, аллелью), который я назвал С (от слова «случай») и который в удвоенном виде дает пятидесятипроцентную вероятность оказаться правшой или левшой. Это не только является аналогом iv-гена у мышей, но и имеет сходство с эффектами флуктуирующей асимметрии, лежащей в основе симметрии и асимметрии во всех биологических системах (см. главу 5). Наряду с геном С моя модель включала и ген D (от слова «декстральный»), удвоенное количество которого всегда ведет к тому, что человек оказывается правшой[243].
Однако остается вопрос: что происходит с теми, у кого один ген D и один C? Хотя применительно к мыши единственный iv-ген равносилен двойным нормальным – это называется «рецессивный ген» – похоже, в отношении ведущей руки это не так. Некоторые математические расчеты вскоре показали, что если ген C был рецессивным, то модель не соответствовала обширным данным, полученным в ходе изучения семейной предрасположенности к лево- и праворукости, и модель получалась не лучше, чем моделирование другого распространенного типа, то есть доминантного. Модель, однако, соответствовала данным, полученным в ходе изучения семей и близнецов, если два гена, D и C, были дополнительными, или кодоминантными, что значит, что носители каждого из этих генов занимали промежуточное положение между носителями двух генов D или двух генов C. В этой модели обладатели генотипа DD не имели шанса оказаться левшами, у людей с генотипом CC шанс стать левшой составлял 50 %, а с генотипом DC – 25 %.
При всей своей простоте эта генетическая модель может объяснить многие характерные черты лево- и праворукости в семьях и у близнецов. К примеру, у близнецов право- или леворукость легко объясняется примерно так же, как положение сердца у iv-мышей. У близнецов с генотипом DD нет никаких проблем, потому что DD всегда ведет к праворукости, оба близнеца – правши, и так во всех парах таких близнецов. Однако в парах близнецов с генотипом CC у каждого есть пятидесятипроцентная вероятность оказаться левшой, это происходит в результате флуктуирующей асимметрии – биологического шума. Вероятность составляет пятьдесят процентов для каждого из близнецов в отдельности, как если бы каждый отдельно бросал монетку. В четверти случаев обоим близнецам выпадает орел, в четверти – решка. Именно эти последние и окажутся «разнорукими». Однако доля близнецов с генотипом СС – лишь несколько процентов. Для более многочисленных близнецов с генотипом DC с математической точки зрения ситуация сложнее, потому что у каждого есть один шанс из четырех оказаться левшой. Это значит, что примерно в трети пар DC-близнецов один окажется правшой, другой – левшой. Принимая во внимание, что DD-близнецов больше, чем DC, а их в свою очередь больше, чем CC, находим, что от 10 до 20 пар идентичных близнецов окажутся «разнорукими» – один близнец будет правшой, другой – левшой.
Теперь посмотрим, как модель объясняет распределение правшей и левшей в семьях и, в частности, почему у родителей-правшей могут быть дети-левши, а также почему дети двух левшей, как правило, оказываются правшами. Если родители-правши оба носители генов DD, то, поскольку у них только D-гены, их дети тоже будут только с D-генами, и потому должны оказаться носителями генов DD и, следовательно, правшами. Что, однако, оставляет в стороне 75 % людей с генами DC и 50 % с генами CC, оказавшихся правшами. Что касается правшей в целом, большинство из них должны быть носителями генов DD, но часть окажутся с генами DC и некоторые – с генами C. Таким образом, оба родителя-правши могут быть с генами C, а их дети – с генами DC, а иногда даже CC, а дети с DC и CC генами могут оказаться левшами. Поэтому правши не передают признак потомству, они не «чистопородны». Противоположное верно в отношении родителей-левшей. Единственное, что можно сказать определенно – у них точно нет генов DD, однако они могут быть с генами DC или CC. Проще рассмотреть ситуацию, когда оба родителя – носители генов CC. Каждый родитель несет только гены C, поэтому их дети получат только гены C и будут с генотипом CC, и с вероятностью 50 % окажутся левшами. Среди родителей-левшей, однако, генотип CC встречается реже, чем DC. Большинство родителей-левшей – с генотипом DC, и поэтому многие их дети получат ген D, а если дети – DC или даже DD, то они вероятнее всего или даже наверняка будут правшами. Это значит, что многие дети двух родителей-левшей тоже будут левшами, но доля их будет менее 50 %, как было бы в случае, если оба родителя – носители генотипа CC. Систематическая обработка данных показала, что левшами оказываются от четверти до трети детей, оба родителя которых были левшами. Значит, как и правши, левши не «чистопородны», лишь меньшая часть их детей оказывается леворукими, но большинство – правшами. Если же один из родителей правша, а другой – левша, ситуация окажется чем-то средним между случаями, когда родители оба правши или оба левши[244].
Хотя эта генетическая модель относительно проста, она объясняет два факта: что леворукость латентно сохраняется в семьях и что у идентичных близнецов часто оказываются разными ведущие руки. В следующей главе мы также увидим, что эта модель объясняет и связь между ведущей рукой и областями мозга, контролирующими речь и язык.
К этому моменту уже должно быть ясно, что я считаю, что люди оказываются левшами или правшами из-за своих генов. Определенно, это кажется самым экономным способом обработать массу фактов, из которых иначе трудно извлечь какой-то однозначный смысл. Конечно, из того, что модель хорошо подходит, не следует, что она обязательно верна. В современном мире настоящее доказательство того, что ведущая рука определяется генетически, появится, если будет выделена последовательность в ДНК, систематически отличающаяся у праворуких и леворуких. Как ни странно, очень немногие всерьез задумываются о проведении такого исследования. К счастью, эти немногие ведут поиск, и можно надеяться, что в не столь отдаленном будущем этот поиск увенчается успехом[245].
У генетических моделей множество вариантов применения, но в конечном счете они говорят нам лишь о последовательностях в ДНК. Однако они не могут сказать нам, что именно делает из нас левшей или правшей. Должна существовать длинная цепь случайностей, которая простирается от той или иной последовательности в ДНК до того, какой рукой мы пишем – левой или правой. Что-то в этой цепи создает разницу между двумя руками, и в результате они оказываются настолько разными, что большинство из нас всю жизнь предпочитают пользоваться лишь одной рукой для таких сложных и требующих хорошего навыка задач, как письмо. Подобный подход, однако, может оказаться ошибочным, потому что нет сомнений, что если у нас не будет выбора, то мы сможем научиться владеть другой рукой. Другая, неглавная рука связана с чрезвычайно исполнительным мозгом, который при наличии существенной мотивации способен научиться многим сложным навыкам. В самом деле, как правило, недоминантная рука вполне способна свободно печатать, играть на пианино и выполнять множество других задач. Она может играть и главенствующую роль, если ведущая рука повреждена из-за несчастного случая или ранения. Поэт Уолт Уитмен говорит об этом в нескольких строках, написанных вскоре после Гражданской войны в США, на которой он служил санитаром:
«30 апреля 1866. Вот один важный факт, по которому можно судить о характере американских солдат в этой только что завершившейся войне. Джентльмен из Нью-Йорка уже некоторое время назад взялся собирать образцы почерка у солдат, потерявших в боях правую руку и после этого научившихся писать левой… Я просмотрел некоторые из этих образцов. Немалое их количество выполнено превосходно. Все – хорошо. Почти во всех случаях почерк с наклоном назад, а не вперед. Один из образцов написан солдатом, потерявшим обе руки, – он держал перо ртом».
Даже если, как в случае с солдатами, о которых говорит Уитмен, необходимость может заставлять нас писать не ведущей рукой, обычно что-то подталкивает нас к использованию ведущей руки. И здесь нам следует различать два отдельных, но связанных между собой аспекта, касающихся ведущей руки. Я правша, но определяется это двумя разными способами. Если попросить меня положить руки на стол и очень быстро постучать только правым указательным пальцем или только левым указательным пальцем, то правой рукой я сделаю это быстрее и точнее, моя правая рука более умелая в сравнении с левой. Или положите на стол передо мной конфету – и я возьму ее правой рукой. Хотя я мог бы сделать это и левой рукой – она достаточно умелая для такой простой задачи. И все же я воспользуюсь правой рукой. Я предпочитаю использовать правую руку. И как же связаны навык и предпочтение? Если моя правая рука более умелая, легко понять, что я предпочитаю ее использовать, но она может быть более умелой как раз потому, что я предпочитаю именно ее, и становиться ловкой в результате более частой практики[246].
Далеко не просто понять, что стоит на первом месте, навык или предпочтение, потому что у большинства людей навыки и предпочтения тесно связаны. Однако наблюдения за аутичными детьми подсказали мне и моим коллегам, как могут разделяться навыки и предпочтения. Мы начали с определения предпочитаемой руки, попросив детей выполнить несколько простых, не требующих особых навыков действий, например взять конфету. Большинство детей с аутизмом предпочитали делать это правой рукой, как и все прочие дети. Затем мы измеряли уровень владения каждой рукой с помощью стандартного теста, в котором необходимо как можно быстрее переставить палочки из одного ряда ячеек в другой. Как и все прочие дети, дети с аутизмом лучше владели какой-то одной рукой. Но большим отличием от всех остальных детей оказалось то, что половина детей с аутизмом лучше владела правой рукой, а другая половина – левой. Когда мы совместили данные о предпочтениях и навыках, то оказалось, что у детей с аутизмом, в отличие от всех остальных детей, не прослеживается никакой связи между навыком и предпочтением. Возможно, это говорит о том, что лежит в основе. Только предпочтение демонстрирует явное преобладание правой руки и то, что большинство детей – правши. Оценка уровня владения руками не показала преобладания одной из них: половина лучше владеет правой рукой, половина – левой. Из этого вытекает, что наша право- или леворукость обычно начинается как предпочтение пользоваться правой рукой, что впоследствии приводит к тому, что правой рукой мы владеем лучше. У детей с аутизмом эта связь нарушена, и, хотя явное предпочтение правой руки существует, оно не ведет к тому, что правая рука оказывается более умелой. Иными словами, предпочтение возникает до навыка[247].
Разницу между навыком и предпочтением можно заметить и у людей с поражениями рук. В 1903 году Пьероччини описал девочку, родившуюся с нормальной левой рукой и лишь с зачатком правой. Попытки научить ее писать левой рукой оказались на удивление безуспешными. Тогда ее попытались научить писать, привязывая карандаш к неразвившейся правой руке – и она тут же без труда освоила этот навык. Более свежий пример, иллюстрирующий тонкую связь между навыком и врожденным предпочтением, сообщил мне Майкл Питерс, эксперт по латерализации, описав случай, с которым имела дело его жена Анна, социальный работник[248].
У женщины от рождения была деформирована правая рука – по словам Анны, она напоминала плавник из сросшихся вместе не развившихся пальцев. Она писала левой рукой. Однако Анна заметила, что правой рукой она жестикулирует во время разговора, поправляет ею волосы или оглаживает юбку. Женщина сказала, что считает себя правшой, потому что предпочитает, когда это возможно, пользоваться правой рукой.
Тот факт, что доминирование той или другой руки изначально определяется предпочтением, а не навыком, может кое-что сказать о том, какая часть мозга отвечает за это. Кора головного мозга контролирует столь много сложных задач, что многие полагают, что праворукость, должно быть, как-то связана с левым полушарием. Однако это не тот случай. Если кто подумает о невозможном и решит, что право- и леворукость не связаны с корой мозга, то он сразу же начнет искать эту связь с каким-либо еще отделом мозга. Например, возможно, что доминирующая рука определяется одной из самых примитивных частей мозга – стволом, лежащим в основании головного мозга и соединяющим его со спинным мозгом. Идея восходит к экспериментам с лабораторными крысами, которым давали высокие дозы наркотиков, таких как амфетамины, что вызывало стереотипное поведение – упорно повторяющуюся последовательность действий – мытье лапок или причесывание усиков. Некоторые крысы двигались по кругу, и чтобы они не утыкались в углы клетки, эксперименты проводились в полукруглой корзине, где они кружились, пока не кончалось действие наркотика. Через некоторое время выяснилось, что одни крысы постоянно движутся по часовой стрелке, а другие – против. Подробный фармакологический анализ показал, что амфетамин влияет на концентрацию нейротрансмиттера дофамина и что у нормальных крыс количество дофамина в левой и правой части ствола мозга различно. Амфетамин усиливал эту – обычно небольшую – разницу, делая одну из сторон доминирующей, и поэтому животное поворачивалось лишь в одном направлении[249].
Склонность крыс, получавших амфетамины, двигаться по кругу может быть связана с таким феноменом поведения людей, как стремление следовать по кругу. В 1885 году Эрнст Мах «узнал от отставного армейского офицера, что в темные ночи или в метель войска движутся примерно по кругу и едва не возвращаются к началу пути, хотя все время полагали, что движутся вперед». В ранних экспериментах людям закрывали глаза повязкой и предлагали пройти по прямой, чтобы узнать, не отклонятся ли они в сторону. Большинство отклонялись, совершая большие круги, и в итоге возвращались к месту старта – вероятно, это объясняет и печальные случаи зимой, когда герой выходит в буран за помощью, так и не возвращается, а после бури его находят где-то поблизости. Рис. 7.6 (a, b, c) показывает, как именно такое может произойти. Один из моих любимых примеров – эксперимент, который в 1928 году проделал Шаффер: завязав глаза испытуемым, он посадил их за руль и велел ехать прямо по бесконечной плоской равнине Канзаса. Но на самом деле они ехали гигантскими кругами (рис. 7.6 e). То же произошло и с пловцами, с закрытыми глазами плававшими в озере (рис. 7.6 d).
В современных исследованиях склонность сворачивать изучают с помощью маленького датчика движения, прикрепленного к поясу испытуемого. На протяжении всего дня люди более склонны сворачивать в одном направлении, правши – по часовой стрелке, левши против. Поскольку у людей, как и у лабораторных крыс, концентрация дофамина в двух полушариях мозга различна, вероятно, механизм, заставляющий сворачивать, один и тот же. У людей есть и другие проявления склонности поворачивать. Одно из самых ранних – шейный тонический рефлекс: положите новорожденного на спину, и голова спонтанно склонится вправо или влево, в большинстве случаев – вправо. Может ли и ведущая рука быть одним из проявлений склонности сворачивать? Разумеется, может. Сядьте за стол, поставьте прямо перед собой стакан с водой, но так, чтобы рука до него не доставала, а потом попытайтесь взять его. При этом следите внимательно за мышцами плеч и верхней части туловища – и вы заметите, что, когда ваша рука тянется к стакану, верхняя часть тела поворачивается. Выбор руки вполне может быть как-то связан с примитивными склонностями к сворачиванию, хотя еще не ясно, как именно[250].
Рис. 7.6. Примеры движения по спирали (склонности сворачивать) у людей и животных. a. Лошадь с санями без возницы на замерзшем озере, следующая от точки 1 к точке 2. b. Три человека, идущих в тумане от сарая в центре, стремящихся к точке 2. c. Два рыбака, пытающиеся в тумане доплыть с острова 1 к точке 2. d. Пловец с завязанными глазами в озере. e. Водитель с завязанными глазами на равнине Канзаса.
Феномен ведущей руки, будь он результатом развития навыка или предпочтения, интересует психологов не только сам по себе, но и потому, что он тесно связан с великим открытием Викторианской эпохи, сделанным Даксом и Брока, – что у большинства людей речь связана с левым полушарием мозга. Кажется удивительным, что Чарльз Дарвин, так интересовавшийся феноменом ведущей руки, не проявил интереса к открытию Брока, о котором врач Уолтер Мозон писал в 1866 году:
«Я полагаю, не будет преувеличением сказать, что за много лет никакие наблюдения не вызывали в мире медицины столь пристального и всеобщего интереса, как найденная М. Брока связь между утратой речи и правосторонним параличом».
Тем не менее Дарвин, кажется, ничего не писал о Брока и латерализации мозга ни в опубликованных работах, ни в частной переписке. Это действительно заслуживает сожаления – ведь из тех, кому интересно развитие речи и контролирующая роль мозга, едва ли найдется человек, которому не хотелось бы знать, что Дарвин думал на этот счет. О различии между двумя полушариями мозга пойдет речь в следующей главе[251].
8. Левый мозг, правый мозг и мозг в целом
Мы уже знакомы с этими людьми – с Луи Пастером, сделавшим фундаментальное открытие об асимметричности биологических молекул, и Эрнстом Махом, чей философский мысленный эксперимент показал, что только асимметричные системы могут различать правое и левое. Теперь они помогут нам лучше разобраться в асимметрии головного мозга – не своими теоретическими работами или экспериментами, но тем, что каждый из них на вершине научной карьеры и в середине жизни получил серьезные повреждения одной половины мозга. Признаки заметны, если внимательно присмотреться к рис. 8.1. Пастер держит трость в правой руке, тогда как левая демонстрирует типичные признаки паралича. На фотографии Маха распознать их труднее. Левая рука может показаться странной, но на самом деле она крепко держит трость, которая ни разу не покидала его руки, даже во время кремации. Ненормальна правая рука. Почти полностью парализованная, она, вероятно, была тщательно кем-то уложена, скорее всего, преданной женой Маха Людовикой (Луизой). Еще одна ненормальность почти не заметна – правый уголок рта слегка опущен, возможно, из-за частичного паралича лицевого нерва[252].
19 октября 1868 года 45-летний Луи Пастер собирался на выступление в Академии наук в Париже. В то утро он чувствовал себя необычно: он ощущал покалывание во всей левой половине тела. Тем не менее он обсуждал работу о шелковичных червях итальянского ученого Салимбени, и голос его звучал как всегда громко и уверенно. Домой он вернулся вместе с коллегами, пообедал и в девять часов лег спать. Однако вскоре ему стало хуже, вернулись утренние симптомы, появились затруднения в речи. Способности говорить хватило, чтобы позвать на помощь, но к тому времени его левые нога и рука оказались парализованы. Врачи, несмотря на то что их пациент был главой современной научной медицины, обратились к проверенному веками средству – пиявкам. Как ни удивительно, но за этим последовало некоторое улучшение, вернулась речь, но паралич усилился, и в течение суток вся левая половина тела оказалась полностью неподвижной. Речь, однако, улучшилась, и Пастер желал говорить о науке, жалуясь при этом на свою левую руку: «Она как свинцовая, если бы ее можно было отрезать». Пастер пережил кровоизлияние в мозг, поразившее правое полушарие и потому приведшее к параличу левой половины тела. Медленно, в течение нескольких месяцев, движение в левой половине тела частично возвращалось, и к январю 1869 года он снова смог ходить. Однако он так и не смог больше по-настоящему владеть левой рукой, и ему нужны были помощники, чтобы проводить эксперименты. Разум его, по-видимому, нисколько не пострадал из-за этого случая, и впереди его ждали долгие годы творческого труда, в том числе работы о шелкопрядах, пивоварении, сибирской язве и создание вакцины от бешенства[253].
Рис. 8.1. Слева: Пастер летом 1892 года, в возрасте 69 лет. Справа: Мах в 1913 году, ему около 75 лет
Эрнст Мах пережил удар в июле 1898 года, в возрасте 60 лет, ему было на 15 лет больше, чем Пастеру. Позже он сам описал этот случай:
«Я ехал в поезде, когда вдруг заметил, не ощущая никаких других симптомов, что мои правая рука и нога полностью парализованы; паралич не был постоянным, поэтому время от времени я мог снова ими шевелить будто бы нормальным образом. Спустя несколько часов паралич сделался постоянным и охватил также мышцы правой половины лица, что не позволяло мне говорить иначе как тихим голосом и с некоторым затруднением».
Старший сын Маха Людвиг перевез отца обратно в Вену, где последовала долгая реабилитация, но не выздоровление. Значительная ограниченность в подвижности осталась навсегда. Жена Маха Луиза помогала ему мыться, одеваться и есть; без посторонней помощи он не мог выйти из дома или своего сада и больше почти никуда не выезжал, хотя и не переставал работать. Он стал «координатором проектов», его сын Людвиг в буквальном смысле стал его правой рукой, занимаясь экспериментами в домашней лаборатории, где они вдвоем иногда проводили по несколько дней подряд. Мах всегда много публиковался, и после удара это не изменилось. Поскольку он был правшой, он не мог больше свободно пользоваться пером или карандашом, но не перестал из-за этого писать. За несколько дней он научился печатать на машинке левой рукой. В последующие тринадцать лет он опубликовал или существенно переработал шесть книг и написал дюжину новых статей. Иное дело лекции. Паралич лицевых мышц означал, что публичные выступления становились для Маха и его слушателей настоящим мучением, и вскоре он отказался от них. Мах, всегда оставаясь философом и внимательным наблюдателем, постоянно следил за своим состоянием:[254]
«Очень часто… я чувствовал стремление сделать что-то правой рукой, и мне приходилось задумываться о невозможности такого действия. Это же было и причиной посещавших меня живых сновидений, в которых я играл на пианино и писал, удивляясь легкости, с которой я пишу и играю, и просыпаясь с чувством горького разочарования. Случались и моторные галлюцинации. Я часто думал, что чувствую, как сжимаю и разжимаю кулак парализованной руки, но при этом казалось, что движение словно стеснено свободной, но жесткой перчаткой. Но достаточно было одного взгляда, чтобы убедиться, что ни малейшего движения нет».
На первый взгляд поражение мозга, постигшее этих двух знаменитых ученых, не слишком много говорит нам о двух половинах мозга. Брока за несколько лет до того, как Пастер перенес удар, убедительно показал, что речь, как правило, связана с левым полушарием мозга. Однако Мах, несмотря на правосторонний паралич, вызванный поражением левого полушария, не испытывал никаких проблем с языком, если не считать некоторых трудностей из-за паралича лицевых мышц, тогда как Пастер, страдавший параличом левой стороны тела из-за поражения правого полушария, время от времени утрачивал речь.
По контрасту с этими случаями поражение мозга может проявляться трудноуловимым, незаметным образом, симптомы могут возникать и пропадать, как это было с другим знаменитым пациентом, писателем Вальтером Скоттом. Впервые он заметил такие симптомы 5 января 1826 года, в возрасте 54 лет. В дневнике он записал: «Очень встревожен. Я гулял до двенадцати… а затем сел за работу. К своему ужасу и удивлению, я осознал, что не в состоянии ни писать, ни говорить, но принимал одно слово за другое и писал чушь». На следующий день он написал: «Моя проблема развеялась». Проблемы с чтением и письмом вернулись в 1829 году, а 15 февраля 1830 года возникли проблемы и с речью, и неделю спустя он записал: «Анна [Скотт] могла бы рассказать вам об ужасном состоянии, которое испытал я в минувший понедельник; оно продолжалось около пяти минут, на это время я утратил способность к артикуляции, или, скорее, произносить то, что мне хотелось сказать». Приступ имел последствия, и позже Скотт замечал: «Похоже, я говорю с затруднением». Во время приступа в апреле 1831 года «правая сторона лица была слегка искажена, а правый глаз остановился», что указывает на поражение левой стороны мозга. В начале 1832 года, когда Скотт был в Неаполе, случился кризис, во время которого «поражение мозга проявилось всерьез, и он погрузился в собственный внутренний мир».
В июне 1832 года, близ голландского Неймегена, в конце изматывающего путешествия на дилижансе домой, Скотт пережил самый серьезный апоплексический удар. Кончина близилась, и он хотел умереть дома в Шотландии, в Эбботсфорде. В июле 1832 года, в почти бессознательном состоянии, он проделал путь на корабле из Лондона в Ньюхейвен в сопровождении молодого врача Томаса Уотсона, описавшего случай Джона Рида, с рассказа о котором начинается эта книга. 21 сентября 1832 года Скотт скончался, а спустя два дня было проведено посмертное исследование его головы. Если правое полушарие мозга было совершенно нормальным, то левое имело серьезные повреждения, в частности три кистозных области, а также зоны размягчения. Болезнь Скотта, с ее медленным проявлением и разнообразным набором симптомов, ярко контрастирует с единичными разрушительными приступами, случившимися с Пастером и Махом. Это показывает, что поражение левой половины мозга поражает не всегда, и не только речь, но может также влиять на способность писать и читать. Действительно, у пациентов обнаруживаются любые сочетания дефектов, связанных с языком, возможно, самый странный из них – «алексия без аграфии», при которой пациенты могут прекрасно писать, но не способны прочитать то, что они написали[255].
Хотя расхождения между случаями Скотта, Пастера и Маха могут сбить с толку, подобные проявления совершенно типичны для неврологии и психоневрологии. В некоторых случаях области поражения мозга огромны, но пациенты не испытывают явных психических отклонений, тогда как у других, с крошечными, строго локализованными поражениями, проявления болезни катастрофичны. Это важный урок. Проблема любого исторического анализа – взгляд в прошлое с позиций нового знания, из-за чего наши предшественники кажутся глупцами, не замечающими того, что для нас очевидно. Брока и Дакс несомненно были правы, когда заметили, что у пациентов, страдающих постоянными серьезными проблемами с речью, как правило, чаще поражена левая, а не правая половина мозга, но это не значит, что все пациенты с поражениями левого полушария испытывают проблемы с речью или что такие проблемы, особенно временные затруднения, подобные тем, какие были у Пастера, не могут возникать при поражениях правого полушария.
Часто спрашивают, почему до Дакса и Брока ни один выдающийся врач не связывал утрату речи и повреждения левой половины мозга. Существует курьезная теория, что асимметричным мозг стал только к середине XIX века из-за распространения всеобщей грамотности, а потому до этого просто нечего было обнаруживать. Суждение остроумное, но почти наверняка неверное, потому что неграмотные пациенты с поражением левого полушария демонстрировали такие же симптомы утраты речи, как и грамотные.
Подходы к пониманию того, что речь связана лишь с одной половиной мозга, появились задолго до Дакса и Брока. Греческий врач Гиппократ в V веке до н. э. отмечал случаи временной утраты речи, следовавшие за приступом эпилепсии «с параличом руки и правой стороны тела», но связь эта не была продолжена. И не из-за того, что врачи не обращали внимания на проблемы с речью или на то, какая сторона мозга была поражена у их пациентов. Сэр Томас Уотсон в пятом издании своего руководства по медицине 1871 года признавал, основываясь на собственных клинических записях, связь между утратой речи поражением левой половины мозга (он, конечно, отметил это в связи с последней болезнью сэра Вальтера Скотта). В самом деле, связь между правосторонним параличом и утратой речи замечали даже романисты. Гёте в романе «Годы учения Вильгельма Мейстера», опубликованном в 1796 году, за сорок лет до доклада Дакса в Монпелье, писал: «Внезапно отца поразил апоплексический удар, у него отнялась правая сторона и речь стала невнятной». Если кому-то нужен более свежий пример, то Дженет Уинтерсон в романе «Симметрия пола» (Gut Symmetries) пишет: «Ночью у Дэвида случился удар. К утру правую сторону его тела разбил паралич. Он не мог кричать. Он не мог говорить». Если и Гёте, и Уинтерсон смогли заметить связь между утратой речи и правосторонним параличом, как получилось, что только Марк Дакс первым заметил, что у пациентов с афазией, как правило, парализована правая сторона тела, а следовательно, поражено левое полушарие мозга?[256]
Чтобы выяснить это, Артур Бентон проверил опубликованные истории болезни в трех трактатах о заболеваниях головного мозга, опубликованных в 1761, 1825 и 1829–1840 годах Морганьи, Буйо и Андралем. В общей сложности у 46 пациентов было поражено одно полушарие мозга, но лишь некоторые «теряли речь». В табл. 8.1 отражены различные комбинации.
Таблица 8.1. Поражение мозга и утрата речи
Закономерность достаточно заметна. Хотя большинство пациентов с поражением левой стороны мозга теряют речь (71 %), теряют ее и некоторые пациенты с поражением правого полушария (20 %). Иначе говоря, у трех четвертей пациентов с утратой речи поражена левая половина мозга, и если бы этот эффект был делом случая, следовало бы ожидать, что таких будет половина[257].
К сожалению, это не было так очевидно Морганьи, Буйо и Андралю, потому что они анализировали относительно небольшие группы из десяти, двадцати пяти и одиннадцати пациентов соответственно. Исследование этих небольших выборок, а не всей группы не позволяло получить статистически значимые результаты. Вопросу статистической значимости стоит уделить внимание: расчеты показывают, что для получения хотя бы на 90 % достоверных статистических различий, необходима группа минимум из 40 случаев. Дакс был первым, кто систематически проанализировал большое количество случаев[258].
Часть проблемы, даже сегодня, заключена в том, что под «утратой речи» скрывается плохо определяемая смесь состояний, многие из которых никакого отношения не имеют к связи речи и языка с левым полушарием мозга. В конечном счете если взять Пастера и Маха, то к Маху вполне применимо определение «утрата речи», поскольку он не мог говорить внятно, а Пастера можно и не учитывать, потому что у него эта проблема была только временной. Неврология и нейропсихология поэтому сосредоточены на определении и классификации конкретных проблем, которые испытывают отдельные пациенты с поражениями мозга. Даже термин «утрата речи» вызывает вопросы, так как не позволяет различать, связана ли проблема просто с голосовыми возможностями и произнесением слов или дело в более общих проблемах, захватывающих все лингвистические компоненты. Детальный анализ выявил множество отдельных синдромов, и некоторые из них мы вскоре рассмотрим.
Для неврологов времен Брока положение осложнялось не только широкой и неопределенной трактовкой «утраты речи», но и тем, что так же обстояло дело и с поражением мозга. Требовались пациенты с точными и ограниченными наборами симптомов и такими же точными и ограниченными зонами поражения мозга. То есть такие, как 75-летняя женщина, поступившая в 1875 году в кантональную больницу Женевы с параличом правой руки и ноги и почти полной потерей речи: «Неспособная говорить, она произносила лишь отдельные слоги без какого-то смысла – “э, э, ах, ой, э, баба, ах! Ба, ба, за-за, я”. Однажды она пробормотала: “мама”». Это было единственное членораздельное слово, которое она произнесла. В конце концов она скончалась от пневмонии, а посмертное исследование ее мозга показало, что поражен был на удивление малый участок, ограниченный лобной долей левого полушария (рис. 8.2). Симптомы и место поражения очень походили на те, что обнаружил у своих пациентов Брока. Ныне этот синдром известен как афазия Брока – то есть утрата владения речью[259].
Вскоре выяснилось, что не все афазии представляют собой афазию Брока, в результате поражения левого полушария возникают и другие симптомы. Как это часто бывает, врачи описывали такие симптомы еще до того, как для них были придуманы названия. Например, в 1834 году в Дублине врач Джонатан Осборн описал 26-летнего студента Тринити-колледжа, перенесшего апоплексический удар, от которого пострадало левое полушарие мозга:
«Он говорил, но его бормотание было почти невозможно понять, хотя его и не разбил паралич, и бормотал он множество слогов с явной легкостью. Когда он приезжал в Дублин, из-за его необычного жаргона в отеле, где он останавливался, его принимали за иностранца, а когда он отправлялся в колледж, чтобы повидаться с другом, он не мог объяснить привратнику свое желание и добился успеха, лишь указав на комнату, которую занимал его друг».
Осборн систематически проверял его состояние с помощью специального текста. Любопытная смесь звуков, напоминающих осмысленные, которые он произносил, очень напоминает те, что произносят пациенты, страдающие так называемой жаргонафазией или афазией Вернике:
«Чтобы зафиксировать странные искажения языка, которые возникли у пациента, я выбрал следующие фразы из Уставов Коллегии врачей: “Коллегия вправе проверять или не проверять любого Лицензиата до его приема в членство в той мере, в какой сочтет нужным”. Когда я попросил его прочесть это вслух, он читал это следующим образом: “Что в темомать трутудоду и большаков иль эмидрата айнайнкрастай местерайт для кетры тотомбрайдей, и от мышьяцев провенять…”»
Рис. 8.2. Левое полушарие мозга 75-летней женщины, страдавшей правосторонним параличом и полной утратой речи. Передняя сторона мозга слева, а пораженная область, «светло-желтое размягчение», ясно видно примерно на трети прямой, проходящей через заднюю часть лобной доли
Этот язык, хотя и звучал странно, обладал своеобразной поэтической красотой, напоминающей «Поминки по Финнегану» Джеймса Джойса. Многие пациенты, испытывающие проблемы с речью, могут частично восстанавливаться – еще одна сложность для нейропсихологов, пытающихся понять эти проблемы – именно это и показала спустя восемь месяцев проверка состояния пациента Осборна:[260]
«Повторяя за мной тот же фрагмент Устава Коллегии врачей, он произносил его так: «Вправе во власти Коллегии не ариатинировать или нет любого Лицензиата в связи с его допуском к сочленительству, как они сочтут нужным». Несколько позже он повторил Устав за мной совершенно ясно, за исключением слова «вправе», которое постоянно произносил искаженно».
Еще один вариант проблем с речью из-за поражения левой стороны мозга обнаружился у другого дублинского пациента, поступившего в Больницу доктора Стивенса. 17 марта 1832 года 23-летний трубочник Джеймс Фейген в пьяной драке с драгуном получил удар саблей в голову. Он потерял сознание, кость была проломлена, мозг обнажился. После нескольких операций Фейген был выписан 15 апреля, в значительно лучшем состоянии. Его врач записал:
«Фейген смог возобновить занятие своим ремеслом трубочника. Я осматривал его 20 июля 1832 года, здоровье его в прекрасном состоянии, но его память – на слова, но не предметы – серьезно повреждена; он сказал мне, что «знает все так же хорошо, как всегда, но не может назвать ни одного предмета». Я показал ему пуговицу, он засмеялся и сказал: «Я прекрасно знаю, что это, это… ба, ба… ба – ох! Я не могу произнести, но вот оно», – и указал на пуговицу на своей куртке.
После больницы Фейген продолжал вести беспорядочную жизнь. Он часто напивался, и после запоя 22 августа «утратил почти всю силу правой руки и кисти, а правая сторона его лица явно была парализована». Два дня спустя прорвался нарыв на месте первоначальной раны, и он снова был здоров, хотя слабость в левой руке и ноге указывала, что левая половина его мозга повреждена. У него по-прежнему были проблемы с подыскиванием слов, такое состояние сегодня называют «номинальная афазия» или «аномия»»[261].
Он не в состоянии произносить верные названия, называя почти все предметы неправильно, хотя он способен совершенно точно описать их использование, например часы, ворота, книгу, трубку и т. д…примечательно, однако, что в тот момент, когда он использует неправильное слово, он сознает это, и всячески стремится исправить ошибку… Он считает до пяти на пальцах, но не может произнести слово «палец», хотя и не раз пытался. Поэтому он называет свой большой палец «приятель». Когда он хотел сказать «овсянка», он говорил – и неизменно говорит – «простокваша», но тут же понимал свою ошибку и говорил: «Я знаю, что это не так называется».
Хотя существуют разные виды проблем с речью и афазий, все они, как правило, связаны с поражениями левого, а не правого полушария. Ключевой вопрос нейропсихологии – точно определить, что такого делает левое полушарие, чего правое сделать не в состоянии. Найдены уже десятки отличий, но в большинстве случаев преимущество левого полушария оказывается, скорее, относительным, а не абсолютным, то есть в некоторых функциях левое полушарие лучше правого, но и правое в каждой конкретной функции кое на что способно. Если различие лишь относительно, то нет никакого смысла в том, чтобы поражение зоны Брока (только с левой стороны) могло бы вызвать почти полную утрату способности говорить. Поэтому ученые применяют сканирование мозга, чтобы обнаружить задачи, которые способно выполнить только левое полушарие. Похоже, что часть речевых способностей, полностью зависящая от левого полушария, – это синтаксис или грамматика. Взгляните на два предложения. Какое из них неправильно?
Глокая куздра бодланула бокра.
Глокая куздра бодланули бокра.
Хотя оба из них бессмысленны и слова в них ничего не значат, очевидно, что второе предложение грамматически неправильно, глагол во множественном числе сочетается с существительным в единственном числе. В эксперименте, который Петер Индефрей и его сотрудники провели в Неймегене, подопытные во время сканирования мозга определяли, правильно построена фраза или нет. Вся активность происходила только в левом полушарии мозга, в области, в значительной мере перекрывающей зону Брока (см. рис. 8.3)[262].
Поражение левого полушария может также вызывать проблемы, не связанные с речью. В состоянии под названием «апраксия» (точнее, в идеаторной и идеомоторной апраксии) пациенты испытывают трудности со сложными движениями. Это связано не с параличом или слабостью, а происходит из-за невозможности контролировать части тела. Взять самое обычное действие – зажечь спичку. Последовательность участвующих в этом движений в полной мере можно понять, лишь попытавшись запрограммировать робота для выполнения такой задачи. Коробок, зажатый в одной руке, должен быть правильно ориентирован. Спичку, зажатую в другой и повернутую нужным концом, следует прижимать к коробку с определенным давлением, не слишком сильным, чтобы спичка не сломалась, но и не слишком слабым, иначе спичка не загорится. Далее спичкой следует чиркать по коробку с определенной скоростью, если медленнее, чем надо, то спичка не вспыхнет, если быстрее, выйдет просто щелчок. Наконец, спичка должна быть отведена от коробка сразу же, как вспыхнет, чтобы коробок не загорелся. Пациенты с апраксией испытывают трудности при выполнении таких задач, либо потому, что не в состоянии концептуализировать идею движения, либо потому, что не могут воплотить идею на практике. Киннер Уилсон прекрасно подытожил это в 1908 году, описывая французскую пациентку:
Рис. 8.3. Стрелками указана область левого полушария, активная во время обработки грамматики (синтаксиса)
«Ее попросили поднять правую руку, но, положив руку поперек тела, спрятав кисть в левой подмышке и предприняв энергичные, но безнадежные усилия, она сказала жалобно: «Я хорошо понимаю, что вы просите меня сделать, но я не в состоянии», и в этом и есть суть дела».
Хотя апраксия связана с поражением левого полушария мозга, проблемы, как правило, затрагивают и правую, и левую руки. Таким образом, в левом полушарии должны вырабатываться правила осуществления сложных движений обеими руками. Поскольку речь и письмо также представляют собой быстрые, изощренные и тщательно скоординированные движения, возможно, это говорит о фундаментальной связи между движением и языком, функциям, связанным с левым полушарием, так как обе основаны на «грамматике». «Выражение», описывающее зажигание спички, строится из отдельных движений, «слов» двигательных актов, которые, подобно словам в предложении, оказываются осмысленными, только если следуют в должном порядке и форме. Расположите их иначе, и результатом будет полная бессмыслица[263].
До сих пор в этой главе в основном шла речь о левом полушарии, которое, несомненно, связано с языком и действиями. Если вас интересует, чем же занято правое полушарие, то вы в хорошей компании: множество нейрологов задавались тем же вопросом. Одним из первых был Хьюлингс Джексон, величайший английский невролог, работавший в Национальной клинике неврологии и нейрохирургии, что на Куинс-сквер в Лондоне. В 1874 году он предположил, что «правое полушарие главенствует при воспроизведении образов при распознавании предметов, мест, людей и т. д.», во всем, что мы могли бы сегодня назвать невербальной обработкой данных[264].
Писатели и читатели, увлеченные словами, забывают, что мысль не всегда связана с языком, но часто вместо этого занята обработкой образов, изображений и трехмерного пространства. Представьте себе куб. Сколько у него сторон? Сколько углов? Если одна сторона черного цвета, а все остальные – белого, то сколько белых сторон соприкасаются с черной? Если муравей начинает с одного угла и ползет по граням к самому дальнему по диагонали углу, по каким граням он будет ползти? Такие проблемы решаются не словами, а созданием в уме изображения куба, «мысленного образа», который затем поворачивается, чтобы «увидеть» ответы. Слова участвуют только в том, чтобы задать вопрос и дать ответ. Именно на таких задачах специализируется правое полушарие[265].
Правое полушарие участвует в процессе, который называется восприятием – осмыслением чувственного мира. Он включает не только образы, но и прикосновения, звук, вкус и так далее. Восприятие зрительных образов настолько естественно и моментально, что замечается, лишь когда что-то идет не так. Поражение правого полушария может вызвать визуальную агнозию, при которой пациенты не могут понять, что именно они видят. Глаза их работают нормально, так же как и начальный уровень обработки образов в мозге, так что пациенты видят свет и тень, линии и выпуклости, но не в состоянии объединить эти компоненты в нечто согласованное и осмысленное. Рис. 8.4 может отчасти помочь понять, что испытывают при агнозии. Смотрите на то, что вы видите на нем, и помните, что в слове «видеть» два очень разных значения. Вы без труда увидите белые и черные области на рисунке, но сможете ли вы увидеть в этом рисунке что-то еще? На нем явно что-то изображено, но что именно? Даже сейчас вы, скорее всего, не увидите на нем портрет очень известной персоны, но только потому, что рисунок специально напечатан вверх ногами. Переверните книгу вверх ногами и попробуйте снова. Рисунок специально сделан таким, чтобы на нем трудно было что-то увидеть. Вот несколько подсказок, которые, возможно, помогут. Это человек… старый человек… седоволосый… смотрит прямо в камеру… ученый… самый знаменитый ученый XX века… физик… слово «относительность», возможно, даст окончательный ответ, если вы еще не догадались. В какой-то момент бессмысленные круги вдруг упорядочились, «обрели смысл», и вы «увидели» портрет Эйнштейна. Если вы все еще испытываете затруднения, посмотрите на рисунок издалека, прищурив глаза[266].
Рис. 8.4. Пример зрительного восприятия при агнозии. Детали в тексте
За то время, пока вы не увидите в рисунке Эйнштейна, вы поймете, какие неудобства испытывают пациенты с агнозией. Вы знаете, что там что-то есть, вам известно, что другие люди знают, что это такое, вы даже распознаете все составляющие элементы – но общая картина ускользает. Оливер Сакс прекрасно описал случай пациента доктора П., талантливого музыканта с агнозией:
«– Что это? – спросил я, держа перчатку.
– Можно я посмотрю? – попросил он и, взяв ее у меня, принялся ее изучать.
– Непрерывная поверхность, замкнутая на себя, – заключил он наконец. – Похоже, – он поколебался, – у нее пять выступов, если я верно это называю.
– Так, – осторожно произнес я. – Вы дали мне описание. А теперь скажите, что это такое.
– Какая-то емкость, вместилище?
– Да, – сказал я с той же осторожностью. – И что же она вмещает?
– Вмещает то, что в нее помещается! – со смехом сказал доктор П. – Тут много может быть вариантов. Например, мелочь – как раз отделения для монет пяти разных размеров. Или может…
Я прервал этот бурный поток.
– Не выглядит ли это знакомым? Как полагаете, не может ли в это помещаться, входить внутрь какая-то часть вашего тела?
Никаких признаков узнавания не отразилось на его лице».
Пациенты с агнозией иногда опознают предметы, но справляются с этим обходными путями, например, представляя в уме контуры фигуры. Если контуры смешиваются, например, как на рис. 8.5, где изображения накладываются друг на друга, пациенты с агнозией почти не в состоянии распознать, что изображено на картинке. Такие пациенты испытывают трудности и в том случае, если они видят предмет в необычном, неканоничном ракурсе. Пилу на рис. 8.6 (а) легко опознают даже пациенты с поражением правого полушария, но увидеть ее на рис. 8.6 (b) им куда труднее[267].
Рисунки двумерны, но реальный мир имеет три измерения, что создает особые проблемы для пациентов с поражением правого полушария. Жизнь – это большая трехмерная проблема. Вы лежите в постели, а на столике у кровати – чашка кофе. Вам надо дотянуться до нее, взять, поднять, не проливая, и наклонить ко рту. Вам надо одеться. Рубашка – это интересная проблема. Две длинные трубки, отходящие от цилиндра, – и в эту конструкцию должны войти ваши руки и грудь. Но рубашка совершенно не выглядит подходящей для этого: она плоская, лежит на стуле, никаких трубок не видно, а передняя часть разрезана надвое, на одной стороне какие-то маленькие круглые штучки, которые должны подойти к маленьким дырочкам на другой. Как это вообще возможно надеть? Трудности с одеванием – одевательная апраксия – ужасно ограничивает, фактически исключает независимое существование. Но не считается болезненным состоянием. Она возникает при поражении правого полушария и может рассматриваться как часть более широкой и общей проблемы конструкционной апраксии. И одевательная, и конструкционная апраксии редко отличаются от описанных ранее идеаторной и идеомоторной апраксий, вызванных поражением левого полушария. Все они являются апраксиями, поскольку связаны с двигательными нарушениями. Различия между лево- и правополушарными апраксиями лучше всего проявляются у пациентов с разделенным мозгом, у кого правое и левое полушария полностью отделены друг от друга, а связи между ними перерезаны[268].
Рис. 8.5. Поппельрейтер в 1917 году показал, что пациенты с агнозией испытывают большие трудности в определении объектов, очертания которых накладываются друг на друга
Рис. 8.6. Два изображения пилы (а) в стандартном виде и (b) нестандартном, когда она кажется сильно укороченной из-за перспективы. Пациенту с агнозией значительно труднее распознать укороченный вид
Легко вообразить, будто левое и правое полушария – это совершенно отдельные органы, каждый из которых даже обладает собственной индивидуальностью, но, конечно, это не так. Они работают вместе, создавая единую личность. Полушария соединены мощным пучком волокон, мозолистым телом, обеспечивающим связь и взаимодействие полушарий. Это взаимодействие можно увидеть даже при акте речи, в котором участвует не только левое полушарие. Если бы это было так, то пациенты с поражением правого полушария полностью сохраняли бы речевые способности. Разумеется, они могут говорить нормально, речь их грамматически правильна, а словарь обширен. Но речь их не нормальна, в ней отсутствует интонация, ударение, повышение и понижение тона, изменения темпа, громкости и другие музыкальные свойства, а также выражение эмоций. Речь без просодии напоминает синтезированный компьютером голос. Просодия – не единственное свойство речи, связанное с правым полушарием, оно отвечает также за метафоры, сарказм и чувство юмора. Короче говоря, богатая коммуникационная система, язык, зависит от совместной деятельности правого и левого полушарий, каждое из которых вносит свой особый вклад[269].
Для нормального функционирования требуется совместная работа двух полушарий. Но что произойдет, если полушария окажутся разъединены? Иногда нейрохирурги поступали так, чтобы справиться с серьезной эпилепсией, когда обычные лекарства не купировали судороги, которые запускались одним полушарием, а через мозолистое тело подключалось и другое, что в итоге приводило к общим судорогам. Разрезание мозолистого тела – «разделение мозга» – предотвращало переход приступа с одного полушария на другое, и поэтому пациент оставался в сознании, что давало большое практическое преимущество. Пациенты с «разделенным мозгом» также представляют большой интерес для нейроученых, пытающихся понять, как работает мозг, и Роджер Сперри, одним из первых ставший изучать таких пациентов, в 1981 году был удостоен Нобелевской премии.
Пациенту ПС в возрасте 15 лет была сделана операция по разделению мозга, чтобы прекратить приступы эпилепсии, которыми он страдал с двух лет, и эта операция весьма эффективно улучшила состояние больного. Однако в рамках эксперимента его попросили до и после операции нарисовать два простых куба, один левой рукой, другой – правой. Кубы в верхней части рис. 8.7 были нарисованы до операции, и оба они нарисованы довольно хорошо, тот, что он рисовал левой, слегка неровный, что вполне естественно для правши. Теперь взгляните на те, что в нижней части рис. 8.7. Они не только значительно хуже, чем те, что нарисованы до операции, но и очень отличаются друг от друга. Тот, что нарисован левой рукой, очень неровный, линии совсем не такие прямые, как до операции, они не совпадают по углам. Тем не менее это явно изображение куба. Совсем иное дело рисунок, сделанный правой рукой. Линии куда более прямые, аккуратные, лучше прорисованные и точно совпадающие друг с другом, но рисунок ничего общего не имеет с кубом, ощущение трех измерений полностью утрачено. В одиночку ни правое, ни левое полушарие не в состоянии нарисовать куб правильно[270].
Мозолистое тело превращает мозг, состоящий из двух полушарий, в единое целое. Когда оно перерезано, каждое полушарие делает все, на что способно, но ни одно из них не может стать полноценным когнитивным инструментом. Правое полушарие, управляющее левой рукой, понимает трехмерное пространство и способно передать трехмерный объект с помощью линий на плоском листе бумаги. Проблема в том, что оно не очень хорошо умеет рисовать и не знает, как провести прямые линии так, чтобы они соединялись должным образом. Это как у пациентов с идеаторной апраксией – отсутствуют команды, обеспечивающие правильное движение руки. Полностью противоположная ситуация – с левым полушарием, управляющим правой рукой. Оно знает, как заставить правую руку проводить четкие прямые линии, соединяющиеся в углах куба, но не имеет понятия о трехмерном пространстве или перспективе или о том, как выглядят линии в проекции на плоскость, поэтому опознать на рисунке куб невозможно. Левое полушарие напоминает пациента с конструкционной апраксией. У ПС не просто был разделен мозг, он словно стал двумя разными пациентами: один с поражением левого, а другой – правого полушария. Но, как бы ни было интересно говорить о полушариях мозга по отдельности, они все же представляют собой две половины одного целого, которые должны работать слаженно[271].
Рис. 8.7. Пациента ПС до и после операции по разделению мозга попросили по памяти нарисовать куб сначала левой, потом правой рукой. В верхнем ряду рисунки, сделанные до операции, в нижнем – после
При решении простой проблемы подходы разных полушарий к ней, как правило, соединяются безукоризненно. Например, решите такую задачу: «У каждого государства есть флаг. Замбия – государство. Есть ли флаг у Замбии?» Это очень простая головоломка, в ней нет никакого подвоха и, как вы уже догадались, ответ – «да». Что не столь очевидно, однако, так это то, что подобные вопросы содержат два отдельных компонента, каждый из которых заставляет работать разные полушария мозга. Это ясно из экспериментов, в ходе которых одно полушарие мозга временно отключали с помощью электросудорожной терапии, применяемой при лечении некоторых серьезных психических заболеваний. В Санкт-Петербурге Вадим Деглин и Марсель Кинсбурн изучали пациентов, проходящих электросудорожную терапию, предлагая им решить задачи наподобие упомянутой выше. До электрошока пациенты без труда находили решение, но после ответы зависели от того, какое полушарие мозга подвергалось воздействию, а какое продолжало работать. После отключения правого полушария, когда левое вынуждено было решать задачу в одиночку, пациенты были почти пугающе логичными в процессе решения: «Здесь написано, что у каждого государства есть флаг и что Замбия является государством. Следовательно, у Замбии есть флаг». Порой в таких ответах было нечто бездушное, словно они исходили от компьютера или механизма. Почти противоположный характер носили ответы при отключении левого полушария, когда вся работа выпадала только правому: «Я никогда не был в Замбии и ничего не знаю о ее флаге». Возможно, это и в самом деле так, но ответ не имеет никакого отношения к решению логической задачи. Исходя из предпосылок, ответ должен быть «да». Похоже, правое полушарие не знает формальной логики и пытается решить задачу, основываясь на обычных знаниях о мире. В данном случае, поскольку оно ничего не знает о Замбии, оно не может найти решения.
Рассмотрим несколько иной вопрос: «Все обезьяны лазают по деревьям. Дикобразы – обезьяны. Залезают ли дикобразы на деревья?» Одна из предпосылок здесь ложная, потому что дикобразы – не обезьяны. Это, однако, не влияет на логическую структуру вопроса. Если все обезьяны залезают на деревья, а дикобразы были бы обезьянами, то вывод, что дикобразы залезают на деревья, был бы истинным. Такие задачи называют гипотетическими. Как с ними справляются правое и левое полушария? Один из пациентов после отключения левого полушария, но с работающим правым, с большим раздражением ответил: «Дикобраз? Как он может залезть на дерево? Это не обезьяна. У него иголки как у ежа. Здесь ошибка!» Правое полушарие знает о дикобразах и знает, на что они способны, а на что нет. При отключении правого полушария работающее левое давало совершенно иной ответ: «Поскольку дикобраз является обезьяной, он, следовательно, может залезать на деревья». Когда экспериментатор говорил: «Но ведь вам известно, что дикобраз – это не обезьяна?», следовал ответ: «Так написано на карточке». Левое полушарие знает, как обращаться с логикой, правое знает об окружающем мире. Соедините оба – и получится мощный мыслительный аппарат. Если же каждое полушарие будет работать само по себе, результат будет странным или абсурдным[272].
Неправильный ответ на вопрос о дикобразе кажется нам одновременно смешным и странным. Юмор часто основан на абсурдности, странности, неспособности распознать две разных и несравнимых точки зрения или смешении отдельных значений. Похоже, что у двух полушарий разное «чувство юмора». Рассмотрим упражнение, которое использовалось в исследовании пациентов с поражением одного из полушарий мозга. Пациентам предлагали закончить анекдот кульминационной фразой, выбрав одну из нескольких альтернатив.
Новую служанку заподозрили в том, что она прикладывается к хозяйскому спиртному.
Она отнекивается: «Должна сказать вам, сэр, что я родом из почтенного английского семейства!»
Пациенты с поражением правого полушария и работающим левым предпочитали такую концовку:
«В любом случае, если еще раз спиртное пропадет, тебя уволят».
Логично, но явно не смешно. Пациенты с поражением левого полушария и работающим правым выбирали совершенно другой ответ, возможно, и забавный, но нисколько не подходящий к сюжету:
«И тут служанка увидела мышь и запрыгнула на колени к хозяину».
Но по-настоящему смешной концовка оказывается, если она включает одновременно и чувство логики левого полушария, и восприятие правым скрытого смысла. В данном случае он содержится в слове «шотландский», явно указывающем на характер пропавшего напитка:[273]
«Семейство твое, может, и английское, да только духом от тебя разит шотландским!»
Наряду с восприятием трехмерного пространства, знанием о мире и чувством юмора у правого полушария есть и другие функции. В частности, оно отвечает за внимание, важнейший когнитивный процесс, который часто остается незамеченным или который вовсе игнорируют. Без способности сконцентрировать внимание разум окажется в потоке бесцельной и бесполезной информации, в которой может просто захлебнуться. Большая часть происходящего вокруг нас банальна и не требует пристального внимания, которое резервируется ради интересных, важных и потенциально опасных для жизни событий. Внимание позволяет нам игнорировать несущественное ради той деятельности, которой мы заняты непосредственно. Нам совершенно нет дела до множества вещей, пока кто-то не сообщит нам об этом. Например, то, на чем вы сидите, давит на вашу задницу. Вот! Внезапно это осознается, и на некоторое время вы не можете забыть об этом. Все ваши мысли сфокусированы на этом, а еще несколько секунд назад вы и думать не думали, на чем вы сидите. Вот что такое внимание.
Когда внимание нарушается, возникают очень странные симптомы. Один из примеров – случай с Чарльзом Диккенсом, который был нездоров в последние пять лет своей жизни. В феврале 1866 года, в возрасте 54 лет, за четыре года до кончины, у него появились явные признаки болезни сердца. Самая серьезная проблема проявилась три года спустя, 23 апреля 1869 года. В Честере, во время утомительной поездки с публичными чтениями, Диккенс заметил странные симптомы. Он написал своему врачу Фрэнку Бирду, который срочно доставил писателя в Лондон. В Лондоне Диккенса осмотрел сэр Томас Уотсон. Его отчет был ясным и четким:
«После необычной раздражительности [Диккенс] в минувшую субботу или воскресенье испытывал головокружение, со стремлением пятиться или кружиться… У него было странное ощущение ненадежности своей левой ноги, словно что-то неестественное было с пяткой; он мог поднять ногу. Но не переставить. Кроме того, он упомянул о каком-то странном состоянии своей левой руки; он не мог точно положить ее на то место, на которое хотел, если только не смотрел туда внимательно; он чувствовал, что не готов поднять руки к голове, особенно левую руку, например, когда причесывался».
У Диккенса были явные проблемы с левой стороной тела, и, судя по всему, с правым полушарием мозга. Уотсон не испытывал в отношении его состояния никаких сомнений: «Диккенс на грани паралича левой стороны тела и, возможно, апоплексического удара». Поражение правого полушария фатально подтвердилось 8 июня 1870 года, когда за обедом писатель вдруг встал и тяжело завалился на левый бок, потеряв сознание. На следующий вечер, вскоре после 6 часов, он скончался[274].
Болезнь Диккенса не кажется какой-то особенной, но был в ней один странный симптом, о котором еще не упоминалось и который в то время, в 1868 году, еще не был описан в медицинской литературе. По пути к дому Джона Фостера, своего друга и будущего биографа, Диккенс заметил, что «мог прочесть лишь половину надписей на дверях лавок, располагавшихся справа от него». 21 марта 1870 года нечто подобное повторилось:
«Он рассказал нам, что когда он шел по Оксфорд-стрит, с ним случилось то же, что и в тот день, когда он прошлый раз обедал с нами, и он мог прочесть лишь правую часть вывесок лавок и магазинов, на которые смотрел».
Сегодня сказали бы, что Диккенс страдал «синдромом неглекта», или «синдромом гемиигнорирования» (проявившимся как частичная дислексия). Пациенты при чтении обычно воспринимают только правую часть слова, особенно если она оказывается целым словом, поэтому слово «воспринимают» читается как «принимают», «симптом» – как «том», «биограф» – как «граф», «погода» – как «ода», «цветы» как «ты» и т. д. Или же слово читается полностью, но левая часть домысливается: вместо «погода» – «природа», вместо «биограф» – «параграф»[275].
Частичная дислексия – вариант значительно более распространенной патологии, обычно именуемой синдромом неглекта, но известной также как визуальное игнорирование, односторонне пространственное игнорирование и геминевнимание. Известный случай – итальянский режиссер Федерико Феллини, знаменитый не только такими фильмами, как «Дорога» (1954), «Ночи Кабирии» (1957), «Восемь с половиной» (1963) и «Амаркорд» (1973), но и талантом художника. В марте 1993 года он прилетел в Лос-Анджелес на вручение пятого «Оскара», которого был удостоен за вклад в киноискусство. Он знал, что тяжело болен, и в июне того же года в Цюрихе ему была сделана операция по шунтированию сердца. Он был не слишком примерным пациентом и рвался из Швейцарии в Италию. В итоге врачи разрешили ему вернуться, но не в Рим, а в Римини, где он когда-то родился. Он поселился в Гранд-отеле и в августе, когда его жена была в Риме, упал в своей комнате. Сознание не покинуло его, но он не мог двинуться или позвонить. Он беспомощно лежал на полу в течение 45 минут, пока его не обнаружила горничная. В больнице в Римини компьютерная томография (рис. 8.8) показала инфаркт задней части правого полушария, вызвавший паралич левой руки и левой ноги и до конца жизни обрекший его на инвалидное кресло.
Феллини перевезли в больницу Феррары для реабилитации, которая, как ему казалось, шла досадно медленно, и, несмотря на все уверения, он «видел в глазах врачей неверие в то, что он может полностью восстановиться». Тогда же тяжело заболела и жена Феллини Джульетта, у нее обнаружили неоперабельную опухоль мозга – она безуспешно пыталась скрыть от Феллини свой диагноз. Пятидесятилетие их свадьбы приходилось на 30 октября, и Феллини убедил врачей отпустить его в Рим, надеясь отметить годовщину. За две недели до этого, в воскресенье, он и Джульетта отправились вместе пообедать. Тем же вечером в римской больнице Феллини перенес второй, более обширный удар и впал в кому, из которой уже не вышел. Было установлено, что его мозг мертв, однако от аппарата искусственной вентиляции легких его отключили лишь 31 октября, на следующий день после пятидесятилетия свадьбы. Джульетта скончалась через шесть месяцев, 23 марта 1994 года[276].
Помимо сразу проявившегося и очевидного паралича у Феллини возникли и признаки визуального игнорирования, проблемы, часто возникающей при поражении правого полушария и на удивление серьезно ограничивающей человека. Фактически масштаб этого синдрома лучше всего позволяет предсказать вероятность восстановления после таких поражений. «Игнорирование» – самое точное описание этого состояния. Пациент игнорирует, не замечает половину мира, как правило, левую. Хотя левостороннее игнорирование может поначалу показаться просто подтверждением того, что правое полушарие отвечает за левую сторону тела и связанные с этой стороной ощущения, все куда сложнее, потому что при поражении левого полушария правостороннее игнорирование возникает намного реже. Это указывает на то, что именно правое полушарие отвечает за внимание[277].
Рис. 8.8. Компьютерная томограмма мозга режиссера Федерико Феллини через неделю после удара. Видно клиновидное затемнение в задней части правого полушария, в височно-теменной области, хорошо заметное при сравнении с нормальным левым полушарием
Игнорирование легко проверить, если предложить пациенту сделать отметку точно на середине такой, например, горизонтальной линии. Вы и сами можете попробовать.
Пациенты с синдромом игнорирования ставят метку, смещая ее далеко вправо, явно игнорируя левую часть линии. Так поступал и Феллини, но, как экстраверт с бурным воображением и почти безудержным желанием рисовать, он добавлял к этому несколько деталей, как на рис. 8.9[278].
Пациенты игнорируют и многие другие аспекты левой стороны пространства. Например, едят пищу лишь с правой стороны тарелки, читают только правую часть страницы, помнят здания лишь на правой стороне улиц, умывают только правую половину лица, одевают только правую руку и ногу и так далее. Не у всех пациентов присутствуют все симптомы – так, одеваясь и умываясь, Феллини не проявлял игнорирования[279].
Рис. 8.9. Два задания по разделению отрезка, выполненных Феллини. Феллини не смог преодолеть желание продолжать рисовать, поставив отметку там, где, как он полагал, находится середина отрезка. На нижнем рисунке персонаж справа говорит: «Пойди на середину», а левый отвечает: «Да брось!»
Некоторые пациенты с этим синдромом рисуют только правую половину предметов. Сделанный левой рукой рисунок (рис. 8.10) изображает только правую часть циферблата и только половину цифр. Напротив, на сделанном правой рукой рисунке присутствуют все 12 цифр, хотя они и сдвинуты в правую часть циферблата и поэтому оказались не на своих местах[280].
Синдром игнорирования – это не просто неспособность увидеть половину мира, как если смотреть телевизор с наполовину закрытым экраном. Проблема здесь во внимании, а поскольку внимание сосредоточено на предметах, то в конечном счете игнорируется именно левая половина предметов. Это вызывает вопрос о том, что мы подразумеваем под визуальным объектом. На рис. 8.11 59-летняя женщина с поражением правого полушария скопировала рисунок, изображающий два цветка в одной вазе. Она нарисовала половину каждого цветка и половину вазы. Тот факт, что она изобразила половину каждого объекта, определенно предполагает, что в каждом случае у нее имелось какое-то представление о целом объекте. Вот почему синдром игнорирования так занимает нейроученых[281].
Хотя часто говорят, что пациенты с синдромом игнорирования не понимают своего состояния, в случае с Феллини это явно было не так, он даже нарисовал картинку, персонаж на которой спрашивает: «Где левая сторона?» (рис. 8.12).
Рис. 8.10. Пациента с синдромом игнорирования попросили нарисовать часы. На рисунке слева, сделанном вскоре после удара, отсутствуют цифры в левой части циферблата, на рисунке справа, сделанном после того, как пациент частично восстановился, цифры с левой стороны циферблата переехали на правую сторону
Рис. 8.11. Пациента с синдромом игнорирования попросили скопировать рисунок, на котором цветы изображены слева. Он нарисовал их справа
Можно предположить, что работа в области визуальных искусств, продолжавшаяся всю жизнь, могла помочь противостоять синдрому, но дело далеко не в этом. Несколько художников с таким же синдромом продолжали рисовать, но на их картинах полностью отсутствуют левые части того, что они изображали. Достаточно взглянуть на портрет работы английского художника Тома Гриншилдса – даже тщательная работа живописца не спасла его от игнорирования половины зрительного пространства (рис. 8.13)[282].
Рис. 8.12. Рисунок, который Феллини нарисовал через три-четыре недели после инсульта. Персонаж, явно сам Феллини, спрашивает: «Dov’é la sinistra?» – «Где же левая сторона?»
Поражение правого полушария мозга часто ведет и к другим необычным синдромам. При мизоплегии пациенты, страдающие параличом, испытывают сильную ненависть к пораженному члену. В некоторой степени это наблюдалось и у Феллини, называвшего свою парализованную левую руку «раздувшимся отсыревшим пучком спаржи». В крайних случаях пациенты могут жестоко избивать пораженную конечность или громко ругать ее. При так называемой анозогнозии отрицается само наличие физического заболевания, по-видимому, этот синдром был у Чарльза Диккенса. В крайних случаях больные могут даже не признавать, что парализованные конечности – часть их собственного тела, или вовсе отрицать их существование, как, например, 73-летняя женщина с левосторонним параличом, поступившая в 1956 году в больницу Бухареста. За день до этого у нее случился удар, и когда ее просили показать левую руку или ногу, она указывала на правую руку и ногу. В конце концов врач указал на ее левую руку и спросил: «Чья это рука?» «Это рука пациента на соседней кровати», – последовал ответ. Чувствуя, что нужно еще какое-то объяснение, пациентка добавила: «Я попросила ее положить руку мне на живот, потому что мне было холодно». Когда врач ущипнул ее за левую руку, она просто заметила: «Я чувствую, что вы ущипнули за руку пациентку рядом». Через месяц женщина умерла, и на вскрытии обнаружилось поражение теменной доли правого полушария, той самой области, что обычно связывают с синдромом игнорирования и другими дефектами внимания[283].
Рис. 8.13. Портрет работы английского художника Тома Гриншилдса, выполненный после того, как он перенес удар, поразивший правое полушарие мозга. На рисунке, занимающем только правую половину листа, изображена только половина фигуры
Любопытная черта латерализации мозга состоит в том, что ряд способностей и функций латерализованы часто без какой-либо очевидной причины. Например, глотание. Дисфагия, затруднение глотания, возникает у трети пациентов, перенесших инсульт в одном из полушарий. Дисфагией страдал и Феллини, что подтвердилось на последнем совместном обеде с Джульеттой в римском ресторане.
С аппетитом евший и оживленно разговаривающий Феллини вдруг поперхнулся. Причиной стал кусок моцареллы. Инсульт повлиял на способность глотать, но, наслаждаясь моментом, Феллини забыл об этом.
У большинства людей за глотание отвечает доминирующее полушарие, и, что довольно странно, примерно у половины людей оно правое, а у другой половины – левое[284].
Латерализованы и многие психические функции, и, как пишет Джозеф Хеллиге, «ныне известно столь много функций, проявляющих асимметрию, что почти нет надежды когда-нибудь составить полный их список». Все, что я могу сделать, – привести здесь некоторые примеры, чтобы читатель, так сказать, ощутил все разнообразие «ароматов». По иронии судьбы, и здесь не обошлось без латерализации. Запахи лучше воспринимаются, если нюхать правой ноздрей, подключая тем самым к их обработке правое, а не левое полушарие. Левое полушарие, однако, точнее определяет и классифицирует запахи. Поражение правого полушария может вызвать «синдром гурмана», при котором возникает навязчивое стремление к изысканной пище. Среди прочих изысканных сторон нашей жизни правое полушарие отвечает за музыку, за опознание и запоминание мелодий и пение. Ритм, с другой стороны, это специальность левого полушария, так же как и абсолютный слух. Музыка, однако, как и все сложные сферы человеческой деятельности, требует согласованной работы обоих полушарий. При поражении правого полушария могут возникать музыкальные галлюцинации, а также музыкогенная эпилепсия – судороги, вызываемые определенными музыкальными пассажами. Латерализован даже секс. В Париже был поставлен эксперимент по изучению активности мозга гетеросексуальных мужчин при просмотре сексуально откровенных фильмов. Чтобы удостовериться, что фильмы вызывают должный эффект, к пенисам подопытных прикреплялись специальные датчики, измеряющие степень эрекции. Сексуальное возбуждение активировало две области в правом полушарии, связанные с мотивацией, и область в левом, отвечающую за непроизвольные реакции. Как в любой другой деятельности, в сексе важно активное участие обеих сторон[285].
Различие между двумя полушариями мозга – функциональная асимметрия – присуща всем, и иногда ее очень просто продемонстрировать. Посмотрите на рис. 8.14 – какая полоса кажется более темной, верхняя или нижняя? На самом деле они совершенно одинаковы. Однако три четверти тех, кто прошел этот тест, говорят, что верхняя полоса темнее. Причина в том, что так же, как пациенты с поражением правого полушария игнорируют левую часть пространства, люди с нормальным мозгом преувеличивают ее значение – это называется псевдоигнорирование. Верхняя полоса кажется более темной из-за темного пятна слева и поэтому оказывает более сильное психологическое воздействие. Псевдоигнорирование наблюдается даже при выполнении простых заданий, таких как поставить метку на середине отрезка, как в тесте из предыдущей главы. Если нужно, вернитесь назад и с помощью линейки проверьте, точно ли посередине вы поставили метку. Скорее всего, нет – большинство людей ставят метку немного левее центра, потому что левая часть пространства привлекает больше внимания, чем правая. Из-за этого большинство людей натыкаются на предметы, расположенные справа, потому что обращают на них меньше внимания. Псевдоигнорирование может также объяснить, почему на картинах «центр тяжести» часто смещен влево, почему левая часть переднего плана кажется ближе, чем правая, и почему подписи к картинам часто относятся к объектам, расположенным в левой их части, а также почему актеры, когда нужно выйти на сцену незаметно, появляются из-за правой кулисы. На рис. 8.15 показан еще один вариант этого эффекта. Какое из двух лиц выглядит более счастливым? Такие лица называют химерическими, они выстроены из двух отдельных половин. Большинство людей находят нижнее лицо, у которого левая сторона веселая, более счастливым – отчасти потому, что левая сторона привлекает больше внимания, а отчасти потому, что за распознавание эмоций отвечает в основном правое полушарие[286].
Рис. 8.14. Какая полоса кажется темнее – наверху или внизу?
Рис. 8.15. Посмотрите в центр каждого лица и скажите, какое из них кажется более веселым, верхнее или нижнее
Тот факт, что в здоровом мозге функции, связанные с языком и речью, сосредоточены в левом полушарии, впервые удалось продемонстрировать в 1960-е, с помощью так называемого дихотического прослушивания. Участники эксперимента, находясь в стереонаушниках, в двух каналах которых звучали не немного разные варианты одного и того же, как при прослушивании музыки, а совершенно не похожие звуки – в правом канале один набор слов, в левом – другой. Слова, слышимые правым ухом, воспринимались точнее, поскольку правое ухо в основном связано с левым полушарием[287].
Все выглядит соблазнительно просто: левое полушарие занимается языком (включая речь, чтение, письмо, произношение), видимо, потому что лучше обрабатывает быструю последовательность событий, присущую этим актам, тогда как правое полушарие занято всеми «бессловесными» задачами, которые объединяет параллельный целостный анализ, необходимый для понимания зрительных образов и трехмерного пространства. Однако как бы проста ни была эта версия, это всего лишь версия, и как все версии, она столько же говорит о нас и нашей потребности в таких версиях, сколько и о том, как в действительности работает наш мозг. Несомненно, именно это говорится в десятках учебников по введению в психологию и нейронауку, а также в научно-популярной литературе. Действительно, Лорен Харрис отмечает это в качестве одного из «ключевых фактов» в книге «Что знают образованные американцы». Главная ошибка, однако, в поверхностном предположении, будто мозг у всех устроен одинаково. Это вовсе не так. Как мы уже выяснили, десять процентов человечества – левши, и ведущую руку у них контролирует правое, а не левое полушарие. Мозг куда сложнее, чем он предстает в упрощенных описаниях, что видно и в отношении языка[288].
Через год или два после того, как Брока заявил, что центр языка находится в левом полушарии, ему и всем остальным стало ясно, что это не всегда так. У некоторого числа людей, возможно, около пяти процентов, язык связан с правым полушарием. Так, в августе 1866 года Хьюлинг Джексон описал такой случай:
«В минувшую пятницу в Больнице по лечению Эпилепсии и Паралича я наблюдал пациента с левосторонним параличом и существенным дефектом речи… Этот несчастный жаловался, что паралич его левосторонний, потому что он сам левша».
Если бы левши были просто зеркальным отражением правшей и центр языка был бы у них в правом, а не в левом полушарии, то можно было бы видеть в этом восстановление симметрии, нарушившейся после того, как Брока отвел языку место исключительно в левом полушарии[289].
Идея была хороша, но неверна, хотя продержалась много лет и все еще всплывает и ныне, возможно, потому что психологически эта концепция очень соблазнительна. В течение нескольких лет после Брока она утвердилась в основных учебниках по медицине и психологии как непреложная истина. Уильям Джеймс, отец-основатель психологии в своих «Основах психологии» излагает ее лаконично: «У правшей речь и язык под контролем левого полушария, у левшей – правого». Столь широко провозглашенное «правило» быстро привело к искажениям в научной литературе, поскольку публиковались лишь случаи, соответствующие правилу, и, казалось, каждый следующий пациент только подтверждает его. Хотя некоторые врачи замечали, что некоторые пациенты не вписываются в эту схему, в особенности правши, на протяжении многих лет эта теория распространялась, проникнув в разнообразные концепции, что сильно затрудняло возможность возражений. Самым сильным доводом против была идея, что такие пациенты на самом деле не настоящие правши и левши. Большинство правшей могут многое делать и левой рукой, большинство левшей – правой, поэтому аргумент выглядел убедительным. Леворуких, у которых языковые функции располагались в левом полушарии, «переклассифицировали» на том основании, что из-за того, что они вынуждены были писать правой рукой, языковые функции сместились в другое полушарие. Возможно, самой сложной группой оказались правши, языковые функции которых явно были локализованы в правом полушарии. Это объясняли вероятным наличием левши в их роду, и они сами, таким образом, оказывались «потомственными левшами»[290].
Вероятно, самой неудачной из многих была концепция «скрытой леворукости». Если человек, чьи языковые функции локализованы в правом полушарии, пишет правой рукой, делает все правой рукой и у него нет никаких леворуких родственников, теория настаивала, что он все же должен быть левшой, и говорилось, что у него «скрытая леворукость». В наиболее явной форме эта концепция видна у знаменитого советского нейропсихолога Александра Лурии:
«…возможно определить скрытые признаки леворукости… В числе морфологических признаков латентной леворукости – крупная левая кисть, хорошо развитые вены на тыльной стороне левой кисти, широкий ноготь на мизинце левой кисти, хорошо развитая мимическая мускулатура правой стороны лица… Количество функциональных признаков латентной леворукости значительно больше… В условиях сильного аффекта латентная леворукость может проявляться, и человек переключается на левую руку… При детальном обследовании часто выявляется непостоянное использование правой руки…».
Тщательное обследование, поиск скрытых признаков, небольшие просчеты, открывающие правду, – все это напоминает средневековую охоту на ведьм, поиски стигм, отметок на теле, перечисленных в «Молоте ведьм». Не великоват ли ноготь? Не слишком ли развиты эти вены? Подобные «отклонения» всегда можно обнаружить, и таким образом любого можно причислить к «латентно леворуким». Только подумайте, что Лурия включил в список отличительных признаков хват левой рукой и доминирование левого глаза. Поскольку 60 процентов населения Британии берут что-то левой рукой, а у тридцати процентов доминирует левый глаз, то только по этим двум критериям большинство британцев окажутся латентно леворукими. Очевидно, однако, что если латентно леворуким может оказаться каждый, то научное значение этой концепции равно нулю[291].
Если левши и правши не просто зеркальное отражение друг друга, как же тогда на самом деле соотносятся доминирование рук и языка? Эта взаимосвязь широко изучалась в годы после Второй мировой войны, и в итоге обнаружилась любопытная математическая зависимость, которую не так уж легко объяснить. Она отражена в простой табл. 8.2:
Таблица 8.2. Взаимосвязь между доминированием рук и языка (%)
Вот что следует отметить. Прежде всего, нет никакого сомнения в связи между доминированием рук и языка, и более вероятно, что функции языка у праворуких окажутся локализованы в левом полушарии. Столь же очевидно, что леворукие вовсе не представляют собой зеркальное отражение праворуких. Если бы это было так, то у 95 % леворуких функции языка были бы локализованы в правом полушарии, тогда как на деле таких всего около 30 %. Таким образом, у большинства леворуких, как и у большинства праворуких, язык локализован в левом полушарии. Интересно, однако, что хотя количество правшей в восемь или девять раз больше, чем левшей, большинство людей с правополушарной локализацией языка – праворукие. Эти цифры представляют собой реальную головоломку, объяснение которой необходимо, если мы хотим понять латерализацию мозга[292].
Если проблемы, касающиеся доминирования рук и языка, кажутся сложными, то стоит задуматься и о так называемых правополушарных процессах. Всегда ли они идут в правом полушарии? И снова ответ окажется отрицательным. Всего возможно восемь сочетаний доминирования рук, языка и латерализации невербальных процессов, и все они имеют место. Хотя и это будет чрезмерным упрощением, поскольку я упоминаю «языковое доминирование» так, словно это единое целое, управляющее речью, чтением, письмом, произношением и так далее. Но если судить по пациентам с поражениями мозга, часть этих способностей связана с одним полушарием, а прочие – с другим. За примером мы снова можем обратиться к сэру Томасу Уотсону, только на этот раз он сам окажется пациентом. 22 октября 1882 года, в возрасте девяноста лет, с ним случился удар. Он упал на левый бок, язык его высовывался слева, а левая сторона лица разгладилась, так что врачи довольно точно определили тромбоз в правом полушарии мозга. Интерес к болезни этого великого старца британской медицины был так велик, что сводки о состоянии его здоровья раз в две недели публиковались в журнале British Medical Journal. Он не утратил речь и сохранял профессиональный интерес к своему случаю, хотя и «говорил, что не может объяснить свои симптомы». Больше всего озадачивало, что, несмотря на то что поражено было правое полушарие, «при попытке написать письмо он не мог вспомнить, как пишутся даже самые простые слова». Правописание, как и другие относящиеся к языку функции, безусловно, связано с левым полушарием, и странно было, что такая проблема возникла при поражении правого. Больше того, никаких других проблем с языком не возникало. Предположительно, какие-то компоненты языковых способностей могут быть связаны с разными полушариями[293].
Эти сложные схемы организации мозга можно объяснить с помощью той же генетической модели, что в предыдущей главе использовалась для объяснения доминирования правой или левой руки. Итак, есть два гена, D и C, и люди с генотипом DD – правши. Что-то на раннем этапе развития формирует их мозг определенным образом, и центр, контролирующий движение, оказывается в левом полушарии. Применительно к языку эта модель предполагает, что точно то же самое происходит при развитии центра языка, и он так же уходит в левое полушарие. У людей с генотипом DD все как по учебнику: это правши с центром языка в левом полушарии. Но что насчет людей с генотипами DC и CC, многие из которых – левши? Проще начать с генотипа CC.
Гены CC не играют никакой роли в определении того, где окажется центр контроля движения, в правом или в левом полушарии, именно поэтому половина людей с генотипом CC левши, а половина – правши. Биологическая монетка брошена, и как именно она упадет, определяет случай и только случай. Но если гены CC никак не влияют на местоположение центра контроля движений, то естественно предположить, что никакого влияния они не оказывают и на центр языка, и он с вероятностью пятьдесят на пятьдесят окажется в левом или правом полушарии. Пока все понятно. Важно сознавать только такую тонкость: процесс, случайным образом определяющий положение двигательного центра, и процесс, так же случайно определяющий положение центра языка, вероятно, представляют собой два независимых случайных процесса. Все равно что подбросить две монетки одновременно. В результате четверть людей с генотипом CC – левши с центром языка в левом полушарии, четверть – правши с центром языка в правом полушарии. Иначе говоря, существует несколько возможных комбинаций.
Все это во многом верно и для людей с генотипом DC, за тем исключением, что три четверти из них правши, а четверть – левши. И у трех четвертей язык привязан к левому полушарию, а у четверти – к правому. Это словно подбросить две разных монетки, но со смещенным центром тяжести. Теперь можно подсчитать варианты для всех трех генотипов, держа в голове, что генотип CC довольно редок, DC встречается чаще, а DD – самый распространенный. Итог очевиден. Если доля левшей составляет 10 %, то у 7,8 % правшей и 30 % левшей центр языка окажется в правом полушарии: явно неплохое приближение к числам из приведенной выше таблицы. Как раз когда в расчетах появляются такие цифры, ученые полагают, что и математические модели сообщают нечто полезное. Когда я впервые увидел в конце 1970-х эти цифры, я чрезвычайно обрадовался и с тех пор не имел серьезных оснований сомневаться в основной модели. Детали можно уточнять, но общая идея представляется весьма удачной[294].
Однако статистика может вводить в заблуждение или оказаться ненадежной. В частности, это так в отношении доли праворуких с центром языка в правом полушарии. Хотя в табл. 8.2 я отвел им около пяти процентов, легко будет найти любое другое число в диапазоне от примерно одного процента, согласно клиническим данным, основанным на долгосрочном наблюдении за пациентами, до восьми процентов для пациентов с острым инсультом и даже до 15 или 20 %, если основываться не на самых надежных данных, полученных при дихотических прослушиваниях нормальных подопытных. Эта доля, однако, играет главную роль во всем процессе, и если бы она значительно выходила за пределы 5–10 %, то модель действительно могла бы желать лучшего. Лишь более чем через двадцать лет после разработки теоретической модели тонкая новая технология наконец позволила точно оценить это важное число, и именно к этому мы сейчас обратимся[295].
Нейрохирурги часто проводят сложные и опасные операции глубоко внутри мозга. Довольно быстро они поняли, что если знать, в каком полушарии расположен центр языка, то можно оперировать с противоположной стороны. Как в 1940-х годах отмечал нейрохирург Джеймс Гарднер, «удалить опухоль, лишив пациента речи, едва ли то достижение, с которым можно себя поздравить». Однако трудно с определенностью узнать, в каком именно полушарии находится центр языка, и на протяжении полувека единственным достоверным методом оставался тест, который разработал молодой японский нейрохирург Дзюн Вада. Сразу после Второй мировой войны он работал на Хоккайдо в довольно тяжелых условиях:
«Старый порядок обратился в руины, и повсюду были признаки инфляции, бедности и недоедания. Мой обед, когда я был дежурным врачом в нашей университетской больнице, состоял из единственной картошки в мундире, и только изредка – чашки рисовой каши».
Хотя Вада и выполнял операции на мозге, у него не было учителей и фактически он учился, самостоятельно осваивая технику по учебнику нейрохирургии, который брат прислал ему из Бостона[296].
Поначалу Ваду волновала совсем другая проблема. У пациентов иногда развивается тяжелая неудержимая эпилепсия, эпилептический статус, при которой каждый приступ провоцирует следующий. Ваду занимало, нельзя ли разорвать порочный круг, подвергнув анестезии лишь одно полушарие мозга, посредством введения общего анестетика в сонную артерию, по которой кровь поступает в соответствующее полушарие. Однажды в больницу поступил юноша, работавший поваром на местной американской военной базе. Пьяный американский солдат сказал парню, что может выстрелом сбить шляпу с его головы. Солдат прицелился, но не слишком хорошо, и пуля сбила не только шляпу, но и скальп, кость и верхнюю часть мозгового вещества в левом полушарии. Требовалась операция, но парень был в эпилептическом статусе, а пока продолжались судороги, оперировать было невозможно. Вада убедил больного и его семью, что попытается применить новый метод. Воткнув длинную иглу прямо в шею пациента, он ввел в сонную артерию амобарбитал, успокоительное средство краткосрочного действия – грубый, но удивительно эффективный метод. Судороги тут же прекратились, а правая сторона тела оказалась парализована, что значило, что левое полушарие отключено. Кроме того, пациент полностью онемел. Примерно через десять минут, когда лекарство было вымыто из мозга, паралич и немота прошли. Метод Вады сработал, и одновременно было получено точное свидетельство, что центр языка у этого пациента находился в левом полушарии[297].
В течение года или около того Вада проверил еще пятнадцать пациентов, все они были правшами. Теперь он подошел к делу более систематично, обнаружив, что во всех случаях речь пропадала, когда лекарство вводилось в левую сонную артерию, и оставалась ненарушенной, если лекарство вводилось в правую сонную артерию. Через пять лет Вада получил возможность провести год в Монреальском неврологическом институте, где смог показать свои приемы работы с амобарбиталом. Через два года она стала обычной процедурой, предшествующей операциям на мозге[298].
С биологической точки зрения техника Вады была грубой, но, вне всякого сомнения, она работала. Иногда из-за нее случались осложнения, но современные методы позволили свести их к минимуму. Для психолога, однако, здесь двойная проблема. Прежде всего, тестам в основном подвергались люди с ненормальным мозгом, а потому распространить результаты на всю популяцию затруднительно. Вместе с тем провести их на большом количестве здоровых людей, как следовало бы при подлинно научном подходе, было бы настоящим насилием. И хотя за многие годы были разработаны и другие техники оценки языкового доминирования, ни одна из них не позволяет точно определить, какое полушарие мозга отвечает за языковые функции у конкретного человека. Поэтому тест, разработанный Вадой, остается золотым стандартом. Это стало меняться только в конце 1990-х с появлением совсем новой технологии, транскраниальной допплерографии[299].
Допплерография похожа на ультразвуковое сканирование, которое используют, чтобы наблюдать за развитием плода, но есть и некоторые тонкости. Ультразвуковой сигнал направляется в артерию, и кровяные тельца отражают часть звуковых волн, которые улавливает зонд. При этом используется эффект Допплера, явление, когда звуки, например гудок поезда, повышаются, если источник звука приближается, и понижаются, если он удаляется. Чем больше скорость поезда, тем больше разница между тоном приближающегося и удаляющегося звука. Точно так же ведут себя и кровяные тельца. Чем быстрее они движутся в сторону сканера, тем выше тон ультразвука, а значит, так можно измерить скорость кровотока в артерии.
В транскраниальной допплерографии датчики размещают по сторонам головы, где они измеряют поток крови в артериях мозга, получается своего рода «стетоскоп для мозга». Метод этот нетравматичен, легок в применении и совершено безопасен. Стефан Кнехт и его коллеги из Мюнстерского университета в Германии применили его, чтобы оценить, как в мозге проходит обработка языковой информации. Участники эксперимента сидят перед экранами, на которых появляется случайно выбранная буква алфавита, например Т. У них есть пятнадцать секунд, чтобы молча придумать как можно больше слов на эту букву, и еще пять секунд, чтобы сообщить их экспериментатору. Слова в основном образуются в височной коре мозга, как раз над ушами. Для мозга это нелегкая работа, и с помощью транскраниальной допплерографии удается обнаружить повышенный приток крови по средней мозговой артерии, снабжающей кровью височную кору. Височная кора имеется по обеим сторонам мозга, но если слова образуются лишь в одном полушарии, то и приток крови к нему будет больше. Сравнивая кровоток в левой и правой артериях, можно определить, правое или левое полушарие у конкретного человека играет главную роль в языковых функциях, а так как метод этот быстр, прост, нетравматичен и относительно дешев, можно таким образом проверить большое количество людей.
В 2000 году Кнехт и его сотрудники опубликовали две важные работы по итогам проведенных на большом количестве людей тестов. У подавляющего большинства правшей поток крови усиливался с левой стороны, в соответствии с ожиданиями Брока. Однако особенно интересна была небольшая группа правшей, у которых поток крови был интенсивнее с правой стороны, а значит, функции языка у них располагались в правом полушарии. У двенадцати из 204 правшей языковые способности оказались в правом полушарии, что очень близко к 5,9 %, предсказанным генетической моделью. Во второй работе рассматривались 122 левши, и у 29 из них, то есть около 24 %, язык был связан с правым полушарием, что достаточно близко к предсказанной тридцатипроцентной величине[300].
В этой главе говорилось о нескольких аспектах, которыми отличаются друг от друга правое и левое полушария мозга. Но почему они отличаются? Давно ли люди сделались в основном правшами, почему некоторые остались левшами и что привело к специализации мозга? Этим вопросам посвящена следующая глава.
9. Аод, сын Геры
Аод, сын Геры из колена Вениаминова, наверное, первый известный нам левша. Известно нам и то, что он сделал примерно в 1200 году до нашей эры:
«И послали сыны Израилевы с ним дары Еглону, царю Моавитскому. Аод сделал себе меч с двумя остриями, длиною в локоть, и припоясал его под плащом своим к правому бедру, [и пришел, ] и поднес дары Еглону, царю Моавитскому».
После поднесения даров Аод попросил Еглона поговорить с ним наедине:
«[Когда он встал, ] Аод простер левую руку свою и взял меч с правого бедра своего и вонзил его в чрево его, так что вошла за острием и рукоять, и тук закрыл острие, ибо Аод не вынул меча из чрева его, и он прошел в задние части».
Но Аод не был единственным левшой. Книга Судей также описывает, как вениамитяне вели жестокую войну со своими собратьями-израильтянами:
«А собрались сыны Вениаминовы из городов в Гиву, чтобы пойти войною против сынов Израилевых. И насчиталось в тот день сынов Вениаминовых, собравшихся из городов, двадцать шесть тысяч человек, обнажающих меч; кроме того, из жителей Гивы насчитано семьсот отборных; из всего народа сего было семьсот человек отборных, которые были левши, и все сии, бросая из пращей камни в волос, не бросали мимо. Израильтян же, кроме сынов Вениаминовых, насчиталось четыреста тысяч человек, обнажающих меч; все они были способны к войне».
Понять этот фрагмент нелегко, но обычно полагают, что эти семьсот пращников были частью всего двадцатишеститысячного войска, таким образом, 2,7 % населения тогда были левшами, а точнее, левши составляли как минимум 2,7 %[301].
Книга Судей – почти наверняка первое документальное свидетельство того, насколько распространена была леворукость в историческом прошлом. Однако с тех времен вплоть до конца XIX века, похоже, никто не подсчитал количество леворуких. Никогда не ставилось под сомнение, что большинство людей – правши, иначе законы, наподобие того, что был принят в Афинах в V веке до н. э., не имели бы смысла:
«Во главе афинского общества стояли стратеги, в числе которых был и Филокл, незадолго до этого убедивший народ принять закон, согласно которому у всех военнопленных должен быть отрублен большой палец правой руки, чтобы они не могли держать копье, но могли бы грести веслом».
И все же трудно сомневаться в существовании заметного, хотя и небольшого меньшинства леворуких. Гомер, Аристотель, Платон и прочие греки, несомненно, ежедневно сталкивались с левшами, но нет никаких письменных свидетельств о доле леворуких в древних обществах. Но если мы действительно хотим понять проблему доминирования рук, нам нужно иметь хоть какое-то представление о том, много ли было леворуких в прошлом, чтобы получить возможность привязать право- и леворукость к эволюционной шкале, в надежде, что это позволит нам как-то объяснить, как люди стали в основном праворукими и как это соотносится с развитием языка. Это и составляет предмет данной главы[302].
Одно из первых статистических в современном смысле исследований частоты леворукости предпринял в 1871 году Уильям Огл, врач лондонской больницы Сент-Джордж, который, «не обнаружив никакой достоверной статистики», касающейся доминирования рук, спрашивал пациентов, поступавших в клинику, правши они или левши, всего опросив две тысячи человек. Левшами назвались 85 человек, 4,25 %, доля, очень близкая к той, что обнаруживается примерно в полудюжине других работ, проведенных до Первой мировой войны, но составляющая менее половины от упомянутых в главе 7 десяти процентов, обычно фигурирующих в современных работах. Столь значительная разница требует объяснения[303].
Самое обширное изучение доминирования рук было предпринято в 1986 году и, как ни странно, выросло из работы о том, насколько хорошо люди чувствуют запахи. Журнал National Geographic опубликовал статью об обонянии, а чтобы ее проиллюстрировать, была вклеена карточка-блоттер с нанесенными на нее ароматами, которую можно было вернуть почтой. Читатели отмечали, какие запахи они почувствовали, а также указывали свой возраст, пол и какой рукой они пишут. Было возвращено огромное количество карточек – откликнулось более 1 100 000 американцев – что позволило провести тонкий статистический анализ. На рис. 9.1 показано распределение леворуких мужчин и женщин по годам рождения. Как и в большинстве широкомасштабных исследований, левшей-мужчин оказалось несколько больше, чем левшей-женщин. Однако самым поразительным результатом оказалось существенное увеличение доли левшей на протяжении XX века. Среди родившихся до 1910 года лишь около трех процентов оказались леворукими – доля, близкая к той, что Огл обнаружил за тридцать лет до этого. Годы шли, и доля леворуких непрерывно росла, достигнув пика к концу Второй мировой войны, когда доля левшей среди мужчин составила около 13 %, а среди женщин – 10–11 %. Всего за полвека явно произошел резкий рост. Этому должна быть какая-то причина, но какая?[304]
Совершенно очевидно, что ныне в США и на всем Западе леворукость распространена куда шире, чем сто лет назад. Однако в разных странах темпы распространения леворукости различны. Изучать такие различия непросто, потому что ученые часто руководствовались разными методами оценки доминирования рук, а значит, наблюдаемые различия могут быть и артефактом. Фил Брайден из Университета Ватерлоо в Онтарио предпринял систематический сбор данных, чтобы решить эту проблему. В работе участвовали также Махарадж Сингх из Индии и Юкихиде Ида из Японии, разработавшие единую анкету для Канады, Индии и Японии. Позже Таха Амир и я использовали такую же анкету в Объединенных Арабских Эмиратах. Результаты поражают. В Канаде и Великобритании доля леворуких составляет около 11,5 %. Однако, если двигаться на Восток, через Азию, эта доля падает, составляя 7,5 % в ОАЭ, 5,8 % в Индии и 4 % в Японии. Такие отличия свойственны не только Азии. Исследование в Африке, использовавшее примерно аналогичные методы, обнаружило, что доля леворуких в населении Берега Слоновой Кости составляет 7,9 %, а в Судане только 5,1 %. И задавшись вопросом, почему существуют такие исторические различия в доле леворуких в Европе и Северной Америке, мы также должны спросить, почему столь значительные различия даже в конце XX века обнаруживаются в Европе, Америке, Азии и Африке[305].
Рис. 9.1. Леворукость на протяжении XX века. Процент леворуких указан по вертикали, доля мужчин показана сплошной черной линией, женщин – серой областью
В биологии различия между группами можно объяснить только различиями в генах или окружающей среде. Поскольку праворукость и леворукость контролируются генетически, вполне возможно, что исторические и географические различия, описанные выше, связаны с различиями в распространенности генов, связанных с леворукостью, – чем больше генов C в популяции, тем больше будет левшей. Хотя такое возможно, большинство социологов, вероятно, сочли бы, что лучше объяснить это факторами окружающей среды, например давлением общества. Левша в мире правшей сталкивается со множеством социальных проблем, в прошлом куда более серьезных, чем ныне, а в некоторых не западных странах, хранящих верность традициям, эти проблемы существуют и сегодня, в частности символически важно определенные действия проделывать именно правой рукой. Вообще говоря, все подобные эффекты среды можно назвать «социальным давлением». В результате люди могут родиться левшами, но в большинстве случаев вынуждены становиться правшами. Поэтому опросы и исследования относят их к правшам.
Говоря о причинах исторических и географических отличий в доминировании рук, трудно отделить генетические факторы от давления общества. Незначительное количество C-генов или мощное социальное давление ведут к одному и тому же результату – малому числу леворуких. Поэтому задача в том, чтобы найти способ, позволяющий отличить генетические факторы от социальных. Эту проблему мы с Филом Брайденом не раз обсуждали при каждой встрече. В июле 1996-го, когда я был в Ватерлоо, всего за месяц до внезапной смерти Брайдена во время конференции в Монреале, мы с Филом поняли, как выйти из этого тупика. Социальные и генетические влияния можно различить, если знать, как доминирование рук передается в семьях, а мы точно знали это из собранных Филом данных по Канаде и Индии. Но чтобы понять эти результаты, позвольте мне обратиться к теории на примере трех воображаемых стран – Эврихии, Логении и Хипрессии[306].
Эврихия – страна, где левша может быть левшой, социальное давление со стороны праворуких отсутствует, и потому десять процентов эврихийцев – левши. Генетический механизм передачи леворукости действует так, как описано в главе 7, и в семьях ведущая рука наследуется умеренно. Как предсказывает генетическая теория, 7,8 % детей праворуких родителей будут леворукими, 19,5 % детей окажутся леворукими, если левшами были оба или кто-то один из родителей. То есть леворукие дети встречаются в 2,5 раза чаще, если кто-то из родителей левша, чем в том случае, если и мать, и отец – правши. Характер наследования ведущей руки ведет к тому, что двадцать процентов генов в генофонде являются C-генами (то есть дважды десять процентов), а восемьдесят процентов являются D-генами.
В Логении, как и в Эвхирии, не заставляют левшей становиться праворукими. Однако левши встречаются здесь реже, поскольку доля носителей C-генов здесь вдвое меньше, чем в Эвхирии. Так как лишь десять процентов генофонда составляют C-гены, доля леворуких в Логении всего пять процентов, а не десять, как в Эвхирии. Это кажется очевидным в отличие от того, как в семьях здесь передается леворукость. Тот же основной принцип приводит в Логении к неожиданным следствиям. Только 3,8 % детей двух праворуких родителей оказываются левшами – почти вдвое меньше, чем в Эвхирии. Однако, если кто-то из родителей левша, леворукими будут 16 % детей – почти такая же доля, как в Эвхирии. В результате получается, что у ребенка в Логении в 4,2 раза больше шансов оказаться леворуким, если кто-то из родителей левша, чем в том случае, если оба родителя – правши. Таким образом, в Логении леворукость куда больше сохраняется в семьях, чем в Эвхирии, где при тех же условиях шанс оказаться левшой почти вдвое меньше. Чем ниже количество C-генов, тем устойчивее семейное наследование ведущей руки. Хотя этот результат и не парадоксален, он несколько противоречит интуиции.
В Хипрессии леворуким приходится нелегко. Там не любят левшей и с рождения оказывают на них сильное давление, заставляя вести себя так же, как правши. Несмотря на давление, лишь половина левшей переходит к праворукости. В Хипрессии та же доля C-генов в генофонде, что и в Эвхирии, двадцать процентов, так что без социального давления десять процентов хипрессианцев оказались бы леворукими. Однако под воздействием принуждения половина из них переходит к праворукости, и социологические опросы фиксируют, что леворукие составляют пять процентов населения, столько же, сколько в Логении. Способ, которым ведущая рука передается в семьях, однако, довольно сильно отличается от того, что в Логении. Леворукими оказываются 4,5 % детей двух праворуких хипрессианцев, но если кто-то из родителей левша, эта доля возрастает до 9,9 %. Поэтому у ребенка в Хипрессии вероятность стать леворуким оказывается в 2,3 раза больше, если кто-то из его родителей левша.
Семейная леворукость поэтому не столь прочна в Хипрессии, где ее уровень составляет 2,2, тогда как в Логении – 4,5, а в Эвхирии – 2,5. Как это получается, становится ясно из того, что в Хипрессии левши вынуждены вести себя как правши из-за давления общества и потому не отличимы от правшей, но тем не менее несут гены леворукости. У многих детей явно праворуких родителей кто-то из родителей на самом деле – левша, носитель C-генов, которые передаются потомству. Даже предположив, что под давлением общества половина всех леворуких детей становятся праворукими, в Хипрессии у праворуких родителей все же окажется больше леворуких детей, чем в Логении (4,5 % против 3,8 %). Давление общества в Хипрессии также ведет к тому, что в семьях, где кто-то из родителей левша, оказывается относительно меньше леворуких детей, чем в Логении (9,9 % против 16 %). Соедините эти два эффекта – и Хипрессия, и Логения окажутся очень разными. Теперь у нас есть способ узнать, связано ли малое число левшей в Логении и Хипрессии с генетическими или социальными факторами. Если ведущая рука лучше передается в семьях, то связано это с малым числом генов, как в Логении, если же в семьях леворукость представлена слабо, следовательно, дело в давлении общества, как в Хипрессии[307].
Теперь, когда способ отличить генетические факторы от социального давления был найден, мы с Филом могли выяснить, похожи ли воображаемые Логения или Хипрессия на реальные страны с низким числом леворуких, такие как Индия и Япония. Относительно полученных Филом данных по Индии и Канаде ответ был предельно ясен. В Индии леворукость не просто встречается реже, но и куда прочнее укоренена в семьях, и, таким образом, Индия напоминает Логению. Такой же результат позже обнаружили данные из Японии, Объединенных Арабских Эмиратов, а также материалов, полученных другими учеными из Берега Слоновой Кости и Судана. Все эти страны напоминают Логению, и нигде мы не нашли страны, которая напоминала бы Хипрессию. И хотя социологи могли бы предполагать обратное, выводы были достаточно ясны: леворукие реже встречаются в Индии и других странах именно потому, что там меньше носителей генов леворукости, а не из-за давления общества. Это значит не то, что давление общества не имеет значения, а лишь то, что работает оно куда более незаметно, а не грубо и прямолинейно, как в нашей придуманной Хипрессии. Чтобы понять, как такое давление могло осуществляться, нам понадобится обратиться к фактам из истории Западной Европы и Северной Америки[308].
Если все же прошлое – другая страна, то какая, Хипрессия или Логения? На Западе с начала XX века ученые обращались к вопросу о том, наследуется ли доминирование рук. В 1927 году Чемберлен опросил большую группу абитуриентов Университета штата Огайо, выяснив, правая или левая рука доминирует у них и их родственников – в большинстве случаев речь шла о людях, родившихся между 1900 и 1920 годом. Из 7714 детей леворукими оказались 368, 4,8 %, доля, близкая как к оценке Огла 1871 года, так и к результатам опроса National Geographic применительно к рожденным до 1920 года. Но нам нужно было более внимательно присмотреться к семейным данным, прежде чем судить о том, связан ли столь низкий процент с генетическими факторами или с давлением общества. И вот каковы результаты. В случае двух праворуких родителей 4,3 % детей оказались левшами – по сравнению с 12,3 % для тех случаев, когда левшой был один из родителей. Таким образом, если один из родителей был леворуким, шансы ребенка оказаться левшой были в 2,9 раза больше. Результаты, полученные Чемберленом, не были исключением. В пяти семейных исследованиях детей, родившихся до 1939 года, среди которых доля левшей составляла 7,3 %, для ребенка шанс оказаться леворуким возрастал в 3,29 раза, если один из родителей был левшой. Напротив, в семейных исследованиях детей, родившихся после 1955 года, среди которых доля левшей составляла 13,3 %, у ребенка, у которого один из родителей был левшой, вероятность оказаться леворуким была всего в 1,64 раза больше. Если современная величина 1,64 соответствует ситуации Эвхирии, то более ранняя цифра 3,29 больше напоминает Логению, а не Хипрессию. Малая доля леворуких в начале XX века связана с меньшим количеством C-генов, а не с давлением общества. Это точное соответствие с современными Индией и Японией и Западом столетней давности[309].
Похоже, что на протяжении XX века на Западе количество C-генов в генофонде населения увеличилось почти вдвое. У такого изменения должна быть какая-то причина. Частота генов в генофонде возрастает, если они успешны, и падает в противоположном случае. Успех означает лишь одно: большее число потомков. Итак, нам следует выяснить, одинаковое ли количество детей рождалось у левшей и правшей. К счастью, у нас есть такая возможность благодаря историческим исследованиям. В семьях, в которых дети родились после 1955 года, среднее количество детей у праворуких родителей составляло 2,49, в случае, если один из родителей левша – 2,6, и у леворуких родителей – 2,57. Разница невелика, у леворуких родителей лишь чуть больше детей. В первой половине XX века, однако, картина была совершенно иной. Семьи вообще были больше, и в среднем у праворуких родителей число детей составляло 3,1. Однако, если один из родителей был левшой, это число падало до 2,69, а если левшами были оба родителя, то всего до 2,32. Иначе говоря, у двух праворуких родителей было на 34 % больше детей, чем у двух леворуких. Это на удивление большая разница, которая могла оказать влияние на долю связанных с леворукостью генов в генофонде популяции[310].
Почему у левшей было меньше детей и как этот вывод совместим с нашим предыдущим выводом о том, что низкий уровень леворукости, как в географическом, так и в историческом отношении, не обусловлен давлением общества? Дело в том, что давление общества происходит не напрямую, как в придуманной Хипрессии, без насильственного принуждения каждого левши стать правшой – битьем ли, унижениями в школе, дома или вообще в обществе. Переделать леворуких не так-то легко, поэтому неудивительно, что лишь относительно немногие левши меняются в результате прямого давления. Непрямое давление общества куда изощреннее.
Непрямое давление общества – скрытая сила, значительно более действенная. Какой-то слушок, несколько точно направленных подколок, усмешка-другая в нужный момент – и люди чувствуют себя отверженными, отделенными, презираемыми, и, возможно, в итоге не считаются потенциальными сексуальными партнерами. В небольших традиционных и дотехнологических обществах эффекты такого давления могут быть достаточно велики, особенно в мире, где большинство людей вступают в брак с теми, кто живет по соседству, в десяти – двадцати милях. Непрямое давление общества не вынуждает человека совсем прекратить поиски партнера или отказываться от обзаведения потомством, но может отсрочить дело, а чем позже люди обзаводятся детьми, тем меньше у них их будет. В прошлом, когда семьи были больше, а контроль над рождаемостью слабее, подобные эффекты должны были сказываться сильнее. Примерно так могло работать скрытое давление общества. Очевидно, раз есть сведения, что подобные процессы действовали на Западе в начале XX века, они могут действовать и в менее развитой части мира в начале XXI века.
Хотя из рис. 9.1 очевидно, что на протяжении XX столетия в распространенности леворукости произошли большие изменения, ясно и то, что к концу XX века рост леворукости прекратился. Похоже, что был достигнут естественный, или «истинный», уровень частоты леворукости в популяции. Непрямое давление общества викторианских времен могло помешать левшам обзаводиться детьми, но когда это давление прекратилось, доля леворуких стала расти и вернулась к тому, что кажется «истинным» уровнем. Похоже, между долями правшей и левшей существует некий баланс, при этом доля леворуких устойчиво составляет от десяти до двенадцати процентов. Это, однако, вызывает множество вопросов относительно возникновения леворукости и того, насколько ее частота предопределена, а из этого вытекают более общие вопросы о том, как и почему развивались праворукость и леворукость на протяжении более длительных, чем столетие, промежутков времени.
Чтобы узнать причину возникновения того или иного явления, нужно сначала выяснить, как и когда оно возникло впервые, – а это всегда нелегко, если речь идет об истории доминирования рук. Если не считать одной неточной оценки, относящейся к ветхозаветному Израилю, вплоть до конца XIX века не существует никаких письменных данных. Существуют, однако, другие первоисточники. Один из них – изобразительное искусство. На картинах изображены люди, совершающие самые разные действия. Ванкуверские психологи Стэн Корен и Клер Порак просмотрели картины, рисунки и скульптуры, на которых люди выполняли руками какие-то сложные действия, например бросали копье. Всего они проанализировали более тысячи подобных изображений самых разных культур, самое раннее из которых было выполнено за три тысячи лет до нашей эры. Из рис. 9.2 видно, что подавляющее большинство людей на этих изображениях действуют правой рукой, однако около 8 % – левой: доля, удивительно близкая к современным оценкам распространенности леворукости. Более того, эта доля удивительно постоянна на протяжении пяти тысяч лет и лишь немного снижается в XIX веке[311].
Рис. 9.2. Доля произведений искусства, созданных на протяжении 5000 лет, персонажи которых пользуются правой (серые столбцы) или левой (белые столбцы) рукой. Штрихами отмечена возможная погрешность
О том, какая рука была ведущей в древности, позволяют судить археологические находки. Серебряная ложка из Милденхолльского клада (рис. 9.3), датируемого IV веком, эпохой римского владычества в Британии – один из 34 предметов, найденных в 1942 году саффолкским фермером, вспахавшим поле на несколько дюймов глубже обычного. Ручку ложки сделали, завернув полоску металла. Правша левой рукой крепко держал бы полоску, закручивая ее по часовой стрелке сильными мышцами правого запястья. Как ни странно, металл в итоге завернется влево, получится левая спираль. Ложка хранится в 49-м зале Британского музея наряду с другими металлическими предметами Римской Британии и Кельтской Европы эпохи бронзы. Среди торквесов (крученых браслетов), ожерелий и предметов быта вроде вилок, ручек котлов и т. п., сделанных между 1600 годом до н. э. и 400 годом н. э., я обнаружил 79 предметов с левыми спиралями и восемь – с правыми, чуть более десяти процентов, так что античные левши оставили след своего существования[312].
Рис. 9.3. Серебряная ложка из Милденхолльского клада (Британский музей)
Свидетельство о левшах еще более раннего времени принес Этци, «ледяной человек», живший около 3200 лет до н. э. и погибший в Альпах. Тело его было найдено в горном леднике, где пролежало более 5000 лет вплоть до 19 сентября 1991 года, когда лед вокруг хорошо сохранившегося тела растаял. Среди найденных у Этци предметов были и несколько витых веревок, явно сделанных правшой, скорее всего самим Этци (см. рис. 3.3). При себе у Этци также был лук и стрелы в колчане, две из которых имели каменный стреловидный наконечник. Перья на хвосте стрел удерживались тонким шнуром, завязанным вокруг древка. Если его завязывает правша, то неизбежно получается левая спираль, но в данном случае лишь одна стрела была такая, на другой же спираль была правая, и, возможно, делал ее лучник-левша[313].
Каменные орудия тоже могут указывать на леворукость. Орудия возрастом около 9000 лет, найденные в Бельгии, подвергли своеобразной «реконструкции» – ученые совместили их, чтобы узнать, из какой глыбы камня они изначально были сделаны. Одна такая глыба была использована для изготовления нескольких орудий, среди которых были и два заостренных сверла. Тщательное микроскопическое исследование сохранившихся на них царапин показало, что вращали эти сверла против часовой стрелки, что характерно для левши. Всего около пяти процентов найденных на стоянке орудий, по-видимому, использовались левшами[314].
С этого момента след леворуких начинает остывать, хотя еще одно свидетельство обнаружилось в Боксгрове, чуть южнее холмов Сассекс-Даунс. Пятьсот тысяч лет назад это был край пресноводных болот, где обитали носороги и гигантские олени. Здесь было найдено около 150 каменных ручных рубил, пригодных для разделки таких животных. Орудия столь хорошо сохранились, что в трех случаях остались отщепы, получавшиеся при изготовлении рубила. В одном случае 1715 отщепов были плотно сосредоточены с правой стороны, из чего можно предположить, что работавший там был левшой[315].
Хотя наличие леворуких прослеживается с давних времен, большая часть человечества – правши, и такое положение сохраняется по меньшей мере два миллиона лет, то есть со времен Homo habilis, предшественника современного Homo sapiens. Некоторые обстоятельства наводят на мысль, что Homo habilis был праворуким. Как и у современных людей, у Homo habilis порой застревала пища в зубах, и одним из первых изобретений была зубочистка, которую, судя по оставленным на зубах возрастом в полтора миллиона лет, обычно держали правой рукой. Иногда ведущую руку удается определить по костям скелета, однако, если не считать черепов, окаменелые кости встречаются редко и еще реже в достаточно полном виде, чтобы можно было сравнить правую и левую стороны. В одном из скелетов возрастом 1,6 миллиона лет, найденном в Кении в Нариокотоме, сохранились обе ключичные кости, и по ним можно судить, где крепилась мощная дельтовидная мышца. Правая мышца была больше левой, и правая рука, по-видимому, сильнее, а значит, человек был правшой[316].
Куда лучше, чем кости, сохранились каменные орудия, почти неразрушимые свидетельства начала человеческой культуры. О нашем долге безвестным праотцам писал Оден:
- …какой великий шаг пришлось им сделать.
- Должны быть памятники, должны быть оды,
- безымянным героям, впервые взявшим камень,
- и первыми ударившим по кремню,
- забыв о пище…
- где бы мы были, если б не они?
Эти орудия также могут рассказать и о том, какая рука была ведущей у первых каменотесов. Большинство правшей держат левой рукой камень-ядро, в правой держа ударник, которым откалывают куски. Каждый удар слегка поворачивает ядро, и отщепы отлетают с некоторым отклонением, позволяя судить о том, какой рукой человек работал. Антрополог Николас Тот изучил отщепы со стоянки Кооби Фора в Кении, возраст которой около 1,8 миллиона лет, и выяснил, что расположение отщепов соответствует работе правой рукой, и праворукость, по-видимому, преобладала[317].
Итак, наши древние предки, как и мы, были в основном праворукими. Но как обстоит дело с их предшественниками? Это ключевой вопрос для понимания эволюции преобладания той или иной руки, и в настоящее время он горячо обсуждается. В поисках ответа нам стоит задаться вопросом, можно ли говорить о ведущих конечностях применительно к каким-либо животным. В широком смысле слова следует ответить «да», хотя праворукость проявляется лишь у людей. Взять, например, кошек. Большинство кошек достают еду из банки одной из лап чаще, чем другой. Как и люди, они отдают предпочтение одной из конечностей. Но от людей кошки отличаются тем, что половина кошек предпочитают левую лапу, а половина – правую. Среди людей же 90 % предпочитают правую руку. Таким образом, люди проявляют праворукость, а кошки – нет.
У людей ведущая рука передается в семьях, тогда как у животных этого, по-видимому, не происходит, и у двух леволапых кошек вероятность рождения леволапого котенка точно такая же, как и у двух праволапых. С точки зрения описанной выше генетической модели это как если бы у всех животных было двойное количество C-генов. Я пишу «как если бы», потому что, строго говоря, C-ген – это «пустой» ген, который совершенно ни на что не влияет, весь его эффект состоит в том, чтобы флуктуирующая асимметрия определила левую или правую доминанту. Проще, однако, говорить об этом, как если бы причиной была некая последовательность в ДНК. При таком сценарии праворукость и вызывающий ее D-ген – специфическая человеческая особенность[318].
То есть все просто. Однако за минувшие двадцать лет ученые обнаружили немало незаметных асимметрий в том, как животные пользуются своими правыми и левыми лапами/ногами/крыльями/клыками/рогами/плавниками и всем прочим. Все это, несомненно, примеры предпочтения правого или левого, но споры вызывает вопрос, преобладает ли среди них предпочтение правого. Взять, к примеру, наших ближайших родственников, человекообразных обезьян. Наличие правой или левой доминанты у них хорошо документировано благодаря работам Дика Бирна, долгие часы наблюдавшего за пищевыми привычками горных горилл в Руанде. Чтобы раздобыть свою любимую растительную пищу, гориллы выполняют сложную последовательность действий. Так, поедая листья крапивы, они крепко держат низ растения правой рукой, а затем сдвигают левую руку вверх по стеблю, формируя пучок листьев, который затем зажимают правой рукой (см. диаграмму на рис. 9.4). Леворукие гориллы все делают наоборот. У горилл все так же, как у кошек, – половина левшей, половина правшей. Итак, ведущие конечности у них есть, но назвать их праворукими нельзя. А вот шимпанзе – это другой случай. Изучение их в дикой природе показало, что половина из них предпочитают использовать правую руку, половина – левую. Но выполнение более конкретных заданий в лабораторных условиях показало, что чуть большее количество шимпанзе предпочитают при этом пользоваться правой, а не левой рукой, в частности при выполнении заданий, требовавших работы обеими руками, когда одной рукой надо держать предмет, а другой что-то с ним делать. Таким образом, шимпанзе, возможно, проявляют праворукость. Однако, даже если это так, преобладание праворуких над леворукими чрезвычайно мало, доля правшей лишь около 60 %, весьма далекое от предельного – девять правшей на одного левшу – соотношения у людей[319].
Рис. 9.4. Как праворукие горные гориллы пользуются правой и левой руками, чтобы собрать в пучок листья крапивы. Леворукие гориллы делают это противоположным образом
Генетическая близость шимпанзе и людей вызывает искушение считать любую склонность к праворукости у шимпанзе связанной с теми же причинами, что приводят к преобладанию праворукости у людей. Это может даже привести к мысли о существовании какого-то общего предка, жившего 8 или 10 миллионов лет назад, который тоже был праворуким. Однако эти предположения не обоснованы. Общий праворукий предок мог существовать, но с той же вероятностью праворукость у шимпанзе возникла полмиллиона лет назад, намного позже разделения с предками человека. Праворукость у людей и шимпанзе может быть обусловлена совершенно разными явлениями, эволюционно никак не связанными. Только внешнее сходство не значит, что оба явления возникли одинаковым образом в одно и то же время. Ящер, живший 290 миллионов лет назад, возможно, был первым существом, бегавшим на двух ногах, но это не значит, что наша способность к прямохождению имеет с этим что-то общее. Прямохождение ящера аналогично нашему, но не гомологично [320].
Если бы шимпанзе были единственными животными, проявляющими асимметрию на популяционном уровне, было бы намного легче считать, что праворукость у них имеет что-то общее с человеческой. Однако поведенческая асимметрия на популяционном уровне встречается и у других животных. Хороший пример – лабораторные мыши, поскольку асимметрию в их поведении довольно просто наблюдать. Некая привлекательная пища помещается в узкую трубку из плексигласа, установленную в стенке клетки, животное заходит в трубку и берет пищу одной или другой лапкой, и исследователь считает, сколько раз из пятидесяти случаев используется правая. У большинства мышей есть индивидуальные предпочтения, но долгое время считалось, что правшей и левшей среди них поровну. По мере того как исследования охватывали все большее число мышиных линий, стало ясно, что некоторые линии проявляют праворукость, хотя и незначительную, как и у шимпанзе, лишь 55–60 процентов мышей предпочитают правую лапку. Подобные данные есть и о других видах животных. Например, горбатые киты предпочитают шлепать по поверхности воды лишь одним из плавников, и три четверти предпочитают делать это именно правым. И шимпанзе, и мыши, и киты – млекопитающие, однако, как мы увидим, асимметрии обнаруживаются далеко за пределами этого типа животных[321].
В начале XII века китайский император Хуэй-Цзун созвал художников, чтобы те нарисовали портреты павлинов из его сада. Но, увидев одну из работ, покачал головой: на картине павлин забирался на ложе из цветов, подняв правую ногу. «Павлины всегда сначала поднимают левую ногу», – сказал император. Равным образом и попугаи обычно действуют сначала левой ногой, а домашние куры – скребут землю правой ногой. Асимметрия свойственна и некоторым жабам, но если обыкновенная жаба предпочитает убирать мусор с морды правой ногой, то зеленой и тростниковой жабам это не свойственно. Рыба гамбузия обычно обходит предметы слева, как и некоторые другие виды рыб. И хотя некоторым видам земноводных и рыб свойственна подобная асимметричность действий, другие, даже близко родственные, ничего подобного не проявляют, и можно предположить, что подобные асимметрии достаточно специфичны. Асимметрии присущи не только ныне живущим организмам. На болотистых равнинах Кару в Южной Африке 240 миллионов лет обитали звероподобные ящеры дииктодоны (Diictodon), напоминавшие таксу в змеиной коже. Они рыли необычные спиральные норы; некоторые из них окаменели и позволяют получить прекрасные слепки, известные как «Чертов штопор». Как и все штопоры, норы в основном закручены вправо, из чего можно предположить, что дюктодонам также свойственна была асимметрия. Древнейшее известное нам проявление поведенческой асимметрии принадлежит трилобитам, некоторые из которых жили более 500 миллионов лет назад. На многих окаменелых трилобитах сохранились следы повреждений, нанесенных, вероятно, какими-то хищниками. С правой стороны они оказываются вдвое-втрое чаще. Не ясно, связано ли это с асимметричностью в поведении трилобитов или нападавших на них хищников[322].
Интерпретировать поведенческие асимметрии сложно, но нисколько не легче интерпретировать гораздо более распространенные анатомические асимметрии, встречающиеся во множестве организмов. Иногда они совершенно очевидны и оказываются определяющими, как в случае с камбалой, подробно разобранном в главе 5 – еще Дарвин замечал, что эта рыба «отличается асимметричной формой тела». На дне камбала может лежать либо на левом, либо на правом боку. У самых примитивных видов камбалообразных наблюдается флуктуирующая асимметрия, половина рыб лежит на левом, половина – на правом боку. Морской язык и камбала почти постоянно лежат на одном боку, причем некоторые виды лежат только на правом боку, а другие – только на левом. Не только у камбалообразных асимметрия стала основой определения вида. Форминиферы, повсеместно распространенные морские простейшие, чьи усыпающие морское дно скелеты, окаменев, становятся для биологов и геологов основой для датировки осадков, включают сотни различных видов, принципиально отличающихся формой раковин. Так, у Neogloboquadrina pachyderma известны правая и левая формы, представляющие собой зеркальное отражение друг друга. Традиционно считалось, что одна форма возникает в теплой воде, другая – в холодной. И только с появлением молекулярной генетики стало понятно, что подобная интерпретация совершенно неверна. Как и в случае с лево- и правосторонними камбалообразными, оказалось, что левая и правая формы Neogloboquadrina pachyderma – на самом деле разные виды с разными ДНК[323].
Примеры анатомической асимметрии у животных можно множить и множить, очень уж они различны и занимательны. Раковины улиток обычно закручены по часовой стрелке, но иногда спираль закручена в противоположном направлении. У самцов манящих крабов и раков-щелкунов одна из передних клешней значительно больше другой, вероятно, из-за полового отбора. Крабы-отшельники предпочитают жить в раковинах, закрученных влево или вправо, причем две формы разошлись около 80 миллионов лет назад. У некоторых бабочек левое переднее крыло больше правого, и поэтому они летают кругами, что увеличивает шанс встретить партнера. Кузнечик с асимметричными крыльями стрекочет, касаясь левым крылом верхушки правого, уши у сов находятся на разной высоте, чтобы, не поворачивая головы, можно было точно определять источник звука; наконец (хотя это далеко не всё), у африканского кораллового аспида не один пенис, а два полупениса, и правый больше левого[324].
Физик лорд Резерфорд как-то заметил, что «вся наука – это либо физика, либо коллекционирование марок». Коллекционировать асимметричности может быть и занимательно, но развитие науки – это доказательство или опровержение теорий. Почему и у людей, и у животных появляются асимметрии? Ответ, по крайней мере частичный, обнаруживается в том, что отец экономической теории Адам Смит называл «разделением труда». В пример он приводил изготовление иголок, требующее ручного труда и восемнадцать отдельных операций. Работая в одиночку, человек делает в день два десятка булавок. Но если несколько человек работают совместно, но каждый сосредоточится на одной-двух операциях, то десять человек за день сделают 48 тысяч булавок – почти по пять тысяч на каждого. Причина увеличения производительности отчасти в том, что «развитие ловкости рабочего обязательно увеличивает количество работы, которое он в состоянии выполнить, а разделение труда… неизбежно в значительной мере увеличивает ловкость рабочего». Мы можем применить это рассуждение к «разделению труда» между руками. Прекрасная иллюстрация – шимпанзе, обитающие в национальном парке Гомбе в Танзании. Они «выуживают» термитов, вставляя в термитник тонкий прутик или травинку. Термиты набрасываются на предмет, впиваясь в него челюстями. Если прутик медленно вытащить, на нем окажутся термиты-солдаты, которых можно съесть. В ноябре, на пике сезона, шимпанзе по два часа в день предаются этому занятию, расходуя на добычу термитов по десять процентов дневного времени. Некоторые шимпанзе могут выуживать термитов любой рукой. Другие всегда предпочитают одну и ту же, и как Адам Смит и подозревал, справляются куда лучше, добывая термитов на 36 % больше. Специализация способствует эффективности даже между двумя руками, поэтому асимметрия всегда дает преимущество. Заметим, однако, что это никак не связано с тем, какая именно рука используется – и действительно, половина танзанийских шимпанзе предпочитают выуживать термитов левой рукой, а половина – правой. Чтобы объяснить праворукость, объяснения асимметрии недостаточно[325].
Самая очевидная особенность праворукости отражена и в слове, которое использует Адам Смит – «ловкость». Правая рука особенно этим отличается, выполняя точные, быстрые и сложные манипуляции с предметами – какие нужны, например, при изготовлении булавок. В большой мере мы обязаны этим мозгу, контролирующему движения, но в уравнении есть и другая часть, которую мы почти полностью игнорируем – сама рука. Это удивительный орган, без которого наша асимметричность была бы незначительной мелочью, вроде поведения тех китов, что предпочитают шлепать по воде правым плавником. Итак, пора обратиться и к самой руке.
Аристотель называл человеческую руку орудием, состоящим из множества орудий. Если у других животных части тела сформировались в ходе эволюции специально для бега, лазанья, полета, плавания или даже для зависания, как у ленивцев, то у человека нет такой специализации, человеческая рука развивалась таким образом, что стала пригодна для самой разной деятельности. Это совершенный универсальный инструмент, своего рода швейцарский нож, который можно использовать практически для всего – охоты, бега, полета, плавания, – сделав этим инструментом машины, которые способны выполнить любые задачи. Необходима, конечно, связь с мозгом, контролирующим этот инструмент, но и мозг был бы далеко не столь полезен без сопряженных с ним рук. Мозг и руки развивались совместно[326].
Сэр Филип Сидни, поэт и воин XVI века, в своей экстравагантной поэме пишет о группе живущих в безгрешном еще мире зверей, которые, хотя и живут в полной гармонии, все же упрашивают Юпитера дать им царя, чтобы тот правил ими. Каждое животное отдает свою лучшую часть новому властителю: лев – свое сердце, слон – память, попугай – язык, корова – глаза, лисица – хитрость, орел – зрение, и наконец, обезьяна вручает «орудие из орудий, свою руку». Результат, как и следовало ожидать, оборачивается катастрофой, потому что новым властителем оказывается человек, который, конечно, властвует над всеми животными, но отнюдь не им на благо. В этой истории человеческая рука играет свою подлинную роль, потому что лучшее ее подобие обнаруживается у обезьян. На рис. 9.5 показано широкое разнообразие рук обезьян и приматов, в том числе гиббонов (Hylobates), орангутанов (Pongo), шимпанзе (Pan) и горилл. Все эти руки вполне справляются с конкретными задачами, но с функциональной точки зрения ни одна из них не превосходит человеческую руку. Так что же такого особенного в человеческой руке?
На рис. 9.5 не слишком хорошо видно, чем отличаются друг от друга руки приматов. Наша собственная рука, рука рода Homo, напоминает лишь две из них – руку паукообразной обезьяны (Ateles) и руку обезьяны колобус (Colobus) – а именно наличием четырех пальцев и противопоставленного им большого пальца. Базовая схема человеческой руки, таким образом, не исключение, но лишь одна из вариаций хорошо адаптируемой передней конечности позвоночных. Настоящие отличия обнаруживаются в ее функциях. Положите ладонь на стол. Вы видите все пять пальцев. Теперь прикоснитесь подушечкой большого пальца к подушечке указательного, среднего, безымянного и мизинца. Это действие способны осуществить только люди, и называется оно «оппозиция» или «противопоставление». Посмотрите внимательно на свои пальцы. Когда вы что-то делаете, большой и все остальные пальцы всегда оказываются противопоставлены друг другу. Оппозиция возможна только благодаря особой мышце, позволяющей поворачивать большой палец и представляющей собой уникальную особенность человека. До некоторой степени может поворачиваться и мизинец – так называемое ульнарное противопоставление. Способные к противопоставлению большой палец и мизинец вместе позволяют человеческой руке производить два важнейших движения: точный щипковый хват и мощный кистевой хват. Что бы ни требовалось сделать – взять иголку или яйцо, ударить молотком, открыть крышку банки – для всего этого нужно противопоставить большой палец или мизинец. Человекообразные обезьяны способны подбирать предметы, но не могут удерживать их с такой точностью или силой, как люди[327].
Рис. 9.5. Правые кисти различных приматов. Полуобезьяны: от лемуров до долгопятов; обезьяны Нового Света: от игрунковых до коат; обезьяны Старого Света: от макак до колобусов; человекообразные обезьяны: от гиббонов до горилл. Тупайи ныне большинством авторитетных специалистов также считаются приматами
У большинства приматов цепкие руки, то есть их пальцы могут обхватывать предметы и удерживать их. Это жизненно важная способность для тех, кто перемещается среди деревьев и по деревьям, перебираясь с ветки на ветку – и действительно, у многих приматов и ступни цепкие, а у обезьян Нового Света – и хвосты, которыми они тоже обхватывают ветки. Такие захваты пальцами, однако, недостаточны для умелого использования орудий, что могут подтвердить люди, лишившиеся большого пальца. В сложных движениях применяются щипковые и кистевые хваты. Мы держим карандаш подушечками большого, указательного и среднего пальцев – трехпальцевый вариант щипкового хвата. Его разновидность используется для точных манипуляций с более крупными предметами, например при откручивании крышки банки, но в этом случае предмет удерживается подушечками всех пяти пальцев – «пятипальцевый захват». Кистевой хват необходим, когда нужно бить молотком или копать, при этом большой палец противопоставлен остальным: он объемлет ручку и усиливает хват. Особенно важным является то, как вся рука склоняется в сторону мизинца, так что предплечье и молоток выровнены. У фехтовальщика рука и меч вместе образуют единую прямую линию от плеча до кончика меча. Шимпанзе не может принять эту позу, поэтому всегда держит палку под углом к предплечью и не может использовать ее с точностью[328].
Кисти наших рук прошли в своем становлении несколько этапов. Рука австралопитека, жившего 3–4 миллиона лет назад, отличается от руки как современного человека, так и шимпанзе, однако ее большой палец выглядит удивительно современным, и можно предположить, что австралопитек уже владел трехпальцевым захватом. Мизинец, однако, был мало похож на человеческий, он не мог смещаться к ладони, и поэтому ранним гоминидам был недоступен кистевой хват, как и вообще способность держать что-то всеми пятью пальцами. Поэтому они не могли делать орудия, ударяя крупными камнями по другим камням (это подтверждается тем, что рядом с австралопитеками никогда не находили каменных орудий). Тем не менее трехпальцевый захват был преимуществом при выполнении некоторых требующих ловкости действий – например, умения бросать небольшие камни. Австралопитек действительно мог бросать камни – это подтверждает строение таза. Чтобы точно бросить камень, нужно еще и выставить одну ногу вперед и быстро повернуть туловище, чтобы вложить в бросок вес всего тела. Шимпанзе не способны это сделать, потому что большая ягодичная мышца, одна из тех, что поддерживают туловище в вертикальном положении, прикрепляется к костям таза иначе. У австралопитека же крепление этой мышцы позволяло кидать камни поднятой вверх рукой[329].
Когда именно возник кистевой хват, столь важный для орудийной деятельности и манипулирования тяжелыми предметами, неизвестно. Ископаемые кости кисти в полном виде встречаются крайне редко. Единственный образчик кисти Homo erectus возрастом 1,75 миллиона лет из Олдувайского ущелья в Танзании, возможно, говорит о том, что она уже была способна к кистевому хвату, но данные не вполне убедительны. А далее следует обескураживающая пауза вплоть до времен неандертальцев, следующей находке всего 50 тысяч лет. И все же, хотя ископаемых остатков кистей рук не хватает, в немалом количестве и хорошей сохранности встречаются каменные орудия. Что-то должно было значительно измениться, чтобы изготовление таких орудий стало возможным, и мы должны предположить, что пятипальцевый захват и кистевой хват существовали уже два или даже два с половиной миллиона лет назад. Кисть руки сделалась сложным инструментом, способным адаптироваться к нуждам технологического общества[330].
Сложному инструменту необходима сложная система управления. Как заметил прославленный анатом Фредерик Вуд Джонс, «в многообразии действий человеческой руки нас восхищает прежде всего совершенство человеческого мозга, а не кости, мышцы и связки». Фактически мозг и рука необходимы друг другу: по словам писателя Робертсона Дэвиса, «рука говорит с мозгом так же уверенно, как мозг говорит с рукой». Развитие мозга и человеческой кисти шло в постоянном диалоге. Около трех миллионов лет назад мозг австралопитека весил около 450 граммов, а полтора миллиона лет назад мозг Homo erectus был уже вдвое больше. Полмиллиона лет назад мозг ранних Homo sapiens весил уже 1300–1400 граммов, примерно столько же, сколько у современных людей. Эта эволюция мозга – ключевой момент в понимании асимметрии наших рук, поскольку сама по себе эволюция кисти ничего не говорит о существовании именно праворукости, поскольку за все время эволюции человека строение правой руки практически не отличалось от строения левой. Праворукость должна быть как-то связана с эволюцией мозга[331].
Всего за миллион лет, где-то в интервале между двумя и тремя миллионами лет назад, человеческий мозг должен был стать асимметричным. Разумеется, к тому моменту он уже состоял из двух частей, правого и левого полушарий, соединенных огромным пучком нервных волокон, так называемым мозолистым телом. Хотя мозолистое тело велико и надежно, из-за большого объема информации, передающегося по нервным связям из полушария в полушарие, его пропускная способность ограничена и обмен информацией идет довольно медленно. Представьте себе большую корпорацию со штаб-квартирами в Северном и Южном полушариях, каждая из которых располагает своим мощным компьютером, но соединены они только старомодными телефонными линиями. Эти два компьютера могут работать совместно, но они вряд ли смогут функционировать как единое целое. Задержки связи и ограниченная пропускная способность телефонных линий будут мешать полной интеграции. В таком случае лучшей стратегией станет специализация каждого компьютера на том, что более важно в его полушарии, а задачи более высокого уровня будут распределены между ними, например один будет занят производством, другой – сбытом. Тогда каждый компьютер будет передавать лишь данные, специально предназначенные и необходимые для другого, что позволит обойтись меньшей нагрузкой на коммуникации. Все подобные системы подвержены опасности блокировки, или «зависания». Известны истории о первых ракетах, оснащенных двумя компьютерами, каждый из которых вел свой предстартовый отсчет, но когда он доходил до «нуля», ничего не происходило, потому что каждый компьютер ждал сигнала от другого. Существует решение – назначить один компьютер главным, а другой – подчиненным. При выполнении любой задачи один из компьютеров будет выполнять доминирующую роль, что предотвратит зависание. Возможно, этим объясняется, почему с увеличением размера мозга произошла его латерализация и одно из полушарий стало доминирующим. Но, как мы уже знаем, это не объясняет, почему именно левое полушарие контролирует правую руку и речь.
В конечном счете причина латерализации мозга, вероятно, связана с некими различиями в работе правого и левого полушарий или их соединения. Вводные курсы по психологии часто включают таблицу, сравнивающую характер обработки данных разными полушариями, наподобие такой (табл. 9.1):
Таблица 9.1. Характер обработки данных двумя полушариями мозга
Все эти категории в целом указывают на различие двух полушарий, но на очень абстрактном уровне. Мозг между тем есть не что иное, как миллиарды нейронов, соединенных миллиардами синапсов. В ходе развития мозга единственное, на что влияют гены, – то, сколько и какого типа нейронов будет в конкретной зоне мозга, как они будут соединены с близлежащими нейронами и с другими, более дальними, зонами. Поскольку функции левого и правого полушарий отличаются, и существуют генетические основания для таких отличий, то в конечном счете они должны быть связаны с какими-то отличиями на уровне нейронов и связей между ними. Отличия такого рода могли в итоге привести к тому, что одно полушарие лучше справляется с последовательной обработкой символов, а значит, и со сложными аналитическими и логическими задачами, а другое лучше приспособлено к параллельной обработке образов. Но такого рода специализация сама по себе не может задаваться генами[332].
Генетически два полушария мозга могут различаться лишь простыми свойствами нейронов и характером их работы. Время – ключевой фактор в работе нейронов. Сигналы поступают на разные участки их поверхности и затем либо рассеиваются, если оказываются слишком разнесены во времени, либо, если оказываются достаточно близко, суммируются, чтобы нерв в свою очередь породил импульс, возбуждающий другие нервы. Распространение этих импульсов зависит от сети нервных связей, от того, насколько близко нервные клетки расположены друг к другу, сколько их соединено с другими клетками и так далее. Все, что оказывает влияние на временной режим или местоположение нейронов, может сказаться на характере выполняемой операции, так же как скорость, архитектура и память компьютера определяют характер его взаимодействия с человеком или другими компьютерами. Возможно, что временной режим разных полушарий мозга отличается. Это предположение подробно исследовал Майк Николс из Мельбурнского университета в серии простых опытов. Человека просили прослушать краткий фрагмент простого белого шума, что-то вроде шипения ненастроенного радиоприемника, длительностью около четверти секунды. В половине случаев в записи белого шума был момент тишины, и его замечали, хотя его продолжительность была не более двух сотых секунды. В другом варианте этого опыта сравнивали два полушария, подавая сигнал только на одно ухо. Обнаружилось, что правое ухо (и, следовательно, левое полушарие) способно уловить момент тишины, длящийся на 10–15 % меньше. Похоже, левое полушарие работает немного быстрее правого, так как сходные результаты обнаруживаются не только при прослушивании звуков, но и при восприятии вспышек света или слабого прикосновения к пальцу[333].
Распределение времени, или темпоральный режим, критически важно для речи и языка – функций, которыми, как правило, ведает левое полушарие. Так, звуки /б/ и /п/ в словах «бит» и «пик» различаются, потому что при произнесении слова «бит» вибрация связок начинается на одну двадцатую секунду раньше. Воспринимая речь, мозг должен улавливать столь малые различия и в свою очередь должен генерировать их, управляя речью. Лорин Элиас из Саскатунского университета в Канаде показала, что люди, лучше слышащие правым ухом разницу между звуками /б/ и /д/, лучше справляются и с заданиями по определению «промежутков тишины», разработанными Майком Николсом. Возможно, что язык и речь оказались в ведении левого полушария именно потому, что оно работает быстрее. Время важно не только для различения простых фонем, но и для понимания грамматического смысла всей фразы. Прочтите вслух два предложения:
Как сэр Джон упал с лошади?
Как, сэр Джон упал с лошади?
Всего одна запятая значительно меняет смысл. Первую фразу мог бы произнести Эркюль Пуаро, спокойно и без пауз, простой вопрос к свидетелю происшествия. Второе – ближайший наследник сэра Джона. Во втором запятая обозначает паузу при произнесении фразы вслух. В первом «как» – вопросительное слово, во втором – междометие, выражающее удивление, но грамматическую структуру этих двух предложений определяет именно пауза. Язык требует более быстрого «ментального процессора» именно потому, что одинаковая последовательность звуков или слов может иметь множество значений. Кто быстрее определяет истинный смысл, тот эффективнее владеет языком. Возможно, этим объясняется, почему именно левое полушарие управляет языком и речью[334].
Язык и речь – не единственные задачи, требующие точного расчета времени. В одной интересной работе было рассмотрено значение расчета времени при броске. В ходе исследования тренированные спортсмены бросали в цель теннисный мячик, при этом отслеживалось точное положение всех сочленений руки. На рис. 9.6 показаны типичные результаты бросков праворукого спортсмена, сделанных правой и левой рукой. Правая рука действует аккуратнее и с лучшей координацией, а при бросках левой рукой заметны внезапные и более значительные отклонения. Хотя движения кончиков пальцев обеих рук точны, в самый момент броска, когда пальцы отпускают мячик, заметны большие отличия между ними. По мишени, расположенной в трех метрах, выпустить мячик на четыре тысячных секунды раньше или позже значит попасть в мишень на четверть метра выше или ниже. Для первобытных людей, метавших камни на охоте, это значило поесть или остаться голодными. 95 % бросков правой рукой укладывались в «окно» длительностью десять миллисекунд и в 40 процентах случаев поражали мишень. Но при бросках левой лишь менее 60 % укладывались во временное «окно», и лишь 15 % из них достигали цели. Отличие в расчете времени разными полушариями вполне может объяснить, почему в языковых и моторных навыках доминирует левое[335].
Рис. 9.6. Движения правой и левой руки при броске мячика, запись одного испытуемого. Мячик высвобождается в точке, обозначенной как «дистальный триггер»
Различия между правым и левым полушарием, несмотря на то что они лучше всего описываются в терминах поведения на высоком уровне, таких как язык, в конечном счете могут зависеть от относительно низкоуровневой организации нейронных взаимосвязей. В нескольких работах рассмотрены детальные взаимосвязи нервных клеток в двух полушариях. Выяснилось, что у человека левое полушарие сложнее правого, тогда как у шимпанзе и обезьян разница невелика или вовсе отсутствует. Слишком рано говорить о том, связано ли различие в скорости обработки данных с этой нейронной основой, но нельзя исключить такую возможность. Поэтому ключевой вопрос эволюции человека – выяснить, что же произошло два или три миллиона лет назад, что сделало правое и левое полушария разными, в результате чего развились правая рука и язык. Какой новый ген мог участвовать в этом, как он работал и откуда взялся?[336]
Гены не возникают ниоткуда. Новые гены – это последовательности ДНК, обычно возникающие попутно, когда гены выполняют какую-то другую задачу. Копии хромосомных последовательностей создаются, как правило, случайно, и поэтому какое-то время сосуществуют две одинаковые последовательности, выполняющие одну и ту же функцию. Мутации, однако, означают, что обычно такое положение долго не сохраняется, и одна последовательность начинает слегка отличаться от другой. Если отличие ведет к вредным последствиям, то индивид, несущий такой ген, исчезает из популяции. Иногда, однако, мутация ведет к небольшим изменениям в работе копии гена – это происходит либо за счет того, что ген включается чуть позже в процессе развития, либо посредством распознавания других типов клеток, либо потому, что действие такого гена проявляется в другом органе или ткани. Гены, влияющие на право-левую асимметрию, встречаются поразительно редко, известно лишь несколько подобных случаев у позвоночных. Существуют сотни асимметрий, но многие из них, если не подавляющее большинство, вероятно, вторичны по отношению к другим, главной из которых оказывается асимметрия сердца. Вспомним уже упомянутую странную асимметрию кораллового аспида, у которого правый пенис больше левого. Это часть более общей асимметрии, так как и правое яичко у него больше – и у всех позвоночных так, в том числе и у людей. Однако у людей с правым сердцем, расположенным в situs inversus, большим оказывается левое яичко, подтверждая тем самым, что эта асимметрия вторична по отношению к положению сердца. Можно не сомневаться, что подобное обнаружится и у змей[337].
Несомненно, важнейшая асимметрия у позвоночных – это асимметрия сердца, и возникает она из-за каскада подстегивающих друг друга сложных реакций с участием белков, которые в итоге приводят к тому, что клетки с одной стороны первичной сердечной трубки растут чуть быстрее. Начиная с этого момента сердце с большей вероятностью окажется слева, а не справа. «Расписание работы» нескольких генов, местоположение тканей, в которых они функционируют, и тот факт, что они специально предназначены для создания клеток сердца, – все это работает на очевидно простой результат. А теперь вообразите, что копия одного из генов, участвующих в этом процессе, испытала небольшую мутацию и, вместо того чтобы оказывать воздействие на клетки первичной сердечной трубки, стала действовать так, что клетки левой стороны формирующегося мозга начали расти чуть быстрее, чем клетки правой. Возможно, гену, определяющему праворукость и латерализацию языка и речи в левом полушарии, ничего больше и не требуется, чтобы изменить архитектуру мозга на микроуровне и заставить его работать чуть быстрее, может быть, с чуть более эффективными связями. Все остальное, как говорится, уже история – наша история, история, которую мы способны рассказать, потому что у нас есть для этого язык[338].
Эволюционные теории печально известны тем, что их легко придумать, но трудно опровергнуть. Стив Джонс когда-то заметил, что эволюция переполнена аллегориями, как статуи – птичьим пометом, – уж очень удобное место для непереваренных идей. Полезной может считаться только теория, которую можно проверить. К счастью, теория, о которой идет речь, как раз отвечает этому условию – или, по крайней мере, будет отвечать ему в будущем. Если она верна, то, когда будут обнаружены гены, определяющие асимметрию и ведущую руку, они должны оказаться очень похожими на те, что определяют положение сердца у позвоночных. Но пока нам остается только ждать открытия этих генов.
В мозаике, из которой складывается картина эволюции асимметрии и латерализации, все еще не хватает важного фрагмента – как в нее вписываются левши? Поскольку люди явно стали праворукими в ходе эволюции D-гена и поскольку современные левши – носители одной или более копий С-гена, может показаться резонным, что леворукость связана просто с ur- или C-геном. Однако это не может быть так. Если с D-геном связано увеличение скорости работы одного из полушарий мозга, что способствует развитию языка, речи, грамматики, а также точного обращения с орудиями, то его отсутствие привело бы к тому, что левши не умели бы говорить и правильно пользоваться орудиями – а это совершенно не так. Происхождение леворукости у людей требует более тонкого объяснения. Для начала следует отличать современный C-ген, связанный с леворукостью, от древнего C-гена – назовем его C*. Фактически ген этот никак не влиял на то, какая рука окажется ведущей, и был просто пустым символом. Мутация D-гена, давшая ему огромное преимущество перед C* применительно к речи и точности движений рук, привела к быстрому устранению C* из генетического пула. Ген C* вымер. Поэтому в тот период истории человечества у всех людей было по две копии D-гена и, следовательно, все должны были быть праворукими[339].
Если современный C-ген не древний C*, значит, нынешний C-ген должен был возникнуть откуда-то еще. На данный момент нет никаких данных, откуда он мог бы взяться, но самое вероятное объяснение состоит в том, что в какой-то момент последних двух миллионов лет C-ген появился в ходе мутации D-гена. Хотя C-ген сохранил преимущество D-гена, связанное с расчетом времени (если бы не это, он бы тоже вымер), ему удалось это сделать без привязки языковых способностей и точности движений рук к левому полушарию. С того времени и по сей день в популяции присутствуют оба гена, D и C. Что, однако, вызывает очередной важный вопрос: как объяснить, что оба гена одновременно сосуществуют в популяции?
Гены постоянно соревнуются друг с другом. Теория гласит, что если у одного из двух генов есть хоть крошечное преимущество, то более совершенный ген неизбежно и неотвратимо устранит менее совершенный, пусть через сотни или даже тысячи поколений. Так должно было случиться, когда ген C* был обречен на вымирание из-за появления нового D-гена, обладавшего преимуществом в отношении точности движений и владения речью. Фактически гену даже не нужно быть более совершенным, чтобы другой ген полностью исчез. Даже в случае двух одинаково совершенных генов, какой-то из них неминуемо исчезнет из генофонда в результате случайного генетического дрейфа. Это может произойти через тысячи поколений, но в масштабах всей эволюции это происходит просто мгновенно. Поэтому полиморфизм – две разные формы, порождаемые двумя разными генами, – нестабилен по своей природе. Здесь кроется противоречие, потому что существование правшей и левшей – это полиморфизм, а доля левшей остается стабильной уже пять тысяч лет, а то и в 5–10 раз дольше. Поскольку случайный дрейф или небольшое преимущество одного из генов – D или C – неизбежно привели бы к исчезновению одного из генов, какая-то сила должна удерживать их оба в генофонде[340].
Популяционная генетика знает несколько возможностей сохранения стабильности, или «сбалансированости» полиморфизма. Одна из них требует постоянных новых мутаций – как происходит при гемофилии, – но ген С слишком распространен, чтобы такой механизм оказался работоспособен. Понять, почему полиморфизм оказывается сбалансированным, проще всего через так называемое «гетерозиготное преимущество». Люди с одной копией каждого гена, гетерозиготы (применительно к ведущей руке – индивиды с генами DC), более приспособлены, чем гомозиготы, люди с двумя генами D или двумя C. Классический пример – серповидноклеточная анемия: ее гетерозиготные носители (с геном серповидности и обычным геном) в целом более приспособлены, более устойчивы к малярии, чем люди без серповидного гена, и они не страдают от серьезных осложнений, связанных с наличием двух копий серповидного гена. Проблема в том, чтобы понять, что обеспечивает баланс между генами D и C. Если первопричина в гетерозиготном преимуществе, значит, люди с генами DC в чем-то выигрывают по сравнению с DD или CC[341].
Теперь мы полностью погружаемся в область предположений, и хотя мы едва ли можем опереться на эмпирические данные, это не значит, что можно впадать в любые фантазии, потому что теория должна иметь научный смысл и быть правдоподобной в свете того, что мы уже знаем о действии генов D и C. Так, например, можно отвергнуть любую идею о том, что у левшей есть какое-то преимущество перед правшами – мы уже видели, что современные правши и левши имеют одинаковое количество потомков. Еще одна возможная ошибка – спутать ген, который делает возможной леворукость, ген C, с самой леворукостью. Хотя это звучит парадоксально, но люди с генами DC оказываются лучше приспособлены, чем люди с генами DD или CC, и все же в среднем у левшей нет преимущества перед правшами. Следует помнить, что большинство людей DC – правши и что левши с генами CC будут менее приспособленными.
В поисках преимущества для гена C – и особенно для генотипа DC – можно начать с самой поразительной черты гена C – способности привносить случайность в организацию всего мозга, не только оказывать влияние на тонкое владение руками и речью (как подробно описано в главе 8), но почти наверняка и на множество других связанных с мозгом асимметрий, таких как асимметрия чтения, письма, обработки зрительных и пространственных образов, а также эмоций. Пусть это кажется парадоксальным, но случайность, по крайней мере в небольших количествах, может пойти на пользу сложным системам. Идея, которую я представляю – теория случайных церебральных вариаций, – предполагает, что нет людей с одинаковым мозгом, во многих случаях организация мозга принципиально отличается, и что такие вариации иногда позволяют мозгу лучше выполнять особенно сложные задачи. Это необычная теория, поскольку принято считать, что люди не слишком отличаются друг от друга устройством мозга, а все различия возникают только из-за болезней или умственного расстройства. Напротив, в центре моей теории как раз вариации и различия, и она объясняет небезосновательность распространенного мнения, что некоторые люди буквально «думают по-другому» или их мозг «устроен иначе»[342].
Может показаться, что случайность едва ли может быть источником пользы. Но вспомним, как часто в биологии случайные вариации оказываются положительным фактором. Суть дарвиновской теории естественного отбора как раз в том, что мутации происходят случайным образом, и, хотя многие из них невыгодны, полезные мутации в ходе отбора остаются и сохраняются. Так, в иммунной системе посредством случайного комбинирования генотипов синтезируется небольшое количество множества разнообразных иммуноглобулинов (антител), а потом те немногие, что распознают чужеродные объекты (антигены), начинают путем клонального отбора производиться в больших количествах для борьбы с инфекцией. Полезным может быть и случайное поведение: кролик, убегая от лисы, петляет наугад, чтобы лисе было труднее его поймать. Сложные системы любого типа демонстрируют интересный конфликт между организацией и случайностью. Теоретик сложности Стюарт Кауфман показал, как толика случайности или хаоса способствует многим сложным процессам. Сравните однородную структуру льда, где каждая молекула воды связана с соседней в почти полной неподвижности, с хаотичностью водяного пара, молекулы которого движутся так быстро, что никакой структуры здесь быть не может. Между этими крайностями находится жидкая вода, допускающая движение и изменение, и даже агрегацию и организацию. Сама жизнь происходит на грани хаоса, малые изменения становятся предпосылкой больших, которые сохраняются, не разрушаясь[343].
Чтобы случайность оказалась полезной, важно, чтобы ее доля была не слишком велика, иначе она разрушит то, что пытается создать. Помните такие игрушки, «шарики в лабиринте», где требовалось распределить шарики по лункам, слегка покачивая лабиринт? Слишком резкое движение, и шарики катятся в разные стороны, выталкивая те, что уже попали в лунки, а оставшимся шарикам все равно нужен толчок, чтобы переместить их в нужное место. Самая хорошая стратегия – осторожно встряхнуть лабиринт, чтобы свободные шарики покатились в свободные области, не выбивая другие из лунок. Некоторая толика случайности нужна и в процессе отжига – изменения структуры металла путем нагрева, охлаждения и повторного нагрева (другими словами, подвода случайной тепловой энергии), а затем – медленного охлаждения, способствующего правильной кристаллизации.
Если у людей с генами DC и CC структура мозга в ходе развития обретает некую хаотичность, то мозгу людей с генами DD свойственна холодная определенность, как у куска льда. У каждого носителя генов DD мозг организован так же, как у другого человека с генами DD – язык (будь то речь, способность писать или читать), тонкая моторика и точные движения контролирует левое полушарие, а визуально-пространственный анализ, распознавание цвета и лиц, внимание и эмоции – правое. То есть все, как по учебнику. Несомненно, такое строение человеческого мозга эффективно, и, вероятно, у двух третей людей мозг устроен именно таким образом. Если люди с генами DD – лед, то люди с генами CC – пар: разные функции их мозга случайно распределены по полушариям, с равными шансами оказаться в левом или правом. Столь радикальное устройство может оказаться не слишком выгодным, что, вероятно, объясняет, почему аномалии асимметрии и латерализации мозга встречаются при самых разных отклонениях, включая дислексию, заикание, аутизм и шизофрению. Разные зоны мозга, связанные с языком, вероятно, лучше функционируют, если находятся рядом, в одном полушарии, а не разбросаны по двум полушариям, связанные лишь медлительным и неэффективным мозолистым телом[344].
Если несколько процентов людей-носителей CC-генов из-за хаотичной организации головного мозга проигрывают – по отношению к стандартному, универсальному, словно сошедшему с конвейера мозгу людей с генами DD, то как же люди с генами DC оказываются в преимущественном положении и перед теми, и перед другими? Разгадка в том, что у носителей генов DC лишь в одном случае из четырех есть шанс, что какая-то функциональная область мозга (модулярный процесс) окажется не в обычном месте; то есть способность писать может с 25-процентной вероятностью оказаться в правом полушарии, а обработка эмоций и распознавание лиц – в левом. Мы не знаем, сколько отдельных функциональных, или модулярных, процессов одновременно протекает в мозге, но предположим, что дюжина. У человека с генами DD все двенадцать будут четко разделены на левые и правые. У человека с генами CC все будет совершенно иначе, шесть процессов будут происходить в обычных местах, а шесть – с противоположной стороны, и очень вероятно, что протекать они будут неэффективно, а необходимые связи не установятся. Человек с генами DC не столь хаотичен или необычен. Как правило, девять из двенадцати процессов будут протекать в обычных местах, а у многих лишь один-два процесса окажутся «не на месте». Поэтому в большинстве случаев все будет без отклонений. Вопрос в том, окажется ли случайный атипичный процесс полезным или вредным[345].
В научной литературе, посвященной левшам, часто упоминается, что люди, талантливые или одаренные в музыке, математике или изобразительном искусстве, с большой долей вероятности окажутся левшами. Конечно, многие подобные утверждения не соответствуют истине, поскольку опираются на сравнительно небольшие выборки, статистические отклонения и так далее. Однако это не означает, что идея совершенно безосновательна, тем более что в настоящее время мы даже в теории не понимаем, как появляются такие таланты. Идея о том, что мозг иногда в буквальном смысле устроен по-другому, может иметь некоторый потенциал, особенно если различия в строении мозга не слишком велики и не сказываются на его общей эффективности. Возьмем простейший случай, когда в необычном месте расположен лишь один модуль. Может ли это оказаться выгодным?
Ответ, конечно же, зависит от того, какой модуль оказался в случайном месте и где именно. Представьте, что функция восприятия трехмерного пространства оказалась в левом полушарии, а не в правом, и расположилась поблизости от зон, контролирующих точные движения рук. Это вполне может способствовать умению рисовать или, может быть, искусному владению мячом в спорте. В числе минусов может быть неуверенное ориентирование на местности или неуклюжесть в определенных действиях, но до тех пор, пока преимущества при выполнении одной задачи перевешивают минусы, возникающие при выполнении других задач, необычная организация мозга может оказаться полезной данному человеку. Другой пример: если модуль распознавания эмоций окажется не в правом, а в левом полушарии, рядом с областями, контролирующими устную или письменную речь, это может проявиться в поэтическом или актерском даре. Еще один пример: если типично левополушарный модуль, участвующий в символической обработке языка, окажется в правом полушарии рядом с модулями, связанными с обработкой трехмерного пространства, это может способствовать занятиям некоторыми областями математики, например топологией.
Хотя выгодные сочетания модулей могут чаще встречаться у левшей, а точнее, у носителей генов DC, как правшей, так и левшей, это не значит, что левши в целом в чем-то совершеннее правшей. Представьте, скажем, что песни лучше сочиняют те, у кого в правом полушарии оказывается модуль, обычно связанный с произношением и интонацией и работающий в левом полушарии наряду с другими модулями, обрабатывающими значения слов. У левшей такое сочетание будет встречаться чаще, чем у правшей. Однако у левшей также чаще будут встречаться и многие другие комбинации модулей, большинство из которых не принесут пользы при написании песен, а некоторые лишь ухудшат эту способность. Таким образом, в среднем левши способны сочинять песни не более, чем правши. Среди талантливых авторов песен левшей может быть больше, но левшей, не умеющих писать песни, тоже больше. Теория случайной церебральной изменчивости говорит не о способностях средних правшей и левшей, а о повышенной вариабельности среди левшей, а в главе 8 показано, что церебральная изменчивость – один из немногих несомненных фактов, касающихся леворукости, особенно в связи с языком.
До сих пор главное внимание в этой книге уделялось особенностям праворуких и леворуких индивидов. Однако в человеческих обществах люди не живут в полной изоляции, а, напротив, взаимодействуют в социальном плане. И когда нужно выбирать правое и левое, особую важность приобретают именно способы взаимодействия между людьми. Об этом – в следующей главе.
10. Косцы на лугу
В 1871 году Томасу Карлейлю (рис. 10.1) было семьдесят шесть. Этот, по мнению многих, великий старец английской словесности царил в английской критике и мысли уже сорок лет. На пике его влияния, в феврале 1840 года, Эмма Дарвин, жена Чарльза Дарвина, писала о нем своей тете Джесси:
«Я, как и весь мир, читаю Карлейля. Он восхищает и выводит из себя. Его «Чартизм» – что-то вроде памфлета об Англии. Он полон сострадания и добрых чувств, но совершенно неоснователен. Чарльз продолжает его читать и высмеивать. В любом случае с ним очень приятно беседовать, он очень прост, и я вовсе не считаю его сочинения такими».
Обширное и разнообразное наследие Карлейля включает биографические и исторические сочинения, переводы, лекции, социальную критику и огромную переписку. Его взгляды часто вызывали противоречивые отклики, а в статье о рабстве они оказались столь крайними, что оттолкнули даже его самых стойких сторонников. В 1866 году, после сорока лет бурного, но не лишенного счастливых моментов брака, умирает жена Карлейля Джейн Уэлш, которой он часто пренебрегал, но которую по-своему любил. А в 1871 году он пишет свои «Воспоминания», настоящий гимн Джейн, который был опубликован в 1881 году, всего через три недели после смерти самого Карлейля. Он был глубоко несчастлив. «Мрачный, бессолнечный – вот каким вижу я этот почти опустевший мир», – писал он о своих чувствах. Отчасти причиной меланхолии стала утрата всех дорогих ему людей, отчасти – его собственная немощь. Случилась величайшая трагедия для писателя – он больше не мог писать[346].
Правая рука Карлейля «взбунтовалась», и писать он мог только «с кляксами и ошибками». Как он писал в эссе о чартизме, «Разве не ужасно видеть… сильного человека с искалеченной правой рукой?». Дрожь стала заметной весной 1863 года, а в марте 1869 года на нее обратила внимание королева Виктория во время встречи с Карлейлем. Биограф Карлейля Фруд описал его симптомы так:
«В правой руке начиналось дрожание, затруднявшее письмо и грозившее сделать его вовсе невозможным. Дрожали мышцы, и рука непроизвольно дергалась, когда он пытался что-то ею сделать.
Рис. 10.1. Томас Карлейль в своей звуконепроницаемой комнате в доме на улице Чейни-Уок в Лондоне. Здесь ясно видно, что он правша
Хотя спустя 130 лет трудно поставить диагноз, но, вероятнее всего, это была болезнь Паркинсона. В мае 1870 года Карлейль хорошо описал свое состояние в письме брату Джону, написанном синим карандашом, потому что пером он пользоваться больше не мог:
«Мрачно, печально, задумчиво, безмолвно оглядываюсь на то, чего не изменить, и впереди вижу неизбежное и неотвратимое… с тех пор как я лишился власти над письменным словом и фактически потерял способность заниматься своим ремеслом – единственным, чему я научился. Лишиться правой руки – огромная потеря».
К октябрю 1870 года наступило «самое худшее»: ему трудно было даже выпить чашку чая. В начале июня 1871 года он снова упоминает «ужасную потерю» правой руки. «Увы! Увы! Ведь я бы мог еще трудиться, если бы была у меня рука, но приходит ночь, когда никто не может делать»[347]. Чуть позже, в том же месяце, он передал Фруду большую пачку бумаг, над которыми больше не мог работать, – это были «Воспоминания»[348].
Утром 15 июня 1871 года Карлейль вышел на свою обычную прогулку. Соседи безошибочно его узнавали: он медленно шел по набережной Челси в сторону города, глядя прямо под ноги, погруженный в размышления. Ночь накануне была беспокойной, как писал он в своем дневнике: «Сегодня утром вышел, невыспавшийся и хмурый, в погоду ветреную и ясную». Во время этой прогулки его думы, вызванные, возможно, «взбунтовавшейся» правой рукой, обратились к более обширным следствиям праворукости. Это было уже не впервые: «Я часто задумывался об этом»[349]. Его дневник сохранил мысли, которые «никогда не были так ясны, как этим утром»:
«Всякий, кто видел, как три косца, один из которых левша, безуспешно пытаются работать вместе, наблюдал, как простейшие вещи оказываются невыполнимыми – и это коснулось бы всего человечества, если бы не преобладание правой руки».
Сегодня, в век механизированного сельского хозяйства, этот образ далек от нас. Но, возможно, знаменитый эпизод из «Анны Карениной» Толстого поможет нам лучше представить себе эту картину:
«Еще с горы открылась ему под горою тенистая, уже скошенная часть луга, с сереющими рядами и черными кучками кафтанов, снятых косцами на том месте, откуда они зашли в первый ряд. По мере того как он подъезжал, ему открывались шедшие друг за другом растянутою вереницей и различно махавшие косами мужики, кто в кафтанах, кто в одних рубахах. Он насчитал их сорок два человека… Он слышал только лязг кос… Подрезаемая с сочным звуком и пряно пахнущая трава ложилась высокими рядами. Теснившиеся по коротким рядам косцы со всех сторон, побрякивая брусницами и звуча то столкнувшимися косами, то свистом бруска по оттачиваемой косе, то веселыми криками, подгоняли друг друга».
Стоит вспомнить, что полноразмерная, «острая как бритва» коса – орудие устрашающее. Изогнутая стальная полоса с тщательно наточенным краем, длиной несколько футов, описывала вокруг косца широкую дугу. Случайно задеть чью-то ногу чревато серьезным ранением. Поэтому важно, чтобы косцы, перемещаясь по лугу, работали синхронно. В такой группе кто-то, делающий все наоборот, то есть левша, – сущее бедствие[350].
Замечание Карлейля о косцах приводит нас к нескольким вопросам о латеральности в сфере взаимодействий. У единственного косца никаких проблем не возникнет, но если несколько человек работают вместе, сложности неизбежно появятся. Так какими же правилами регулируются социальные взаимодействия и какие проблемы при этом возникают? Конечно же, левши столкнутся с ними уже за обеденным столом. Даже суп есть непросто – потому что левый локоть левши будет натыкаться на правый локоть сидящего слева соседа[351].
Когда двое берутся за дело, требующее направленных в одну сторону движений (назовем это задачей на латерализацию), образ действий каждого неизбежно влияет на эффективность работы другого. Поэтому обществу приходится вырабатывать правила поведения для таких ситуаций в виде законов, кодов, руководств или форм этикета.
Часто простейшее решение проблемы направленности – простая договоренность, которую все соблюдают. «При встрече пожмите правую руку». Это просто. Это правило работает всегда, везде, при встрече с кем угодно и вряд ли кого-нибудь ущемляет. Точно так же, «накрывая на стол, положите нож справа от тарелки, а вилку слева». И это просто и всем понятно. Левши могут почувствовать себя несколько ущемленными, но неудобство столь мало, что жалуются немногие. Действительно, некоторые узнают о том, что правило вообще существует, только если принятый порядок нарушается, как, например, если при игре в бридж карты начинают сдавать против часовой стрелки, а не по часовой, как обычно принято[352].
Но как обстоит дело с более сложными совместными действиями, той же косьбой? Как люди пишут – слева направо или наоборот? Есть ли разница между левосторонним и правосторонним движением? Хорошо ли спортсмену быть левшой, а хирургу – правшой? Вот несколько вопросов, которых мы коснемся далее в этой главе.
Письмо
Письменность чрезвычайно асимметрична. Когда вы читаете этот текст, ваш взгляд перемещается по странице слева направо, затем возвращается к началу следующей строки и снова движется слева направо. Со временем этот процесс становится второй натурой настолько, что тем из нас, кто живет в Европе или Америке, он может показаться «естественным» или «правильным». Это, однако, очень западный взгляд на мир. В огромной части мира пишут не слева направо, а справа налево – на арабском, иврите или урду. Почему же на английском, языке, на котором написана эта книга, читают и пишут слева направо?
Случаев возникновения письменности, похоже, было очень немного, а главных центров было всего два – в Египте и бассейне Евфрата в четвертом тысячелетии до нашей эры, и в Китае во втором тысячелетии до нашей эры или немного ранее. Первоначально письменность была пиктографической, когда каждый знак представлял собой рисунок, изображающий объект (как в ранней египетской иероглифике). Позже она сделалась идеографической – каждый знак все еще представлял собой слово, но знак при этом был произвольным. Подобные системы могут быть очень неэффективными, так как нужно выучивать каждый знак, как в случае китайских иероглифов или японской письменности кандзи. Школьники в течение многих лет выучивают тысячу иероглифов, необходимых, чтобы читать 90 % типичных текстов, а для чтения 99 % текстов необходимо знать 2400 иероглифов[353].
Письменность называли «видимой речью», и чтобы быть эффективной, она должна как-то соотноситься с тем, как произносятся слова. Пиктограммы и идеограммы не позволяют этого достичь. Первой системой, отражавшей звучание слов, было слоговое письмо. В ней каждый знак обозначал слог (ба-, бе-, да-, де- и т. д.). Поскольку в речи много слогов, знаков, отображавших их, тоже должно быть много, поэтому, например, в эламской письменности было 111 слоговых знаков, а в шумеро-аккадской – около 600. Такие системы все еще оставались громоздкими и неэффективными, но все же были намного лучше пиктографических и идеографических. Важнейшим шагом в развитии большинства современных систем письма стала выработка нового вида письменности, первые образцы которой датируются примерно 1700 годом до н. э. Впервые они были найдены в бирюзовых шахтах на Синайском полуострове, близ Серабит эль-Хадим, хотя с тех пор их обнаружили и на более обширных территориях. Важным отличием этой системы письма было малое число знаков – менее 30. А значит, они не могли обозначать слоги, для этого их просто не хватило бы, но были алфавитным письмом, в котором каждый знак обозначал гласную или согласную. Эта протосинайская/протоханаанская письменность стала прародительницей большого количества существующих в мире систем письма, в том числе и той, с помощью которой написана эта книга[354].
Проблема, возникшая с появлением слоговой письменности и еще ярче проявившаяся в алфавитной, состоит в том, что знаки должны располагаться в определенном порядке. Пиктограммы можно располагать как угодно (и зачастую так их и располагали). В алфавитном письме последовательность знаков оказывается принципиально важной, равно как и то, в каком порядке их следует читать, справа налево или слева направо. Ясно, что необходима какая-то система, хотя в протоханаанском или протосинайском письме ее, очевидно, не было, некоторые надписи читаются справа налево, другие – слева направо. Это не важно, если нужно прочитать несколько коротких слов. Однако довольно утомительно читать длинные пассажи, написанные в разном направлении и случайным образом. Быстро возникло бы стремление стандартизировать направление письменности – специалисты называют это ductus – что и произошло. Около 1050 года до н. э. древние финикийцы уже писали исключительно справа налево, предвосхитив современную арабскую письменность и иврит.
Культурная инерция значительно затрудняет изменения в языке, и первоначальный выбор удерживается на долгое время – современной аналогией может быть сохранение клавиатурной раскладки QWERTY: несмотря на нелогичность и неэффективность, ей, похоже, суждено еще долго оставаться с нами. Как бы то ни было, но английская письменность прямо восходит к древнефиникийской. Так что же произошло? Почему мы читаем эту книгу слева направо, а не справа налево? Как и многое в западной цивилизации, это связано с греками. Каким-то образом вышло так, что к VI веку до н. э. греки писали слева направо. Так как латинская письменность восходит к греческой, а почти все западноевропейские системы письма – к латинской, на английском языке также пишут слева направо. Равным образом, кириллическая письменность, разработанная на основе греческой святыми Кириллом и Мефодием в IX веке и принятая в том числе в русском языке, также направлена слева направо.
Что произошло в те пять столетий, что разделяют древних финикийцев и древних греков, не слишком ясно из-за зияющего пробела в источниках. Принято считать, что в архаической Греции писали справа налево, как и в Финикии, затем последовал промежуточный этап, и в конечном счете стали писать слева направо. Какой-то переворот, несомненно, имел место, так как в конце IV века до н. э. греческий комедиограф Феогнид высмеивал тех, «кто пишет наоборот». Проблема в том, чтобы определить принятый на промежуточной стадии тип письма, известный как бустрофедон – этим словом греки называли путь быка, пашущего поле, – вспахав полосу, он поворачивал и шел в противоположную строну (рис. 10.2). Как писал Джойс в «Поминках по Финнегану», «бороздить твердь земную часами, вперед, назад, словно бык в ярме»[355].
Рис. 10.2. Бустрофедон – путь быка по полю
Рис. 10.3. Бустрофедон истинный и ложный
Бустрофедон бывает двух видов, как следует из рис. 10.3. Слева – истинный бустрофедон, справа – ложный. В большинстве письменных источников асимметрично не только направление письма, но и начертание букв. Как при использовании бустрофедона пишутся буквы, которые смотрят в обратном направлении? Написаны ли они обычным образом, как в ложном бустрофедоне, или зеркально, как в бустрофедоне истинном? Свои проблемы возникают и в том, и в другом случае. Многие незаглавные буквы в современном английском асимметричны, симметрию сохраняют лишь около половины из них. Если «ретроградная» часть бустрофедона пишется зеркально, то в алфавите получается не 26, а 46 букв. Хотя читать зеркальные буквы оказывается на удивление просто, писать их – иное дело, и бустрофедон почти удваивает нагрузку, которая выпадает детям при обучении письму. Поскольку дети всегда сталкиваются с проблемами при различении зеркальных букв (b-d, p-q), им нелегко будет усвоить, что звук b при письме в одном направлении обозначается как b, а в противоположном – как d[356].
Что, если выбрать другой способ: использовать обычные 26 букв и в «ретроградной» части текста писать их в обратном порядке, как в ложном бустрофедоне? Как ни странно, читать это труднее. Проблема в том, что сочетания букв, обозначающие один звук, обычно воспринимаются как один знак. Читать их в обратном порядке затруднительно из-за изменившегося облика этих сочетаний букв. При чтении работают два отдельных процесса, «фонемный», когда под буквами определяются обозначаемые ими звуки, и «графемный», когда слово воспринимается как единый визуальный образ. Ложный бустрофедон нарушает графемное чтение, и потому читать становится труднее. Возможно, поэтому в ретроградной части древнегреческого бустрофедона буквы писались зеркально[357].
Бустрофедон, таким образом, оказывается меж двух огней – если легче читать, то труднее писать, и наоборот. Неудивительно, что в античности эта система письма быстро исчезла. Куда более удивительными кажутся попытки вернуться к ней. Компьютер можно запрограммировать так, что обычные 26 букв при печатании на клавиатуре на экране отображались бы правильно или зеркально в зависимости от направления письма. Энтузиасты утверждали, что читать такой текст легче и быстрее, потому что взгляду не надо прыгать к началу каждой строки, лишь немного смещаться вниз. Войдет ли это в моду – спорный вопрос. Во всяком случае, каждый может использовать такой способ на своем компьютере, пересылать документ другим пользователям, у которых он может отображаться обычным образом. Бустрофедон также использовался в тактильной системе письма для слепых, разработанной Фриром и Муном (ранними предшественниками Брайля), поскольку это решало проблему поиска следующей строки – до этого требовалось оставлять между строчками большие пробелы[358].
Предлагая историческое описание, всегда есть риск попасть в ловушку того, что в британской историографии называют «Историей по вигам» – либерально-прогрессистской интерпретации исторического процесса, представляющей собой упрощенное представление, что человечество прямо и неуклонно движется к более высокой стадии своего развития. Такая интерпретация не позволяет увидеть всю историческую картину, игнорируя проигравших – в нашем случае, вымершие системы письма. Поэтому на рис. 10.4 представлена гипотетическая схема исторического развития систем письма с указанием, в каких случаях текст писали слева направо, в каких – справа налево, а также без определенного направления[359].
Многие древние системы письма не имели определенного направления, поэтому писцам приходилось уметь писать разными способами. Можно было ожидать, что в конечном счете общепринятым станет наиболее простой способ, и некоторые утверждали, что для правшей естественно писать слева направо. И все же, как явствует из схемы, древние финикийцы писали справа налево. Отчасти проблема в том, что привычное автоматически представляется нам самым простым и естественным. Даже Геродот, величайший историк Древней Греции (ок. 484–424 до н. э.), похоже, с недоверием отнесся к попыткам египтян оправдать свой способ письма: «Эллины пишут свои буквы и считают слева направо, а египтяне – справа налево. И все же, делая так, они [египтяне] утверждают, что пишут направо, а эллины – налево». (Геродот, История, II 36)
Тут следует принять во внимание такой фактор, как природа самого письма. Хотя сегодня мы пишем ручкой на бумаге, в историческом плане это совершенно не типично. Множество надписей вытесано на камне, что позволило им пережить превратности истории. Письмена на папирусе более уязвимы, но, вероятно, они были шире распространены в повседневном обиходе. Может показаться, что на папирусе, как и на бумаге, легче писать правшам, так как меньше вероятность размазать чернила. Чернила, однако, сохнут быстро, и для современных левшей писать слева направо не представляет никаких трудностей – как, впрочем, и правши спокойно пишут справа налево, например на арабском. Многие древние письмена выполнены клинописью – в этом случае треугольным стилом наносились штрихи на влажную глиняную табличку, которая затем становилась твердой под лучами солнца или обжигалась в печи. И снова может показаться, что клинописью легче было писать правшам, так как у них было меньше шансов случайно стереть написанное. Теория привлекательная, но хотя большинство клинописных надписей написаны слева направо, некоторые, например хеттские или аккадские, могли быть написаны и в другом направлении, а протоэламская письменность вообще была направлена справа налево. Окончательный удар теории, объяснявшей направление клинописного письма опасностью стирания уже написанного, нанесли те немногие наши современники, что сами овладели клинописью и выяснили, что «практический опыт клинописи по сырой глине показывает, что на хорошей глине затирания почти не происходит, и чтобы стереть нанесенный знак, требуется осознанное усилие»[360].
Хотя есть искушение решить, что писать слева направо в каком-то смысле лучше, естественнее, эффективнее и что это легче согласуется с мозгом, в котором за язык отвечает именно левое полушарие, в пользу такого суждения почти нет свидетельств, и, возможно, поэтому в мире так много письменностей, направленных справа налево. Рассматривая этот вопрос в 1949 году, антрополог Гордон Хьюз отмечал, что большинство теорий не рассматривают весь спектр систем письма, часто рассуждая об «азиатских», направленных справа налево, и игнорируя множество направленных слева направо письменностей Индийского субконтинента. Письменности, направленные влево, считались «ненормальными», а народам, использовавшим их, приписывались некие глобальные общие черты, такие как созерцательность, погруженность в себя и т. д., в отличие от ситуации, когда письмо направлено вовне, от срединной линии, «к целям и предметам, прочь от “я”». Подобные рассуждения – очевидная ерунда. Если они о чем и говорят, так лишь о том, что символика левого-правого по Герцу работает: одним словом, правое – хорошо, левое – плохо.
Рис. 10.4. Историческое развитие направлений письма в разных системах письменности
Откуда же тогда возникают различия в направлении письма? Собственные выводы Хьюза вполне приемлемы и сегодня: сочетание исторических, экономических и религиозных причин привело к тому, что одни системы письменности выжили, а другие – нет, и это никак не связано с их направленностью. Это аналогично ситуации в эволюции, как о ней писал Стивен Джей Гулд в книге «Удивительная жизнь». Некоторые организмы, в том числе и мы сами, выжили, тогда как миллионы видов вымерли. Есть искушение полагать, что выжили мы, потому что изначально были лучше приспособлены. Часто, однако, в таких объяснениях нет нужды, достаточно того, что Гулд называл «контингентностью», то есть случайным неожиданным обстоятельством. Что-то случается, наступают последствия. Вот как строится ткань истории, и ни к чему привлекать биологическую приспособленность, адаптацию или естественность, это имеет не больше смысла, чем если историк станет говорить о сравнительной приспособленности Гаврило Принципа и его жертвы, эрцгерцога Франца Фердинанда, чья гибель вызвала Первую мировую войну. Контингентность (длинная цепочка событий, где каждое зависит от предыдущего, но без наследования преимуществ), вероятно, лучше всего объясняет сложившиеся направленности систем письма. В какой-то момент греческое влияние на южноаравийскую письменность привело к тому, что та из направленной влево сделалась направленной вправо, а это в дальнейшем способствовало появлению эфиопской и современной амхарской письменностей, без какой-либо связи с тем, в какую сторону легче писать[361].
Контингентными оказываются и многие проявления асимметрии функций в повседневной жизни. Из-за этого они не менее интересны. И контингентно далеко не всё. Настоящий вызов для науки – выяснить, существуют ли более глубокие основы организации людей и культур, неявно связанные с нашей биологией и устройством мозга. Самое главное – присутствует ли в этом контингентность. Чтобы отойти от нее, требуются веские доказательства, а не просто предположения о преимуществе или выборе.
Рассмотрев случай письменности и заключив, что все различия в этой области могут быть объяснены контингентностью, давайте обратимся к некоторым другим проявлениям асимметрии, отражающим другие неявные принципы организации, связанные с социальным взаимодействием между людьми и обществами.
Правила дорожного движения
В 1806 году британец Джон Ламберт, приехавший в Северную Америку, писал, что «в Канаде, как и в некоторых частях Соединенных Штатов, люди придерживаются обычая ездить по правой стороне дороги, что, на взгляд англичанина, выглядит совершенно ужасно». Это замечание верно и сегодня. Если мы привыкли ездить по одной стороне дороги, езда по противоположной нам всегда будет казаться неправильной. Ламберт был абсолютно прав, когда упоминал об этом как об обычае, но исчерпывается ли все только этим и не может ли левостороннее и правостороннее движение считаться в каком-то смысле более естественным? Если это только обычай, то как он сложился? Стоит отметить и фразу «в некоторых частях США». Сегодня американцы почти всюду придерживаются правостороннего движения (только на американских Виргинских островах оно левостороннее), но так было не всегда. В некоторых частях мира люди даже не придерживаются постоянно какой-то определенной стороны. Гёте в своем «Итальянском путешествии» называл это весьма необычным и считал важным отметить, что в Риме в 1788 году, во время Карнавала:
«…знатные и богатые римляне приезжают сюда кататься за час или полтора до наступления ночи; длинные вереницы экипажей, показываясь из-за Венецианского дворца, движутся по левой стороне улицы, при хорошей погоде проезжают мимо обелиска к городским воротам и продолжают свой путь по Фламиниевой дороге, иногда до самого Понте-Молле. Кареты, раньше или позже повернувшие назад, придерживаются другой стороны; таким образом, обе вереницы в полном порядке тянутся рядом. <…> Едва только бой часов возвестит ночь, порядок этот нарушается; каждый сворачивает, куда ему угодно, отыскивая кратчайший путь и нередко задерживая этим движение других экипажей, которые не могут разъехаться и застревают на узкой дороге»[362].
Так же и в средневековом Париже:
«При старом режиме на улицах… часто возникали заторы, так как экипажи ездили по обеим сторонам дороги и застревали друг перед другом, не в состоянии сдать назад из-за повозок, оказавшихся сзади, и невозможности развернуть лошадей»[363].
Движение по определенной стороне, лежащее в основе правил дорожного движения, необходимо только тогда, когда плотность движения достигает определенного критического уровня. При низкой интенсивности движения транспортные средства, как и пешеходы на тротуаре, могут двигаться, не мешая друг другу, особенно если скорость невелика. Однако с увеличением плотности движение транспорта спонтанно организуется в потоки, как и множество пешеходов, стекающихся на футбольный матч или идущих со стадиона – проще следовать за кем-то «в кильватере», чем пробиваться сквозь толпу самостоятельно. Правила дорожного движения – в большой мере компромисс между индивидуальным стремлением двигаться куда захочется и выгодой вести себя так же, как и все остальные: выгода состоит в скорости и меньшем количестве столкновений. Однако если выгоднее становится поступать по-своему, о правилах забывают. Писатель Винфрид Зебальд замечает, например, что «мальтийцы с непостижимым безумием, бросающим вызов смерти, вели машину не по правому и левому краю, а всегда по тенистой стороне дороги». В конечном счете правила дорожного движения – всего лишь правила, хотя порой они кажутся совершенно непреложными. В финале набоковской «Лолиты» Гумберт, уезжая прочь после убийства Клэр, говорит:
«Шоссе теперь тянулось среди полей. Мне пришло в голову, что, раз я нарушил человеческий закон, почему бы не нарушить и кодекс дорожного движения? Итак, я перебрался на левую сторону шоссе и проверил – каково? Оказалось, очень неплохо. Этакое приятное таяние под ложечкой со щекоткой «распространенного осязания» плюс мысль, что нет ничего ближе к опровержению основных законов физики, чем умышленная езда не по той стороне»[364].
При установлении правил движения выбор невелик – двигаться можно по правой или по левой стороне. Фактически существует три равно устойчивых способа: ездить по правой стороне, ездить по левой стороне или ездить в случайном порядке то по правой, то по левой стороне, – заметил Джеффри Миллер, предположив, что именно последним способом пользуются бангалорские таксисты. «Устойчивый» в данном случае значит, что никто не заинтересован в том, чтобы менять свое поведение, поскольку и все остальные ведут себя так же. Возможно, всем было бы выгодно изменить правила, но это невозможно, если свое поведение изменят только отдельные лица. Чтобы установить такие правила от имени всего общества, необходимы государственная власть и полиция[365].
Так в каких же странах принято правостороннее движение, а в каких – левостороннее и почему сложилось именно так? Прежде всего стоит развеять заблуждение, особенно распространенное в Северной Америке, что в мире есть лишь одна страна с левосторонним движением, маленький остров в Северном море под названием Британия. Как видно на карте (рис. 10.5), это не так.
Левостороннее движение довольно широко распространено в мире. Географически оно охватывает около 17 % площади планеты – но лишь потому, что в обширных и редко населенных России и Канаде принято правостороннее движение. Вместе с тем в странах с левосторонним движением обитает около 32 % населения планеты – в том числе густонаселенные Индия, Пакистан, Индонезия, Япония и Бангладеш[366].
Как в разных странах решали, по какой стороне ездить? Прекрасный пример сложной эволюции правил движения – Канада, что в значительной мере связано с ее колониальной историей. Квебек (Нижняя Канада) первоначально был французским, и потому движение там было правосторонним. Верхняя Канада (Онтарио) следовала этому примеру (хотя говорят, что в Торонто движение некогда было левосторонним). Приморские провинции Новая Шотландия, Нью-Брунсвик, остров Принца Эдуарда и Ньюфаундленд по примеру Британии придерживались левостороннего движения, так же как остров Ванкувер и Новая Каледония, составившие Британскую Колумбию. С расширением территории страны на запад, в прерии, Манитоба, Саскачеван и Альберта последовали примеру Онтарио, приняв правостороннее движение. Положение изменилось лишь после Первой мировой войны. Однако из-за американских туристов возникали проблемы: когда они приезжали из штата Вашингтон (с правосторонним движением) в Британскую Колумбию, где ездили по левой стороне, случались аварии. Повсеместный переход на правостороннее движение происходил в два этапа: на суше 1 июля 1920 года, а на островах Виктория и Ванкувер – 1 января 1922-го. Большинство приморских провинций быстро последовали этому примеру: Нью-Брунсвик в 1922-м, Новая Шотландия в 1923-м, остров Принца Эдуарда в 1924-м. Последними стали Ньюфаундленд и Лабрадор, изменившие правила только в 1947 году, перед вступлением в конфедерацию в 1949 году. Переход к единым правилам движения длился довольно долго и сопровождался неизбежными опасениями относительно возможных аварий. На самом деле их было не так уж много, что, скорее всего, связано с низкой интенсивностью движения, внимательностью и особыми мерами, такими как в Новой Шотландии, где на протяжении двух месяцев после перехода на правостороннее движение перед водителем на ветровом стекле было закреплено предупреждение: «Держитесь правой стороны!»[367]
Рис. 10.5. Страны с правосторонним (белый) и левосторонним (черный) движением по состоянию на 2000 год. Черные и белые стрелки указывают на острова, слишком мелкие, чтобы обозначить их в этом масштабе. На врезке – острова Карибского моря, где ситуация особенно запутанная
Из примера с Канадой видно, что за внешним единообразием современных карт скрывается сложная история. Бедекеровский путеводитель по Италии 1903 года, например, сообщает, что «в разных частях страны правила дорожного движения отличаются. В Риме и его окрестностях они такие же, как и в Англии, и при движении следует держаться левой стороны, а обгонять справа. В большинстве других областей, однако, правила противоположны». Обратите внимание на слова «в большинстве». В Риме, как писал еще Гёте, было принято левостороннее движение – и таким же оно было в Милане, Турине, Флоренции и Неаполе. Но во всех других местах движение было правосторонним.
Вокруг причин установления право- или левостороннего движения ходят мифы. Типичный пример – Рим: считается, что в 1300 году папа Бонифаций VIII велел паломникам держаться левой стороны. Приятная теория, если не считать того, что кое-кто утверждает, что он велел паломникам держаться правой стороны, а никаких документальных свидетельств в пользу того или другого мнения не обнаружено. Вообще, происхождение лево- и правостороннего движения повсюду окутано легендами. Многие объяснения построены на том, что в правой руке пешеходам приходилось держать меч, всадникам – плеть, а садиться на коня надо было с левой стороны. Другие часто упоминают о превратностях французской революции или указах Наполеона. Проблема всех подобных объяснений в том, что они не учитывают огромную чересполосицу, существовавшую даже внутри одной страны[368].
Не только Италия позволяла одним регионам ездить по правой стороне, а другим – по левой. Австрия традиционно придерживалась левостороннего движения, но в ходе наполеоновских войн (в результате которых Нидерланды, Швейцария, Германия, Италия, Польша и Испания ездят по правой стороне) французские войска вторглись лишь в Тироль, и поэтому только там принято правостороннее движение. В остальной части Австрии левостороннее движение сохранялось вплоть до аншлюса в 1938 году, когда было объявлено о переходе всей Австрии на правостороннее движение. Возникла путаница: автомобилисты не могли увидеть дорожные знаки, трамваи в Вене до переустройства путей и светофоров оставались левосторонними. Гитлер заставил перейти на правостороннее движение Чехословакию и Венгрию, а также захваченные у Англии острова Джерси и Гернси в проливе Ла-Манш. Подобное же произошло в 1982 году на Фолклендах, где во время недолгой аргентинской оккупации было введено правостороннее движение[369].
На том, в каких странах по какой стороне ездят, сказалось и влияние колониальных держав, но везде по-разному. В Индонезии левостороннее движение, потому что левостороннее движение было в Нидерландах до наполеоновских войн, но с переходом Нидерландов на правостороннее движение в Индонезии ничего не изменилось. В большей части бывшей Британской империи принято левостороннее движение, но есть и яркие исключения, главное из которых – Египет. Гибралтар остается частью старой Британской империи, но в 1929 году там перешли на правостороннее движение, как в соседней Испании. Португалия перешла на правостороннее движение в 1928 году, а вместе с ней и почти вся ее империя, в том числе и Восточный Тимор. Однако, когда Индонезия захватила Восточный Тимор, там снова стали ездить по левой стороне. Влияние колониальных держав может быть и косвенным. Утверждают, что Япония приняла левостороннее движение в 1859 году с подачи британского посла сэра Ричарда Олкока (хотя местные объяснения указывают на потребности самураев), а британское влияние в Шанхае привело к тому, что в Китае на много лет установилось левостороннее движение. Иногда выбор стороны движения менялся прежде всего в символических целях, как случилось в Мьянме (Бирме), где «новые правила движения были введены с тем, чтобы заместить унаследованные от колониальных времен»[370].
Удивительно, что даже в XX веке некоторые страны очень долго не отказывались от левостороннего движения. Панама ввела изменения только в 1943 году, в связи со строительством Панамериканского шоссе. Если бы не это, движение было бы правосторонним на всем протяжении шоссе, за исключением короткого участка, пересекающего Панаму. Филиппины, Аргентина и Уругвай перешли на правостороннее движение в 1945 году; Китай, Тайвань и Корея в 1946 году. В дальнейшем правостороннее движение было принято в Белизе и Камеруне (1961), Эфиопии (1964), Гамбии (1965), Швеции и Бахрейне (1967), Исландии (1968), Бирме (1970), Сьерра-Леоне (1971), Нигерии и Диего-Гарсия (1972), Судане (1973), Гане (1974) и Южном Йемене (1977)[371].
Как показано на рис. 10.6, в 1919 году положение существенно отличалось от того, что сложилось к концу XX века[372]. Есть ли какие-то закономерности на картах 1919 и 2000 года? Некоторые черты очевидны. Многие страны, сохранившие левостороннее движение, – островные государства, причем их соседи придерживаются правостороннего движения. На Восточных Карибах направление движения меняется от острова к острову, отражая их колониальное наследие – британское, голландское или французское. Даже в Европе четыре оставшихся левосторонних региона – острова. О Британии и Ирландии всем известно, о Мальте – не всем. Больше всего удивляет Кипр, где по левой стороне ездят и в греческой, и в турецкой части острова, притом что и в Греции, и в Турции движение правостороннее. В итоге возникает масса неудобств, поскольку почти все машины ввезены из Греции или из Турции, и почти все они – с левым рулем, а потому не слишком удобны при левостороннем движении. Та же проблема существует на американских Виргинских островах.
Рис. 10.6. Страны с правосторонним (белый) и левосторонним (черный) движением в 1919 году. Черные и белые стрелки указывают на острова, не отображаемые в этом масштабе
Помимо островов, на карте мира явно видны обширные области с левосторонним движением, охватывающие восток и юг Африки, Индийский субконтинент и части Юго-Восточной Азии, а также Австралию. Многие из этих стран граничат с другими, где также принято левостороннее движение, а границы со странами с правосторонним движением часто проходят по глухим и труднодоступным местам, например Гималаям или Центральной Африке. Таких особенностей нет у стран, добровольно изменивших правила движения. Самый заметный пример – Швеция. К 1967 году она оставалась последней страной континентальной Европы, сохранявшей левостороннее движение, через загруженные пограничные переходы которой шли значительные международные транспортные потоки.
Силы, определяющие решения, по какой стороне дороги ездить, легко увидеть на примере простой модели, вариантами которой могут быть спиновые стекла или модель Изинга. Изначально разработанная для изучения магнитных взаимодействий, она оказалась удобной моделью описания социальных взаимодействий, когда индивидуумы оказываются под влиянием непосредственного окружения. Все, кто знаком с игрой Джона Конвея «Жизнь», или «клеточными автоматами», сразу поймут ее основы[373].
Модель исходит из того, что люди в целом, будь то индивидуумы, сообщества, регионы или даже страны, не просто принимают собственные решения и затем продолжают действовать независимо, но в большей или меньшей степени изменяют свое поведение в зависимости от окружающих. Те, кто географически ближе всех, непосредственные соседи, оказывают самое большое влияние. Что делает ситуацию действительно интересной, так это то, что окружающие страны также меняют свое поведение по тем же причинам. Все оглядываются на остальных и решают, как лучше себя вести.
Представим себе очень простой мир, в котором можно смоделировать подобную ситуацию. На рис. 10.7 показана карта этого мира, назовем его Киренией. Есть сто регионов одинакового размера, расположенных в сетке десять на десять. Необычно лишь то, что если кто-то уходит за правый край, он сразу же появляется слева, а если уходит вниз, то сразу возвращается наверх. Это полезное математическое свойство, из-за которого каждый регион имеет ровно восемь соседей[374].
Кирения – очень рациональный мир, живущий строго по правилам. В год изобретения автомобиля (1 ОФ – Первый от Форда) жители каждого региона поняли, что было бы разумно, если все в регионе будут ездить по определенной стороне. Однако в Кирении допускается значительная автономия регионов, и в итоге в каждом из них выбор стороны движения решался подбрасыванием монеты: орел – правостороннее, решка – левостороннее. На карте Кирении показаны регионы, выбравшие правостороннее (заштрихованы белым) и левостороннее (заштрихованы черным) движение. Чисто случайно количество выбравших тот или иной вариант регионов оказалось различным: пятьдесят девять (заштрихованы белым) выбрали правостороннее, а сорок один (заштрихованы черным) – левостороннее.
Рис. 10.7. Карта регионов Кирении в 1 году ОФ, регионы с правосторонним движением окрашены белым, с левосторонним – черным
Вскоре у киренийцев все стало путаться. Жизнь была очень организованной, когда они перемещались только по своему региону, но с увеличением числа автомобилей и улучшением качества дорог они все чаще стали выезжать за пределы своего региона. Из-за этого им все чаще приходилось ездить по непривычной стороне дороги. После долгих переговоров было решено, что лучше всего будет, если каждый регион изменит свои правила движения на те, которых придерживается большинство его соседей.
Обратимся к этим соседям. У каждого региона Кирении ровно восемь соседей, и вероятность того, что у них принято противоположное направление движения, лежит в интервале от нуля до восьми. Киренийцы решили, что «явное большинство» означает, что противоположной стороны движения придерживаются шесть или более соседей региона. Поэтому на втором году ОФ произошел так называемый «Первый Пересмотр». Каждый регион Кирении присмотрелся к соседним, и семь регионов решили, что должны изменить сторону движения. В результате, как показано на рис. 10.8, уже в 64 регионах было принято правостороннее движение, на пять больше, чем за год до этого, а регионов с левосторонним движением стало 36, на пять меньше (хотя два региона перешли на менее распространенное левостороннее движение).
Хотя все надеялись, что после Первого Пересмотра все устаканится, стало очевидно, что до порядка еще далеко. На третий год назначили еще один пересмотр в надежде, что понадобятся лишь небольшие поправки и все станет хорошо. События этого года остались в памяти киренийцев как «Большой пересмотр правил». Пятнадцать регионов изменили свои правила, и теперь по правой стороне ездили в 73 из них, а по левой – в 27. Хотя были опасения, что все социальное устройство Кирении окажется под угрозой из-за перемен такого размаха, несколько дальновидных реформаторов, поглядев на карту, решили, что можно позволить и дальнейшие изменения и что они окажутся относительно невелики.
Рис. 10.8. Право- и левостороннее движение на дорогах регионов Кирении с 1 по 6 год ОФ
Реформаторы были правы. Опасения по поводу хаоса и краха в четвертый год не оправдались, только девять регионов изменили свою сторону вождения. Кирения четко делилась на два суперрегиона: больший с правосторонним, а меньший – с левосторонним движением. На пятый год ОФ, или «Год окончательного пересмотра правил», как его стали называть, киренийцы в последний раз изменили свои правила дорожного движения, в результате чего восемьдесят один регион теперь ездил по правой стороне, а девятнадцать – по левой.
На шестом году несколько ультраконсервативных конституционалистов стали утверждать, что следует рассмотреть вопрос о дальнейших изменениях, и именно так регионы и поступили – с большими затратами. Однако ни один из них не обнаружил, что явное большинство его соседей ездит по противоположной стороне, и потому никто не изменил своих правил. Таким образом, карта года 6 выглядит идентично карте года 5, и, если конституция Киренийской Республики не изменится, она останется бессрочной. Карта на 5-й год стабильная. Кирения навсегда разделена между синистралистами и декстралистами. Пересечение этих границ по-прежнему вызывает небольшую путаницу, но, поскольку большинство киренийцев предпочитают оставаться ближе к дому, это редко становится проблемой.
Вариации правил дорожного движения в Кирении – на удивление удачная модель того, как в разных странах мира принимались решения о правостороннем или левостороннем движении. Хотя не все решения принимались одновременно или по одним и тем же мотивам, основное влияние на них оказывало то, по какой стороне ездят соседи. Киренийская модель позволяет предположить, что и в реальном мире в будущем едва ли возможны значительные перемены в устройстве движения, хотя возможны и исключения, наподобие Гайаны и Суринама в Южной Америке[375].
Как и в случае с письменностью, было множество попыток объяснить, почему ездить по правой стороне «естественнее». Многие упоминают, что это из-за того, что большинство людей – правши, но такая теория не работает, поскольку так же обстоит дело и в странах с левосторонним движением. Праворукость, однако, явно имеет отношение к расположению педалей. Сцепление, тормоз и газ всегда расположены в порядке слева направо – левая нога выжимает сцепление, правая – тормоз и газ. Похоже, подобное принято повсеместно, как в праворульных, так и в леворульных автомобилях, и никак не связано с другими культурными особенностями, такими как направление письма. Другое дело, оптимально ли такое решение. Газета Guardian некоторое время назад сообщала, что водители, в основном автомобилей с автоматической коробкой передач, выжимающие правой ногой газ, а левой – тормоз, реагируют [на дорожную обстановку] на четверть секунды быстрее[376].
Выбор право- или левостороннего движения, по-видимому, зависит от тех же факторов, что определили направление письма, причем главным из них является историческая случайность. Функционалисты без особого успеха пытались утверждать, что тот или иной вариант сам по себе удобнее, проще, лучше, безопаснее и эффективнее. Так, в 1960-е утверждали, что при левостороннем движении количество аварий существенно меньше, чем при правостороннем, однако в более поздней статистике я не нашел этому никаких подтверждений. Каждая страна в большой мере самостоятельно решает, какая сторона движения предпочтительнее, с незначительным внешним влиянием, и главной движущей силой изменений оказываются неудобства, связанные с тем, что у соседей движение организовано иначе. Похоже, что мир сейчас пришел к устойчивому состоянию, предпочитая временные неудобства при пересечении границ затратам и трудностям, возникающим при изменении сложной системы[377].
Хотя в центре моего внимания было дорожное движение, те же соображения можно отнести к пешеходам, всадникам, кораблям, поездам и самолетам. За каждым случаем – сложная история и десяток теорий, объясняющих, почему те или иные действия выполняются слева или справа. Но общий принцип тот же, что и в случае с автотранспортом. Любознательные читатели могут обратиться к примечаниям на моем сайте. Я же завершаю раздел, посвященный транспорту, новым и чрезвычайно креативным законопроектом, который, что вполне ожидаемо, не снискал широкой популярности. Официальная чудовищно-бредовая партия полоумных, эксцентричная, но уже ставшая традиционной участницей парламентских выборов в Британии, предложила оригинальную транспортную политику, призванную решить все проблемы на дорогах страны: легковые машины пустить по левой стороне, грузовики – по правой[378].
Объятия, бои до смерти и игра в теннис
Два рассмотренных нами примера, направление письменности и выбор стороны движения, подразумевают социальное взаимодействие, главным образом, между большими группами, в итоге ведущее к общественному согласию. Но выбор между правым и левым также важен при взаимодействии двух индивидов. Рукопожатие при встрече происходит без заминки и почти автоматически. Потому что каждый знает, что протянуть надо правую руку. Не будь этой нормы, возникала бы неопределенность, случающаяся при столь частых ныне приветственных поцелуях, для которых норма еще не устоялась. Наблюдение в зале прибытия международного аэропорта показало, что примерно две трети людей обнимаются справа (то есть обнимают другого с правой стороны груди), а остальные – слева, так что замешательство вполне возможно[379].
Считается, что Томас Карлейль, с которого начинается эта глава, одним из первых задался вопросом о том, как взаимодействуют друг с другом правши и левши. Хотя он говорил о проблемах, с которыми сталкивается косарь-левша, по сути это не столь важно: в мире левшей с теми же проблемами столкнулся бы правша. Тогда снова возникает вопрос, почему в мире такое большинство правшей. Карлейль начинает с кажущейся универсальности праворукости, с того, что нет народа «столь варварского, что не знал бы различения рук». Далее он пытается ответить на вопрос, которым, по его же словам, «если и стоит задаваться, то лишь для того, чтобы поломать голову развлечения ради».
Почему именно эта рука (правая) была избрана – вопрос неразрешимый, и если стоит размышлять над ним, то лишь как над головоломкой; возможно, так сложилось в ходе сражений, где важнее всего было прикрыть свое сердце и его окрестности, а также держать щит той рукой.
По любопытному совпадению, его предположение, что мы оказались праворукими, потому что наше сердце расположено с левой стороны тела, почти в то же время совсем в другой части Лондона выдвинул сэр Филип Генри Пай-Смит, врач-консультант в Больнице Гая. Возьмем группу неких предков человека, состоящую наполовину из левшей, наполовину из правшей, предложил он. Они придумали щит, и половина из них держала его правой рукой, а половина – левой. Они пошли в бой, и выжило больше тех, кто держал щит левой рукой, потому что их сердца были лучше защищены – и это, конечно же, были правши. Сам Пай-Смит не слишком высоко ставил свою теорию, но на самом деле она хороша. Появившись спустя всего десяток лет после дарвиновского «Происхождения видов», она представляла собой настоящую эволюционную теорию, и если бы предпосылки оказались верны, ее следовало бы принимать всерьез. Однако ее главная проблема в том, что щит был изобретен много позже, чем человечество сделалось в основном праворуким, а потому эта теория не может всерьез претендовать на объяснение праворукости. Но идея в ее основе совершенно здравая: право- и леворукость могут быть по-разному выгодны и невыгодны, когда люди соперничают или сотрудничают друг с другом[380].
Конечно, в обычной повседневной жизни современные люди редко дерутся, и, уж конечно, не так яростно, чтобы нанести друг другу смертельные раны. Однако существует институционализированная форма схваток – спорт. Как заметил Джордж Оруэлл, «на международном уровне спорт честно имитирует войну», и даже на местном уровне «самые первобытные боевые инстинкты пробуждаются», когда один стремится победить другого. Что происходит, когда в состязание вступают левши и правши? У кого из них будет преимущество, и если будет, то почему? Хотя Карлейль и Пай-Смит предполагали, что левша окажется в невыгодном положении в схватке, современная мысль концентрируется на идее, что у левшей есть преимущество, либо из-за иной организации мозга, либо потому что они лучше приспособлены к занятиям спортом и состязаниям. Как всегда, обманчиво простой вопрос оказывается сложным, стоит лишь углубиться в подробности[381].
В спорте у левшей есть и преимущества, и неудобства, если вид спорта сам по себе асимметричен. Самый очевидный пример – бейсбол, в котором игроки перебегают против часовой стрелки от одной базы к другой, то есть бьющий (бэттер) отбивает мяч и бежит к первой базе, справа. Правша вначале держит биту над правым плечом, после чего ударяет по мячу, нанося битой удар влево, и затем всем телом поворачивается против часовой стрелки, держа биту над левым плечом. Ударив по мячу, праворукий бьющий поворачивается кругом и смотрит влево, но после этого он должен бежать к первой базе, расположенной справа, то есть в противоположном направлении. Для левши все иначе: вначале бита занесена над левым плечом, затем следует поворот по часовой стрелке, и после удара по мячу игрок смотрит вправо, левой ногой уже сделав шаг к первой базе. Неудивительно, что у леворуких бьющих есть преимущество, но оно никак не связано с организацией мозга, а в основном объясняется асимметричной схемой игры. Бейсбол – не единственный асимметричный вид спорта. Иногда асимметрия скрыта, как в бадминтоне, где перья волана расположены по часовой стрелке, что ведет к уклонению волана вправо, и потому легкость подачи с левой и правой стороны корта не одинакова. Асимметричны даже соревнования в беге. Лошади, гончие и люди обычно бегут по кругу против часовой стрелки и чаще травмируют одну сторону тела. Иногда правила соревнований прямо ставят левшей в невыгодное положение, как в поло, где, в основном в целях безопасности, молоток следует держать правой рукой с правой стороны лошади. Равным образом, хоккейные клюшки делают только с правым изгибом и держат правой рукой (и если бы игроки не держали клюшки одинаково, розыгрыш шайбы был бы невозможен)[382].
Иногда высказываются предположения, что левши непропорционально представлены в спорте, поскольку обладают лучшими двигательными навыками, в особенности при контроле мяча. Данные в этом отношении скудны, главным образом, в пример приводят долю левшей среди выдающихся спортсменов, и, похоже, следует предположить иное. В профессиональном футболе, например, доля левшей-вратарей такая же, как и во всем населении, что предполагает, что левши не более и не менее подвижны, реакция у них не хуже и не лучше, и ничем они не лучше и не хуже в предсказании траектории быстро движущихся объектов. В числе профессиональных игроков в дартс левши также не в избытке, а значит, с точными движениями и концентрацией у них все обстоит не лучше и не хуже, чем у правшей. В той же пропорции присутствуют они и среди профессиональных игроков в боулинг, так что и здесь о каких-то свойственных левшам преимуществах говорить не приходится.
Специальные проверки способностей леворуких и праворуких спортсменов проводят довольно редко, но когда проводят, то обычно обнаруживают желаемое, например, что левши лучше фехтуют, потому что у них более развита внимательность. Что касается левшей в целом, то данные об их превосходстве в двигательных навыках скудны. Скорее, статистически их с большей вероятностью назовут неуклюжими или, на современном жаргоне, «диспрактичными». В общем, почти нет данных о том, что левши лучше контролируют свои мышцы при выполнении сложных движений, характерных для большинства видов спорта. Так почему же есть виды спорта, в которых левши выступают значительно лучше? Достаточно внимательно присмотреться к этим видам спорта. Это виды, в которых спортсмены вступают в непосредственный контакт друг с другом, – теннис, бокс, снукер, но не гольф, боулинг или дартс, где есть только спортсмен и мишень[383].
Преимущество левшей в некоторых видах спорта связано только с тем, что левшей меньше, чем правшей. Взять теннис. Корт совершенно симметричен, правила тоже симметричны, ни у правой, ни у левой стороны нет никаких скрытых преимуществ. Очевидно, однако, что на международном уровне наблюдается преобладание теннисистов-левшей. В теннисе победа зависит не только от того, кто сильнее бьет по мячу, быстрее и точнее посылает его через сетку, но также от того, кто лучше предугадывает, где именно противник ударит по мячу (чтобы занять правильную позицию и отразить мяч). Способность «просчитывать» противника критически важна и развивается в основном из опыта встреч со множеством соперников. Когда два правши играют в теннис, каждый из них пытается «просчитать» своего соперника, чтобы направить мяч на удар слева, который сложнее, чем удар справа. Что происходит, когда правша играет с левшой? С точки зрения левши, все нормально, противник-правша во многом похож на большинство тех, с кем ему уже приходилось играть. Однако для правши все иначе. Левши встречаются гораздо реже, чем правши, и поэтому у правшей почти в десять раз меньше опыта игры против левшей, чем у левшей против правшей. Поэтому левша знает о слабостях своего оппонента гораздо больше, чем правша, что дает ему преимущество. Это ведет к тому, что среди лучших игроков левшей должно быть больше десяти процентов. Насколько больше? Представьте, что бы случилось, если бы половина всех ведущих игроков были левшами. В высшем эшелоне у игроков-правшей был бы такой же опыт игры
