Читать онлайн Мир всем бесплатно
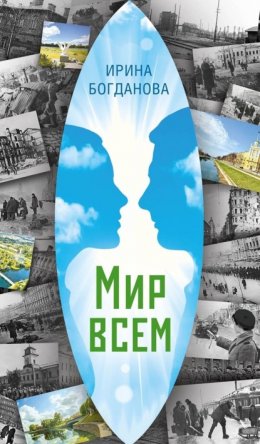
© Богданова И. А., текст, 2023
© Издательство Сибирская Благозвонница, оформление, макет, 2023
1945 год
Антонина
«Тоня, Тоня, Тонечка…» – выстукивали колёса теплушки по стыкам рельс. В отличие от музыки колёс паровозный гудок не частил, а, медленно набирая высоту, выпевал сочно и густо: «Антонина, Тоня, Тонечка!» Мне нравилось улавливать своё имя посреди умиротворяющих звуков поезда, который нёс нас, демобилизованных девушек, из пекла военных лет в полузабытую мирную жизнь с бодрыми песнями, танцплощадками в парке и восхитительным запахом пирожков в городских буфетах.
Я люблю ездить в поезде! Славно сидеть у окна, прихлёбывать крепкий чай из стакана в подстаканнике, наблюдая, как косогоры сменяются деревенскими домиками, а между частокола берёз проблескивает тёмно-фиолетовая гладь озёр и рек. Неспешно течёт беседа со случайными попутчиками; возле купе проводницы всегда пышет жаром бойлер с кипятком, и непременно в тесном тамбуре в ожидании своей станции курит кто-нибудь из пассажиров.
Но сейчас я ехала не в купе пассажирского поезда и даже не в плацкарте: меня везла в СССР обычная армейская теплушка, насквозь пропахшая запахом табака и угольного дыма. Из немецкого Потсдама мы ехали день, ночь и ещё день, то и дело пропуская вперёд литерные эшелоны и санитарные поезда.
Наша теплушка долго стояла на какой-то станции, тусклой и серой, как мелкий августовский дождь, зарядивший трое суток назад. Правда, сейчас небо понемногу начинало пестреть лоскутами прорех с редкими бликами неяркого солнца. Серебряные лучи насквозь пронизывали тучи и отвесно падали на перрон из мокрой мелкой щебёнки. В осевшее набок здание вокзала дулом воткнулся немецкий «Тигр». Хотя война закончилась два месяца назад, танк не трогали с места, и он остался стоять напоминанием о тяжёлых боях, прогремевших над этим польским городком с замысловатым названием то ли Анрыхув, то ли Анрохов – не разобрать, потому что щит с названием станции перекорёжило взрывом.
Перрон около состава кипел людьми, которые что-то продавали, покупали и менялись. Пассажиры лезли в карманы, отсчитывали деньги или меняли продукты на товар, оглядывались по сторонам и бежали к своим эшелонам, до отказа заполненным солдатами.
Разноголосый шум толпы перекрывали свистки паровозных гудков, шипение пара локомотивов и заливистые переливы гармошки из состава напротив, где тоже ехали домой демобилизованные.
Я оперлась спиной на раскрытую дверь вагона и переступила босыми ногами по нагретому полу. И пол, и ноги по части чистоты оставляли желать лучшего. Зато можно сколько хочешь ходить без сапог, в жару расстёгивать ворот гимнастёрки, и даже – вы подумайте – не отдавать честь командному составу! От этой привычки оказалось отучиться труднее всего, и при виде офицера спина сама собой выпрямлялась, а рука тянулась к виску.
Я подумала, что если захочу, то подойду вон к тому высокому майору, что покупает у старухи яблоки, и попрошу закурить. Обращусь небрежно, как к старому приятелю:
– Товарищ майор, не угостите ли даму папиросочкой?
Я прыснула от смеха, во-первых, потому что я не курю, а во-вторых, потому что придуманная ситуация напоминала сценку из кинофильмов про борьбу нашей доблестной милиции с преступностью и развратом. Словно угадав мои мысли, майор оглянулся, и я смело встретила взгляд его огненно-чёрных глаз.
– Пани, проше купить, – к вагону подошла пожилая женщина с туго повязанными волосами и показала лаковые туфли-лодочки, именно такие, о каких я мечтала перед войной. На глаз был точнёхонько мой размер. Не знаю почему, но мне было стыдно покупать с рук у обездоленных, стыдно торговаться и стыдно носить, зная, что куплено за бесценок. Я помотала головой:
– Нет, не надо!
Но женщина не отставала. Поставив туфлю около моей ноги, она назвала цену, совсем смехотворную.
– Проше, пани, дзети. Мои дзети хотят есть.
Глаза женщины налились слезами, и я не выдержала:
– Подожди, я сейчас.
От сухпайка на дорогу у меня оставалось несколько банок тушёнки, два брикета горохового концентрата и буханка подсохшего хлеба, терпко пахнущего ржаными армейскими сухарями.
Одну банку «второго фронта» – так в войсках именовали американскую тушёнку – я оставила себе на пропитание, а остальное принесла женщине:
– Вот, возьми.
Она сгребла продукты одним жадным движением, как долго голодавший человек:
– Дзякуе бардзо.
От резкого поклона ворот её блузки распахнулся, обнажив молочно-белую шею с крупным золотым кулоном в виде капли.
У моей мамы тоже был золотой кулон, но из писем на фронт я знала, что мама отнесла его в церковь, когда Ленинград собирал деньги на танковую колонну. А потом мама умерла от голода. Я сглотнула набежавшие слёзы.
И мне сразу стало противно смотреть на лакированные туфли, купленные у польки с золотым кулоном. А может, её украшение – это память? Последняя память о дорогом человеке, бережно хранимая до самой смерти? Я оборвала свои мысли и оглянулась на девчонок, ехавших со мной в одном вагоне. Наташка, с которой я успела подружиться, оторвалась от чтения газеты «Звезда». Газеты мы ценили на вес золота и передавали их из рук в руки, пока не зачитывали до дыр.
– Антонина, никак ты хрустальные башмачки прикупила? Дашь примерить?
– Я ещё сама не меряла! – Я покосилась на грязные ноги и пошевелила пальцами. – На следующей станции встану под колонку, вымоюсь как следует и примерю.
Наташа хмыкнула:
– А я только что искупалась. Зря ты не пошла с нами на пруд! Вода хоть и мутная, но приятная!
Наташа потянулась к туфлям, рассмотрела мою обновку со всех сторон и щёлкнула пальцем по подошве:
– Ой, девчонки, смотрите, подошва-то картонная!
– Как? Как картонная?
Сорвавшись со своих мест, девушки окружили Наташу, и их возгласы колокольцами рассыпались по вагону:
– И впрямь картонная! Ну надо же! Вот жулики!
– Тонька, давай найдём ту тётку и всыплем ей по первое число! – уперев руки в боки, выкрикнула связистка Катя. Её тёмные глаза зло сощурились. – А как кланялась, как кланялась! Про детей рассказывала. Аферистка! Давить жульё надо, как вшей давить! Мы за них кровь проливали… Я на гражданке сразу в милицию пойду проситься! – Она крепко сжала кулак. – Ух, ненавижу! Тонька, и ты не давай им спуску! Пошли на розыски! Надаём ей туфлями по морде!
– Не пойду, Катюша. Да и поезд вот-вот тронется. Отстанем от эшелона, как догонять?
С высоты вагона я посмотрела на кипящую толчею перрона и внезапно поняла, что устала. Устала трястись в теплушке, устала спать на нарах, устала разговаривать с девчатами – ничего не осталось из чувств, кроме усталости. Наверное, так действует послевоенное время, когда разрывы снарядов внезапно сменяются нереальной гулкой тишиной, внутри которой слышно зудящее жужжание шмеля на цветке, и хочется сидеть и слушать его, не шевелясь и не рассуждая о смысле жизни.
Наташа протянула мне туфли:
– Ты их возьми, не выбрасывай. Верх-то хороший. В Ленинграде тебе любой сапожник подошву приделает. Наденешь, пройдёшь по улице королевой – все женихи к ногам упадут!
– Да ну их, женихов. – Я сунула туфли в вещмешок и завалилась на койку, думая о том, как он встретит меня, Ленинград, ещё далекий, но всегда близкий.
* * *
Ночью налетела гроза. Со своей койки напротив узкого окна под потолком я видела белые вспышки молний, похожие на разрывы фугасных снарядов. Всполохи на несколько мгновений освещали ряды нар в теплушке и крепко спящих девушек. Санинструктор Надя спала на спине, раскинув по сторонам руки; радистка Марина свернулась калачиком; у суровой заведующей аптекой медсанбата Раисы Васильевны русая коса свешивалась до полу.
«За всю войну отсыпаются», – подумала я вскользь, памятуя о горячих днях наступления, когда не то что поспать – глоток воды не удавалось сделать. Крепко вбитая в душу война не отпускала, то и дело прокручивая в мыслях отгремевшие бои и минуты затишья.
Гулко и дробно по крыше замолотил дождь, разбавивший сонную тишину в вагоне монотонным шумом. Накануне вечером начальник поезда – майор с хитрыми весёлыми глазами – сказал, что наш состав выгрузят в Могилёве, а дальше надо будет добираться своим ходом. Девчонки заволновались, загалдели: как же так? Обещали довезти до Смоленска, а теперь на попятную! Судя по выражению лица майора, ему постоянно приходилось оправдываться за действия вышестоящих инстанций. Он с тоской посмотрел вдоль поезда, нащупывая взглядом светофор с красным глазом фонаря, и коротко отрезал:
– Приказ. Вы люди военные, должны понимать. До Могилёва – значит до Могилёва, и баста!
Могилёв… Город, некогда входивший в состав Польши и без боя открывший ворота русской армии во время Речи Посполитой; город, не раз отражавший польско-литовские осады; город, в котором последний российский император отрёкся от престола; несостоявшаяся столица Белоруской Советской Социалистической Республики, и город, в котором до войны жила моя бабушка – мамина мама.
Бабушку звали по-старинному красиво и звучно – Евпраксия. Я называла её бабуся, а все окружающие с уважением обращались к ней Евпраксия Поликарповна. Да и как иначе? Ведь бабушка была учительницей. И не просто учительницей, а Первой учительницей. Именно так, с заглавной буквы, каллиграфически выписанной красными учительскими чернилами в школьной тетради. Сколько первоклашек прошло через её руки!
Закрыв глаза, я отчётливо вспомнила гладкие серебряные волосы, забранные в тугой узел на затылке, ясную лёгкую улыбку, от которой лицо бабуси мгновенно становилось молодым, и спокойный громкий голос с ласковой интонацией. Я точно знала, что если бы бабуся меня сейчас видела, она сказала бы:
– Не вздумай плакать, Антонина! Война закончена, и теперь нет времени на слёзы и стоны. Надо собрать волю в кулак и начинать работать, как бы трудно ни приходилось. Огромную страну надо поднимать и отстраивать, и вы должны сделать это ради нас, не доживших до победы!
«Будет трудно! Будет трудно!» – отстукивали ритм колёса поезда. Сев на нарах, я сгорбилась на краешке и зажала руки между коленями. Бабушка точно отругала бы меня за дурные привычки сутулиться и унывать.
О том, что бабушки не стало, я узнала в июле сорок четвёртого, когда передовые части Красной армии штурмом взяли Могилёв.
Я шла по разбитой улице с руинами домов, глядящих на меня страшными пустыми глазницами окон. Сквозь тёмные проёмы стен проглядывало неправдоподобно синее небо под белой кисеёй облаков. Я тогда подумала, что облака похожи на тюлевые занавески, что висели в бабусиной комнате. Она всегда любила чистоту и уют. Нетерпение увидеть бабулю гнало меня в глубь квартала, и я почти бежала, заставляя себя выбрасывать из головы страшные мысли о гибели мирного населения и о зверствах нацистов. Ведь остались же в Могилёве живые! Не могли фашисты всех убить! Я с жадностью вглядывалась в жителей, которые копошились на развалах домов в надежде отыскать что-то пригодное для хозяйства. Пару раз я увидела посреди развалин небольшие костерки, на которых люди готовили себе еду. Женщина с тележкой подняла руку и перекрестила группу солдат. Несколько оборванных ребятишек сидели на обломках кинотеатра и жевали по куску хлеба, наверняка из солдатских пайков. Над городом витал неистребимый запах гари, порохового дыма и разлагающейся плоти. И хотя город казался полумёртвым, по его улицам уже летала надежда на мирную жизнь, то и дело вспыхивающая улыбкой на измождённых лицах людей.
Я прошла мимо остова немецкого танка, повернула за угол и шумно выдохнула: дом, где жила бабуся, стоял побитый, израненный, но невредимый. Слава Богу! Я перевела дыхание. Теперь осталось самое трудное – сделать несколько шагов, чтобы рассказать бабусе, что моя мама, её единственная дочь, погибла в блокаду. Каждый метр пути был как полёт над пропастью. Под неистовый стук сердца я несколько мгновений простояла у подъезда с вывороченной дверью. На первой ступени лестницы лежала куча штукатурки и комок каких-то пёстрых тряпок, то ли бывший коврик, то ли одеяло. Видимо, наверху никто не жил – если бы люди поднимались на второй этаж, то хотя бы отгребали мусор в сторону. Меня привлекли странные долбящие звуки во дворе, и я, оттягивая момент жуткого узнавания, повернула на шум.
Под сломанным каштаном на корточках сидел человек и молотком забивал гвоздь в дно маленького ковшика. Пробив одну дырку, он зыркнул глазами по сторонам и снова замахнулся. Я вскрикнула:
– Что вы делаете?
Он поднял голову и пожал плечами:
– Нашёл вот, понимаешь, ковшичек, в соседнем дворе. Никому не нужен. Вот я и прибрал к рукам. Сделаю дуршлаг, чтобы макароны сливать. – Он улыбнулся пустым ртом без единого зуба. – Только макарон-то нету. И ничего нету. Ты, видать, военная. Не слыхала, говорят, в центре разворачивают полевые кухни народ кормить?
– Не слыхала.
Скинув заплечный мешок, я достала пакет горохового концентрата и протянула мужичку:
– Возьмите. Кинете в горячую воду, будет суп.
– Спасибо, дочка. – Он подслеповато посмотрел мне в лицо. – Ты чьих будешь? Местная, что ли?
– Местная. Почти. Бабуся у меня тут, Ев праксия Поликарповна. Знаете её?
Мужчина прижал к груди ковшик и резко встал. Глубокие морщины вокруг его рта подчёркивали старость и немощь. Он потёр лоб:
– Антонина? Не помнишь меня? Я дядя Вова. Наш барак вон там, – он кивком указал в направлении нескольких деревянных домов, теперь сгоревших дотла. – Ты как-то маленькая на заборе повисла, а я тебя снимал. У тебя ещё платье было в горошек. Красное такое.
Платье я отлично помнила, а дядю Вову нет. Из вежливости я сделала вид, что вспомнила, и улыбнулась:
– Дядя Вова, что с бабушкой? Где она?
Дядя Вова испуганно моргнул, и по его лицу, внезапно ставшему серым, я без слов поняла, что последует дальше.
– Убили Евпраксию Поликарповну, – гвоздём по стеклу надсадно скрипнул голос дяди Вовы. – Зимой сорок второго убили. – Он кивнул головой в сторону дровяных сараев, где мы с подружками любили играть в прятки. – Прямо здесь, во дворе застрелили. – Он облизал пересохшие губы. – К нам тогда мальчонка прибился из беженцев, видать из польских евреев. Немцы его и давай шпынять, как соломенную куклу туда-сюда: то ногой пнут, то прикладом ударят, забавляются. Мальчонка плачет, а им весело, регочут, как гуси у корыта. А бабушка твоя, Царствие ей Небесное, выскочила, заслонила его собой и крикнула: «Палачи проклятые! Оставьте ребёнка в покое! Есть у вас совесть или нет?» На весь двор крикнула, я сам слышал. Ну, фрицы и дали очередь из автомата… – Дядя Вова оборвал речь и заглянул мне в глаза. – Вот такие дела, Тонюшка. Ты уж на меня не обижайся.
– За что? – Воздух вокруг сгустился настолько, что я едва смогла протолкнуть ком в горле.
Дядя Вова слегка пожал плечами и опустил голову:
– За то, что жив остался.
Я не стала подниматься в бабушкину квартиру, а побрела обратно в своё подразделение, думая о том, что правильно поступила, когда весной сорок второго пришла в военкомат и упрямо заявила тощему капитану с седой прядью надо лбом:
– Я учительница младших классов, но требую отправки на фронт бить фашистов. В любом качестве.
Военком смотрел на меня не дольше одной секунды. Наверное, ему хватило оценить решимость на моём лице и прихваченный с собой вещмешок с необходимыми вещами. Дома меня больше ничего не держало: учеников из школы, где я преподавала после педагогического техникума, эвакуировали, а маму я накануне завернула в простыню и отвезла в помещение Дома культуры, куда складывали трупы со всего района. Я не плакала – ленинградцы вообще не плакали, потому что на слёзы нужны силы. Сила оставалась лишь на ненависть, да ещё упрямство мешало упасть на кровать и умереть.
Пока военком думал, я смотрела на портрет Сталина, который наискось пересекал луч солнца из окна, и нетерпеливо комкала в руке носовой платок. До сих пор не понимаю, зачем я его достала.
– Пойдешь в дорожно-эксплуатационный батальон, мы туда как раз набираем призывников. – Военком окунул ручку в чернила. – Как фамилия и сколько лет?
– Вязникова Антонина Сергеевна, двадцать два года.
* * *
Наш дорожно-эксплуатационный батальон выполнял задачу регулирования транспорта в прифронтовой полосе и обустройство дорог. Иссечённые взрывами фронтовые дороги представляли собой то яму, то канаву, наскоро залатанную бригадой ремонтников. По сторонам громоздились остовы разбитой техники и торчали таблички «Проверено, мин нет». И гарь! Везде, куда ни повернись, чувствовался запах гари, казалось намертво въевшийся в дорожную пыль. На первые несколько месяцев службы моим оружием стали деревянные носилки с шершавыми ручками, на которых помещалось ровно двадцать пять лопат щебня для засыпки дорожных выбоин. Если щебень не подвозили, то мы мостили дороги из подручных материалов: мужчины валили лес, а мы, девушки, таскали жердины на дорогу и плотно укладывали, чтоб смогли проехать машины. От кровавых мозолей на ладонях я тихонько скулила от боли и завидовала тем, кто бьёт врага оружием, а не лопатой. Следующей зимой началось наступление наших войск по прорыву блокады, и девушек-дорожниц откомандировали выполнять свои прямые обязанности. Как знак отличия нам выдали по красной нарукавной повязке со знаком «Р», и я стала военной регулировщицей: в правой руке жёлтый флажок, в левой красный. Ночью флажки заменялись фонарями с цветным стеклом – зелёным и красным.
– Теперь я светофор, – засмеялась кудрявая Лариса с Охты, едва нас в первый раз вывели на учёбу в поле. Ларису убьёт прямым попаданием снаряда через неделю после начала работы. Она будет моей напарницей и поменяется со мной сменами – дневную на ночную, чтобы отоспаться.
Разноцветные огни фонарей в руках девчат отбрасывали во тьму весёлые разноцветные блики. Зелёный и красный цвет дробился, мелькал, рассыпался брызгами под ногами, навевая праздничное настроение то ли сказки, то ли предчувствия новогодних чудес.
Обучение оказалось коротким и ёмким. К концу месяца я могла с закрытыми глазами разобрать винтовку со штыком и без запинки отрапортовать правила регулировки. Наш старшина сумел крепко вбить правила в наши девичьи головы:
– Запомните, бойцы, все сигналы начинаются с исходного положения: обе руки с флажками или фонариками опущены вниз.
Поднятый вверх жёлтый флажок призывал водителей сбросить скорость и привлечь внимание к опасным местам. Жёлтый флажок на уровне груди разрешал движение прямо и поворот направо тому транспорту, к которому регулировщица стояла боком. Жёлтый флажок в вытянутой перед собой руке разрешал беспрепятственный поворот налево, направо и движение прямо транспорту, к которому регулировщица обращена левым плечом. Поднятый вверх красный флажок – сигнал «стой» для всех направлений.
Теперь, наверное, мне до конца жизни будет сниться поток машин, повинующийся одному моему движению, где я на глаз могу отличить начинающего шофёра от опытного, а пьяного лихача (бывало и такое) заметить ещё на подъезде к перекрёстку и успеть преградить ему путь. На службе дни и недели сливались в сплошную череду дежурств и коротких минут отдыха. Однажды во время наступления мне пришлось стоять на перекрёстке двое суток, пока я не упала в обморок от усталости. У меня до сих пор горят щёки от стыда, едва вспоминаю сгрудившихся вокруг военных и властный голос какого- то командира:
– Отойдите, дайте мне взять её на руки!
Меня поднимают, несут в сторону от дороги, а я отбиваюсь, как вытащенная из воды рыбина, и пытаюсь встать на подгибающиеся ноги. Единственная радость – я была в солдатских брюках, а не в юбке, иначе лучше было бы сквозь землю провалиться!
Ещё в памяти встают бесконечные колонны пленных немцев. Они шли в сопровождении наших солдат голодные, измученные, кое-как перевязанные грязными тряпками, с осунувшимися лицами, в которых не осталось ничего от сытых и уверенных солдат рейха сорок первого года. Они вызывали жалость и презрение.
Обидно, но наш взвод пропустил день победы. В мае наше подразделение выполняло задачу регулировать трассу для перегона скота из Германии на Украину с тем, чтобы скот шёл не по асфальту, а копытил просёлочные дороги, не мешая движению войск. Регулировщицам выдали старые трофейные велосипеды, и мы мотались по своим участкам, проверяя указатели и состояние дорог. С задания возвращались грязные, голодные, усталые, наскоро перекусывали из общего котла и валились спать. Мы тогда остановились на отдалённом фольварке, откуда сбежали хозяева. Сломанный радиоприёмник молчал, а газеты нам не завозили уже несколько дней. Когда поднялась стрельба, я спала на кушетке под окном, куда в стекло стучали ветки цветущей яблони. От сильного грохота зазвенела ложка в жестяной кружке и всколыхнулись занавески на окнах. Меня подкинуло вверх, как от толчка в спину.
– Тревога! По местам, живо! Похоже, прорвались немцы! – закричал наш взводный лейтенант Кубыщенков. – Вязникова, оставайся у своего окна, Ломова – на второй этаж, Кохеидзе – к входу! Остальные за мной! Без моей команды не стрелять!
Мы простояли на постах до утра, пока звуки канонады не откатились за кромку леса и не затихли. После команды «отбой» нам оставалось полчаса, чтобы умыться, поесть и мчаться по своим участкам. У моего велосипеда как на грех спустило колесо, и я замешкалась. Хвалёный немецкий насос при нажатии шипел, как рассерженная змея, и едва качал воздух.
– Здоровеньки булы, Тоська, подсобить?
Я сердито обернулась. Ненавижу, когда меня называют Тоськой, да ещё такие сопляки, как мальчишка-вестовой из соседней части. Он стоял, перекинув руки через автомат, с блаженной улыбкой на лице, сплошь покрытом веснушками.
– Если помощь и нужна, то не от тебя. Обойдусь без горе-помощничков.
Он улыбнулся ещё шире и присел на корточки рядом со мной.
– Хоть ты и вредина, но накачаю тебе колесо ради праздника.
– Это какого такого праздника?
Вестовой выкатил на меня глаза бурого болотного цвета, и я усмотрела в них искреннее изумление.
– Ты что, совсем того? – Он покрутил пальцем у виска, – Ведь победа же! Вчера капитуляцию подписали! Мы такой салют дали, что чертям в аду тошно стало. Слыхали небось?
У меня в голове словно взорвалась граната, и несколько мгновений я видела полностью оглушённая, а потом заорала как ненормальная:
– Победа! Товарищи, победа! Мы победили! Ура!!!
Я орала и целовала рыжего вестового куда ни попадя: в щёки, глаза, лоб, а он, остолбеневший и смущённый, стоял руки по швам и не смел пошевелиться.
Наверное, так громко я никогда не кричала, потому что горло болело несколько дней. Буйная радость вскоре сменилась растерянностью с мыслями о теперь незнакомой мирной жизни, где нет приказов командира, а каждый сам за себя. Позади лежала огромная война, а впереди простиралась неизвестность.
Почти всё лето наш батальон продолжал нести службу, пока в середине августа не пришёл приказ о демобилизации.
Задумавшись, я не заметила, как за окном теплушки закончился дождь и в приоткрытую дверь вагона мягко прокрался холод предрассветного тумана. Если верить поездной бригаде, то к вечеру нас высадят в Могилёве, а дальше своим ходом.
* * *
В Ленинград я приехала на попутной полуторке, сидя в кузове посреди туго набитых мешков с крупой. Из прорехи в одном из мешков высыпалось несколько крупинок грязножёлтого пшена, и я сунула их в рот. Не потому, что хотелось есть, а потому, что по мере приближения к городу в подсознание возвращались блокадные привычки не дать пропасть ни одной крошке еды. Шинель я несла в скатке через плечо пропылённой насквозь гимнастёрки, отчаянно мечтая раздеться и вымыться, желательно тёплой водой, но сойдёт и холодная.
Стояла облачная, но тёплая погода с лёгким ветром, пахнущим придорожной пылью. Ближе к городу замелькали засаженные картошкой поля и выжженные деревни с печными трубами на месте домов. На Пулковских высотах от Обсерватории остались одни руины. Когда-то в школе наш класс водили сюда на экскурсию, и милая девушка в очках рассказывала нам об уникальных телескопах, которые позволяют открывать новые звёзды. Помню, после той экскурсии добрая половина учеников из нашего класса решила стать астрономами, но следующая экскурсия на кондитерскую фабрику качнула весы в сторону пищевой промышленности.
Удерживая Пулковский рубеж обороны, здесь полегло несколько дивизий. Отсюда, с Пулковских высот, прозвучал первый снайперский выстрел по врагу ополченца Феодосия Смолячкова, после чего по всем фронтам прокатилось движение снайперов-истребителей. Когда Смолячков открыл счёт уничтоженным фашистам, ему едва исполнилось восемнадцать лет. Зимой он погибнет, и звание Героя Советского Союза получит уже посмертно. Вечная память! Я тоже хотела пойти в снайперы, но после строгого отбора из нашего взвода на курсы взяли только маленькую тихую Галю, похожую на девочку-подростка, и смешливую татарочку Фариду, которая умела почти не целясь выбить на мишени десять из десяти.
С Пулковских высот южная часть города просматривалась как на блюдечке, утопая в мягкой сизой дымке, милосердно маскирующей следы разрушений. У меня забилось сердце. Даже в состоянии бедствия мой родной город был прекрасен.
Прежде чем поднять шлагбаум на въезде в город, молодой солдатик на контрольнопропускном пункте долго и вдумчиво изучал документы, сосредоточенно хмуря пшеничные брови так, словно хотел разглядеть в моём предписании тайные масонские знаки.
– Буквы, что ли, знакомые ищет? – прошипел мне на ухо шофер. Я пожала плечами, не отрывая взгляда от силуэтов зданий, окутанных серым ленинградским небом. Я так долго мечтала вернуться домой, что городские кварталы казались мне миражами, случайно возникшими в воображении. Город втягивал меня в себя, подобно песчинке, попавшей в водоворот смерча. И если ногами я ещё стояла возле пропускного пункта, то душа уже парила над дорожками Летнего сада с любимой горожанами статуей баснописца Крылова.
Солдатик протянул документы и кивнул напарнику:
– Пропускай.
Шлагбаум медленно пополз вверх, отпирая дорогу в Ленинград, и мне вдруг стало тревожно, как перед прыжком в глубину.
Распахнув дверь кабины, шофер недовольно зыркнул на постового:
– Видала, начальство из себя строит. Молоко на губах не обсохло, а морда уже кирпичом.
Хотя лицо солдатика совершенно не походило на кирпич, я благоразумно промолчала – с тем, с кем предстояло ехать через весь город, лучше не спорить по пустякам. Тем более, что шофёр вез меня из-под самой Луги и не намекал ни на какую оплату.
Время подходило к вечеру, и низкое солнце уже набросило на крыши домов невесомый розовый полог. Привстав на коленях, я увидела трамвай на Международном проспекте[1] и поняла, что больше всего на свете сейчас хочу поехать на трамвае – ленинградском, настоящем, с деревянными сиденьями и суровой кондукторшей, которая оторвёт мне билетик из бобины, подвешенной на груди, и сунет в руку со словами:
– Не задерживайте движение, гражданочка. Пройдите на свободные места.
Трамвай тронется с остановки, я втиснусь между пассажирами, ухвачусь за петлю ремня на поручне и почувствую, что я наконец дома.
Извернувшись ужом, я заколотила кулаком по крыше кабины полуторки:
– Друг, останови, останови, пожалуйста, я сойду! Дальше сама доберусь.
За плечами вещмешок, через плечо скатка шинели, в руке фанерный чемодан. Сколько раз я проклинала его тяжесть! В нём уместились злополучные туфли на картонной подошве, ватник, шапка-ушанка, сменная гимнастёрка, форменная юбка, пара нижнего белья, включая, стыдно признаться, мужские кальсоны, без которых можно было замёрзнуть на трассе, если регулировать движение только в ватном комплекте на голые ноги. Помимо одежды я везла из Германии один-единственный трофей – фарфоровую пастушку, подобранную в разбомблённом доме. Некоторые из моих знакомых ухитрялись набить полные чемоданы посуды и ложек-вилок с вензелями хозяев, а уж без полезных мелочей, типа перочинного немецкого ножичка или стальной зажигалки, мало кто возвращался.
Воровать и мародёрничать строго воспрещалось, но трофейное имущество можно было купить. Постановлением Государственного комитета обороны демобилизованные имели право оплатить то, что увезут с собой домой в разорённые города и сёла. Например, в одни руки со склада разрешалось отпустить шесть метров ткани – из них три хлопчатобумажной и три шерстяной или шёлковой. Допускалось взять один предмет неношеной одежды. Шутки ради наш сержант зачем-то взял новенький китель немецкого офицера, и его благополучно пропустили на проверке. Особым спросом пользовались швейные машины и патефонные иглы. Но я не взяла ни того, ни другого. Чугунную «Зингер» я бы не дотащила, а патефоном обзавестись не успела.
Однажды на Львовщине мы нашли в немецкой комендатуре целый ящик отличных электрических фонариков со сменным стеклом. Фонарики разошлись по рукам в мгновение ока. Отказалась одна я. Хотя зря, наверно, – надёжный фонарик всегда пригодится в хозяйстве. Лично мне претило есть из фашистских тарелок и пить из фашистских чашек, но пастушка… Каким-то чудом она уцелела при попадании снаряда и стояла на полке камина, весело взирая на царивший вокруг хаос – яркое цветовое пятно посреди пыльного марева. Смешно, но каштановыми волосами и зелёными глазами она показалась похожей на меня, если надеть соломенную шляпку, пёструю юбку и белоснежный фартук с кружевами. Теперь пастушка лежала в рукаве ватника для безаварийного прибытия на постоянное место жительства.
В ожидании трамвая я опустила чемодан на землю. Кроме меня на остановке стояла лишь одна женщина с усталыми глазами и сединой в волосах. Она повернулась ко мне:
– Вы за чемоданчиком получше приглядывайте. А то подскочит какой-нибудь мазурик и оглянуться не успеете, как без вещей останетесь. – Она вопросительно подняла брови. – С фронта? Демобилизованная?
– Да, демобилизованная. – Я была рада поговорить с ленинградкой, просто чтобы услышать родной говор, по которому скучала три долгих военных года.
– И где служили?
– Регулировщицей на дорогах, – я улыбнулась, – так что стрелять не довелось. Ну, почти не довелось. – Я не стала рассказывать про прорыв немцев подо Львовом и про то, как по нам прямой наводкой били вражеские зенитки.
Попутчица убрала со щеки прядь волос и скользнула взглядом поверх моей головы в перспективу Международного проспекта:
– А моя дочка была санинструктором. Убили её на Невском пятачке. Ещё в сорок втором убили. Вот еду к генеральше Вершининой помолиться за её душу.
Я не поняла её слов и машинально переспросила:
– Куда едете?
– На кладбище Новодевичьего монастыря. Сам-то монастырь давно порушен, но люди ходят на могилу генеральши к изваянию Спасителя. Он там как живёхонький стоит, только бронзовый. Мне соседка подсказала. Церкви закрыты, а на кладбище кто может запретить пойти? Никто! Помолишься – вроде как и легче становится. Хотя куда там легче: сейчас в каждом доме по своему горю за столом сидит и ложкой стучит. – Она опустила голову и тяжело замолчала, перебирая ручки сумки авоськи, в которой лежал завёрнутый в газету тугой свёрток.
В трамвае мы с женщиной больше не разговаривали. Она сошла около остановки «Московские ворота». Сами ворота перед войной разобрали, и я хорошо помнила их стройную колоннаду из серого камня, предварявшую вход в город. Обидно, когда историю государства Российского своими руками крушат жители. Я проследила взглядом проплывающую мимо стену Новодевичьего монастыря с обезглавленными церквами и вздохнула: хочется верить, что разум возобладает и всё разрушенное снова восстанет в первозданной красе. Как прекрасен был бы тогда Ленинград, где старая история перекликается с новой и обе они дополняют друг друга как одно целое.
Я жила на Семнадцатой линии Васильевского острова. Когда царь Пётр строил город, он решил пересечь Васильевский остров каналами на манер Венеции. Берега продольных каналов назвали линиями, а поперечных перспективами. Но нрав Невы оказался слишком непокорным, и каждую осень река выходила из берегов, затапливая всю округу. По приказу Екатерины Второй каналы засыпали, превратив в улицы, где одна сторона улицы Первая линия, а другая Вторая, и так далее. Всего на Васильевском острове тридцать три линии – из них только четыре с названиями, а остальные по номерам.
По мере продвижения к центру города трамвай плотнее наполнялся людьми, и к площади Мира, бывшей Сенной, мне пришлось пробиваться к выходу, держа перед собой чемодан как щит римского легионера. Ещё одна пересадка, и через несколько остановок трамвай покатит на Васильевский по мосту Лейтенанта Шмидта[2].
* * *
Обращала на себя внимание необычайная чистота в городе – везде ни соринки, ни пылинки. На свежевымытых тротуарах темнели влажные полосы от машин-поливалок. Под окном первого этажа в навесном ящике рыжими огоньками цвели садовые маргаритки. Мимо меня с хохотом промчались двое мальчишек на одном велосипеде, явно им маловатом.
По своей Семнадцатой линии я шла, таща проклятый чемодан чуть не волоком. Остановившись смахнуть пот со лба, я вдруг замерла. Именно на этом самом месте я стояла зимой сорок второго и лихорадочно проверяла в кармане, на месте ли хлебные карточки. Из памяти непрошено выскочили и стиснули сердце ощущения блокадного хруста снега под ногами, примёрзший к щекам платок, ледяная мгла, негнущиеся пальцы в насквозь промороженных варежках. Здесь я тащила саночки с умершей мамой, и в горле застревал один-един ственный вопрос: будет ли конец этому ужасу?
Воспоминания обрушились на меня лавиной, крепко приколачивая ноги к мостовой. Я потрясла головой: нет, нет и нет! Я не дам горю взять над собой верх! Ещё несколько шагов, и я войду в родную парадную, поднимусь по ступеням, достану ключ, войду в свою комнату и первым делом поставлю чайник на буржуйку. Я решила не ломать голову насчёт растопки – наверняка во дворе найдётся что-нибудь подходящее, в крайнем случае соберу щепок около дровяных сараев. Сейчас не блокадная зима, когда жгли всё, что горело, не оставляя на земле ни единого сучка.
Скользнув взглядом по окнам, я заметила, что многие стёкла ещё остались заклеенными бумажными полосками крест-накрест. В начале войны наивно считалось, что подобный способ может защитить стекло от взрыва, но совсем скоро мы увидели, как снаряды пробивают стену насквозь, а здание складывается, как карточный домик, погребая под собой и людей, и вещи. Меня подбодрила мысль о том, что завтра с утра я отскоблю со своих окон следы войны, начисто вымою пол, протру подоконник и впущу в комнату воздух мирного времени.
В последний раз я доставала ключи от квартиры почти три года назад. Взгляд скользнул по табличке с фамилиями на дверном косяке: «Прониным 1 зв., Каблуковым 2 зв.» Всего шесть фамилий, включая нашу. Я сама писала эту табличку, когда училась в педтехникуме.
Пронины умерли самыми первыми, Каблуковы уехали в эвакуацию, слесарь дядя Игорь Макаров ушёл добровольцем и не вернулся.
Дверь отворилась с привычным скрипом. В глубине души я опасалась увидеть вымершую квартиру, но мне в нос ударил запах выварки для белья и неистребимый дух керосина для заправки примусов. Судя по звукам, в кухне кто-то возился. Потом разберусь. Мне не терпелось войти в свою комнату. Странно, но дверь оказалась открыта. Тускло горела настольная лампа на какой-то чужой этажерке, невесть откуда взявшейся.
В первый момент я даже не поняла, куда попала. Шкаф, что прежде отгораживал мою кровать от обеденного стола, теперь сдвинут к стене, комод стоит боком, нет фотографий над диванчиком. А на самом диване сидела девушка с короткой стрижкой и читала журнал «Огонёк». Мало того, девушка была одета в моё голубое штапельное платье, сшитое перед самой войной. Я собственноручно связала для него кружевной воротничок из катушечных ниток и накрепко пришила к горловине.
– Вы кто? Как вы сюда попали? – Голос девушки визгливо резанул мне уши. Девушка свернула журнал и гневно уставилась на меня.
От подобной наглости я едва не потеряла дар речи. Пройдя в центр комнаты, я водрузила чемодан на стол. Обычно я не имею привычки класть на стол грязные вещи, но тут случай особый, и захватчиков надо ставить на место:
– Вообще-то я хозяйка этой комнаты и здесь прописана. И это всё мои вещи, – я обвела рукой пространство комнаты. – И платье на тебе моё.
Девушка покраснела и открыла рот, переваривая информацию. Её брови сошлись на переносице, туго натягивая кожу на лбу.
– Как хозяйка? Вас же убили! Мама! – Девушка вскочила с дивана и закричала в глубину квартиры: – Мама, ты представляешь, она живая!
Пока я собиралась с мыслями для ответа, из кухни выкатилась неопрятная толстая тётка и ринулась на меня в штыковую атаку:
– Ты кто такая? Почему врываешься в дом к честным людям? А ну выметайся отсюдова!
Её объемистый живот покрывал клетчатый фартук моей мамы, изгвазданный жирными пятнами. Тётка успела оторвать от фартука уголок кармана, откуда торчала столовая ложка – тоже наша!
Меня заколотило от злости:
– Я Антонина Вязникова и здесь прописана. Это моя жилплощадь, а не ваша. – Я старалась говорить спокойно и медленно, хотя с трудом получалось сдерживаться и не вцепиться дурной бабе в волосы.
«Считай до десяти», – полузадушенно твердил мне внутренний голос, которого я не собиралась слушаться.
На шум спора в коридор высыпали несколько соседей. Я не знала ни одного из них.
Круглые щёки захватчицы комнаты побагровели до свекольного цвета. Она подошла ко мне вплотную и упёрла руки в боки:
– Знать не желаю никакой Вязниковой. Раз мне сказали, что ты убита, значит убита. Нас сюда вселили на законных основаниях, по ордеру, и никуды мы отсель не сдвинемся.
– А моё платье вам тоже выдали по ордеру? – я кивком головы указала на девушку. – Или вы тут сами мародёрничали? По приказу Верховного главнокомандующего с мародёрами на фронте знаете что делают?
Краем глаза я видела испуганное лицо девушки. Она держалась руками за спинку стула, и её нижняя челюсть мелко дрожала.
Мамаша сощурила глаза и уткнула мне палец в грудь:
– Ты умерла, понятно? Или пропала без вести. Нам с Райкой без разницы, – она кивнула на дочку. – И твоего тут больше ничего нет.
От крепко сжатых кулаков мне в ладони впились ногти. Я бы, наверно, её ударила, но помешал знакомый громкий голос, резанувший свару как всполох молнии:
– Антонина, Тоня! Никак вернулась?!
Круто развернувшись, я встретилась глазами с прежней соседкой тётей Аней – работницей с ткацкой фабрики. Война мало изменила низкорослую и жилистую тётю Аню, разве что прибавила седины и лёгкой кистью навела тёмные круги под глазами.
Тётя Аня решительно раздвинула сгрудившихся жильцов и потянула меня за рукав:
– Пойдём ко мне! Небось устала с дороги. Попьём чайку, поговорим. – Она мигом разогнала соседей. – Что уставились? Фронтовиков никогда не видели? Между прочим, они за вас кровь проливали. И за тебя, Людка, в том числе, – последнее адресовалась моей противнице. Судя по наступившей тишине, тётя Аня пользовалась непререкаемым авторитетом, и даже горластая тётка в её присутствии непроизвольно съежилась и стала казаться ниже ростом.
Прежде, до войны, тётя Аня была незаметной. Она рано уходила на работу, тихо возвращалась в свою комнату около кухни и никогда не встревала в ссоры между хозяйками. Я помнила её по тяжёлым рукам с чуть расплющенными кончиками пальцев и по громкому голосу, как у многих глуховатых людей.
– У нас на фабрике все работницы глохнут, – объясняла тётя Аня, когда кому-то приходилось повышать голос в разговоре с ней. – Это потому, что от ткацких станков такой грохот стоит, что ни словечка не разобрать. Да и орать мы в цеху привыкли, у нас бабы все голосистые.
Но при всей своей голосистости тётя Аня оставалась очень скромной, даже робкой.
Она заметила моё удивление и усмехнулась:
– Это я в войну научилась командовать. Сама знаешь, на производстве кто на фронт ушёл, кого голод забрал, вот меня и поставили мастером на участок, где марлю гонят. – Она завела меня в свою комнатку и поставила чайник на керосинку. – А марля – это сама понимаешь что. Бинты для раненых. Бывало, прижму рулон к лицу и заливаюсь слезами, как представлю, что скоро эти бинты в крови наших солдатушек утопнут. Вот и приходилось две нормы выбивать, где криком, где лаской. Хотя наши рабочие и без потычек старались, у всех на фронте у кого муж, у кого сын или брат, но всё равно приходилось глоткой барьеры брать – то смежники подведут, то нитка не та идёт, то слесарь сутки не спавши, с ног валится. Иначе никак! А новые соседи у меня вот где! – Кивнув в сторону коридора, тётя Ана подняла ладонь и стиснула крепкий кулак: – Их надо держать в строгости, иначе в квартире будет бардак.
Передо мной очутилась чашка чая и горстка сушек – тётя Аня засуетилась:
– Ты посиди, я тебе ещё картошечки нажарю, нам на работе с подсобного хозяйства по три кило выдали!
Я покачала головой:
– Спасибо, тётя Аня. Я не голодная. У меня сейчас кусок в горло не лезет. Думала домой приду, а тут…
Я пожала плечами, не зная, что добавить. И так всё ясно. Не каждый день доводится вернуться с фронта и увидеть свою комнату занятой, а жильцов в твоей одежде.
– Да уж, досталось тебе, девка! – Тётя Аня вздохнула. – Ты сейчас у меня переночуй, а завтра иди в жилконтору и стучи кулаком по столу, пока тебе новый ордер не выпишут. Свободная жилплощадь пока есть, я точно знаю. Почитай, в каждой квартире по одному-два жильца остались, а остальные померли. – Я отхлебнула горячего кипятка, чуть подкрашенного щепоткой заварки. На душе было пусто и тошно. Тётя Аня сидела напротив, единственный близкий человек из довоенной жизни, и не сводила с меня глаз: – А ты повзрослела, Антонина, серьёзная стала, красивая.
Я иронично хмыкнула: до красавицы мне далеко, как до луны пешком, просто тёте Ане хочется сказать мне приятное. Разговор не вязался, слишком много неожиданного навалилось на плечи. И я спросила первое, что пришло в голову:
– Тётя Аня, а вы знали моего отца?
Не знаю, почему вырвался именно этот вопрос, мы с мамой очень редко говорили о папе. Он умер от тифа незадолго до моего рождения, и у нас не сохранилось ни одной его фотографии. В детских мечтах я представляла папу то героем, погибшим во время освоения Севера, то отважным альпинистом, сорвавшимся с горы, то смелым милиционером, задержавшим кучу бандитов. Но чаще всего я представляла его живым и весёлым, как папа моей лучшей подружки Машки. По вечерам мы всей семьёй сидели бы за чаепитием, а в выходные ходили в парк кататься на лодке. И мама не плакала бы по ночам втайне от меня. По мере моего взросления воображаемый образ отца тускнел, таял и размывался акварельным рисунком, случайно оставленным под дождем. Я снова стала вспоминать об отце в войну, когда на мужчин стали приходить похоронки. Эх, папа, папа, не дожил ты узнать, что твоя дочь тоже стала фронтовичкой и не посрамила твою фамилию.
Почему-то тётю Аню мой интерес нисколько не удивил:
– Я не знала твоего отца, Тонечка. Марина, твоя мама, заселилась, когда он уже умер, а ты ещё только ожидалась. Соседки, конечно, расспрашивали, что да как, сама понимаешь, мы, бабы, любопытные. Но Марина отмалчивалась, говорила: умер от тифа, и больше ничего. Но знаешь что? – Лоб тёти Ани прорезала напряжённая складка. – Уж не ведаю, говорить тебе или нет. Да ладно, поделюсь! Тогда тебе было года три, когда однажды ночью к нам в квартиру позвонил незнакомый мужик. Заросший бородой по уши, огромный, как глыба, сам в ватнике, морда зверская, махоркой разит за три версты, руки заскорузлые. Я ему сама дверь открывала, так он ни спасибо, ни пожалуйста. Спросил только:
– Вязникова Марина здесь живёт?
– Здесь.
Я, помню, подумала, что его серый полушубок похож на волчью шкуру оборотня. Даже жутко стало, а ну как накинется да удавит, как котёнка.
Он на меня глазами зыркнул:
– Позови. Дело к ней есть, скажи – весточку привёз из дальних краёв, а от кого, она сама знает.
Марина как увидела его, побледнела пуще снега, но взяла себя в руки и вежливо так:
– Пройдёмте в кухню, а то у меня дочка спит.
У мужика аж глаза на лоб вылезли:
– Так у тебя дочка есть?
Я вижу, Марина вот-вот в обморок хлопнется, а я этого допустить не могу. Ну и стала подслушивать из своей комнаты – Она легонько стукнула кулаком о ладонь. – Но они говорили быстро и неразборчиво. Услышала только, как твоя мама резко попросила:
– Оставьте нас в покое.
А дальше шептали совсем тихо, по-заговорщицки. Наутро Марина вышла вся заплаканная, сказала – голова болит, а весточка, мол, от дальнего родственника с Колымы. Больше я никогда того мужика не видала, и к Марине на моей памяти никто не приходил. – Тётя Аня замолчала и опустила голову. – Как бы то ни было, война все наши тайны похоронила вместе с людьми. Теперь ничего доподлинно не узнаешь, да и надо ли? Раз твоя мама тебе ничего не рассказывала, значит, не хотела. Ты уж её уважь, не тереби прошлое.
Легко сказать – не тереби! Впрочем, интерес к таинственному мужику быстро испарился, на фоне насущных проблем с жильём. Хотя я устала и измучилась за дорогу, но новости, свалившиеся на мои плечи, мешали уснуть, прокручивая в мыслях каменные жернова новых проблем. Невыспавшаяся и злая, я вскочила в шесть чесов утра, полная решимости вытребовать себе ордер на комнату, даже если придётся пристрелить управдома. Перед выходом из дома я споткнулась о коврик у двери и вспомнила, как перед самой войной мама принесла его с работы и улыбнулась:
– Представляете, у нас на работе отмечали юбилей школы, и лучших учителей премировали резиновыми ковриками! Ковриками!
От смеха на мамины глаза набежали лёгкие морщинки, но всё равно она была молодой и красивой. Коврик мы постелили для всех жильцов, вытирать ноги. Мамочка моя дорогая, как же тебя не хватает!..
1918 год
Марина
Зима восемнадцатого года выдалась лютой. По обледенелым тротуарам ветер гнал позёмку с обрывками газет, заметая подходы к дому. Сугробы никто не чистил, потому что новые власти не платили дворникам жалованья, домовладельцев объявили вне закона, а всё имущество национализировали в пользу государства. Фонари с началом новой коммунистической эры тоже не горели. На улицах любого прохожего могли ограбить, избить или даже зарезать, поэтому с наступлением вечера подальше от бандитских глаз прятались даже бродячие собаки, не говоря уже о людях, особенно если в восемнадцатом году им исполняется ровно восемнадцать лет. Марина с тревогой посмотрела на небо, набухающее новым снегопадом, и прибавила шаг. Свёрток с подарком крёстного она засунула в муфту и крепко сжимала в руке, чтоб не отобрали по дороге. Она представила мамино удивление, когда выложит на стол восхитительного сахарного зайчика – настоящего, дореволюционного, с рельефными ушками и забавной мордочкой. Вадим Валентинович сказал, что зайчик простоял у него в буфете с прошлой Пасхи и теперь очень хочет приобрести себе новую хозяйку.
– Боюсь, что новая хозяйка его съест, – честно призналась Марина, потому что чувство голода стало её постоянным спутником. Впрочем, голодали почти все горожане, на километры растягивая очереди за тяжёлым кислым хлебом то ли из муки, то ли из древесины.
– И правильно, голубушка, – поддержал крёстный, – молодому организму требуется хорошее питание: мясо, сахар, а зайчики… – он махнул рукой, – . зайчики к тебе прискачут позже, поверь мне. Тяжёлые времена обязательно пройдут, дав нам возможность оценить то, что прежде не ценили. Грешно сокрушаться о куске сахара, когда на наших глазах гибнет величайшая империя. – Он вздохнул. – Помяни моё слово, при слабой России сумасшедшая Европа ввергнет мир в войны и распри, какие ещё не видывало человечество, потому что гуманизм, просвещение и цивилизация – это миф, слетающий шелухой, как только появляется возможность безнаказанно грабить. Что, собственно, мы и имеем честь наблюдать в реальном времени прямо из своего окна.
Крёстный Вадим Валентинович достался в наследство от папы, умершего, когда Марина ходила в пятый класс гимназии. Вместе с крёстным папа работал инженером на судоверфи и дружил ещё со студенческих времён. После папиных похорон, вдоволь наревевшись, Марина записала в своём дневнике, что в мире нет справедливости, а значит, нет и Бога.
И всё же было жаль расколоть щипцами сахарного зайку, такого беленького, такого беззащитного. Марина крепче сжала пальцы, ощутив гладкую твёрдость подарка в шуршащей папиросной бумаге.
– Заяц – просто красивый кусок сахара, – твёрдо сказала она себе, – обычный сахар, какой раньше лежал на полках магазинов.
Особенно много сладостей появлялось перед праздниками, когда витрины изобиловали шоколадными лакомствами и засахаренными фруктами. Вспомнив, что нынче в лавках нет ни сахара, ни чая, ни белого хлеба, Марина вздохнула и подбодрила себя там, что маме на службе – она работала учительницей – выдали паёк с несколькими сухими рыбками воблы и кулёк перловой крупы. Плюс к пайку маме удалось выменять на рубиновую подвеску целое ведро чуть подмороженной картошки. Крупа, картошка и вобла казались сказочным богатством. Правильно говорят: «богатство к богатству», и сахарный заяц тому доказательство. Удивительно, но суп с воблой оказался вполне съедобным. А ещё вечером они с мамой попьют чай с сахаром! На самом деле чайной заварки осталась щепотка, бережно хранимая для торжественных случаев, но кипяток из тонких фарфоровых чашек они с мамой упрямо именовали чаем.
Подумалось, что вместе с разрухой жизнь ужалась в размерах, как намокший кусочек кожи, и вместе с ней ужались и поводы для радости: если раньше кусочек сахара был пустяком, на который не обращали внимание, то теперь стал источником маленькой радости. И полено для печурки – тоже радость, наравне с походом в театр. Она задумалась, что выбрать между поленом и театром, но не пришла к соглашению – и то, и другое на весах радости весили приблизительно одинаково.
Позади раздался хруст снега. Марина оглянулась, успев краем глаза зацепить патруль в чёрных бушлатах. Моряков в городе боялись, они отличались особенной безжалостностью к буржуям, а она, Марина, самая настоящая буржуйка в лёгкой беличьей шубке и пуховом платке. Да ещё и с муфтой! Отпрянув к стене, Марина оступилась в сугроб, моментально зачерпнув полный ботик снега. Заворожённым взглядом она смотрела на приближающихся матросов. В тяжёлых черных бушлатах, опоясанных пулемётными лентами, они напоминали стаю больших птиц, летящих вдоль заснеженной улицы. Когда патрули прошли мимо, от них пахнуло крепким запахом табака и дыма костров.
– Что, барышня, застряли? – насмешливо спросил чей-то голос. Юноша рядом с ней возник словно ниоткуда, как фокусник в цирке. Высокий, гибкий, быстроглазый. Его волосы без головного убора трепал ветер. Не дожидаясь ответа, незнакомец выдернул её из сугроба и по-свойски отряхнул снег с рукава. – Вы немного испачкались. Позвольте помочь. – Под его напором Марина не нашлась что сказать и ошеломленно молчала. Он понял её по-своему: – Вы меня боитесь?
– Нет, – она покачала головой, – просто вы появились так неожиданно.
– Люблю сюрпризы. – Он засмеялся и тут же серьёзно предложил: – Давайте я вас провожу, а то в городе небезопасно, особенно для такой красивой барышни.
– Мне недалеко, в Фонарный переулок, – сказала Марина и искренне призналась, – я действительно боюсь ходить одна. Знаете, на прошлой неделе неподалёку убили нашего учителя словесности. Откровенно говоря, он был пренеприятный тип и приставал к девочкам, но ведь всё равно человек. Правда?
– Конечно, правда. – Юноша помог ей выйти на тротуар и слегка наклонил голову:
– Позвольте представиться – Сергей Вязников, студент. – Он сделал паузу. – Бывший студент.
– Почему бывший? Ваше учебное заведение закрылось?
– Нет, – он растянул рот в улыбке, – я сам закрыл его для себя. Решил, что в этаком хаосе, – он обвёл рукой пространство, – от моих знаний по философии не будет никакого толку.
– А ваши родители? Неужели они одобрили такое решение? Моя мама никогда не позволила бы мне бросить гимназию ни при каких обстоятельствах.
– Мои родители живут в Брянске, так что я давным-давно вольная птица. Кроме того, у меня есть увлечение – цирк.
– Неужели? – Марина заинтересованно глянула ему в лицо. – Меня однажды папа водил в цирк, но мне не понравилось, потому что стало жалко зверей. Собачки были забавные, а слон очень грустный. Представьте, один клоун катался в повозке, запряжённой свиньями!
– Вам повезло, вы видели выступление Дурова! Дуров – замечательный артист, его номера войдут в историю, – быстро сказал Сергей. – Но в отношении зверей я отчасти разделяю ваше мнение. Мне по душе воздушные гимнасты. Под куполом цирка, посредством своего тела они выделывают настоящие чудеса. Они летают! – Он поддержал Марину под локоток и задорно спросил: – Вы бы хотели полететь?
– Не знаю. – Марине вдруг представились качели на большой высоте и она, вцепившаяся в верёвки. – Наверное, нет. Мне достаточно нашего третьего этажа.
Она не заметила, как ноги привели её во двор дома. Рядом с парадной стояла полковница Матильда Вениаминовна с кошёлкой в руках. Октябрьский переворот принудил Матильду Вениаминовну к торговле спичками на Сенном рынке, но величественности она не утратила, и Марина постоянно ловила себя на мысли, что её тянет сделать перед соседкой реверанс.
Кивок головы Матильды Вениаминовны означал приветствие.
– Добрый день! – Марина улыбнулась, получив в ответ кислую мину.
Хотя присутствие Сергея Матильда проигнорировала, завтра наверняка маме сообщат, что её дочь провожал кавалер. Марину скорее забавляло, чем расстраивало досужее внимание местных кумушек. Пусть болтают о чём угодно. Она давно поняла, что люди не взрослеют. К примеру, если какая-нибудь девушка среди подруг слывет сплетницей, то она ею останется навсегда, поэтому не следует обращать внимание на мнение посторонних.
– Значит, ваш третий этаж, – напомнил о себе Сергей. – Дайте угадаю ваши окна. О, наверняка вон те, с зелёными гардинами!
– Верно! – Она подарила Сергею благодарный взгляд. – Спасибо, что проводили. Мне пора домой, мама ждёт.
Он предупредительно распахнул перед ней тяжёлую дверь парадного подъезда с массивными ручками в виде львиных голов:
– Был рад познакомиться. Кстати, прекрасная незнакомка, вы так и не назвали мне своё имя.
Марине вдруг захотелось пококетничать и ответить в духе дамских романов, типа «пусть это будет моей тайной» или «моё имя приснится вам во сне».
«Фи, какая пошлость!» – Едва удержавшись, чтоб не хихикнуть, она скромно опустила глаза:
– Меня зовут Марина Антоновна.
* * *
Вьюги, вьюги, вьюги – казалось, они поселились в городе навсегда, когда в середине февраля внезапно выглянуло солнце. Да как! Ярко, радостно, по-весеннему. Золотой солнечный диск купался в розовых облаках, щедро посыпая лучами заледеневшие за зиму крыши. С карнизов с хрустом валились сталактиты хрустальных сосулек, рассыпаясь по тротуару мелкими брызгами. Исступлённо заорали вороны на крышах. В их крике Марине послышались слова:
– Весна! Весна!
«Чего орут, дурачки, ведь до весны осталось целых две недели. – Она посмотрела на календарь и исправилась: – Пятнадцать дней».
Вороны, понятно, её не слышали, продолжая хрипло выводить свою нехитрую песню из пары нот. Марина вздохнула: погулять бы, но нельзя, потому что накануне заболело горло. Мама места себе не находила от ужаса – вдруг дочка подхватила испанку – и строго-настрого запретила даже помышлять об улице. Заморский грипп «испанка» выкашивал целые города, наполняя заболевшими больницы и морги, от него не было спасения ни бедному, ни богатому, а в голодной и разорённой стране тем более. «Эпидемии и войны всегда идут рука об руку», – сказал бы папа, если бы дожил до настоящих времён. Может и повезло, что не дожил?
«Я нынче как морковка на грядке, – записала в дневнике Марина, – красная девица, сижу в темнице, а коса на улице».
Кроме того, мама велела пить отвратительный отвар каких-то трав с привкусом горечи и обязательно полоскать горло содой. Да ещё и насморк! Марина метнула взгляд на зеркало, отразившее распухший нос и покрасневшие глаза. Наверняка она простудилась третьего дня, когда начерпала полные ботики снега, а потом не побежала домой, а прогуливалась по улице с новым знакомым. Да ещё и во дворе с ним постояла, болтая о всякой ерунде.
«Стыдно, голубушка, знакомиться с каждым встречным-поперечным, – сказала она своему отражению в зеркале. – Приличные девушки так опрометчиво не поступают».
Она попробовала повернуть размышления на учёбу или хорошую содержательную книгу, но мысли непослушно возвращались к Сергею. Как он интересно рассказывал про цирк и спрашивал, не хочет ли она полетать. Полетаешь тут, если приходится лечить ин флюэнцию! Несмотря на прохладу в комнате, Марина приоткрыла форточку, чтобы впустить в комнату немного нарождающейся весны, и пошла на кухню полоскать горло, а когда вернулась, то ахнула: по всему полу тугими мячиками раскатились оранжевые мандарины. В голодном Петрограде, где маме в пайке выдали лошадиные копыта, а гибель населения пытаются предотвратить «военным коммунизмом», мандарины воспринимались сказочным миражом. Чудеса! В голове как будто запели рождественские колокольчики. По традиции в их семье ёлку украшали мандаринами. Мама обвязывала каждую мандаринку крест-накрест разноцветной тесьмой, а внизу к перекрестью подвешивала крупную стеклянную бусину – получалась ёлочная игрушка.
Присев на корточки, она взяла в руки мандаринку и прижала к губам. Нежный цитрусовый запах чувствовался даже сквозь насморк. Сердцу в груди стало горячо, а щекам жарко.
Долго гадать, кто стал волшебником, не приходилось – конечно, Сергей! Марина подбежала к окну, но в пустом дворе лишь ветер теребил ветви старого тополя да сидела на подоконнике соседская кошка из квартиры напротив. И почему кошки не умеют разговаривать? Она наверняка раскрыла бы секрет появления гостинцев.
Одну мандаринку Марина съела сразу, сидя на полу и глупо улыбаясь, словно всю её от макушек до пят внутри наполнило тёплое солнце. Со счастливыми слезами на глазах она ползала на коленях, собирала мандарины в вазу и целовала каждый плод, мысленно посылая благодарность таинственному волшебнику.
* * *
– Мариночка, посмотри, кто к нам пришёл! Проходи, Николенька, проходи! Замёрз? У нас чайник вскипел, сейчас будем пить чай.
Марина услышала, как мама захлопотала вокруг Николая Лохова, которого прочила ей в женихи. Николай успел закончить Институт гражданских инженеров и занимался строительством.
– Вечная профессия, – сказала мама, – какие бы революции ни происходили, человеку всегда будет нужен кров.
Николай аккуратно повесил на рогатую вешалку пальто и фетровую шляпу с каракулевой отделкой, но шарф снимать не стал, картинно закинув один край через плечо.
– Добрый день, Евпраксия Поликарповна, родители передают вам поклон. – Он пригладил рукой волосы с небольшими залысинами у висков и шагнул к Марине.
Она сидела в кресле, кутаясь в тёплую шаль и поджав под себя ноги. Каким-то образом в городе стало туго не только с продовольствием, но и с дровами, хотя уж чего-чего, а лесами Россию-матушку природа не обделила. Но с началом революционных преобразований лесорубы куда-то подевались, на рынок перестали привозить подводы с дровами, и по квартирам перестали ходить заезжие продавцы с вопросами:
«Хозяева, в дровцах не нуждаетесь? Есть отменные, берёзовые, горят чище пороха!»
Накануне днём мама притащила разбитый деревянный ящик, который сейчас весело потрескивал углями в буржуйке. День подходил к трём часам пополудни, мягко проникая в комнату сквозь заиндевевшие окна.
– Рад видеть вас в добром здравии, Мариночка, – мягко сказал Николай. Он всегда говорил негромко, будто робея, хотя общие знакомые утверждали, что Лохову палец в рот не клади, и на службе он умеет отдавать распоряжения самым наисуровейшим тоном. При виде мандаринов в вазе его глаза расширились: – О, откуда такая немыслимая роскошь? Ну надо же, настоящие мандарины!
– Угощайтесь, – дежурно предложила Марина, отчаянно надеясь, что Николай откажется, сделав вид, что терпеть не может мандарины, и вообще, только что съел пару фунтов и сыт по горло. Напрасно!
Нимало не смущаясь, он взял из вазы верхний мандарин и сколупнул с него кусочек корочки:
– Божественно! А запах!
Сама Марина позволила себе только один мандарин, когда собирала их с пола, и один мандарин съела мама, долго отнекиваясь:
– Нет-нет, Мариночка, тебе нездоровится, нужны витамины. А я успею. Скоро лето. Да и безвременье рано или поздно закончится.
Безвременье… Лучшее слово к действительности не подбиралось: там, где бал правят голод, война и разруха, а время ожидания лучшей доли растягивается в бесконечность. Это только часы радости бегут слишком быстро, даже если ты умоляешь их ненадолго замереть.
Красивые, длинные пальцы Николая со вкусом раздевали мандарин, и корочки оранжевыми лепестками живописно опадали на чёрный лак столешницы. Отделив дольку, Николай закинул её в рот и блаженно произнёс:
– Напоминает старое доброе время с пирамидами фруктов в витрине Елисеевского. Помню, однажды зимой папа привез из Абхазии целый ящик мандаринов. Мы даже кухарку угощали.
Марина с отвращением смотрела, как он поглощает дольку за долькой, и не понимала, как Николай прежде мог ей нравиться! От мысли, что она могла бы неосмотрительно выйти за него замуж, её окатило ужасом. Ведь замуж – это навсегда, навечно, до осинки над могильной плитой.
Мама подошла и собрала со стола апельсиновые корочки:
– Мы их засушим и будем класть в чай вместо заварки.
Она подала Николаю чашку с кипятком и протянула сахарницу с остатками сахарного зайца. Марина зыркнула глазами и тут же спрятала испытующий взгляд. Неужели и тут не откажется? Серебряными щипчиками Николай вынул кусочек сахарного ушка и бросил в кипяток.
– Чудесно живёте, Евпраксия Поликарповна: мандарины, сахар. Неужели вам в школе дают такой хороший паёк? А у нас в департаменте, увы, лишь селёдка с душком да кулёчек крупы. Спасибо, крестьяне прорываются сквозь заслоны, но цены дерут дикие – за торбу турнепса мама расплатилась каминными часами с купидонами. Кстати, если у вас есть часы, то имейте в виду – их хорошо берут на чёрном рынке. – Он развернулся к Марине. – Мариночка, у меня для вас маленький подарочек. – Засунув руку в карман, Николай достал открытку с видом Нотр-Дам-де- Пари, тающем в голубой дымке тумана, и мечтательно вздохнул. – Париж! Город мечты. Кофе на набережной Сены, тёплые круассаны, мягкий климат. Туда сейчас едет много наших. – Он зорко взглянул на Марину. – Как вы отнесётесь к тому, если я предложу вам вместе со мной попытаться уехать из проклятой Богом страны, у которой нет будущего, в цветущий европейский сад с демократическими ценностями и свободами?
Если бы Николай предложил эмиграцию неделю назад, то она, возможно, задумалась бы, но теперь решительно всё, включая светло-водянистые глаза, приглаженные волосы на залысинах, музыкальные пальцы с ровными лунками ногтей, вызывали отвращение.
Решительно подняв голову, Марина прямым взглядом посмотрела в лицо Николая:
– Я ни за что не уеду из России. Пусть сейчас тяжело, но мы справимся, ведь справлялись же во время монголо-татарского ига? Не сбегáли, не проклинали, а становились плечом к плечу и боролись.
Её ужаснула мысль о том, что можно уехать из Петрограда навсегда и больше никогда не пройтись по Невскому проспекту, не постоять на Дворцовом мосту, глядя, как справа и слева раскинули крылья Николаевский и Троицкий мосты, не увидеть Ростральных колонн, ощущая себя рядом с ними частичкой родного города, навеки прикованной к нему чугунным кружевом ограды любимого Михайловского сада возле храма Спаса на Крови.
Нет! Нет! Нет! Тысячу раз нет!
– Евпракcия Поликарповна, – воззвал Николай, повышая голос, – пожалуйста, повлияйте на дочь. Прикажите, в конце концов! Вы же понимаете, что в этой стране нельзя, стыдно жить. Мариночка пока рассуждает с юношеским максимализмом, но уверен, очень скоро признает мою правоту. Посмотрите, Галустяны уехали, Серебряковы уехали, Мафусаиловы пакуют вещи, – он перечислил нескольких общих знакомых. – Надобно бежать, пока не поздно, и есть возможность выправить документы на отъезд. За взятку, само собой, но возможно.
Мама вздохнула:
– Я не поеду, Николенька, у меня старенькие родители в Могилёве, да и вообще, не создана я для эмиграции: окружение чужое, непривычное, везде надо быть просителем. Марина права, Россия не раз переживала трудные времена, пройдёт и через это. Спасибо тебе, дружок, за заботу, но мы постараемся не падать духом и перетерпеть.
– Не понимаю я вас, Евпраксия Поликар повна! Вы рассуждаете очень странно для образованной женщины! Взгляните на бунтующую чернь, дорвавшуюся до власти! Разве вам нравится, что творится в городе? А дальше станет только хуже! – Николай вскочил со стула, сделал несколько шагов по комнате и внезапно бросился на одно колено перед Мариной: – Марина Антоновна, дорогая, я ведь прошу не просто поехать в одном поезде, я прошу вас поехать во Францию в качестве моей жены! Если я вам хоть чуть-чуть дорог, не откажите составить моё счастье. Я хороший инженер и везде найду работу, чтобы обеспечить семью. Обещаю, вы не будете знать ни нужды, ни горя, а наши дети вырастут в цивилизованной стране.
Марина увидела расширенные глаза мамы, которая замерла, не донеся до рта чашку чая, и перевела взгляд на оранжевый блеск мандаринов в хрустальной вазе.
Николай накрыл руками её руки:
– Соглашайтесь, Мариночка, умоляю, дайте ответ «да»!
Её передёрнуло от нелепости ситуации и захотелось прямо сию минуту вскочить, накинуть пальто и выбежать на улицу глотнуть свежего воздуха. Так она и сделала, несмотря на осуждающие взгляды мамы и отчаянный вскрик Николая:
– Марина, постойте, куда же вы?
Кое-как наброшенный платок соскальзывал с головы. Пальто она застёгивала на ходу, а ботики не успела, и они хлюпали на ногах, грозя соскочить с ноги, как туфелька Золушки. В промороженном подъезде лестница обросла коркой льда, и Марина едва не пересчитала ступеньки собственными рёбрами, но удержалась и пулей вылетела навстречу ветру.
Сергей стоял во дворе и смотрел на их окна с зелёными занавесками. Увидев её, он щелчком отбросил папиросу и шагнул навстречу:
– Марина, я вас ждал!
Она хлюпнула носом:
– Я… мне… – Чтобы взять себя в руки, понадобилось несколько раз глубоко вдохнуть и выдохнуть, как учил преподаватель на уроках гимнастики. – Мне надо прогуляться.
По лицу Сергея скользнула улыбка:
– Вижу, вы очень торопитесь.
Присев на корточки, он застегнул ей ботики, а она сверху смотрела на волосы Сергея и крепко стискивала в кулак дрожащие пальцы, борясь с желанием погладить его по голове.
* * *
Марина с Сергеем обвенчались весной, на Красную горку, когда положение с продовольствием в городе стало отчаянно невыносимым. Газеты печатали обращение Ленина к правительству, где Петроград по-прежнему именовали Петербургом:
«В Петербурге небывалое катастрофическое положение. Хлеба нет. Населению выдаются остатки картофельной муки и сухарей. Красная столица на краю гибели от голода. Контрреволюция поднимает голову, направляя недовольство голодных масс против советской власти. Наши классовые враги – империалисты всех стран – стремятся сдавить кольцом голодной смерти социалистическую республику. Только напряжение всех сил советских организаций, только принятие всех мер по немедленной погрузке, по экстренному продвижению продовольственных грузов может спасти и облегчить положение. Именем Советской социалистической республики требую немедленной помощи Петербургу. Непринятие мер – преступление против Советской социалистической республики, против мировой социалистической революции.
Председатель Совнаркома Ленин. Наркомпрод Цюрупа».
По переименованным улицам строем маршировали отряды красногвардейцев. В рамках искоренения царизма памятник Николаю Первому на Исаакиевской площади укрыли досками, а около Николаевского вокзала сооружали монумент цареубийце Софье Перовской. Вдоль Невского проспекта третий день подряд громыхала телега с укреплённым на фанере лозунгом: «Братья-рабочие Германии, Франции и Англии, подымайтесь! Восстаньте против капитализма за свободу и мир!» Несколько раз в неделю граждане обязывались отбывать трудовую повинность по расчистке улиц, но чище в городе не становилось, и облупленные дома тревожно смотрели на мир тёмными окнами.
Накануне свадьбы Сергей притащил Ев праксии Поликарповне полную сумку продуктов. Та всплеснула руками:
– Серёжа, откуда? В городе голод!
– Из-под полы можно всё достать, было бы на что менять.
– Так ведь обманут! Я недавно раздобыла на Сенном рынке килограмм пшена, а потом мы кашу напополам с песком ели. Добавили для тяжести. И женщина такая приятная продавала, про внуков мне рассказала, про прострел в пояснице. Разве так можно?
– Меня не обманут! – Сергей зло прищурился. – Я все уловки жуликов знаю. Вы не расстраивайтесь, Евпраксия Поликарповна, теперь я стану о вас заботиться. Мои покупки точно первосортные, лично проверил.
– Марина, Мариночка, иди посмотри, чем нас балует твой жених! – позвала Евпраксия Поликарповна.
– И чем?
Прежде чем выйти из комнаты, Марина оценила себя в зеркале. Скромное палевое платье, шитое по кокетке и подолу голубыми васильками, сидело на ней с восхитительным изяществом. Платье досталось в наследство от крёстной, которая подарила его на Рождество.
Легко поцеловав Сергея в щёку, Марина подошла к столу и увидела банку американских консервов, завёрнутую в совдеповскую газету, щуку с зеленоватым бочком, солёные огурцы, кулёк кислой капусты и несколько крупных картофелин.
– Это ещё не всё, – довольно сказал Сергей, доставая из кармана плитку шоколада в красной обёртке, – надеюсь, достаточно, чтобы немного отпраздновать торжество? Конечно, не такой я представлял свою свадьбу, но чем богаты, тем и рады.
– Да что вы, Серёженька, вы просто волшебник! – воскликнула Евпраксия Поликар повна. – Я сделаю на ужин котлеты из щуки, и у нас будет настоящий пир горой.
Марина посмотрела в глаза будущего мужа, искрящиеся весельем, и тоже засмеялась:
– Недаром ты любитель цирка! Просто шапито какое-то.
Почему она упомянула шапито, в котором ни разу не была, неизвестно. Просто на ум пришло. Сергей подхватил её за талию и вихрем закружил по комнате, напевая: «Шапито, шапито, наше счастье будет долгим».
– Дети, дети, не балуйтесь! Жениху и невесте видеться перед свадьбой вообще плохая примета, а вы тут танцы устраиваете, – со смешком в голосе заметила Евпраксия По ликарповна, – хотя я в приметы не верю и вам не советую.
Перед глазами колесом вертелась комната с зелёными, как трава, гардинами, весёлое лицо мамы, стол, заваленный снедью. Дыхание Сергея путалось с её дыханием, и от его близости становилось и страшно, и сладко. Запыхавшись, Марина приникла к груди Сергея и еле слышно шепнула:
– Помнишь, ты спрашивал меня, хочу ли я взлететь? Я летаю!
* * *
Кружа в воздухе, тополиный пух устлал землю вокруг старого тополя, что рос в крошечном скверике, зажатом между домами. Рядком стояли три поломанные скамейки и два каменных отбойника, до блеска отполированные ветрами с Балтики. Прежде за порядком в сквере строго следил усатый дворник Федул в длинном холщовом фартуке и начищенных сапогах гармошкой. Непорядок Федул жёстко пресекал коротким свистком, который всегда висел у него на груди, и грозным шевелением бровей, непостижимым образом сходящихся к переносице. После того как зимой Федул умер от гриппа-испанки, в сквере настали запустение и разруха. Марина взяла маму под руку:
– Давай посидим как прежде. Так тепло на улице, что домой идти не хочется, там более, что Сергей сегодня на работе.
Сколько себя помнила, они частенько ходили с мамой гулять в этот крошечный сквер, по-домашнему уютный и спокойный. В свободное время к ним присоединялся папа с газетой в руках, он раскланивался с дамами на соседних скамейках, обязательно здоровался с Федулом, а Федул по-военному отдавал ему честь и именовал «вашим благородием».
Теперь ни Федула, ни папы, ни дам на соседних скамейках, лишь ветер гоняет по земле ошмётки мусора, подкатывая комок тополиного пуха к дохлой крысе на газоне. Странно, что крысу не сожрали бродячие коты, коих после Октябрьского переворота развелось великое множество.
Мама взяла Марину за руку:
– Мариночка, я хотела тебе сообщить, что мне необходимо уехать в Могилёв к родителям. Я на днях получила весточку от дедушки с бабушкой, прости, сразу тебе не сказала, не хотела волновать, но дедушка болен, и бабушке требуются помощь и поддержка.
Дедушка был намного старше бабушки, приближаясь годами к тревожной цифре восемьдесят, за порогом которой начиналась настоящая старость.
Марина сжала мамины пальцы:
– Мама, но как ты поедешь? Поезда почти не ходят. Кругом грабители и воры! Во вчерашней газете написали про новую банду налётчиков. Кроме того, я лично видела, как люди едут на крышах вагонов. Представляешь, облепят крышу, распластаются и едут, кто сидя, кто лёжа, с мешками, с тюками, с торбами, старики, женщины, дети. Ужасно и опасно! Тебе нельзя отправляться одной, мы поедем вместе!
– Нет, Марина, – мама отвечала категорично, тоном, не допускающим возражений, – ты должна остаться с мужем. А за меня не волнуйся. Я уже переговорила с Сергеем, он обещал навести справки и отправить меня с сопровождением. Оказывается, у него есть знакомые, которые в полной мере обеспечат мою безопасность. Как только я приеду в Могилёв, сразу же дам тебе знать, слава Богу, почта пока работает. – Мама погладила Марину по плечу: – Повезло тебе с мужем, а мне с зятем: во всём помогает, спокойный, воспитанный. Хотя, честно признаться, меня удивляет график его работы: то неделю сидит дома, то надолго исчезает, да ещё и по ночам. Я иногда думаю, что на самом деле он работает не в комитете по снабжению, а на секретной работе. Сама понимаешь какой. Такие богатые пайки выделяют особо ценным сотрудникам. Ты береги мужа, ему сейчас трудно. – Подняв голову, мама скользнула взглядом по верхушке дерева и вздохнула. – Ждёшь, ждёшь лета, а оно раз и пролетает, как листок с ладони. Не успеем оглянуться, а осень уже стоит на пороге и стучит в дверь. Даст Бог, дедушка поправится от хвори и осенью я вернусь. Но я оставляю тебя со спокойным сердцем – с Сергеем ты как за каменной стеной.
Осенью мама не вернулась из Могилёва. Чтобы получать паёк, она устроилась учительницей в школу, по мере возможности присылая весточки, наполненные заботой и любовью. Каждое мамино письмо Марина целовала и складывала в сафьяновую папку с бархатным переплётом, чтобы перечитывать, когда на душе становится особенно грустно и тягостно.
На Покров выпал первый снег, укрывая потемневший город белым оренбургским платком матушки-зимы. Редкие солнечные лучи живописно высвечивали серебром заиндевевшие стены домов, маскируя изморозью куски облупленной штукатурки. И всё же город оставался прекрасен, как царский бриллиант, случайно упавший в лужу, – стоит его достать, помыть, и все ахнут от восхищения перед гениальной работой мастера.
В те дни Марина честно пыталась устроиться на работу через биржу труда, причем не капризничала с выбором – какую бы должность предложили, на ту и пошла бы. Но во-первых, страна задыхалась от безработицы по причине закрытия заводов и фабрик, а во-вторых, Сергей был против, чтобы жена работала от зари до зари. Но всё-таки она нашла выход и стала на общественных началах преподавать на курсах ликвидации безграмотности для взрослых при Домовом комитете. Хмуря брови, Сергей несколько раз выказал своё недовольство, но Марина умела настоять на своём и вскоре получила нескольких великовозрастных учеников, гораздо старше себя самой. Бывшая гимназистка, она никогда не предполагала, что её ученики станут приходить на занятия, пропахшие табаком и сырой овчиной, неумело держать в руках карандаш и именовать её учи телкой. Особенно донимала шустрая старушка баба Глаша, чуть не ежеминутно переспрашивающая: «Ась? Повтори сызнова. Чтой-то я не смыслю».
Когда её маленький класс освоил азбуку, в город стали прибывать беженцы, которые тоже нуждались в помощи и поддержке. В то время она чувствовала себя очень полезной, отодвигая бытовые проблемы в сторону, как никому не нужный хлам.
«Сегодня в наш дом поселили голодающих из Поволжья, – записала она в своём дневнике. – Один мужчина, несколько женщин и детей. Молчаливые, с чёрными лицами, в лаптях и потрёпанной одежонке. На вопросы они отвечают очень скупо. У меня сложилось впечатление, что беженцы всего боятся. Лишь одна из женщин, самая молодая, спросила, где можно взять воду, и очень удивилась, когда я объяснила про водовоза.
По счастью, водовозы продолжают навещать дворы со своими бочками, иначе при неработающем водопроводе пришлось бы совсем худо. Я отнесла беженцам вареной картошки, кусок сала, сахар и папину одежду для мужчины. Уверена, папа был бы рад помочь ближним».
День за днём зима подкатывала к середине, не забывая присылать в Петроград посылки с метелями и снегопадами. По ночам луна повисала надо льдом Невы да ветер свистел в трубах, словно накликая на Петроград новые беды.
В канун Рождества Сергей притащил откуда-то небольшую ёлку, источавшую тонкий запах рождественской ночи, полной тайн и надежд. Марина достала коробку с игрушками, и в душе серебряным перезвоном колокольчиков запел будущий праздник.
– Икра? Неужели икра? Шампанское? Сливочное масло! Серёжа, ты волшебник! – на столе одно за другим появлялись давно не виданные яства, немыслимые в голодном городе.
Хитро прищурившись, Сергей приоткрыл тёмно-синюю бархатную коробочку, прятавшую маленькую брошь, размером со спичку:
– А это тебе на Рождество!
Марина залюбовалась золотым стручком с тремя жемчужными горошинками.
– Какая прелесть!
– Ты у меня прелесть! – Он поцеловал её в губы и протянул полотняный мешочек с вышитой в уголке рыбкой. – Это сушёные яблоки, сослуживец угостил. Знаешь, я в детстве обожал грызть сушёные яблоки. Бывало, заберусь в кладовую, открою мешок и таскаю дольку за долькой, сладко, вкусно, хрустко. Бабушка в Великий пост схватится варить кашу с яблоками, а там уже пусто.
– Серёжа, но откуда?
Муж беспечно махнул рукой:
– Нарком приказал выдать усиленный паёк семейным сотрудникам. А я очень даже семейный, ведь правда?
До краёв наполненная любовью к мужу, вместо ответа она уткнулась лицом ему в грудь.
* * *
«А ведь я её где-то уже видела», – настойчивая мысль пробивалась сквозь утренний сон, мешая заснуть снова, хотя сонное дыхание Сергея навевало дремоту. Напольные часы в футляре мерно отсчитывали минуты до рассвета, когда тонкая полоска зари превратит ночное небо в дрожащее серое марево. Запах ёлки наполнял комнату лесной свежестью волшебного Рождества. Марина подумала, что часто самые обыденные мгновения имеют свойство превращаться в воспоминания, в которые обязательно захочется вернуться снова, главное, запомнить всё до мелочей, включая звуки и запахи.
«Где-то я её видела?»
Прижавшись щекой к тёплой спине мужа, она зажмурила глаза, но они упрямо открылись сами и уставились в потолок, словно пытаясь отыскать начертанные на побелке слова подсказки. Что-то такое очень близкое, тёплое, почти родное, связанное со звуками фортепьяно, танцами, духами в хрустальном флаконе и завитыми по последней моде локонами.
Отбросив одеяло, Марина выскользнула из постели и на цыпочках подошла к комоду, на котором лежал футляр с брошью. Чтобы не разбудить Сергея, она не стала зажигать лампу, а в полной темноте раскрыла коробочку и на ощупь потрогала украшение. Три жемчужинки прохладно скользнули по кончику указательного пальца. Где-то видела… И вдруг будто свечи на ёлке вспыхнули. Точно! Вспомнились именины одноклассницы Ляли Разгуляевой и зелёное шёлковое платье, застёгнутое у ворота на изящную золотую брошь.
«Видишь три жемчужинки? – Лялин мизинчик легким касанием пробежался по жемчужинкам. – Самая крупная папа, потом мама, и маленькая – я. Мама выдумала, а папа заказал ювелиру специально на моё шестнадцатилетие. Тебе нравится?»
Марина искренне восхитилась:
«Очаровательно!»
Ляля тряхнула головой с пышным бантом в волосах и таинственно понизила голос:
«Я доверю тебе секрет, что меня скоро просватают, и сразу после гимназии я пойду под венец. Но кто жених – не скажу, чтоб не сглазить!»
Среди подружек Ляля слыла известной болтушкой, поэтому новости про жениха Марина не поверила. Но брошь на платье Ляли совершенно точно была эта!
Марина зажала футляр с брошью в кулаке, нисколько не удивлённая извилистым путём, которым Лялино украшение оказалось в руках Серёжи. Нынче за продукты можно выменять всё что угодно и у кого угодно. Она улыбнулась, мысленно воображая восторг Ляли, когда она вернёт ей подарок. Серёжа поймёт. Но ему она расскажет потом, после свидания с Лялей.
Ляля жила в доходном доме неподалёку от Львиного мостика, откуда из окон открывался обзор на изгиб Екатерининского канала[3], зажатого в толще каменного русла.
С подругой Марина не виделась больше года, наскоро встретившись на улице в дни Октябрьского переворота. В городе стреляли, мимо них куда-то бежала толпа рабочих. Промчались несколько казаков с шашками наголо. Ляля поцеловала её в щёку и крепко пожала руку:
– Увидимся позже, когда всё успокоится. Сейчас опасно ходить по улицам.
Опасность длилась целую вечность и не собиралась заканчиваться. Потом появился Сергей, замужество, отъезд мамы, преподавание в ликбезе…
Тяжёлая дверь парадной дома, где жила Ляля, открылась с трудом, и Марине пришлось навалиться на неё всем телом. Скрипучие петли нехотя поддались, впуская её на насквозь промороженную лестницу с обледеневшими ступенями. Мозаичный пол в подъезде покрывала корка грязного снега, а лакированные перила с трудом держались на нескольких уцелевших балясинах, остальные, видимо, выломали на дрова. Будучи гимназисткой, Марина однажды набралась храбрости и скатилась с перил, угодив прямо в объятия господина с верхнего этажа. Сконфузившись до слёз, она долго лепетала извинения, а потом так же до слёз хохотала, вспоминая растерянный вид своего спасителя и его протяжное: «О-у-у-у-у», когда она угодила головой ему в плечо.
Чтобы подняться на третий этаж, приходилось накрепко вцепляться в шаткие перила. И всё же, судя по тёмным следам на ступенях, в подъезде теплилась жизнь. На глухой треск механического звонка дверь приоткрылась на щёлку, и знакомый голос Ляли тихо спросил:
– Кто пришёл?
– Ляля, это я, Марина!
– Мариша! – Ей показалось, что на губах Ляли мимолётно вспорхнула тень озорной улыбки и тут же потухла свечным огарком. – Проходи в мою комнату, мы с мамой топим только там.
– А где Леонид Францевич? – не удержалась от вопроса Марина, немедленно выругав себя за бестактность.
Ляля повела плечом:
– Папа ушёл добровольцем в Белую гвардию, мы не имеем о нём известий.
В закутанной до бровей кукле-неваляшке прежняя Ляля узнавалась с трудом. Она двигалась как старушка, шаркая ногами по полу. В прихожей стояли какие-то тюки и связки книг. Шнур телефонного аппарата на стене был оборван и болтался из стороны в сторону.
– Мы с мамой приготовили вещи для обмена, но книги никто не покупает, – объяснила Ляля. – Крестьяне говорят, что бумага годится только на растопку, а букинистам самим нечего есть. Вот, собрали папины вещи, может быть их удастся обменять на продукты. Мама сейчас понесла на рынок папины охотничьи сапоги, говорят, их хорошо берут деревенские.
От щемящей безысходности в голосе Ляли щемило сердце, и личико у неё стало худенькое, совсем прозрачное. Марине стало стыдно за свои розовые щёки, за весёлый вид, за то, что она хорошо питается и любима мужем. И почему радостью делиться труднее, чем горем? Наверное потому, что радость похожа на росу, которая блеснёт на рассвете и испарится под лучами солнца, а горе – это топкая лужа со скользким дном, а когда из неё выберешься, то долго придётся отскребать с себя засохшую корку.
Она порадовалась, что сообразила прихватить с собой мешочек с сушёными яблоками, Ляля с мамой могут опустить дольки в кипяток и получить почти чай с тонким ароматом лета. Мысленно Марина дала себе слово почаще навещать Лялю и делиться продуктами. Она улыбнулась, представляя, как Серёжа погладит её по голове и скажет: «Добрая моя девочка, за всех-то у тебя душа болит».
Вслед за Лялей Марина вошла в комнату, где почётное место занимала печка-буржуйка из ржавой бочки. Лялина кровать под ситцевым пологом откочевала к стене, а кресло из гостиной переместилось вплотную к окну. В углу белым изразцовым айсбергом застыл камин, который не топили по причине прожорливости.
Ляля приложила ладонь к медном боку чайника на буржуйке.
– Мы с мамой теперь спим на кровати вдвоём, так теплее, – она размотала платок и поёжилась, – всё время мёрзну. Мне кажется, что я до конца жизни не согреюсь. Дрова продают чуть не на вес золота, а жечь книги рука не поднимается. Приходится растапливать печку старыми журналами, благо их накопилось порядочно. Ещё я сожгла свои гимназические тетради по математике и правописанию. Помнишь, как я ненавидела эти предметы? Не понимали мы своего счастья! Всё ждали чего-то, мечтали о богатстве и знатных женихах, а надо было просто благодарить Бога за имеющееся, начиная с кружки молока и заканчивая охапкой дров для камина.
– Кстати о богатстве, – оживилась Марина. – Вы продавали свои украшения на рынке?
– Нет, – Ляля помотала головой, – не продавали. – Она села на пуфик, чтобы быть поближе к печурке, и придвинула Марине другой. – Точнее – продавали, но успели сбыть только одну вещицу. Поменяли на ведро картошки.
– Ну так вот! – торжественно сказала Марина, едва сдерживая радость в голосе. – У меня есть для тебя подарок на Рождество! А ну-ка, взгляни! Это то, что вы продали!
Ляля открывала футляр медленно-медленно, словно боясь раздавить. В свете из окна тускло блеснул перламутр жемчужин в обрамлении червонного золота. Марина замерла от желания увидеть радость подруги. Ляля подняла на неё глаза:
– Знаешь, мама поменяла на картошку не мою брошь, а своё ожерелье с гранатами. Крестьянке понравились красные камушки. Мы успели поменять только ожерелье, потому что всё остальное унесли бандиты.
– Какие бандиты? Революционные? – не поняла Марина. – У вас конфисковали имущество?
– Да нет, что ты, – Ляля покачала головой, – к нам новая власть пока не заглядывала. Нас ограбила шайка разбойников. Самых настоящих, подлых и мерзких. Вломились в квартиру, заперли нас с мамой в ванной и унесли всё ценное. – Она горько усмехнулась. – Взяли лишь драгоценности и, не поверишь, мешочек с сушёными яблоками. Там на уголке была вышита рыбка. Я её вышила на уроке рукоделия в младших классах. Бандитов видела мельком, но главаря запомнила: высокий, с красивыми глазами, и звали его странно: «Шапито». Я слышала, как один из бандитов его так назвал.
Шапито! Так Марина иногда шутливо называла своего Сергея – высокого, гибкого, быстроглазого, любителя цирка и фокусов.
Она внезапно поняла, что потеряла слух. Губы Ляли шевелились, а она ничего не слышала, кроме нарастающего звона в ушах. Звон заполнял собой всю голову, давил на виски, на глаза, на уши.
Всё же непослушными пальцами Марина ухитрилась достать из муфты мешочек с сушёными яблоками и протянуть Ляле. Ей показалось, что вышитая на уголке красная рыбка плеснула хвостом. Вместе с рыбкой покачнулась печка-буржуйка и поплыло по волнам кресло в углу комнаты. Чтобы не упасть, Марина схватилась за угол комода и впилась глазами в царапину на столешнице. Царапина прочерчивала лак наискось от резьбы и оказалась единственным неподвижным объектом в вертящейся комнате. Сгустившийся в комнате воздух не давал свободно вздохнуть, заполняя лёгкие тяжёлыми булыжниками. Несколько раз она открывала и закрывала рот, как рыба, выброшенная ураганом на берег, а потом кинулась прочь, ударяясь о косяки и припадая на ноги.
На подходе к дому Марина опомнилась и бессильно прислонилась спиной к стене. Холодный ветер трепал волосы непокрытой головы, затекая в расстёгнутый ворот. Не хватало сил застегнуть пальто и накинуть платок, да и озябшие пальцы не гнулись. Скользнув взглядом по ледяным рукам, она обнаружила, что где-то потеряла свою меховую муфту. И пусть: когда рушится мир, такая потеря не имеет значения.
* * *
По белому снегу тёмными венами бежали натоптанные пешеходами тропки. От стволов деревьев на тропки падали косые тени, расчерчивая тротуар на неровные квадраты.
Женщина на перекрёстке тянула детские саночки с ломберным столиком ножками вверх. Быстрым шагом мимо прошли два красноармейца в долгополых шинелях. Худенькая девочка совком для муки набирала в ведёрко чистый снег, чтобы не покупать воду. Издалека казалось, что в ведёрке не снег, а сахар. Марина вдруг вспомнила, что на днях Сергей принёс полфунта пилёного сахара, и ощутила прилив тошноты. Чтобы прийти в себя, она зачерпнула горстку снега и бросила себе в лицо, отирая холодом лоб и щёки. На противоположной стороне улицы она заметила священника в чёрной рясе из-под пальто и бросилась к нему в ослеплении последней надежды:
– Батюшка, батюшка! – Протянутые для благословения руки тряслись и не складывались в ковшик. Она вцепилась в его рукав, не замечая, что прохожие смотрят на неё с удивлением. – Батюшка, помогите! Скажите, что всё будет хорошо!
Глаза пожилого батюшки глянули на неё с состраданием. Наверное, в последнее время ему часто приходилось утешать людей в безнадёжности.
– Господи, благослови! На всё воля Божия. Делай что должно, и будь что будет.
Его пальцы, сложенные щепотью, мягко прикоснулись к её лбу. Присутствие священника она восприняла как знак свыше – ведь не случайно же он оказался именно здесь и сейчас. Он сказал: делай то, что должно. Легко вымолвить, но трудно выполнить. Её заколотило от того, что ещё предстояло осознать в полной мере.
«Только бы Сергея не было дома! Господи, сделай так, чтобы он ушёл на…» – твердила она про себя, опуская окончание фразы, потому что слово «работа» теперь не подходило, а про другое его занятие думалось с ужасом.
Вставляя ключ в замок, она едва попала в замочную скважину, проигрывая в уме, как себя вести, если муж окажется дома. В прихожей её взгляд натолкнулся на записку, воткнутую в оправу зеркала: «Мариша, ушёл по делам. Люблю. Целую».
По делам, значит! Интересно по каким? Убивать? Грабить? Сбывать ворованное? Нахлынувшая ярость придала энергии. Не раздеваясь, чтобы не терять времени, Марина закрыла дверь на цепочку и закусила губу.
С чего начать обыск? Она присела на корточки и тщательно обследовала обувь и пол. Дальше ванная комната. Тоже пол, тумбочка, пространство под ванной. Пальто мешало, и она сбросила его в пустую ванную. Не прибранные волосы падали на лоб, и каждый раз, когда она продвигалась вперёд, дрожащие руки зависали в воздухе в такт бешеному стуку сердца. Тайников оказалось три: один в волшебном фонаре для просмотра туманных картинок. Сергей говорил, что в фонаре сломана оптика и он хранит его как память. Второй тайник располагался под половицами паркета, на котором стояла ёлка, и третий в бачке ватерклозета, откуда после революции исчезла водопроводная вода.
Это походило на кошмарный сон, от которого непременно надо было очнуться. Марина смотрела на груду золотых украшений посреди обеденного стола и думала, что сейчас или сойдёт с ума, или умрёт на месте от разрыва сердца. Но ни того, ни другого не случилось, только тошнота подступила к горлу и постоянно кружилась голова. Обмирая от дурноты, она сгребла драгоценности в саквояж. «Делай что должно, и будь что будет», – сказал батюшка, и его напутствие держало её на плаву, не давая лечь на пол и помереть. Пальто и платок Марина надевала уже осмысленно. Застегнулась на все пуговицы, не забыла отыскать в ящике варежки взамен утерянной муфты и вышла на улицу. До Комендатуры революционной охраны надлежало пройти три улицы. Больше всего она боялась встретиться с мужем, каждый раз шарахаясь в сторону при виде молодых мужчин в длинном тёмном пальто.
* * *
Сказать по правде, Марина была готова к расстрелу как пособница бандита. Часовой на входе Комендатуры революционной охраны критически осмотрел её с ног до головы, идентифицировав как гражданку, потому что она не походила на товарища или пролетарку. Его выдолбленное ветром лицо со впалыми щеками было серым от недоедания.
– Вам что, гражданка?
– Я хочу заявить о преступлении. Вот, – она приоткрыла саквояж, тускло блеснувший золотом.
От удивления часовой издал звук, похожий на клёкот ястреба:
– С этаким, гражданочка, вам надо к самому товарищу Густову. – Он повернулся к солдату, проходившему по коридору, возводя её в ранг товарищей. – Краснов, проводи товарища до Петра Захаровича. Да без проволóчек. Дело срочное.
Длинным коридором с затёртой сапогами ковровой дорожкой Марину повели на второй этаж к двери, около которой скопились несколько человек. Прокуренное помещение плавилось в клубах махорочного дыма. У нескольких людей из очереди алели красные банты в петлицах. Здесь же на изящном дамском столике стояла пишущая машинка, где одним пальцем колотила по клавишам мужеподобная женщина с папиросой в углу рта. Видя решимость провожатого зайти в кабинет, посетители попробовали поднять бунт, но Краснов резко пресёк их коротким выкриком:
– Посторонитесь, товарищи! Дело особой коммунистической важности!
Судя по обширному столу под сукном и массивному чернильному прибору из яркозелёного малахита, прежний хозяин кабинета занимал высокую должность. Бронзовая дева около книжного шкафа одной рукой вздымала факел с вмонтированной электрической лампочкой, а другой стыдливо прикрывала грудь.
Марина ожидала увидеть какого-нибудь могучего революционера с пышными усами и револьвером или матроса, опутанного пулемётными лентами, но за столом сидел пожилой дядечка с лысиной и спокойным добрым взглядом.
– Вот, товарищ Густов, к вам направили гражданку, – отрапортовал Краснов, слегка подтолкнув Марину вперёд. – Говорят, срочно.
Кивком головы отпустив сопровождающего, начальник комендатуры рукой показал на стул у стола:
– Присаживайтесь. Что у вас за дело?
– Вот. – Марина поставила саквояж на стол и распахнула набитое золотом нутро.
– Так, так, так… – товарищ Краснов включил настольную лампу (удивительно, но в комендатуре было электричество) и зачерпнул пятернёй драгоценности, – так, так, так. – Он с прищуром посмотрел на Марину. – Ну, объясняйте, откуда сие богатство.
Удивляясь сама себе, она рассказывала очень спокойно и отрешённо, так, словно поток чувств схлынул, обнажив голую неприглядную суть дела: муж бандит, а она, получается, сообщница.
Товарищ Густов слушал внимательно, не переспрашивая, и только когда она закончила, дёрнул за сонетку на стене, какой прежде вызвали горничных. Вошёл плечистый мужчина в военной шинели без погон:
– Вызывали, Пётр Захарович?
– Да, вот послушай, Борис. – Товарищ Краснов крепко потёр лоб, оставляя на коже красные полосы. – Похоже, что нащупали мы банду неуловимого Шапито. – Он перевёл взгляд на Марину и она сжалась в предчувствии наказания. Но комендант лишь покачал головой: – Вот что, дочка, домой тебе теперь идти нельзя, да и оставаться по старому месту жительства не резон, соседи будут пальцами тыкать, согласна?
Спокойствие вдруг куда-то делось, и её заколотило так, что стали лязгать зубы. Она кивнула головой, едва выдавив из себя короткое «да».
Повертев в пальцах бриллиантовое ожерелье из саквояжа, Товарищ Густов бросил его обратно:
– Надо опись составить. – Мягко поднявшись, он прошёл по кабинету, остановился перед Мариной и положил руку ей на плечо. – Сделаем так. Я дам тебе записку в комиссариат Васильевского острова, они подыщут тебе новое жильё и на работу устроят. Ты говорила, вела кружок ликбеза? Значит, будешь и дальше учительствовать. Новой власти образованные люди как воздух нужны. На Васильевский отправляйся прямо сейчас, это приказ. Перекантуешься как-нибудь чем Бог послал, а чтобы не голодала, выдадим тебе хлеба и лука. Не обессудь, больше ничего нет. А домой за вещичками через недельку наведаешься, а лучше через две, чтоб наверняка. Уяснила?
– Да. – Она посмотрела на Петра Захаровича и задала самый страшный вопрос, который разрывал душу окровавленными когтями: – Вы убьёте Сергея?
Повисшее в кабинете молчание ударило по ушам пудовым молотом, и она мысленно закричала что есть мочи:
«Господи Милосердный, спаси его!»
Много позже Марина Антоновна думала, что выжила она исключительно благодаря дочери. Антонина появилась на свет ровно через восемь месяцев, а когда подросла, девочке было сказано, что отец умер от тифа ещё до её рождения.
1945 год
Антонина
За войну стены домов приобрели однообразный грязно-серый цвет, и хотя город вычистили и подремонтировали, тень блокады продолжала витать над городом, ежеминутно напоминая о себе то ранами от обстрелов, то разбитыми окнами, то длинными очередями в булочные, где отпускали хлеб по карточкам. Во дворе-колодце с вытоптанной землёй под ногами я попала в полосу темноты, несмотря на клин солнца в верхних этажах здания. Летнее время года здесь определяла лишь жухлая полоска травы около полуподвальных окон, забранных решёткой. В начале войны в подвале оборудовали бомбоубежище, и при первых же звуках воздушной тревоги мы с мамой мчались туда, прихватив с собой пальто и документы. Жильцы молчаливо теснились на скамейках вдоль стен, тревожно гадая: «попадёт – не попадёт». Примерно в декабре мы с мамой перестали прятаться от бомбёжек, потому что стало безразлично – умереть или жить. Думать о маме я себе запрещала, чтобы не закричать от горя и бессилия.
Две девочки во дворе играли в магазин. Одна, худенькая, как воробей, щепочкой нарезала комок глины.
– Давай карточку да побыстрее шевелись, гражданка. Вас много, а я одна, – скомандовала она подружке в красном платьице. Несмотря на тепло, девочка стояла в валяных чунях, грубо подшитых дратвой. Та подала три листика подорожника:
– Вот карточки – рабочая и две иждивенческих.
Продавщица по-деловому наколола их на ивовый прутик:
– Вот ваш хлеб. Проходите. Следующий!
Вещи я оставила у тёти Ани, но несколько карамелек в кармане имелось. Я протянула девочкам по конфете:
– Угощайтесь, девочки.
Мне показалось, что они посмотрели на меня со страхом. Потом та, что служила продавщицей, быстро схватила конфету и мгновенно запихала в рот. Другая немного помедлила:
– Спасибо. Вы очень добрая. Вы, наверное, с войны вернулись, раз в форме? Те, кто с войны, нас часто угощают. А на моего папу похоронка пришла.
Девочка сообщила про это без горя, как само собой разумеющееся. Я знала, что осознание придёт позже, вместе со взрослостью, или когда другие отцы возвратятся, а её папа нет.
Мне хотелось сказать девочкам что- нибудь весёлое, ободряющее, но я просто достала ещё по одной конфете и протянула им. Я знала, что когда-нибудь дети перестанут играть в очереди и карточки, но война будет отзываться в поколениях долгим эхом потерь и боли. Дай Бог этим девочкам счастья!
У дверей жилконторы меня закрутила небольшая толпа дворников с лопатами и мётлами. Они гомонили, перебрасывались шутками. Гремели пустые вёдра, слышался смех.
– Вы к управдому? – спросила меня пожилая женщина в зелёной вязаной кофте. – Он сегодня не принимает. Я пришла пожаловаться на протечку, а он сказал не мешать и дверь захлопнул.
– Меня примет! – Я решительно прошла вперёд. – Если не примет, пойду в райком или горком. Нечего здесь бюрократию разводить! Человек с фронта вернулся, а его комната занята. Есть здесь советская власть или одни вредители?
Я нарочито громко упомянула вредителей, потому что судебные процессы над вредителями и врагами народа гремели по всей стране, навевая ужас на любого гражданина, начиная от номенклатурного директора до уборщицы сельсовета.
Волшебное слово подействовало, как сим- сим в сказке про сокровища Али-Бабы. Запертая дверь в контору со скрипом отворилась, и оттуда выглянул невысокий лысый дядечка в полувоенном френче.
Его водянистые глаза остро скользнули по моему лицу и тревожно заморгали:
– Что вы шумите, дорогой товарищ? Нехорошо, ох, нехорошо. Мы тут трудимся с утра до ночи, обеспечиваем жизнедеятельность вверенного хозяйства, а вы нас вредителями обзываете. Нехорошо! – Он пропустил меня внутрь конторы, где большую часть стены занимал портрет Сталина, и уселся за стол с грудой гроссбухов и папок. – Присаживайтесь и изложите ваш вопрос. Я весь внимание. К фронтовикам мы со всем уважением!
Примерно через час я вошла в подъезд соседнего с моим дома и поднялась на третий этаж. За это время управдом успел выписать мне ордер, внести мои данные в домовую книгу и пообещал к концу месяца выдать продовольственные карточки.
– Надеюсь, пока перебьётесь с продовольствием? – Он поскрёб лысину. – В коммерческих магазинах кое-что можно прикупить, да и коммерческие столовые работают.
После демобилизации в моём кошельке лежала сумма на первое время, поэтому я не стала расстраиваться:
– Не пропаду, главное, – крыша над головой.
– Правильно, правильно рассуждаешь, гражданочка фронтовичка, – рассыпался в комплиментах управдом. – А то некоторые без понятия и кулаком стучат, а то и за грудки хватают, будто я верховный главнокомандующий. – Его рука дёрнулась перекреститься и быстро опустилась. Улыбнувшись, я пошла на новое место жительства.
Ключ легко повернулся в замочной скважине, и я оказалась в просторной прихожей, куда выходило сразу несколько дверей. В прихожей на коленках стояла растрёпанная женщина и усердно мыла пол.
Она подняла голову и вопросительно посмотрела на меня:
– Новая соседка?
– Угадали. Меня зовут Антонина. Мне выдали ордер на комнату, только я не пойму, какая из них свободна.
Женщина поднялась и обтёрла руки о фартук, и без того очень грязный.
– А я Галя. Вот сюда проходи, – она показала на третью дверь от входа. – А остальные уже заселены. – Она стала поочерёдно тыкать пальцем по сторонам: – Здесь семья Крутовых, у них двое мальчишек, тут муж и жена Алексеевы, дальше инженер с верфей Олег Игнатьевич. Имей в виду – холостяк. – Галя стрельнула на меня глазами и вздохнула. – После блокады квартира совсем пустая стояла, все померли, а теперь полна коробочка. Квартиру убираем по графику дежурств, в кухне есть пустое место тебе под столик.
– Да, да, кто-то и меня посчитал мёртвой, – пробормотала я себе под нос. – Не знаете, где ключ от комнаты? Управдом сказал спросить у жильцов.
– А она не заперта. Заходи и располагайся. – Женщина странно хихикнула. – Что найдёшь, всё твоё.
Суть соседкиной иронии я поняла, когда обозрела железную кровать с панцирной сеткой, шкаф без дверок и огромный письменный стол. Его пытались пустить на дрова, но крепкая работа не поддалась, и стол носил на себе глубокие зазубрины от топора. Вот и всё моё хозяйство. Грязные окна, с трудом пропускавшие свет, освещали частично расковырянные плашки паркета (скорее всего во время блокады их брали на растопку) и несколько пустых бутылок на подоконнике.
На фронте мне много раз приходилось спать на полу, завернувшись в шинель, и целая кровать, пусть и без матраса, меня порадовала. Я прошла по комнате, поставила на пол бутылки и уселась на подоконник, глядя на скромную лепнину по углам потолка.
Затхло пахло пылью и сыростью. С одной стены, около шкафа, свисал лоскут розоватых обоев в мелкий цветочек. Должно быть, дореволюционное наследие настоящих хозяев дома. Мысленно я перечислила первые необходимые работы: отмыть комнату, разжиться посудой и постельным бельём. Вспомнив про туфли на картонной подошве, неудачно купленные с рук, я вышла в прихожую и стукнула в дверь к Гале.
– Скажи, где у нас на Васильевском барахолка? Надо купить кое-что из вещей.
* * *
– Ну вот видишь, я говорила тебе, что на улице не останешься! – Тётя Аня довольно улыбнулась. – Комната хоть хорошая?
– Хорошая, – я кивнула, – квадратная, даже больше, чем была. И окно на улицу, а не во двор. Но всё равно чужая. Соседка сказала, там все прежние жильцы в блокаду погибли.
– Была чужая, будет твоя. – Вскочив, тётя Аня засуетилась. – Обживёшься, присмотришься, а то и жениха приведёшь, не век же тебе в девках куковать. Давай-ка мы с тобой отметим твоё новоселье.
– Давайте!
Я раскрыла вещмешок и выложила на стол несколько огурцов, триста грамм кровяного зельца с мраморными вкраплениями сала и кулёчек пилёного сахара.
– Откуда такое богатство? – опешила тётя Аня. – У нас даже по рабочей карточке такого не выдают.
– Из коммерческого магазина. Ходила на рынок ведро со шваброй купить, ну, и зашла в коммерческий, – я пожала плечами, – чем- то надо питаться, управдом пообещал оформить карточки через неделю, после того как в милиции пропишусь. Ну да я долго ждать не стану, завтра же пойду на работу устраиваться, чтоб не позориться иждивенческой карточкой.
– Верно мыслишь, ты всегда была умной девчонкой.
Тётя Аня улыбнулась, и мне на миг представилось, что сейчас довоенное время, а я, школьница, заглянула в гости к соседке скоротать время до прихода мамы. За стеной слесарь с вагоноремонтного вслух читает газету (он ушёл в ополчение и погиб одним из первых из нашей квартиры), первоклассница Леночка скачет по коридору на одной ножке и кричит: «Ура! Я получила пятёрку по арифметике!» (Леночку нашли замёрзшей в сугробе), на кухне выясняют отношения две извечные соперницы Муся и Надя (их обеих отвезли в один морг на Малом проспекте).
Я потрясла головой. Видения пригибали меня к земле, вгоняя в депрессию. Тени погибших ещё бродили по квартире, ежеминутно напоминая о себе то чугунным утюгом на подставке, то совком для мусора, изготовленном умершим соседом, то тарелкой репродуктора на стене. Я помнила, как репродуктор торжественно водружали на кухню, и все соседи по субботам слушали «Театр у микрофона». На время трансляции затихали примусы и прекращалась беготня ребятни. Из комнат приносились стулья, превращая кухню в зрительный зал, а женщины старались принарядиться, как в настоящем театре.
Может и к лучшему, что я уезжаю из этого дома, наполненного щемящими воспоминаниями. Если жить прошлым, то рано или поздно оно вытеснит из души настоящее и будущее. Прошлое надо помнить и беречь – плохое или хорошее, оно уже навсегда с нами, но жизнь идёт вперёд, и отставать или тормозить значит создать аварийную ситуацию как на дороге.
– Мебеля свои забирать будешь? – деловито поинтересовалась тётя Аня. – А то я помогу дотащить. Комод-то у вас больно хороший, широкий, глубокий, с медными ручками. Зря я его к себе не перетащила, до того как эти въехали, – она кивнула головой в сторону моей бывшей комнаты. – Сохранила бы для тебя, кто ж знал, что ты вернёшься? Задним умом мы все крепки.
– Не буду собачиться из-за мебели. Как говорят: «Сгорел сарай, гори и хата». – Я решительно подняла ладонь. – Пусть шифоньеры остаются на своих местах. У меня в новой комнате есть кое-что. На первое время хватит.
Наш разговор прервал робкий стук, и в дверь заглянула девушка, что носила моё платье. Но сейчас она утопала в широкой кофте с вытянутыми рукавами и ситцевой синей юбке.
Быстрым движением тётя Аня накинула на продукты кухонное полотенце – горький жест, наследие голодного года. Вспомнилось, как в учебном полку я налила кипятку в консервную банку из общей столовой и, захлёбы ваясь, выпила, пока никто не видит. Сейчас мне стыдно, но я предпочитаю успокаивать свою совесть тем, что мутная жижа с запахом тушёнки никого бы не накормила и не обогрела. А ещё я говорю себе, что пока человеку бывает стыдно, он всегда сумеет исправиться. После той пустой банки я больше не прятала еду и всегда делилась даже последней крошкой хлеба.
Девушка у двери переступила с ноги на ногу, быстро посмотрела на меня и тут же отвела глаза взгляд:
– Анна Иванна, я вещи принесла.
Тётя Аня нахмурилась:
– Какие вещи, Рая?
– Ну всякие, вот её.
От смущения Раин голос срывался на шёпот. Развернувшись всем корпусом, она вытолкнула вперёд себя увесистый тюк из простыни с заплаткой.
Самую драную выбрали, подумала я, явственно вспомнив, что, уходя на фронт, оставила на полке стопку новёшеньких бязевых простыней и наволочек.
– Мама велела передать. – Подтолкнув тюк к моим ногам, Рая хотела исчезнуть восвояси, но я её остановила:
– Подожди, я посмотрю, вдруг там окажется что-нибудь не наше. Мне чужого не надо, в отличие от некоторых.
Рая нервно повела головой и прикусила большой палец на правой руке. Пока я развязывала тугой узел на простыне, она держала палец во рту и сопела как маленькая.
Если сказать с иронией, то соседка не поскупилась. Из тюка вывалились клетчатая скатерть с жёлтым пятном посредине, мои старые туфли с оторванными пряжками, пустая стеклянная чернильница, фарфоровый бюстик поэта Маяковского, два связанных из тряпок круга на сиденье стула, один шерстяной чулок и чёрная подушка-думочка.
Тётя Аня громко ахнула:
– Ну сквалыга Людка! Ну и сквалыга! По морде бы ей надавать этими туфлями, а чулок засунуть куда подальше!
Я подняла голову и посмотрела на Раю:
– А фотографии где? В ящике буфета лежал альбом с фотографиями. Там мои мама и бабушка. Где альбом? – С ощущением утраченной надежды я лихорадочно перебрала вещи. – Альбом! Такой серенький, размером с две ладони. Вы не могли его потерять. Там мама и бабушка… Единственные фотографии.
Я перетряхнула скатерть, зачем-то заглянула в свои туфли. Руки тряслись. Когда отстреливалась от фашистов, не тряслись, и когда под взрывами регулировала движение, стояла крепко, а тут словно пол закачался. Я резко развернулась к Рае:
– Иди поищи. Он должен быть в буфете. Хотя я сама поищу.
– Нету альбома, – плачущим голосом сказала Рая, и её губы затряслись. – Мы его сожгли на растопку. Не нарочно. Мама сказала, зачем нам всякий хлам. Ой. – Испуганно вздрогнув, она замолчала и невпопад добавила: – Я отдам вам ваше платье. Постираю и отдам.
– Можешь оставить его себе.
Платье, одежда, даже бальный наряд Золушки, о каком я когда-то мечтала, сейчас не имели ровным счётом никакого значения. Мама… бабуся. На миг мне показалось, что я потеряла их во второй раз.
Память резанули фотографии из альбома – маленькие, тёмные, с родными лицами, которые я больше никогда не увижу.
Под оглушительное молчание Раи и тёти Ани я встала и пошла на кухню.
Наш столик по-прежнему стоял у окна неподалёку от чёрного хода, покрытый клеёнкой в цветочек, купленной в хозмаге на Садовой улице перед самой войной. Странно устроен мир: мама не пережила блокаду, а копеечная клеёнка уцелела. Наш чайник, наша керосинка, на полу наш помятый бидончик под керосин. Я подумала, что с подобным чувством люди смотрят на руины своего дома после бомбёжки. Но война закончена, и надо жить дальше. Я взяла с полки мамину чашку «Двадцать лет Октябрю», кухонный ножик с деревянной ручкой (однажды мама порезала им палец. Я заплакала, а мама засмеялась), несколько ложек с вилками, две тарелки и маленькую алюминиевую кастрюльку, где мы с мамой кипятили молоко. Всё. Надо захлопнуть крышку сундука под названием «злость» и больше к нему не подходить. Прижимая к груди посуду, я вернулась в комнату тётя Ани. Рая по-прежнему стояла в дверях, цепляясь за косяк. Я прошла мимо неё, не замечая тоскливого взгляда побитой собаки. Может быть, она неплохая девушка, совестливая, но сейчас я не могла вытолкнуть из горла хотя бы пару примирительных слов.
Рая не виновата, что их семье выписали ордер на мою комнату, и не виновата в том, что меня признали погибшей. Я несколько раз глубоко вздохнула, пытаясь успокоиться. Странно – на фронте нервы были как стальные канаты, а в мирное время превратились в тонкие ниточки. И какой же я педагог, если не могу совладать с чувствами! Каждая, хоть маленькая победа над собой зажигает в душе искорку уверенности. Я подняла голову и посмотрела Рае в глаза:
– Я возьму только немного посуды. – Мой взгляд упал на кучу хлама, собранную её матерью. Стеклянная чернильница отсвечивала на солнце гранёным боком. Я взяла её и положила в кастрюльку. Теперь всё. Надо учиться уходить без сожаления, не оглядываясь назад.
* * *
Сегодня в воздухе дрожала мелкая морось, которая на тёплом тротуаре превращалась в мягкий молочный пар. Высверки солнца сквозь тучи набрасывали на дома серую жемчужную сеть, и город казался волшебным и невесомым призраком, нарисованным быстрой кистью дождя.
Говорят, что дождь приносит удачу. Она мне понадобится! Я потянула за дверную ручку, и тяжёлая дубовая дверь со скрипом пропустила меня в сумрачный вестибюль семилетней женской школы.
Школьная дверная ручка, отполированная сотнями тысяч прикосновений, вызвала в душе прилив нежности. Её касались тонкие пальчики первоклашек и крепкие пальцы мальчишек-подростков, уже тайком покуривавших табак. Дверная ручка хранит в себе память о школьных годах рабочих, сотен врачей, академиков, героев и даже преступников. Мы не обращаем внимания на предметы, кажущиеся обычными, а меж тем учебный год начинается именно с дверной ручки, открывающей путь во взрослую жизнь. Мысленно воспев в уме оду дверной ручке, я одёрнула гимнастёрку и поправила ремень, как перед армейским смотром. Лозунг «Вперёд к победе коммунизма» в голове мгновенно перефразировался во «Вперёд к победе над ошибками», имея в виду конечно же не себя, а своих будущих учеников, точнее, учениц, потому что в женской школе я ещё не работала: до войны школы были смешанными.
Постановление о раздельном обучении мальчиков и девочек Народный комиссариат просвещения РСФСР принял в 1943 году. Когда мы на фронтах громили врага и отплёвывались кровью, лучшие умы Минпросве щения в поте лица, или какого другого места, трудились над изобретением новаторских методов в педагогике. Разговоры о новшестве витали в предвоенное время, но тогда до дела так и не дошло: война и эвакуация прихлопнули реформу образования огромной свинцовой крышкой общей беды. Старшеклассники пошли на заводы отливать снаряды, а малыши оставались одни в нетопленных комнатах, пока матери трудились на производстве и в колхозах. Но школы работали! Тащили на себе груз проблем учеников и родителей, теряли на фронтах учителей, выбивали для детей усиленное питание и отправляли письма отцам на передний край. Одно такое письмо получил наш старшина Кузьмичёв и несколько вечеров подряд зачитывал его вслух, вытирая слёзы радости и гордости:
«Дорогой Фёдор Иванович! Сообщаем, что ваш сын Вася закончил четверть с тремя пятёрками и одной тройкой. Вася – отзывчивый мальчик, всегда готовый прийти на помощь товарищам. Вася и его друзья взяли шефство над матерью погибшего лейтенанта Белова и каждый день носят ей воду и помогают колоть дрова.
Не волнуйтесь за сына, товарищ Кузьмичёв, бейте врага крепче, а мы, учителя Кабожской сельской школы, приложим все старания, чтобы Вася вырос настоящим советским человеком и дождался вас с Победой!»
Школа, на пороге которой я стояла, в войну служила эвакопунктом и вновь открывалась только сейчас. Из-под моей руки шустро выскочили две малявки с тугими косичками и помчались во двор. Я шагнула в вестибюль.
– Парты, парты заносите! Да не туда! – кричала двум юношам полная женщина в синем рабочем халате. По одной её щеке пролегала полоса мела, а растрёпанные волосы кое-как удерживала чёрная атласная лента.
Парни с партой засеменили в мою сторону. Я отпрянула к стене.
– Мамочка, не мешайте! – сурово глянула на меня женщина. – Все вопросы в приёмные часы.
Она так забавно, совсем не страшно хмурилась, что я улыбнулась:
– Я не мамочка. Меня прислали из райотдела образования.
Женщина всплеснула руками:
– Учительница? Младших классов? Ну слава богу! А то послезавтра первое сентября, а у нас хоть плачь – на первоклашках один учитель! – Она сомнением посмотрела на свою ладонь и, прежде чем протянуть для рукопожатия, вытерла её о халат. – Перепачкалась я знатно. Мы тут с помощниками из соседней школы готовимся к открытию. Спасибо их директору, отпустил мальчишек на подмогу. Сами понимаете – горячая пора. Я Вера Васильевна, география и биология.
– Очень приятно, а я Антонина Сергеевна. Ищу директора.
– Вам туда, на второй этаж.
В вестибюле школы остро пахло свежей краской. С центральной стены между двух алых знамён на меня смотрел Сталин с парадного портрета. Между этажами под плакатом «Учиться, учиться и учиться» на постаменте стоял гипсовый бюст Ленина. Две девочки увлечённо возили тряпками по лысой голове вождя. Увидев меня, они стрельнули в мою сторону любопытными взглядами и дружно поздоровались. В РОНО мне назвали фамилию директора – Величко. Я почему- то представила Величко женщиной – пожилой, грузной, со сросшимися бровями и круглой брошью у горловины воротника блузки. Но мне навстречу поднялся мужчина лет сорока, с подвижным тонкогубым лицом и очень тёмными глазами-вишнями. На нём как влитой сидел тёмно-коричневый костюм с галстуком, и волосы аккуратно лежали волосинка к волосинке.
– Ждём вас с нетерпением, дорогой товарищ Вязникова. Добро пожаловать в наш дружный коллектив. Я, как вы поняли, директор школы, Роман Романович, а вы…
Он вопросительно поднял брови, и я поспешила подсказать:
– Антонина Сергеевна. – Я вздохнула и призналась: – Я успела проработать в школе всего несколько лет, а потом ушла на фронт. Боюсь, многое забыла.
Мягким движением он прикоснулся к рукаву моей гимнастёрки, как будто стряхнул невидимую пылинку:
– Поможем! Поработаете немного, подучитесь, а на зимних каникулах отправим вас на курсы повышения. Как говорит товарищ Сталин, кадры решают всё. Не вам, фронтовикам, бояться трудностей.
Я обратила внимание, что он сказал «вам», а значит, сам не воевал. Вопрос о причине просился сам собой, но я одёрнула себя за излишнее любопытство.
Бегло просмотрев мои документы, Роман Романович указал на дверь:
– Прошу, пойдёмте, покажу ваш класс и ознакомлю с обстановкой.
Мой класс! Слова, которые мне снились на фронте. Студенткой я готовилась войти в свой первый класс, как в клетку с тиграми. От волнения ноги подкашивались до состояния травы, голова гудела, и всё, что я смогла произнести при знакомстве, это слабо пискнуть «Здравствуйте, дети». Я не знала, куда деть руки, и постоянно переставляла на столе чернильницу то вправо, то влево. Впрочем, нервное замешательство улетучилось, едва я начала рассказывать о сказках Пушкина. Спасибо великому поэту за спасательный круг для начинающих! К концу студенческой практики я чувствовала себя если не зубром педагогики, то вполне уверенно. В том альбоме с фотографиями, что соседка пустила на растопку, лежали и рисунки ребят из моего первого класса с трогательными пожеланиями здоровья и успехов в работе.
Мы пошли по длинному коридору с распахнутыми настежь дверями классов. Роман Романович то и дело называл мне имена учителей: Ольга Юрьевна, Ирина Акимовна, Борис Семёнович… Я раскланивалась и пожимала руки, не запоминая кто есть кто, настолько много впечатлений водопадом обрушилось на мою голову. Коридор заканчивался крошечным залом с двумя классными комнатами – первого «А» и третьего «Б».
– Ваш первый «А», – сообщил Роман Романович. – Так что можете приступать к работе. Кабинет зав. учебной частью направо, Марина Игнатьевна должна быть на месте. Если нужна помощь в мужской силе, то спускайтесь в вестибюль, наш завхоз командирует вам парней из мужской школы. Но вообще по всем вопросам можете без всякого стеснения обращаться непосредственно ко мне.
– Хорошо, спасибо.
Пшеничные усы директора шевельнулись от улыбки:
– Ну и прекрасно! Как говорится, ни пуха вам ни пера.
Роман Романович ушёл, оставив меня в зыбкой тишине класса, который уже послезавтра взорвётся весёлыми детскими голосами.
Я провела рукой по первой парте и откинула крышку с процарапанной надписью «Вова». Наверное, его ругали за порчу школьного имущества, может быть, даже вызывали в школу родителей, а потом Вова оказался в блокаде. В памяти воскресли худенькие личики блокадных детей с невесомыми пальчиками, сжимавшими ледяную корку хлеба, и сразу же заныло в сердце так, что впору стиснуть зубы и по-волчьи завыть. Чтобы отрешиться от тяжёлых мыслей, я резко встала и осмотрела поле своей трудовой деятельности. Парты надо переставить. Доску вымыть, развесить по стенам портреты и плакаты. Раздобыть чернильницы, узнать насчёт учебников и программы. Я увидела на шкафу пыльный глобус. Позже я покажу на нём детям очертания родной страны и скажу:
– Берегите, ребята, свою Родину! Нам пришлось много воевать, чтобы фашистская свастика исчезла с лица земли, как поганый чёрный спрут. И если надо, то мы снова пойдём в бой и обязательно победим, потому что на нашей стороне правда!
* * *
К вечеру я вымоталась до предела и ушла домой последней, вместе с завхозом Николаем Калистратовичем, закрывшим дверь на замок.
Мы с ним моментально нашли общий язык, едва он узнал, что я служила военной регулировщицей. Сразу перейдя на «ты», он наивно, по-детски обрадовался:
– Регулировщицей? Уважаю!
Низенький чернявый Николай Калист ратович внешним видом напоминал борца с широкими плечами и пудовыми кулаками.
Вместо одной ноги из-под брюк Николая Калистратовича проглядывал деревянный протез с надетой калошей.
Он улыбнулся необыкновенно светло, всем лицом:
– Мне вот этакая пигалица, как ты, можно сказать, жизнь спасла. Дело было в Оппельне, на мосту через Одер. Одну полуторку поперёк моста развернуло. Колесо у ней, что ли, лопнуло? Наша машина как раз позади аварийной была. Я в кузове кровью истекаю, со мной ещё двое раненых. А тут откуда ни возьмись «Виллис» с полковником вперёд протискивается. Полковничий шофер высунулся из окна, орёт, кулаком машет, мол, дайте дорогу, иначе под трибунал пойдёте. А девушка-регулировщица молодец, не дрогнула, мигом ситуацию разрулила. Туда-сюда флажками по сторонам – пару «буханок» в сторону отогнала, мотоциклетку отправила путь расчистить, и дорога зажила, задвигалась.
А машину с ранеными она вперёд полковничьей пропустила. О как бывает! – Он многозначительно поднял брови, выказывая уважение к моей бывшей профессии. – Знал бы я, кто та регулировщица, в ноженьки бы ей поклонился. Да разве на фронте кого найдёшь? Сама знаешь, отвернёшься, а человека уж нет. – Он вздохнул, а я согласно покивала головой, но промолчала.
Я отлично помнила тот инцидент в мельчайших подробностях. Мало того, полковник таки пожаловался моему начальству, и комбат взгрел меня по первое число за дерзость и несоблюдение субординации.
Несмотря на усталость, от разговора с завхозом хотелось запеть, как бывало на фронте в минуты затишья, когда рядом друзья и подруги, в руках котелок с кашей, а в роще заливается соловьиный хор.
Дома я кое-как перекусила и сразу рухнула на кровать, жалобно скрипнувшую под моим весом. Если лечь на бок, то сквозь тонкий матрац в тело впивались острые пружины. Мне не удалось раздобыть лучший матрац, но и этот казался мне пуховой периной принцессы на горошине.
Наверное, я задремала, потому что в сознание словно ниоткуда проник дробный стук в дверь. Я отмахнулась от него, как от назойливой мухи, но стук не прекращался, мало того, к нему прибавился высокий женский голос:
– Антонина, откройте пожалуйста, это я, Рая.
Какая такая Рая? Что ей надо? До меня не сразу дошло что Раей звали захватчицу моей прежней комнаты.
Безотчётным движением я пригладила волосы и села на кровати:
– Входи, не заперто.
Рая прижимала к груди свёрток и без перехода протянула его мне:
– Это вам. Я, честное слово, не носила. Мама от меня прятала, а я сегодня бельё перебирала и нашла.
Её щеки пунцово зарозовели. Она сделала шаг вперёд и положила мне на колени моё тёмно-синее шерстяное платье с широкой белой полосой отделки ворота. Я надевала его в театр или кино.
– Спасибо. Ты проходи, Рая, садись, – я обежала взглядом полупустую комнату без единого стула, и предложила, – вон, хоть на подоконник, он широкий.
– Там ещё коробочка. – Пристроившись на подоконнике, Рая сложила руки на коленях и выжидающе наблюдала, как я открываю жестяную коробку из-под монпансье.
Бусы! Бабушкины бусы! Как я могла про них забыть? Вспыхнув от радости, я достала багряную нитку кораллов с тусклой золотой бусиной посредине. В детстве я любила вертеться перед зеркалом, прикладывая бусы к себе и так, и этак, и бабуся не выдержала:
– Забери, Тонечка, себе. Я всё равно не ношу. – Она вздохнула. – Когда-то, ещё в гимназии, их подарил мне твой дедушка. Храни теперь ты. Мы жили очень бедно, и в гимназию меня зачислили на казённый кошт как отличницу. А семья дедушки была состоятельная. Ох, как они противились нашему браку! Думали выбрать невестку побогаче. А потом началась революция и деньги перестали иметь значение. Вот только бусы на память и остались.
Тогда мой ум занимал красивый мальчик из старшего класса (на поверку от оказался напыщенным и глупым) и поступление в педагогический техникум. Я положила бабусин подарок в коробочку, засунула в шкаф и достала лишь один раз – надеть на выпускной бал.
Улыбаясь, я приложила бусы к себе, и они с прохладной мягкостью скользнули по шее, словно меня погладила бабушка.
– Вы не обижайтесь на маму, Антонина Сергеевна, – жалобно сказала Рая. – Мама хорошая, просто очень несчастная из-за войны. – Я хотела возразить, что война всем принесла много горя, но Рая меня опередила и торопливо пояснила: – Нас папа бросил. Нашёл себе на войне какую-то медсестру. Даже в письме не сообщил. – Рая понурила голову и стала внимательно рассматривать свои ногти. – Нам написала она, его новая женщина, чтоб отца не ждали, потому что он любит только её.
Сквозь монотонный голос Раи наружу прорвалась затаённая боль. Я подошла к подоконнику и села рядом с ней.
– Я тоже знала девушек, которые разбивали чужие семьи. Их называли походнополевыми жёнами, сокращённо ППЖ. Войска – это люди, понимаешь, много людей, сотни тысяч, миллионы. Там смерть, там боль, и каждый день может стать последним в жизни, поэтому сознание меняется. Есть стойкие, а есть слабые духом. Не все могут выдержать разлуку. Дом далеко, а однополчане близко, вот некоторые и поддаются искушению.
– И всё равно, нельзя становиться предателем, – упрямо сказала Рая. – Лучше бы его убили.
Я охнула:
– Как можно, Рая! Ты что, его совсем не любила?
– Любила. – Она резко качнулась вперёд и обхватила ладонями колени. – Я его очень сильно любила. Он работал слесарем на электроламповом заводе и иногда приносил домой обрывки проволоки. Такой мягкой, тоненькой. Вечерами мы с ним сидели за столом и крутили из проволоки человечков и фигурки животных. Только у меня получалось плохо, а он смог сплести целый игрушечный огород с лошадками, кроликами и даже с петухом.
Я обратила внимание, что Рая называет отца только «он» и ни разу не сказала «папа».
– А я своего папу вообще не знала. Он умер ещё до моего рождения, совсем молодым. – Я положила руку Рае на плечо. – И не представляю, как иметь папу. Знаешь, я бы согласилась, чтобы папа нас оставил, если бы хоть раз, хоть один вечерок пришёл ко мне на несколько часов и скрутил фигурку из проволоки. Я бы её хранила. Мы не в состоянии изменить события и не в ответе за поступки других людей, но мы можем простить.
Собираясь с мыслями, я посмотрела в окно на летящие облака и сказала то, что тщательно хранила в тайне:
– У меня тоже был один очень дорогой человек. Лучшей разведчик в полку, весёлый, образованный, искренний. Мечтала, что закончится война, мы поженимся, поедем к нему в Новосибирск, я пойду работать в школу, а он вернётся в родной институт преподавать. Он обещал, что всегда будет рядом. Обещал.
– А потом? – Рая осторожно прикоснулась к моей руке. – Что случилось дальше? Он погиб?
Мои губы непроизвольно сложились в усмешку:
– Жив, здоров и в меру упитан. А дальше выяснилось, что у него в каждом полку по невесте. И все любимые. Представляешь? Само собой, ваша беда в тысячу раз тяжелее, но понять я могу.
– И ты его простила? – Голос Раи прозвучал тихо, как шелест книжных страниц.
– Простила. Но не сразу, конечно.
Я опустила подробности, как пару недель рыдала навзрыд, со злой яростью обрушивая проклятия то на голову бывшего жениха, то оплакивая свою забубённую головушку. Но надо было работать, регулировать движение, открывать войскам дорогу на Берлин. Артиллерия с обеих сторон фронта била безостановочно, перемалывая мои страдания в бесполезную труху. И однажды, вытаскивая из машины убитого шофёра, совсем молоденького мальчика, я вдруг поняла, что по сравнению со смертью мои душевные метания – полная ерунда, потому что страдания, даже самые горькие – частичка настоящей, полной жизни, с радостями и печалями, в отличие от тех, у кого уже не будет ничего.
– Простить, простить, – несколько раз повторила Рая, а потом сунула руку в карман и протянула мне открытую ладонь, на которой лежал скомканный проволочный человечек.
Рая
На фронтовиков Рая смотрела как на героев, а когда в их комнату вошла усталая девушка с чемоданом в руках, она была готова встать навытяжку и отдать ей честь. Но девушка со злостью кинула чемодан на стол и заявила, что они с мамой заняли её комнату. Сняв с головы пилотку, девушка отёрла ладонью потный лоб. По мятой гимнастёрке и запылённым сапогам понималось, что добиралась она издалека, может быть даже из самого Берлина, где расписалась на развалинах Рейхстага. Но самым позорным было то, что Рая сидела в чужом платье, после появления хозяйки, считай, украденным. Презрительный взгляд девушки горящей головешкой прожигал её насквозь, и Рая не знала, то ли ей прямо сейчас снять платье, то ли убежать. Съёжившись, она осталась сидеть на месте с отчаянно колотившимся сердцем. А потом мама учинила приезжей скандал. Если бы не тётя Аня, которая мигом пресекла ссору, Рая, наверное, разрыдалась бы.
– Явилась не запылилась! – выкрикнула мама в дверь, закрывшуюся за девушкой, когда та ушла. – Мы не виноваты, что тебя не убили!
Мама обладала взрывным характером с тяжёлой рукой, и Рая всегда старалась ей не перечить, но то, что произнесла она сейчас, звучало ужасно.
– Мама, – тихим голосом попыталась урезонить её Рая, – что ты такое говоришь?
– А что? – Мама припечатала стол ладонью. – Мы вселились на законных основаниях и своё никому не отдадим!
Рая встала и стала снимать платье через голову. От расстройства она забыла расстегнуть пуговку и путалась в рукавах.
– Оставь! – Мама дёрнула платье за воротничок. – Нам вместе с вещами комнату дали!
– Мама!
Рая всё равно стянула платье, оставшись посреди комнаты в трусиках и маечке. Ситцевая юбка нашлась в нижнем ящике комода, а кофту она натянула старую, со штопкой на рукавах. Так получилось, что свои вещи остались в разбомблённом доме, когда верхний этаж обвалился на шкаф с вещами. Пыхтя и обдирая в кровь руки, им с мамой кое-что удалось спасти, но большая часть нехитрого скарба погребена под грудой кирпичей без надежды на избавление. Рае хотелось догнать девушку и рассказать, что она никогда не взяла бы чужую вещь без разрешения, но соседка тётя Аня увела её к себе, а постучать и объясниться Рая стеснялась.
Антонина
Мой день рождения в октябре, и бабуся ласково называла меня осенней девочкой. Может быть поэтому я особенно чувствую осень, танцующую в хороводе воздушных паутинок и шорохах разноцветной листвы. Есть что-то успокаивающее в осеннем ветре. Он приносит с собой напоминание о первом снеге, похожем на кружевную шаль, и о хрустале тонкого льда на тёмных водах рек. Осенний ветер, в отличие от своего весеннего собрата, не будоражит кровь, а сбивает в стаи перелётных птиц, и они кружат над городом, оплакивая ушедшее лето с запахом земляники и скошенных трав.
Кроме того, осень – это первое сентября с весёлым гомоном детских голосов, с новенькими портфелями, с чисто намытыми окнами школы, похожими на волшебные зеркала, с радостным волнением новых встреч, словно полёт в неизведанное. Первое сентября уже сегодня, первое послевоенное Первое сентября! Я ждала его пять лет войны, бесконечно долгих и страшных.
Ещё с вечера я повесила на плечики тщательно отглаженное платье и приготовила портфель с чернильницей-непроливайкой, пеналом, носовым платком и карманным зеркальцем. Позже портфель станет хранить стопки школьных тетрадей, раздуется от важности и станет походить на футбольный мяч. В предвкушении знакомства с ученицами я долго крутилась с боку на бок, то впадая в дрёму, то борясь с желанием вскочить и немедленно бежать на урок.
А после полуночи хлынул ливень. Приподняв голову с подушки, я прислушалась к стуку капель по подоконнику и дальше сквозь сон постоянно гадала: закончится дождь к утру, сорвёт нам праздничную линейку или нет?
Под утро я забылась в полудрёме и вскочила от звонка будильника. Чтобы не проспать, я поставила его в ведро, поэтому грохот, наверное, слышал весь дом. Первым делом я кинулась к окну и облегчённо вздохнула при виде ясного неба с розовой полосой восхода над крышей соседнего дома. Первое сентября! Здравствуй, осень!
Раскинув по сторонам руки, я сделала в сторону окна глубокий реверанс и засмеялась сама над собой, представляя, как потешно выгляжу со стороны в сатиновой майке и синих спортивных трусиках – пижамой я пока не обзавелась. Халата у меня тоже не имелось, и мыться в ванную пришлось идти при полном параде, в платье, принесённом накануне Раей, и туфлях. Обувь я купила на барахолке – немного поношенную, но крепкую. Туфли с картонной подошвой я засунула в шкаф, и смотреть на них мне было противно.
Я перекинула через плечо полотенце и вышла в коридор, думая о том, что в ванной комнате есть небольшое зеркало и надо ухитриться соорудить приличную причёску, чтобы она не рассыпалась до конца рабочего дня.
Из комнаты Алексеевых доносилось звяканье посуды, и, судя по лёгкому запаху керосина, кто-то только что заправил керосинку. Радио на стене в кухне бодро провозгласило:
«Доброе утро, товарищи! Начинаем утреннюю гимнастику. Встаньте прямо, ноги на ширине плеч!»
Я улыбнулась: с утренней зарядкой вместо утренней сводки Совинформбюро мирная жизнь прочно входила в дома, и хотелось верить, что отныне и навсегда.
«Ходьба на месте. Раз, два, три, четыре…»
– О, кажется, вы наша новая соседка, – мягко произнёс за спиной приятный мужской голос. Вздрогнув, я резко обернулась. Он протянул руку и повернул рычажок выключателя. Тускло вспыхнула лампочка на витом голом шнуре, свисавшем с потолка.
На меня смотрел высокий мужчина лет тридцати. У него были светло-каштановые с рыжиной волосы и зелёные глаза болотного оттенка. С его плеча тоже свисал конец вафельного полотенца, но не подшитого, а отрезанного от куска материи, что выдавало отсутствие женской заботы.
– А вы… – я наморщила лоб, припоминая его имя, – …а вы Олег Игнатьевич, который вечно на работе.
– Точно! – В его взгляде промелькнуло лукавство. – Зато я знаю, что вас зовут Антонина. У нас в коммуналке тайны долго не задерживаются.
– Антонина Сергеевна, – поправила я его.
Он быстро согласился:
– Конечно, конечно. Вы не обижайтесь, просто мне назвали лишь имя. Лучше давайте я угадаю вашу профессию. – Он картинно приставил палец ко лбу и через мгновение просиял улыбкой. – Вы – учительница!
– Почему вы так решили?
Олег Игнатьевич слегка пожал плечами:
– Ну, это просто. Сегодня первое сентября, и на вас красивое платье.
Любой женщине льстит слышать про красивое платье, тем более, что синий цвет действительно шел мне к лицу, но из упрямства я возразила:
– Оно у меня единственное, как говорят: и в бой, и в пир, и в божий мир.
– И всё-таки вы учительница. Ведь правда?
– Правда. Теперь я снова учительница.
Мои слова его удивили:
– Снова? А прежде кем были? Стоп, я понял! Вы воевали. А я, увы, тыловая крыса, – он горько усмехнулся, – оббил все пороги в военкомате, и везде отказ. Впрочем, я вас заболтал. Прошу, – он сделал широкий жест в сторону ванной. – Если вам будет нужна помощь или возникнет желание пообщаться, то без церемоний заглядывайте в любое время. Соседи должны жить дружно!
В старой квартире о ванне не приходилось и мечтать – все мылись на кухне, в единственной раковине, а здесь была ванна! Самая настоящая, чугунная, на толстых гнутых ножках в форме львиных лап. Вплотную к ванне прилегала дровяная колонка с жестяным кубом для воды. Если не жалко дров, то пара поленьев – и из куба польётся горячая вода. Жильцы купались в ванной строго по графику, и моя очередь подходила послезавтра. Я уже предвкушала блаженство от неспешного мытья, после которого не грех напиться чаю с сушками и почитать хорошую книгу, желательно о любви.
Всю дорогу до школы я шла в приподнятом настроении, в коралловых бабусиных бусах на тёмно-синем фоне платья. Мне казалось, что все прохожие, глядя на меня, понимают одно: вот идёт учительница. Да не просто учительница, а Первая учительница!
Звание первой учительницы – это как орден, как маленький кусочек знамени, который ученики пронесут через всю жизнь. Они встретят на своём пути ещё многих учителей, замечательных педагогов и наставников, но первая учительница одна-единственная, и мне надо очень постараться, чтоб не обмануть ожидания своих учеников и родителей.
