Читать онлайн Метод. Московский ежегодник трудов из обществоведческих дисциплин. Выпуск 3: Возможное и действительное в социальной практике и научных исследованиях бесплатно
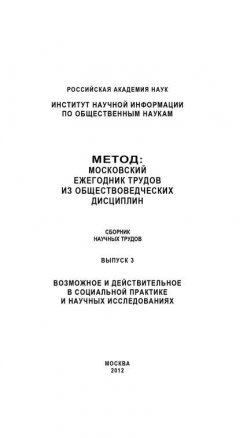
Методологический вызов. Научная критика социальной воображаемости
Нынешний выпуск МЕТОДа непосредственно продолжает и развивает тематику двух предыдущих. В редакционном введении прошлого выпуска ставился вопрос о том, как мысленно представить явления, которые невозможно охватить непосредственным взглядом через прямое восприятие наличной действительности, и в то же время не уйти в чистое умозрение, а опираться на конкретный опыт. О созидающей функции научного мышления и о способности вообразить сам предмет изучения шла речь в первом выпуске МЕТОДа. Уже там появилась целая рубрика «Нация как социальная воображаемость». Теперь данной категории посвящен весь этот выпуск.
Чем объясняется наш интерес к научному воображению и социальной воображаемости? Воображение – основное средство нашего познания, на основании которого строятся все остальные вплоть до изысканных инструментов многомерного моделирования. Социальная воображаемость – важнейшая сторона того, что мы изучаем. Это не только ожидания, намерения, замыслы, планы людей, но и «серая зона» между свершающимися фактами общественной жизни и тем, что осуществляется лишь частично. Более того, сами свершившиеся факты образуют свои смысловые версии, переходя в плоскость воображаемости. Джон Остин прекрасно показал это в своем замечательном анализе трех способов пролить чернила, который мы перепечатываем в данном выпуске ежегодника.
Существует немало различных трактовок способности людей вообразить смыслы, уловить понятия, придать своему мышлению отчетливую ясность. Начать следовало бы с Платона, заговорившего об идеях и эйдосах – наглядном ви́дении наших предельных представлений. Можно было бы вспомнить о других попытках придать понятиям и смыслам образную конкретность и осязаемость от Аристотеля и стоиков до Канта и зачинателей семиотики. На некоторые моменты обращают внимание В.М. Межуев, В.В. Лапкин, Л.В. Сморгунов, Ю.И. Лукашина и другие авторы МЕТОДа.
Само слово воображаемость вошло в язык философии и науки сравнительно недавно. Вероятно, одним из первых, если не первым, употреблением слова l'imaginaire было его использование Ж.-П. Сартром в сочинении 1940 г., которое он и озаглавил этим словом. Со временем мыслители и ученые разработали различные концепции воображаемости – о некоторых из них пойдет речь в нашем выпуске, особенно в статье И.В. Фомина. При этом само слово умножилось путем омонимии (во французском языке сартровская «воображаемость» сосуществует с лакановским «воображемым», а то в свою очередь с «искривлением-склеиванием социального пространства» Касториадиса), или «перевода» на другие языки: imaginary, das Imaginäre, imaginär, imaginario etc.
Можно ли за всеми этими словами разных языков или за словами-омонимами одного языка уловить общий смысл? Как подсказывает сама внутренняя форма слова «воображаемость», это скорее всего некое свойство того, что воображается. Появление этого свойства у какого-то явления природы – грозы в начале мая, Лиссабонского землетрясения и т.п. – делает их фактами человеческой действительности, т.е. сотворенным, сделанным. Факт, factum – это латинское причастие совершенного вида от глагола делать (facio, facere). А делает явления фактами в первую очередь, конечно, воображение, но не только оно. Здесь и другие человеческие способности – память, чувства (зрение, слух и т.п.), а также и разум.
В свою очередь факты, которые наделяются нами воображаемостью, вместе с нею наделяются и осмысленностью. Воображаемость превращает внешние явления в факты, а факты наделяет смыслом. По существу воображаемость и осмысленность это взаимосвязанные моменты одного ряда – очеловечивания нашего мира, его «присвоения» нами, а с ним и нашего освобождения. Об этой связи воображения и освобождения, воображаемости и свободы пойдет речь в беседе с нашим замечательным философом В.М. Межуевым.
Что предполагает умение вообразить? Увидеть глазами своего разума. Эта способность «видеть» далеко не только теоретическая, хотя греческое слово теория, θεωρία (исходно «зрелище») этимологически связано с глаголом θεωρεν («глядеть на») и с существительным θέα («вид»). Это способность увидеть и понять смысл всего того, что интересует нас само по себе. Для древних эллинов это было возможно, например, в театре, θέατρον. А тот, кто умел увидеть, именовался теоросом, θεωρός, «разглядывающим зрелище» – от уже упомянутого существительного θέα и глагола ὁρᾶν («видеть»). Зрители, наблюдатели, θεωρόι отправлялись в театр, а то и в Олимпию, на Дионисии или в иное священное место, чтобы там усмотреть видимое благо, идею и вернуться с ним обратно в профанный мир. Видя и понимая его, они свой мир «склеивали-лепили» или «освобождали».
О человеческом умении увидеть, вообразить и понять прекрасно пишет во введении к своему «Феномену человека» Пьер Тейяр де Шарден: «То, что наблюдатель, куда бы он ни шел, переносит с собой центр проходимой им местности, – это довольно банальное и, можно сказать, независимое от него явление. Но что происходит с прогуливающимся человеком, если он случайно попадает в естественно выгодную точку (пересечение дорог или долин), откуда не только взгляды, но и сами вещи расходятся в разные стороны? Тогда субъективная точка зрения совпадает с объективным расположением вещей, и восприятие обретает всю свою полноту. Местность расшифровывается и озаряется. Человек видит».
Что означает эта человеческая способность «видеть»? Мысленно выйти за пределы себя, точнее, своего телесного здесь и сейчас. Это значит взглянуть за горизонт. Это значит обрести память и представление о времени. Это значит представить наличные и возможные, чаемые и нежелательные порядки человеческих дел. Это, наконец, значит соединить времена, пространства и порядки нашего существования. В конце концов воображать и мыслить – наши главнейшие способности, а воображаемость и осмысленность – это то, что мы утверждаем в своем мире.
Таков самый широкий, почти «общечеловеческий» смысл категории социальной воображаемости. Для исследователей-гуманитариев воображаемость и осмысленность нашего мира не только данность и средства гуманизации и освобождения, но и предмет их изучения. Как же нам взглянуть на него, как вообразить саму воображаемость? Это непросто. Мы привыкли, что предмет нашего изучения это что-то наподобие вполне материального объекта наших коллег-естественников. Мы привыкли описывать наш предмет как бы извне взглядом абстрактного наблюдателя. А ведь мы его воображаем. Наше воображение, а значит, и отношение к самому предмету изучения пронизано интенциональностью. Наши «описания», наш нарратив – это не только и даже не столько чистый констатив, сколько дискурсное конструирование (ура конструктивистам), точнее, формирование (ура морфологам) предмета изучения. Наш разум действует не как зеркало и не как фотоаппарат, а как чародей, воплощающий духов. Своей иллокутивной силой он превращает нарратив в перформатив.
Подобный творческий подход чреват серьезными методологическими проблемами. Безоглядное следование ему легко приводит к торжеству произвола и уходу в свой альтернативный, воображаемый мир, который чужд и неинтересен никому кроме самого исследователя. Такого рода срывы весьма распространены. Немало коллег, прикрывшись этикетками «пост-пост-пост-чего-то-там», играют сами с собою и со своими творениями, объявляя всех остальных недостаточно зрелыми для понимания их фантазий. Полагаю, что с методологической точки зрения важно последовательное критическое отсечение подобного бегства в ненаучную фантастику. Методологический вызов заключается в необходимости научной критики социальной воображаемости, в отчетливом сопряжении возможного и действительного в социальной практике и научных исследованиях.
Теперь кратко остановлюсь на составе и композиции нынешней книжки МЕТОДа. Открывает ее беседа с выдающимся российским философом В.М. Межуевым. Смысловым стержнем этой беседы стала связь между воображением и свободой. Способность воображать («выходить из себя, но при этом к себе же и возвращаться»), говорить, мыслить делает нас людьми. Развитие этих способностей оборачивается нашим очеловечиванием, гуманизацией, освобождением.
Заданная в беседе тема получила многоголосое развитие в заочном круглом столе «Возможности и пределы научного воображения и ненаучной фантазии».
Рубрика «Методологические альтернативы» включает статьи, в которых предпринимается попытка предложить свои способы анализа действительности, которая возможна, желательна или нежелательна, словом, воображаема и мыслима. Известный армянский лингвист Сурен Золян обращает свой взор на Карабахский конфликт. Он рассматривает его как целый веер возможных миров, в которых кровь и боль в разных сочетаниях перемешиваются с человечностью и достойным существованием. Как будто бы бесстрастно исчисляя возможные варианты в витгенштейновской, как мне показалось, стилистике, Золян показывает, что ключом к разрешению конфликта является понимание самими его участниками устремлений друг друга и перевод соответствующих интенциональностей в общий перформатив миротворчества.
Попытку вообразить и тем самым осмыслить историческое развитие предпринимает известный исследователь ритмов и циклов мировой динамики В.В. Лапкин. Вслед за И. Кантом он усматривает движущий момент развития в постоянном столкновении двух интенциональностей. Как разумное, «воображающее» существо человек жаждет закона, «который определил бы границы свободы для всех», но леность его воображения, «корыстолюбивая животная склонность побуждает его, где это ему нужно, делать для самого себя исключение». Эти исключения разрушают свободу для всех, меняют первородство свободы на чечевичную похлебку произвола.
Крайне трудную задачу пытается решить А.С. Ахременко. Он ищет способы увидеть различные качества государства, разглядеть, очертить и измерить его эффективность. Для этого он разрабатывает концептуальный аппарат, удачно операционализует его, а затем с помощью достаточно простых, но изящных и надежных математических моделей обрабатывает данные, которые складываются в осмысленную картину.
Рубрика «Социальная воображаемость» прямо нацелена на рассмотрение основного предмета нашего исследования. Молодой сотрудник Центра перспективных методологий социально-гуманитарных исследований ИНИОН РАН и редакции нашего ежегодника И.В. Фомин анализирует различные трактовки социальной воображаемости. Преподаватель Кантианы М.В. Берендеев вполне в духе критического анализа проводит различие между отдельными способами «увидеть» и осмыслить ту или иную страну. Он показывает, что за привычным словосочетанием образ страны скрываются весьма сложные ментальные конструкции. Ереванский политолог В.Э. Согомонян трактует дискурс, а тем самым и действия политической власти – я бы сказал, властей предержащих или авторитетов – как перевод устремлений властителей в инструментальные средства манипуляции поведением подвластных.
Типология способов воображения и осмысления времени в обыденном языке и в научных концепциях предложена в статье редактора ежегодника. Несколько иначе – в диапазоне от локализаций до протяженностей – интерпретируется ви́дение пространств в социальных науках Ю.И. Лукашиной. Создатель научного направления геоспациализм В.Н. Замятин анализирует онтологическую динамику пространственных образов.
Рубрика «Научное воображение» посвящена этой важной эвристической способности обществоведов. Один из ведущих отечественных лингвистов В.З. Демьянков рассматривает утверждение в нашей культуре идеи осмысленности как более умозрительной версии воображаемости. Ключевым словом тут является понятие как понимание чего-то или как нечто мыслимое, а значит, и воображаемое. Отталкиваясь от бытования этого слова в истории русского языка, Демьянков ставит вопрос о самой возможности универсальной грамматики мыслимого. Вероятно, это проблема, которая заслуживает разработки не только филологами, но и другими гуманитариями.
Наш постоянный автор Н.С. Розов предлагает читателям весьма продуманную концепцию роли воображения в социально-историческом развитии. Петербургский политолог Л.В. Сморгунов демонстрирует связь фундаментальных теоретико-методологических проблем воображения с событийной природой политики. О человеческом восприятии звука и о способах его наглядного представления идет речь в статье известного фонолога В.Б. Кузнецова. Наконец, И.А. Чихарев обсуждает альтернативные облики, которые придают мировой политике сторонники различных теоретико-методологических подходов.
Рубрика нашего ежегодника «Роккановская лекция» знакомит читателей с творческой кухней лауреатов Роккановской премии. На этот раз мы представляем крупнейшего отечественного институционалиста С.В. Патрушева. В своей лауреатской лекции он фокусирует внимание на том, как разные логики понимания, а значит, и воображения действительности выливаются в различные версии неоинституционализма.
В рубрике «Интеллектуальный архив на завтра» представлено творчество замечательного ученого Джона Петера Неттла. Этот очень яркий исследователь оставил немалое число крайне плодотворных идей. Мы публикуем полную версию его статьи о государстве как понятии-переменной. В этой статье показано, что и форма, и само функционирование государств в решающей степени зависят от того, как люди их представляют и как реализуют свои представления в политических действиях.
В этой же рубрике наш постоянный автор М.В. Масловский представляет творчество одного из ярчайших исследователей социальной воображаемости Й. Арнасона, в частности предпринятый им цивилизационный анализ советской модели модерна. Наконец, здесь же публикуется перевод классической статьи Дж. Остина о трех способах пролить чернила.
Материалы рубрики «In memoriam» посвящены памяти академика Ю.С. Степанова, скончавшегося в начале 2012 г. Место некролога занимает в основном скомпонованный из фрагментов текстов самого Юрия Сергеевича очерк созданного им интертекста – переплетения множества малых текстов, «реплик», мыслей, которые совокупно становятся достоянием множества людей, учеников и читателей Степанова. Кроме того мы знакомим читателей с текстом интервью Ю.С. Степанова 2002 г., в котором затрагиваются многие важные для данного выпуска ежегодника идеи.
Завершает выпуск «Библиографическая лоция». В этой рубрике мы публикуем реферативный обзор творчества выдающегося британского географа Н.Дж. Трифта, а также рецензию на коллективный труд о состоянии политической науки в Центральной и Восточной Европе вплоть до России, вышедший под редакцией Р. Эйсфельда и Л. Пола.
Каждый из этих материалов на свой лад помогает читателю найти свой угол зрения на основной предмет нашего ежегодника – социальную воображаемость.
М. Ильин
Ведь точно так же, как мы отправляемся в Олимпию ради самого зрелища [θεᾶς], даже если ничего больше кроме него не будет (ведь само созерцание [теория – θεωρία] лучше многих полезных вещей), и наблюдаем [теоретизируем – θεωροῦμεν] Дионисии не для того, чтобы получить нечто от актеров, но даже отдаем сами, да и многие другие зрелища мы, пожалуй, предпочитаем многим полезным вещам, так и созерцание [теорию – θεωρία] всего <сущего> следует ставить выше всякой кажущейся пользы. И уж, конечно, не к <общению> с людьми, подражающим и женщинам и рабам, и не к соревнующимся в кулачном бое и беге нужно стремиться со всем рвением ради того, чтобы увидеть их, считая при этом, что природу сущего и истину [την των οντων φύσιν και των αλήθειαν] нужно созерцать [θεωρεῖν] даром [ἀμισθί].
Аристотель «Протрептик»
Мысль у пределов воображаемого. Понимание у пределов мыслимого (беседа)
Ильин М.В., Межуев В.М.
М.И. (Михаил Ильин). Предмет нашей беседы, Вадим Михайлович, как и всего выпуска ежегодника МЕТОД, – социальная воображаемость.
В.М. (Вадим Межуев). Действительно, сейчас модно говорить о том, что все в этом мире спроектировано, сконструировано нашим сознанием…
М.И. Понятное дело, что все сконструировать нельзя, поэтому наша идея была поговорить об этом, не впадая в крайности: вроде того, что все конструируется или ничего не конструируется. Наверное, что-то конструируется, что-то нет… Вообще действительность, как подсказывает язык, творится нашими действиями – не только физически ощутимыми, но и совершаемыми нашим воображением. Некоторые исследователи: К. Касториадис, Й. Арнасон, Ч. Тейлор, Б. Андерсон – делали попытки положить эти мыслительные действия в основу социальной онтологии, представить ее как социальную воображаемость. Вопрос, с которого я хотел бы начать наш разговор, Вадим Михайлович, не в том, насколько это оправданно или допустимо. До этого мы, возможно, еще доберемся. Вопрос в том, насколько это наше воображение раскованно, насколько оно свободно.
Я решил попросить Вас о беседе потому, что на одной из встреч в Институте философии меня очень сильно защепила одна высказанная Вами мысль, о которой я потом долго думал. Вы говорили, что самая главная трудность в том, чтобы помыслить что-то, находясь вне его пределов, т.е. если вы в это «что-то» не включены. Например, подумать о жизни за пределами жизни, подумать о земле за пределами земли, подумать об истории за пределами истории. Можем ли мы мыслить постмодерн, находясь еще в модерне?
В.М. Я сказал бы иначе: проблема не в том, как мыслить то, что выходит за свои пределы (мыслить жизнь за пределами жизни или историю за пределами истории, по-моему, бессмысленное занятие), а как мыслить то, что выходит за пределы доступного нам опыта. Это старая проблема, поставленная еще Кантом, и именно она подводит к вопросу о роли воображения в познании. Любой предмет дан нам не только как предмет непосредственного – чувственного или эмпирического – восприятия, но и как предмет мысли (т.е. не только воспринимается, но и мыслится нами), причем оба эти вида познания должны как-то согласовываться друг с другом. Подобное согласование, согласно Канту, и достигается посредством продуктивной способности воображения. В ней в наибольшей степени проявляется свобода познающего субъекта, или, по словам Канта, его «произвол». При этом не надо смешивать эту свободу с полетом фантазии, выдумыванием произвольных гипотез, пустым прожектерством, с изобретением того, чего нет. Она не отрицает научное познание, но позволяет лишь осуществить синтез чувственности и рассудка (или мышления). Более подробно на эту тему можно прочитать в книге Ю.М. Бородая «Воображение и теория познания», изданной у нас еще в 1966 г.
Вообразить – значит мысленно представить предмет в единстве (синтезе) всех его восприятий (апперцепций). Данное представление не просто отражает то, что существует само по себе, в ноуменальном мире, в качестве «вещи в себе», но продукт исключительно субъективной (трансцендентальной) способности человеческого разума к такому синтезу. Эта способность продуктивна, поскольку именно она продуцирует предмет, как мы его мысленно представляем. Без данной способности весь наблюдаемый нами мир лишился бы всякой предметности, предстал как хаотическое скопление бесконечно сменяющих друг друга и никак не связанных между собой чувственных впечатлений и восприятий.
В каком-то смысле примером утраты человеком такой способности может служить то, что происходит в настоящее время в мире книжной и – шире – письменной культуры под воздействием аудиовизуальных средств массовой информации. Многие исследователи современной массовой культуры отмечают обратную зависимость между чтением книг и просмотром телепередач. Общество из читающего общества постепенно превращается в глазеющее общество. Человек отучается жить в мире слов с их недоступными обычному зрению смыслами и значениями и все больше погружается в мир зрительных и звуковых образов. Что это означает на практике?
Читая, мы не просто складываем буквы в слова, а слова в предложения, а как бы мысленно видим, воображаем то, что написано в тексте. Подобное ви́дение есть видение не обычными глазами, а умом, его можно назвать также умозрением, которое позволяет нам видеть не конкретно данную вещь, а вещь вообще, ее, как бы сказал Платон, идею. Человек, сознание которого сформировано не чтением, а восприятием исключительно зрительных образов, утрачивает способность видеть умом, способность воображения, и, следовательно, понимать смысл увиденного. Он видит, но не понимает, зрит, но не мыслит. Наглядность, непосредственная очевидность заменяет ему воображение, которое Кант считал главной способностью мышления.
М.И. Это очень интересная мысль. То есть мы сейчас находимся в той фазе, когда сама фактура речи начинает подрывать наши способности.
В.М. На мой взгляд, это главный кризис, который переживает сегодня культура. Он прямо связан с тем, что Маклюэн назвал «концом Галактики Гутенберга» – концом книжной и – шире – письменной культуры. Я по студентам вижу характерное проявление такого кризиса. В большинстве своем они предпочитают получать информацию не из прочитанных ими книг, а на слух, из того, что услышали на лекциях. Все это затем дословно воспроизводится ими на экзамене. Почти ни у кого не возникает желания добавить к услышанному от лектора что-то свое, добытое из самостоятельной работы с письменными источниками. И как правило – отсутствие у таких студентов развитого воображения: им трудно представить содержание мысли, выходящей за рамки их непосредственного жизненного опыта.
Я иногда спрашиваю студентов: «Можно ли в реальной жизни отличить красивую вещь от некрасивой?» «Можно», – отвечают они. «А добрый поступок от злого?» «Тоже можно». «Ну, а можно ли увидеть, вообразить красоту или добро вообще?» В ответ, как правило, молчание. Но если никак не представлять красоту и добро в общем виде, т.е. как их идею, можно ли увидеть их в каждом конкретном случае? В отличие от обычного зрения, позволяющего нам видеть вещи и явления в их чувственно-непосредственном виде, созерцание идей осуществляется посредством ума, или умозрения. С утратой способности видеть умом исчезает и наша связь с миром идей, идеальным миром, что и происходит сегодня не только в культуре, но и в политике, где уже давно борьба идей сменилась борьбой компроматов. В наше время бьют не по идеям, а по лицам, а на смену идеологам пришли политтехнологи и имиджмейкеры. И голосуют не умом и даже не сердцем, а глазами.
М.И. Вадим Михайлович, Вы говорите о том, как «видеть умом», но ведь в связи с этим появляется обратная, зеркальная проблема – о том, как «мыслить образами».
В.М. Идея – не просто абстрактное понятие, но тоже своего рода образ, эйдос. Созерцание идей греки называли поэтому не логикой, а эйдетикой. Между образом, идеей и понятием то общее, что все они являются символическими образованиями. Об этом знаменитая книга Э. Кассирера «Философия символических форм». Вся наша культура, включая язык, имеет символическую природу. Символ, согласно Кассиреру, имеет не субстанциальную, а функциональную природу, между ним и тем, что он обозначает, нет никакой видимой физической или психической связи. Этим он отличается от просто знака. Когда, например, мы слышим гудок паровоза, то этот гудок – всего лишь знак, сигнал приближающегося поезда, одной с ним физической природы, в нем нет ничего символического. А вот слово ничего общего с обозначаемым им предметом не имеет. Оно связано с ним функционально, в качестве всего лишь его символа. Способность человека к производству таких символов и делает его творцом культуры. Символы существуют лишь посредством воображения, способного связывать означающее и означаемое при отсутствии между ними какого-либо субстанциального единства. Поэтому слова на иностранном языке, которого мы не знаем, для нас ничего не значат.
М.И. А чтобы символ заработал, нужно как минимум что-то узнать – как Вы только что говорили об иностранном языке. Чтобы символ потом стал, как Лосев говорил, «моделью бесконечных порождений» множества смыслов, что для этого необходимо, что минимально? Достаточно узнать одно слово или необходимо что-то еще?
В.М. Символ что-то значит лишь в определенном контексте, в системе той или иной символической формы – мифологической, художественной, научной и пр. Язык – тоже символическая система, дающая образующим его словам смысл и значение. Как складывается такая система – это сложная историко-лингвистическая проблема, о которой лучше судить специалистам. Во всяком случае, язык – не просто природный дар, но результат долгого исторического развития. Мы не рождаемся со знанием языка, а приобщаемся к нему в процессе повседневного или специального обучения.
М.И. Как минимум требуется сообщество общающихся…
В.М. Язык вообще возникает как способ общения между людьми. Вне такого общения его существование теряет всякий смысл.
М.И. Для ученого, для философа критически важным является наличие сообщества тех, с кем он общается? То есть научное сообщество есть факт, который делает возможным воображение?
В.М. Если говорить о философии, то она с самого начала возникла в ситуации диалога, т.е. общения людей по поводу истины. Философию в этом смысле следует отличать от восточной мудрости. Мудрецам истина известна заранее. Они ее получают прямо от Бога и выражают в форме пророчеств, озарений, боговдохновенного знания. Поэтому мудрецы, как правило, не вступают между собой в диалог и легко уживаются с тиранами, которые всем другим отказывают в праве на собственное мнение. Мудрость сама в каком-то смысле есть тирания мысли. Философ же – не мудрец, а друг мудрости. Философия рождается в ситуации незнания истины, ее сокрытости от человека. Здесь ни у кого нет монополии на истину, к ней еще нужно прийти в процессе взаимного обмена мнениями. Слова Сократа «Я знаю только то, что ничего не знаю» и есть условие вступления в такой диалог. Но тем самым философия есть способ общения не вообще людей, а свободных людей, каждый из которых имеет право на истину, которую он, естественно, обязан доказать и обосновать в споре и диалоге с другими. Потому нет и одной философии на все времена: у каждой эпохи своя философия.
Философию следует отличать и от науки. Попытаюсь пояснить это отличие с помощью известной басни И.А. Крылова о мартышке и зеркале. Помните, мартышке не нравится ее изображение в зеркале, и она его разбивает. Когда я был студентом, я задал своему профессору по психологии вопрос: что мартышка действительно видит в зеркале? Он пожал плечами и ответил: «А кто его знает! Может, ничего не видит, а может, другую мартышку…» Я продолжал допытываться: «Хорошо, а если повесить перед мартышкой не зеркало, а фотографию, она узнает себя? А если не фотографию, а рисунок?» Ясно, ни одно животное не идентифицирует себя с собственным изображением. А человек говорит: «Это – я». Откуда ему это известно? Способность узнавать себя в зеркале дана нам не от рождения. Первая реакция ребенка на зеркало – он не реагирует на него, проходит мимо. В детской психологии выделяют даже особую – зеркальную – фазу в развитии психики ребенка, когда он учится узнавать самого себя. На философском языке та же способность называется самосознанием, в социальной психологии «я-концепцией». Отнимите у человека эту способность, и он тут же превратится либо в животное, либо в автомат.
Первобытные люди, на что бы ни смотрели вокруг себя, видели только собственное отражение. Весь мир был для них одним большим зеркалом. Глядя, например, на солнце, они видели не то, что видим мы – физическое тело с физическими процессами, – а отражение своих племенных сил и отношений. Так возникли солярные мифы. Но так же устроено и искусство. Когда художник изображает картины природы, он стремится передать не физические состояния, а свои чувства, эмоции, настроения и пр. Искусство, конечно, отражает жизнь, но не вообще жизнь, а нашу собственную, и в формах, ей соответствующих. По тому же принципу строится и философская картина мира: человек в ней должен увидеть самого себя, понять, кто он сам в этом мире. По словам Гегеля, философия – это «эпоха, схваченная в мысли», портрет своего времени и живущего в нем человека.
А вот ученый смотрит на мир иначе – как бы через прозрачное стекло, через которое видно все, кроме того, кто смотрит на него. Поэтому и даваемое им знание о мире мы называем объективным.
М.И. А многие мои коллеги утверждают, что мы присутствуем в том, что изучаем…
В.М. Такой вопрос часто задают. Историк науки будет, конечно, учитывать связь любой научной картины мира с создавшим ее субъектом. Но любой ученый, будь он математик, физик или биолог, стремится вынести свою субъективность за скобки, за пределы формулируемых им теоретических выводов и обобщений, придать им характер суждений, обязательных для каждого человека. Философ работает иначе. Он пытается сформулировать то, что значимо (ценно) для человека определенной культуры. Главный вопрос европейской философии – что значит быть европейцем, точнее, человеком европейской культуры.
Классическая философия также мыслила себя как науку. Наиболее грандиозная попытка поднять философию до уровня науки была предпринята Гегелем в его «Феноменологии духа». Если классическая философия Нового времени возникла в результате отказа философии быть служанкой религии и теологии, то после Гегеля стало ясно, что философия не является и наукой. В результате классическая философия уступила свое место постклассической (или современной) философии, представителей которой – Ф. Ницше, Ж.-П. Сартра, М. Хайдеггера и многих других – никак не назовешь учеными.
Что же реально стояло за размежеванием философии и науки? Прежде всего, размежевание самосознания, даваемого философией, и научного знания. Отсюда следовало, что быть и знать – разные вещи. Бытие и мышление, вопреки формуле Декарта «мыслю, следовательно, существую», разошлись между собой. По тому, что я знаю о мире, нельзя судить, кто я сам в этом мире. Можно, например, знать ислам и не быть мусульманином. Знание делает человека ученым, но еще ничего не говорит о его культурной идентичности. Как можно обрести эту идентичность в современном мире – вот тот вопрос, на который пытается ответить постклассическая философия.
М.И. В связи с этим, если попробовать посмотреть на обществоведение в широком смысле, не происходит ли там чего-то подобного: отделения сначала такого же точно обществоведения от догматического знания, от религии, потом фаза попыток создания объективной обществоведческой теории, типа структурного функционализма Т. Парсонса, а затем – переход в некую постклассическую фазу.
В.М. В обществоведении что-то подобное, наверняка, тоже происходит, но я боюсь влезать в чужую епархию. Пусть сами ученые решают, где в их науках проходит граница между классическим знанием и постклассическим. Могу сказать лишь следующее: главным словом в обществоведческом научном лексиконе XX в., как я понимаю, стало слово «культура». Само слово возникло, конечно, давно, но фундаментальную научную значимость в общественных науках оно обрело сравнительно недавно.
В ХVII и XVIII вв. таким словом было слово «природа» – то были века развития математических, физических и астрономических наук. Тогда ответы на все вопросы, встававшие перед человеком, искали в природе. Любому знанию о человеке стремились придать математическую строгость. Спиноза, как известно, даже пытался облечь свою философию в форму геометрического знания. Для XIX в. такими словами стали «общество» и «история». Это век возникновения социологии и бурного развития исторических наук. М. Фуко называл XIX век «веком истории»: в нем все пришло в движение, обрело подвижность, постоянную изменчивость. И лишь с конца XIX в., с момента появления так называемых «наук о культуре» становится ясно, что наиболее фундаментальным слоем человеческого бытия является то, что обозначается словом «культура». С этого момента все общественные науки как бы поворачиваются лицом к культуре: история становится преимущественно историей культуры, антропология обретает статус культурной антропологии, возникает социология культуры, а термин «культурология» вообще из XX в. Да и философия в лице неокантианцев позиционирует себя преимущественно как философию культуры.
Что же понимается под словом «культура»? В разных науках оно трактуется по-разному, но с философской точки зрения культура – это сфера человеческой свободы: в мире природной необходимости и божественного предопределения. Об этом более подробно я писал в своей книге «Идея культуры. Очерки по философии культуры», изданной в 2006 г. В качестве «царства свободы» культура – предмет не научного изучения, а философского осмысления, ибо какая наука имеет своим предметом свободу? В самом факте существования свободы заключены границы классической науки, склонной мыслить в категориях необходимости и всеобщих законов мироздания. Постклассической, на мой взгляд, она становится в той мере, в какой пытается как-то осмыслить и выразить в своих теоретических построениях факт наличия свободы в мире.
Само существование истории культуры свидетельствует о наличии в мире свободы, т.е. того, что детерминировано не внешней необходимостью, а целями, которые люди ставят перед собой в своей повседневной деятельности. Наличие целей – прямое свидетельство нашей свободы. Отсюда и методологический конструктивизм в объяснении социального мира, который только по видимости существует в качестве независимой от нас величины, а реально есть нечто, созданное нашей деятельностью. Иное дело – в какой форме осуществляется это конструирование. Но в любом случае человек – не просто природное и даже социальное, а культурное существо, способное в своем творчестве выходить за пределы видимого им мира, а значит, и за пределы физического времени своей жизни, жить (хотя бы только духовно) если не вечно, то в вечности. Культура и есть хранитель вечности на земле (в отличие от культа, помещающего вечность по ту сторону земной жизни). Приобщаясь через культуру к вечности, причем не на том, а на этом свете, мы и обретаем свободу.
М.И. Можно ли по аналогии сказать, что и воображение – это тоже своего рода выход в вечность?
В.М. Конечно! Только посредством воображения можно преодолеть «плен времени», в котором каждый из нас пребывает на этом свете. В этом состоит суть любого творчества. Помните, у Пастернака: «Не спи, не спи, художник, не предавайся сну. Ты – вечности заложник, у времени в плену». Правда, в современной культуре, как о том пишет Зигмунт Бауман, разрушены все культурные мосты, до того соединявшие нас с вечностью. Мы живем сегодня в культуре, в которой нет места никакой вечности. В такой культуре все подчинено заботе о собственном теле, о чисто физической стороне жизни, а главным событием становится умирание, угасание. Здесь царит «тирания мгновения» и действует правило «живи одним днем».
М.И. Вот перекличка между свободой и воображением мне кажется очень важным сюжетом.
В.М. Воображение и есть проявление нашей свободы. Я уже говорил об этом.
М.И. Но тут возникает масса вопросов, потому что если мы будем толковать свободу как нечто абсолютно стихийное, абсолютно безграничное…
В.М. Свобода, конечно, не произвол, лишенный каких-либо ограничений – правовых, моральных и пр. Абсолютная свобода столь же недостижима, как недостижима абсолютная истина, но отсюда не следует, что нужно смиряться с ущемлением или недостатком свободы, абсолютизировать то, что уже есть.
М.И. Не произвол. Значит, есть и какая-то несвобода, которой мы тоже можем как-то управлять, или не можем управлять, или можем что-то с ней поделать… То же самое, наверное, и с воображением: нужно, чтобы какая-то опора была.
В.М. Никто и не отрицает, что помимо свободы в мире есть что-то такое, что от человека прямо не зависит, существует независимо от него, например, природа, а для верующих – это еще и Бог. К этим видам бытия мы приобщаемся посредством научного знания или веры, в которых воображение (а значит, и человеческая свобода) также играет определенную конструктивную роль. Но в своем собственном бытии свобода, как я думаю, постигается только в философии.
В качестве условия собственно человеческого бытия свобода была впервые открыта греками. До того она мыслилась как удел одних лишь богов или мифологических героев. Свободными («свободнорожденными») греки, как известно, считали граждан полиса, т.е. самих себя, отказывая в этом остальным – иноземцам, рабам, слугам, женщинам. Свобода в их представлении – это образ жизни людей, занятых не домашним хозяйством или торговлей, а философией, политикой, искусством, т.е. тем, что позже обозначат как сферу духовной культуры. Тем самым уже они понимали связь свободы с культурой. Иное дело, что свобода для них – это привилегия немногих, обеспечиваемая несвободой других – большинства людей. В христианстве, открывшем свободу воли, она распространяется уже на всех людей, но с одной оговоркой: свобода воли дана человеку Богом с единственной целью – чтобы тот добровольно, а не по внешнему принуждению, исполнял Его волю. Всякое своеволие – источник греха, путь к Сатане. Об этом и история человеческого грехопадения. Позитивный, творчески созидательный смысл свободы был открыт гуманистами эпохи Возрождения и теоретически осознан философами Нового времени. Философия и есть попытка взглянуть на весь окружающий мир глазами свободного человека, обладающего мужеством, как говорил Кант, доверять исключительно собственному разуму. Свобода, следовательно, не отрицает наличие разума у человека, а предполагает его, вполне согласуется с его способностью мыслить и поступать разумно. Правда, здесь встает вопрос, как понимать сам разум.
М.И. Вадим Михайлович, а если оттолкнуться от Вашей идеи того, что бессмертие и свобода достигаются в истории, а не за ее пределами, так может быть тогда, с этой точки зрения, мы можем взглянуть и на воображение? Взглянуть на него не как на попытку уйти от времени, а наоборот – как на способ укорениться во времени, связать разные времена, т.е., если угодно, в некотором смысле оказаться способным быть в разных точках времени: как бы посмотреть на себя прошлого, будущего и нынешнего? Хотя не обязательно на себя – можно на что угодно другое смотреть таким образом…
В.М. Можно, конечно, и так. Вообразить можно все, что угодно, но важно, чтобы воображение служило делу освобождения человека от того, что ограничивает его в плане собственно человеческого бытия. Посредством воображения можно перенестись в любое время, но, на мой взгляд, это как раз и равносильно жизни в вечности, выходу человека за границы физической жизни.
М.И. Гельмут Плеснер говорил как раз, что человек – это «существо эксцентрическое», т.е. способное «выходить из себя».
В.М. Человеку вообще свойственно выходить за пределы не только самого себя, но и своего вида. Он по определению есть не видовое, а родовое существо, способное жить «по мерке любого вида». Можно называть эту способность человеческой универсальностью или свободой, но только она обеспечивает единственно возможную для нас победу над смертью, возвышает нас над «царством животных». Человеческая история, видимо, вообще не имеет иного смысла, как только превращение этой способности в способ жизни каждого индивида.
М.И. Вадим Михайлович, возвращаясь к философскому и научному мышлению, если воображение – это эквивалент, в некотором смысле, или аналог свободы, то что может быть аналогом несвободы? Как свободе противостоит несвобода, что противостоит воображению?
В.М. Свобода в ее философском истолковании – это все, что существует (действует, движется) в силу собственной внутренней причины, в отличие от того, что является следствием внешней причины, или внешней детерминации. Но что значит быть причиной самой себя? Уже Аристотель понимал под ней финальную, или целевую, причину (causa finalis), отличая ее от действующей причины. Создавая, например, какое-то произведение, мы являемся его действующей (внешней) причиной, но если оно создается нами с какой-то целью, то мы оказываемся его внутренней причиной. Действие согласно цели и было осознано впоследствии как свободное действие. С возникновением естествознания Нового времени, исключившего из природы какие-либо цели, свободу станут относить к царству не природы, а культуры. Как гласит знаменитое определение культуры, данное Кантом, «приобретение разумным существом способности ставить любые цели вообще (т.е. в его свободе) – это культура». Свобода, следовательно, – это способность человека к целесообразной деятельности, а история свободы, в которой эта способность находит свою реализацию, оказывается в ином ряду развития, чем история природы.
Человек нуждается в свободе не как заведенный кем-то механизм, а ради достижения цели, которую он ставит перед собой. Откуда берутся эти цели? Они могут задаваться человеку его чувственной, телесной природой, его желаниями и потребностями. В этом случае мы имеем дело с интересами, которые у разных людей разные. И преследуя свой интерес, индивид действует свободно, но в этом случае его свобода приходит в столкновение со свободой других. Чтобы свобода не вела к состоянию конфронтации и войны, человек, как считал Кант, должен руководствоваться целями, которые укоренены в его сверхчувственной (трансцендентальной) природе, лежащей за пределами любого чувственного опыта. Такие цели диктуются человеку разумом, являются разумными целями, свободными от всякой чувственной заинтересованности. Сам Кант видел цель разума в достижении человеком морального состояния, тогда как Гегель усматривал ее в обретении индивидом абсолютного знания. В любом случае человек испытывает потребность в свободе, делая целью самого себя, т.е. в качестве не природного, а культурного существа. Отсюда не следует, что любая культура делает его свободным. Разные культуры, конечно, отличаются друг от друга по степени предоставляемой человеку свободы, но ни одна из них не является пока подлинным эталоном свободы: каждое по-своему ограничивает ее. Отсюда вывод: человек еще не живет подлинно культурной жизнью, находится в процессе ее формирования, что, собственно, и образует содержание его истории. Наличие множества культур лишь указывает на то, что ни одна из них, ни все они вместе не стали пока адекватным выражением человеческой свободы (иначе история, действительно, закончилась бы).
Когда Вы спрашиваете, что противостоит свободе, то в моем представлении ей противостоит все, что так или иначе делает человека механическим исполнителем чужой воли, обрекает на роль управляемой извне силы, движимой внешними предписаниями, а не им самим поставленными целями.
М.И. То есть, другими словами, в науке это должно быть чисто функционалистское, лишенное целеполагания описание…
В.М. Наука, неспособная подняться над такой жизнью, ограничивающая себя фактической констатацией того, что есть, не содержащая в себе никакой критики существующего порядка вещей, – такая наука, действительно, лишена воображения. В ней человек с его свободой воли устраняется как предмет анализа.
М.И. Но я знаю, кто в науке действует по собственной воле. По собственной воле в науке действует сам исследователь. Исследователь остается свободным человеком даже в науке. И даже в науке он выбирает парадигму, коллектив, еще какие-то вещи…
В.М. Но может ли такой исследователь сам стать предметом науки? М.И. Но это и не требуется, наверное, для многих ученых.
В.М. Не знаю… Л.С. Выготский, например, писал о психологии творчества. Разумеется, никакая наука неспособна создать гения, проникнуть в тайну его творчества. Ведь это и есть область свободы, не поддающаяся никакому научному регулированию.
М.И. А в этом смысле в науке, когда мы ставим методологические вопросы, разве это не является некой компенсацией этого детерминизма? Когда мы можем выбирать, мы можем оценивать, мы занимаемся самосознанием, саморефлексией внутри науки…
В.М. Но причем тут свобода? Саморефлексия – это необязательно свобода.
М.И. Необязательно, но это первый шаг. Я могу, например, задавшись какими-то вопросами, осуществить выбор между разными парадигмами…
В.М. Я задам простой вопрос: существует ли наука, способная объяснить всем нам, за кого мы должны голосовать на выборах?
М.И. И не должно быть такой науки.
В.М. И не может быть. Хотя бы потому, что существует свобода выбора, которая не подлежит никакому внешнему регулированию. Можно исследовать разные системы ценностей, которыми руководствуются люди в своем выборе, но кто, как не они сами, знают, какая из этих систем для них предпочтительнее?
М.И. В связи с этим, если я задался исследовательским вопросом и передо мной высокая степень неопределенности, – я не знаю ответа. Это вот та самая ситуация Сократа, который знает, что он ничего не знает.
В.М. Ну, у Сократа это было хитростью. Он-то, конечно, знал.
М.И. Да. Но в некотором смысле эта хитрость воспроизводится чисто профессионально нынешними учеными: «Мы не знаем». Поэтому прежде чем пытаться найти, например, детерминацию (хотя необязательно нужно искать детерминацию: сейчас существуют разные типы научного познания), исследователь осуществляет выбор, каким путем ему идти. У него есть разные пути, у него есть какая-то доля свободы, есть доля воображения. Я просто хочу проакцентировать вот эту связь между воображением и свободой и здесь тоже.
В.М. Но ведь мы уже договорились, что воображение есть проявление свободы, в том числе и в области познавательной деятельности. Без воображения нет никакой теоретической науки, ибо мыслить предмет – значит не просто воспринимать его обычными глазами (можно ли глазами увидеть ту же природу?), но определенным образом мысленно вообразить его на основе полученных нами чувственных данных. Но воображение, что ученого, что художника, есть иное название свойственной им интеллектуальной или художественной интуиции, которая по определению носит свободный, а не принудительный характер. К интуиции никого нельзя принудить. Однако я не уверен, что сама свобода может быть объектом научного анализа.
М.И. Тут я не соглашусь с Вами. Свобода – это одно из сущностно оспариваемых понятий, а оспариваемость поддается семиотическому анализу.
В.М. Если свободу можно изучать, как мы изучаем природу, тогда нет свободы. В свободе всегда есть что-то непознаваемое. Правда, Кант попытался найти закон для свободы. Но закон этот – не теоретический, а моральный, лежащий в области не сущего, а должного. Это не закон природы, а предписание, повеление (императив) разума, свободного от всякой чувственной заинтересованности. Вслед за Кантом придут романтики, которые скажут, что свобода выше морали, а художник творит без оглядки на какую-либо мораль. Во всяком случае, свобода не есть познанная необходимость, как думали греки, а находится по ту сторону необходимости, не сводима к ней.
М.И. Но говоря о свободе как познанной необходимости, мы ведь имеем в виду, что по своей свободной воле мы переделываем необходимость во что-то другое, в свободу.
В.М. Я все-таки предполагаю, что свобода из какого-то другого источника, из природы она никак не выводится.
М.И. Свобода безусловно из воли. В данном случае необходимость не является источником, она является материалом, который перерабатывается.
В.М. В своей деятельности человек, конечно, опирается на знание природной и всякой иной необходимости, использует это знание – тут и спорить не о чем – но это еще не ответ на вопрос, где источник самой свободы. Окончательного ответа на этот вопрос я не знаю. И, по-моему, никто не знает. В этот барьер, отделяющий свободу от природы, упирается вся современная наука. Когда-то Гейзенберг писал, что, возможно, когда-нибудь в самой глубине атома мы, наконец, найдем ответ на вопрос, что есть человек. Но пока этот ответ не найден и вряд ли когда-нибудь будет найден. Человечество, как я понимаю, не может жить без тайны своего происхождения на нашей Земле и во всей Вселенной. И кто знает, может, не мы произошли из природы, а природа – наше изобретение?
М.И. Наше воображение…
В.М. Можно назвать это и воображением…
М.И. Вадим Михайлович, благодарю за очень интересную беседу! Уверен, что она поможет и мне, и многим моим коллегам продолжить труд по освобождению своей мысли от разного рода интеллектуальных оков.
Возможности и пределы научного воображения и ненаучной фантазии (Заочный круглый стол)
В чем воображение помогает мышлению исследователя, а в чем мешает?
ВАЛЕРИЙ ДЕМЬЯНКОВ. Русское слово воображение по внутренней форме – антоним слова изображение. Поскольку наше общение на этом круглом столе идет по-русски, уместно будет опереться на эту данность. Вбрасывание в свою ментальность (т.е. «воображение») противоположно по направленности информационному выбросу (т.е. «изображению», подаче вовне). Мышление же связано и с вбрасыванием, и с выбросами наружу того, что облекается в языковые формы. Особенно драматично выглядит эта ситуация, когда кто-либо пытается убедить других в адекватности своего видения мира. Поэтому-то мышление и предстает как «единство и борьба противоположностей», разнонаправленных векторов.
НИКОЛАЙ РОЗОВ. Воображение, наверное, может мешать исследованию, но только если оно особо бурное и неконтролируемое. Тогда оно попросту не дает сосредоточиться на главной проблеме и последовательных шагах по ее решению. Оно может включаться на самых разных этапах исследования. Пожалуй, наиболее ценный вклад воображения в процессах интуитивного поиска внутренней сущности и причин обнаруженных пат-тернов, закономерностей. Воображение как бы поставляет образы и метафоры для смутных и аморфных интуиций. Когда последние уже закреплены в образах и образных формулировках, тогда уже включается «технологическая» сторона мышления, идут процессы экспликации (уточнения смыслов) и формализации (уточнения знаковых форм).
МИХАИЛ ИЛЬИН. Воображение совсем не мешает. Мышление – это и есть воображение. Помехи возникают при соприкосновении с тем, что не воображается вовсе, что вторгается в воображение извне, деформирует наш мир. Это часто именуют объективной реальностью. Отчасти это, действительно, реальность – мир вещей вне нас. Отчасти она объективна, т.е. не замутнена устремлениями никаких субъектов. Но это не главное. По большей части то, что вторгается в наше мышление и воображение, является субъективной действительностью – воздействием на нас внешних, чужих, порой чуждых воль и устремлений.
СЕРГЕЙ ПАТРУШЕВ. Вообще говоря, концепт воображения – довольно тщательно разработанная психологическая категория, которая после книги Чарльза Р. Миллза «Социологическое воображение» получила права гражданства в других гуманитарных и социальных науках. Воображение позволяет исследователю выйти за пределы реального мира во времени и пространстве, дает возможность еще до начала работы представить себе готовый результат труда. Почти вся человеческая материальная и духовная культура является продуктом воображения и творчества людей. Но я бы не стал смешивать воображение и проектное мышление.
АЛЕКСЕЙ ИВАНОВ. Ответ, кажется, лежит на поверхности, причем на той, которая создана еще Кантом в его первом издании «Критики чистого разума», ведь так или иначе в форме притяжения или отталкивания осмысление воображения как бы предобусловлено кантовской постановкой проблемы. Воображение как синтетическая способность лежит в основании как синтеза чувственности, так и в основании рассудка. Вообразить значит вместить многое в одно, в образ, естественно, не только зримый, и даже в последнюю очередь только зримый, но и в «умный», в понятие, в концепт. Воображение – способность всемогущая и коренная, но слепая и нерассудочная, хотя и выступающая источником рассудка. Но в реальном научном исследовании мы опираемся на уже готовые формы (которые тоже так-то суть образы или концепты, однако если это продумать, то нужно признать, что весь видимый и конструируемый мир есть воображаемая конструкция, а этот вывод не дает ничего ни для науки, ни для здравого смысла), которые своей фактичностью и проистекающей из их фактичности необходимостью направляют способность воображения в русло строительства «стройного здания науки». Тем самым у нас появляется понимание воображения как бурного потока, а форм познания как перегораживающих этот поток конструкций, направляющих их в нужное русло. Чем «буйнее» воображение, тем строже правила. Но если нет потока, не нужны и перегородки. Собственно говоря, воображение мешает исследователю так же, как строителям плотины на реке мешает река.
Есть, однако, еще один момент. Практически в любом акте мышления мы находим действие воображения. Наш вопрос от этого превращается в тавтологию. В чем мышление помогает мышлению исследователя? Да ни в чем, собственно, ни мешает, ни помогает. Мы, однако, когда говорим о воображении, всегда говорим о чем-то другом, о том, что интересует нас на самом деле. В действительности нас интересует определение границ личного произвола в интерпретации или, наоборот, осознание границ детерминированности «своего» воображения факторами, лежащими вне моей субъективности.
ЮЛИЯ ЛУКАШИНА. Воображение необходимо исследователю на любом этапе его работы. Только это должно быть «научное» воображение в том смысле, что нужно уметь представить то, чего еще нет, – результаты исследования – чтобы понимать, чего исследователь сам хочет от своего исследования, какой целью задается, найдя интересную эмпирическую или теоретическую проблему, загадку. Воображение в науке, в политическом анализе, например, – это способность к прогнозированию. Воображение ученого должно быть не фантазией, а способом имеющиеся факты выстроить неким образом.
ЛЕОНИД СМОРГУНОВ. Воображение относится к мыслительным способностям человека. Поэтому противопоставлять мышление и воображение не следует. Понятийное мышление связано с разграничением, дроблением, определением, логикой. Имагинативное мышление связано с объединением, целостностью, осмыслением, интуицией. Для меня имагинативное мышление связано не с образом (видеть), а с идеей (понимать), т.е. со способностью разума производить суждения, которые схватывали бы сразу суть того, о чем говорится. Хотя образ и идея соотносимы, но образ есть внешняя целостность, а идея – внутренняя. Если познание идет в верном направлении, то от образа мы должны переходить к идее. За деревьями не видеть леса, или за лесом не видеть отдельных деревьев? Это ложное противопоставление с точки зрения познания. И то, и другое. Но лес не есть множество деревьев. В этом отношении «видеть» лес означает говорить о том месте, где «леший бродит», например. «Леший» есть идея леса.
ИВАН ФОМИН. Мышление исследователя, как и вообще человеческое мышление, было бы невозможно без способности к воображению. Деятельность исследователя – это всегда работа с воображаемыми объектами: их создание, изменение и изучение. Без воображения невозможным бы оказалось, скажем, оперирование понятиями, как и вообще использование знаков, поскольку для использования оных необходимо вообразить связь между означающим и означаемым. Не было бы возможно и создание ряда других исследовательских инструментов: моделей, идеальных типов, таксономий и даже, например, чисел – ведь все это суть продукты воображения.
Никаких помех мышлению исследователя воображение создавать не может. Ведь мышление само по себе есть не что иное, как «прирученное» воображение, ограниченное внешними субъектными и объективными воздействиями (или, если угодно, лакановским Символическим и Реальным). В связи с этим следует говорить не о помехах, но об издержках, связанных с использованием воображения, т.е. о напряжении, возникающем при соприкосновении воображения с действующими на него внешними ограничителями.
CУРЕН ЗОЛЯН. Воображение – способность представить некоторый объект как он дан и каким он мог или должен быть. Но вопрос, а что такое объект как он дан? Это опять-таки наше воображение или наше воображаемое, но без какого-либо усилия нашей мысли – то, что приходит на ум. Тем самым то, что дано, есть результат сна, бездействия, импотенции или бойкота разума (вспомним: «Сон разума рождает чудовищ»). Для меня – когда я выступаю как исследователь – воображение должно опираться на метод, поскольку иначе я не в состоянии исчислить возможности.
Какие условия жизни и мышления ограничивают работу исследователя? Что помогает воображению, а что мешает?
ЛЕОНИД СМОРГУНОВ. В науке есть устойчивая метафора различать «лисов» и «ежей». «Лисы» – исследователи, знающие понемногу о многом, «ежи» – знающие почти все о немногом. Первые имеют преимущество перед вторыми в отношении воображения, синтеза и творчества. Специализация губит воображение. Как только мир стал специализированным, там сразу же обнаружилось отсутствие смыслов. «Ежи» нужны для прагматики и технологии, но не для политики.
ДМИТРИЙ ЗАМЯТИН. Исследователя часто ограничивают внешние обстоятельства: недостаток времени, финансовых и организационных ресурсов, необходимость налаживать инфраструктуру исследования, отвлечение сил на руководство научным / образовательным коллективом или, наоборот, чрезмерная зависимость от своего научного руководителя. Однако важнее внутренние ограничения, которые часто играют отрицательную роль: личные научные предубеждения, неспособность выйти за рамки научной догмы, излишнее влияние научной школы, в которой сложился исследователь; наконец, нежелание выглянуть «за забор» своей собственной научной дисциплины. Научному воображению очень помогает художественный взгляд на мир; искусство и литература – те источники, которыми питается научное воображение. Мешают же воображению «приземленные» формулировки научной проблематики, излишняя стандартизация методологических и теоретических подходов, в рамках которых часто пытаются воспринимать научное творчество.
СЕРГЕЙ ПАТРУШЕВ. Ограничивающие условия жизни очевидны: что бы мы по этому поводу ни воображали, но забота о средствах пропитания, включая, между прочим, интеллектуальные ресурсы, те же книги, не всегда способствует творческой работе. Отмечу также роль невидимого колледжа, изрядно пострадавшего в последние годы. А мышление или свободно, или его нет. И тогда даже воображение бессильно.
ЮЛИЯ ЛУКАШИНА. Что касается условий жизни, каждый человек в быту видит разные проблемы, по-разному их решает. Тут общий вывод сделать сложно. Мышление ограничивает только страх нового. Соответственно, желание найти это новое, неоткрытое, мышлению, напротив, помогает.
МИХАИЛ ИЛЬИН. Редко когда моему мышлению будет мешать зной или мороз. А вот указания, наставления, вопросы и особо требования – сплошь да рядом.
НИКОЛАЙ РОЗОВ. Постоянное сидение за монитором и фиксация на одной узкой проблеме хоть и позволяют концентрироваться, но сужают арсенал внутренних познавательных средств. Конечно же, общение с коллегами, хорошими специалистами даже в далеких областях, разнообразное интеллектуальное чтение резко расширяют этот арсенал.
ВАЛЕРИЙ ДЕМЬЯНКОВ. Среди многих обстоятельств полет воображения притормаживается и необходимостью изобразить свой ход мысли. Об удачности или неудачах такого изображения человеку говорит реакция – действительная или мнимая – его собеседников. Но эти же реакции стимулируют и мышление человека, управляя его воображением.
СУРЕН ЗОЛЯН. Воображаемое всегда отталкивается от того, в чем ощущается недостаток. Так, в фольклоре практически всех народов раем было то место, где не было недостатка в еде. В советские времена казалось, что отсутствие цензуры и свободные выборы – решение всех проблем. Тем самым быт мешает воображению в том смысле, что резко ограничивает спектр возможностей. Мышление оказывается заложником неосуществленных потребностей. Уход от быта – это язык, будь то естественный язык, математика или какая-либо другая знаковая система. Поскольку семантика языка – это не отражение, а сотворение действительности.
АЛЕКСЕЙ ИВАНОВ. Воображение находится в прямой связи с двумя различными влечениями: жаждой нового синтеза и жаждой освобождения от уже осуществленных синтезов. Существенно противоречивое и антиномичное единство. Осуществляя новый синтез воображение разрушает фактически данные связи многообразного, но неизбежно устанавливает новые в форме редукции многообразия к образу, концепту, понятию. В науке обе интенции воображения хотя и сглажены, но присутствуют, конечно. Помочь так понятому воображению может только расширение опыта, интеллектуального, эстетического, даже просто обыденного.
Является ли воображение попыткой вырваться за ограничения времени и места? Или, напротив, его можно рассматривать как способ по своей воле и замыслу связать разные времена и контексты?
МИХАИЛ ИЛЬИН. Да, наверное, попыткой вырваться за эти ограничения, если времена и места не интересны, если человек может вообразить хотя бы себя вне времени и места. Мне это трудно и неинтересно. Пожалуй, сильно напрягшись, мне и удастся вообразить вслед за Аристотелем идею лошадности вне времени и пространства. Но по своей воле мне хочется найти для всего, что воображаю, какой-то способ существования. Я придумал, например, теократию-хризалиду не как мысленную и неподвижную картинку в эфире, а как видение некого распавшегося в себе царства – в образе муравейника, а лучше термитника, который сохранил при этом и оболочку, и «матку». Она, правда, уже не рождает муравьев или термитиков, а только наставляет, одушевляет, «окармливает» их. А муравьи, если вглядеться, это люди, которые находят свое местоположение и имя – local habitation and a name.
СУРЕН ЗОЛЯН. Невозможно вырваться за пределы места и времени – можно изменить набор пространственно-временных координат. В любом месте и в любой момент мы все равно будем «здесь и сейчас». Другое дело, что это могут быть не физические, а «воображаемые» – «я мыслю, и существует то, что я мыслю».
ЛЕОНИД СМОРГУНОВ. Воображение никогда не действует «по своей воле». Хотя это – свободное мышление, но в данном случае можно сказать вслед за классиками: «Свобода – познанная необходимость». Воображение может связывать разные времена и контексты, если они действительно связаны, но аналитическое мышление этой связи не отмечает. К сожалению, современный мир – мир «фантазмов», а не воображения. Для воображения необходима высокая культура мышления, которая, к сожалению, не достигается дифференциацией наук, а тем более противопоставлением по критерию «научности». Вообще, не мешало бы вновь осмыслить платоновскую идею о единстве законов космоса, души и устройства государства. Это не относится к «фантазмам» и «симулякрам».
НИКОЛАЙ РОЗОВ. Есть «время разбрасывать камни и время собирать камни» (Экклезиаст, 3, 3, 5). Очень часто полезно расширить взгляд, в социальных и исторических науках для этого есть хорошо разработанные методы сравнительных исследований. Иногда бывает нужно увязать разные и далекие друг от друга явления в одно целое. Для выявления инвариантов и вариаций в сравнениях, для создания целостного образа нужны многие интеллектуальные способности и средства, в том числе и воображение.
СЕРГЕЙ ПАТРУШЕВ. Скорее воображение – это попытка представить себе такие ограничения, а потом понять их причины и следствия, включая необходимость и возможность их преодоления.
ДМИТРИЙ ЗАМЯТИН. Воображение – это свобода времени и места. Но время и место – не ограничения воображения, а его условия, подчас важные и необходимые.
АЛЕКСЕЙ ИВАНОВ. Да и то, и другое; и ни то, ни другое. Вопрос поставлен так, как будто ограничения времени и места существуют реально. Но в сущности время и место «вообще» суть просто совпадения времени и места многих, в том числе и меня. Любое погружение «в свое дело» как-то вырывает нас из так называемых ограничений времени и места, в которых мы находимся как физические или социальные единицы; но, вырывая, создает и иную связь пространственно-временных величин. Например, увлеченный своей работой сантехник явно имеет иной хронотоп своего самонахождения, чем находящийся в той же комнате, но изнывающий от скуки профессор философии. Пространство первого ограничено трубой и раковиной, а время определено текущей работой; для второго же пространство и время явно определены присутствием сантехника, относительно которого крайне желательно, наоборот, его отсутствие. Чей хронотоп является более реальным? Ничей, собственно. А чей более подлинным? Думается, сантехника, так как ограничения времени и места для него не актуальны. И он не ограничен хронотопом профессора. Когда время и пространство являются «моими», они не накладывают на меня ограничений. Воображение как синтез есть и синтез времени и пространства, в котором моменты прошлого, настоящего и будущего, а также близкого и далекого складываются в некий порядок, однако можем ли мы сознательно организовывать время, складывая свой хронотоп так, как нам бы этого хотелось? Может ли синтез времени стать сознательным и воображение стать моим воображением? Может, однако это происходит именно тогда, когда воображение менее всего представляется мне моим, как это ни странно.
ЮЛИЯ ЛУКАШИНА. Это две стороны одного процесса. Мы объединяем разные времена и пространства, когда ищем, например, исторические закономерности, и одновременно с этим отрываемся от своего пространственно-временного континуума. Время и место никого не ограничивают, если воображение не боится их преодолеть.
ВАЛЕРИЙ ДЕМЬЯНКОВ. Воображение, среди прочего, включает в себя и размышления о том, какими могут быть ответы на те или иные возможные пути выражения, высказывания своей мысли. В этом отношении воображение зависит от внешних факторов. В остальных же отношениях, действительно, воображение – или идеализированное воображение – ограничено только объемами мысленного пространства ментальности конкретного человека, его «ментального желудка», в который вбрасываются те или иные образы.
Является ли воображение эквивалентом свободы мышления? Можно ли говорить об общей природе свободы и воображения?
ДМИТРИЙ ЗАМЯТИН. Воображение обеспечивает свободу мышления, но оно шире ее. Свобода мышления осуществляется феноменологически, тогда как воображение – ее онтологическое условие.
ВАЛЕРИЙ ДЕМЬЯНКОВ. Воображение есть свобода в гегелевском смысле: «осознанная необходимость», со всеми вытекающими отсюда выводами. В частности, мы способны вообразить или помыслить (в рамках того «модуля» мышления, который мы и называем воображением) нечто в наиболее эффективной степени, когда отдаем себе отчет в размерах собственного «внутреннего ментального пространства». Именно такой мысленный эксперимент и произвел в свое время великий Кант.
СЕРГЕЙ ПАТРУШЕВ. Воображение является эквивалентом воображения. Что касается общей природы, то свобода бывает и воображаемой.
ЮЛИЯ ЛУКАШИНА. Воображение может иметь целью поиск научной истины, тогда оно есть свобода в смысле свободы поиска. Но воображение может быть и еще более свободным: художественным, лирическим, мечтательным. Воображение есть как бы предпосылка свободы: когда вы не можете даже представить существование альтернативы своего образа жизни, вы вряд ли свободны.
АЛЕКСЕЙ ИВАНОВ. В этом вопросе как раз явственно заявляет себя та особенность дискурса о воображении, о которой я упоминал уже, – когда мы ставим вопрос о воображении, мы хотим, на самом деле, говорить о чем то другом. В данном случае о свободе. Воображение во многом спонтанно. Оно организует поток впечатлений, переживаний, накладывая на многообразие «внутренней жизни» какие-то формы, гештальты, причем это происходит вне зависимости от моего желания и моего выбора. Но если нет моего желания и моего выбора, то при чем тут свобода? Например, при случае встречи с опасностью мое воображение может мне нарисовать как душераздирающую картину моих мучений от поражения, заставляющую меня бежать прочь, так и волнующую сцену борьбы и победы, побуждающую к принятию вызова. А может рисовать две эти сцены одновременно. Но трусом, героем или нерешительным болваном я становлюсь, когда осуществляю выбор, а говорить о свободе вне идеи «свободы выбора» довольно бессмысленно. Таким образом, по отношению к свободе выбора воображение есть просто внешнее условие ее осуществления. Говорить о единстве свободы и воображения можно только тогда, когда воображение я делаю своим воображением, когда спонтанность внутренних синтезов идет параллельно осознанной ясности самоопределения. Но если это состояние достигнуто, свободы выбора более нет, так как выбирать незачем. Это и есть «осознанная необходимость», только не в вульгарной трактовке. Это и есть, возможно, «воля» – осознанная спонтанность. На том стою, и не могу иначе. Тот, кто способен так сказать, уже не свободен, но в некоем высшем смысле «волен».
ЛЕОНИД СМОРГУНОВ. Частично ответ на этот вопрос содержится в предыдущем сюжете. Можно добавить следующее. Свободу мышления часто соотносят с его рациональностью (пусть даже коммуникативной). Здесь есть элемент правды, так как зная законы, мышление действует более свободно. Но здесь мы должны иметь в виду, что мышление таким образом освобождается от чувственности и обыденного разума (переходя к всеобщности). Но полной свободы такое мышление не дает. Свободу мышлению дает воображение, так как оно связано не только с рассудком, но и с душой. Свобода мышления связана со страстью (не чувственностью) души. Не случайно философия как любовь к мудрости связана со страстью к истине. Современный мир боится этой страсти, потому он не свободен.
НИКОЛАЙ РОЗОВ. Воображение – одна из функций сознания, которая используется в том числе и в мышлении. Свобода мышления – это некий параметр, поэтому она всегда имеет ту или иную степень, что означает широту как внешних ограничений (что смею, а что не смею помыслить), так и внутренних ограничений, связанных наличным арсеналом средств мышления. Связь здесь, конечно, есть, поскольку этот арсенал средств может обогащаться оригинальным (не заимствованным) образом именно за счет включения воображения самого исследователя. Иными словами, сильное, продуктивное воображение способствует расширению внутренней свободы мышления. Однако отождествлять воображение и свободу неправомерно.
МИХАИЛ ИЛЬИН. Конечно. Воображение и есть свобода. У них общая природа. Она и заключается в преодолении внешних помех – будь они объективной реальностью или субъективной действительностью или чем-то еще. Глубинная реконструкция зафиксированных в языке древнейших жизненных установок показывает, что человек, точнее люди («растущие вместе»), могут стать людьми, найти самих себя как раз в преодолении мешающих им, разрушительных начал нужды и вражды. Свобода – это быть самим собой и со своими. Свобода – это способность быть людьми, человечность. Самое близкое приближение к этому в воображении, когда нет давления нужды и вражды. А их давление разрушает и воображение, и свободу. Воображение, возможно, самая человечная из наших способностей. Человек – это «существо эксцентрическое», т.е. способное «выходить из себя» с помощью воображения, чего не могут животные.
СУРЕН ЗОЛЯН. Есть разница между свободой плебея – вчерашнего раба, и свободой Сенеки – патриция и философа. Точно так же воображение может рабски повторять формы не-свободы. Вместе с тем непонятно, чем может быть не ограниченное чем-либо воображение – даже чтобы бредить, необходим некоторый метод или алгоритм. Любое воображение не может не быть ограничено средствами выражения (некоторой знаковой системой).
Что можно помыслить, а чего нельзя? Можно ли вообразить что-то вне нашего мира и нашего опыта?
НИКОЛАЙ РОЗОВ. Помыслить в качестве предмета можно что угодно, лишь бы оно было хоть как-то представлено в опыте. Об остальном «следует молчать» (Витгенштейн), по крайней мере в сфере науки и рациональной философии. Если придерживаться принципа «бритвы Оккама» и отсечь мистику, касающуюся идей, поступающих из Откровения, из Космоса и проч., то сама мысль об этом предмете не может появиться ниоткуда, кроме как из сочетания прошлых мыслей и образов, зачастую чужих, проходящих сквозь интеллектуальные сети (Коллинз Р. «Социология философий: Глобальная теория интеллектуального изменения»).
ДМИТРИЙ ЗАМЯТИН. Мы можем вообразить только наш / мой мир (миры).
СЕРГЕЙ ПАТРУШЕВ. Помыслить невообразимое и вообразить немыслимое, видимо, возможно. Иногда это называется духовностью. Мне интереснее представить – вообразить – другие способы мышления, подобные слепому зрению, blindsight, и те миры, которые в этом случае могут возникнуть.
ЮЛИЯ ЛУКАШИНА. Нельзя зрительно представить семимерное пространство. Но можно помыслить, что оно есть, описать его математическим языком. Но вы сможете это сделать, только если вы математик. То есть у каждого свой критерий – и предел – того, что он может помыслить ввиду своего жизненного опыта и интересов.
АЛЕКСЕЙ ИВАНОВ. Можно помыслить бесконечность, но нельзя представить. Мыслимо то, что в той или иной системе высказываний выполняет какую-то роль. Идея о том, что элементарная частица есть одновременно и частица и волна, порой напоминает идею о том, что некая фигура есть одновременно и круг, и квадрат. Однако без дуализма в этом вопросе пока не обойтись, значит, мыслимо то, что функционально. Идея существования немыслимого сама по себе очень функциональна, немыслимое играет роль тайны, вокруг которой мысль может крутиться с невероятной скоростью. Возьмите дырку, окружите ее сталью, и вы получите пушку. Возьмите тайну, окружите ее мыслью, и вы получите проблемное мышление, т.е. философию, или науку. Значит, немыслимое как-то мыслимо.
ЛЕОНИД СМОРГУНОВ. Это может быть вопрос о свободе и смирении. Можно ли выйти (в вопросе: помыслить и вообразить) за пределы нашего мира и нашего опыта? Положительно отвечает религиозное сознание, т.е. вера (здесь важно: спор о пределах познания Бога). С рациональной позиции – нельзя, только расширяя наш опыт и наш мир (ноосферное мышление). В фантазии мы, скорее, метафорически остаемся в границах проблем современного мира. Здесь может содержаться два вопроса: 1) существует ли другой мир, чем наш; 2) соотношение воображения и «нашего мира», «опыта». Первый вопрос не такой спекулятивный, как кажется. Радикальный ответ на этот вопрос: другого мира нет. Но здесь опять проблема «опыта». Опытное знание нам этого дать не может. Следовательно, надо осмыслить «наш мир» вне опытного (чувственного) знания. Второй вопрос об опыте и воображении частично связан с первым. Воображение, конечно, связано с нашим миром, но идет дальше опыта.
СУРЕН ЗОЛЯН. К сказанному выше добавлю метафору, при помощи которой Карл Поппер интерпретировал теорию лингвистической относительности Сэпира–Уорфа. Наше понимание и восприятие мира, а стало быть, и воображение, ограничено пределами языка. Тем самым мы заключены в языке как в тюрьме. Но это – весьма своеобразная тюрьма. Человек, сидящий в камере такой тюрьмы, не знает, что он сидит в камере. Такое представление он может получить только через другой язык, который также имеет свои ограничения. Тем самым человек принципиально ограничен рамками или границами языковых средств. То есть не в состоянии выбраться из тюрьмы, но тем не менее он в состоянии безгранично увеличивать размеры своей камеры – расширять границы мира.
МИХАИЛ ИЛЬИН. Даже если и попробовать мыслить немыслимое, а такие попытки как будто бы некоторыми фантастами предпринимались, абсолютно чуждый мир все равно представляется через образы, которые так или иначе наши, а значит, извлеченные из нашей памяти, опыта. В то же время мы ведь постоянно пытаемся преодолеть границы привычного, легко вообразимого, а в пределе мыслимого вообще. Можно сказать, что в этом призвание и профессия (Beruf) ученого. Мы можем вслед за Декартом попробовать вообразить пространство как таковое. Пустое пространство мыслимо так же, как тело, лишенное массы, или поле – энергии. Как они мыслимы? С огромным трудом, с неимоверным усилием, с насилием над очевидностью. Над очевидностью для себя. Над собственными привычками и пристрастиями. Я предлагаю, например, своим студентам вообразить гражданское общество без гражданской самоорганизации, а только с атомизированными индивидами и общими для них стандартами права и прав человека. А потом вообразить нечто противоположное: общество только гражданской самоорганизации, но без каких бы то ни было общих стандартов права и прав человека. И сталкиваюсь с протестом – это невозможно. Да и сам я сначала придумал это упражнение, но далеко не сразу с ним справился. Ведь приходится воображать и мыслить трудновообразимое и трудномыслимое – совершенно немыслимое, говорят некоторые студенты. Но это упражнение, вот в чем фокус, позволяет разглядеть и понять феномен гражданского общества гораздо отчетливее и яснее. Между двумя трудновообразимыми «трансцендентными» схемами структура и субстанция гражданского общества начинает высвечиваться вдоль логических «силовых линий».
ВАЛЕРИЙ ДЕМЬЯНКОВ. Как только нам удается помыслить немыслимое, вообразить невообразимое – оно становится мыслимым и вообразимым. Этот наш мысленный эксперимент компрометирует гипотезу о немыслимости. Само высказывание «существуют немыслимые вещи» парадоксально: если мы это нечто помыслили (а здесь глагол существования фигурирует именно в качестве предиката!) – значит, оно мыслимо. И наоборот, в высказывании «Не существует немыслимых вещей» идея о существовании немыслимого презумптивна, является «пресуппозицией». Другое дело – вообразимое вне нашего опыта. В момент такого акта воображения «невообразимое» представляет собой некоторую «черную дыру» в нашем внутреннем мыслительном пространстве. И именно как такая дыра оно существует. Однако особенность этой дыры заключается в том, что мы не можем ни доказать, ни опровергнуть сходство или различие ее с чем-либо за пределами этого мыслительного пространства: у нас нет для этого (на конкретный момент) инструментов. Как только появляется метод установления сходств и/или различий этого «черного» объекта с чем-либо иным, это невообразимое становится вообразимым.
Созданы концепции социальной воображаемости (К. Касториадис, Ч. Тейлор, Й. Арнасон), предполагающие, что действительность до известной степени, даже критически важной степени, сформирована воображением. В какой мере с ними можно согласиться?
ЛЕОНИД СМОРГУНОВ. В отношении истории как таковой они, на мой взгляд, правы. Наше познание нашего мира в целом определяется воображением как более сложной и высокой познавательной способностью человеческой души, которая деятельна, а не созерцательна. А кто еще создал пирамиды, Римскую империю, развалил Советский Союз или фальсифицировал выборы 2011 г. (в последнем случае не только представители избиркомов, но и «хомячки-сетевики»)?
НИКОЛАЙ РОЗОВ. Не следует преувеличивать роль воображения. Разумеется, как в техническом изобретательстве, так и в социальных, культурных новациях всегда творческое воображение как-то задействовано, хотя бы для переноса образцов из одной области на другую. Однако гораздо большее значение имеют апробация, демонстрация продуктивности новшеств, их привлекательность для подражания, распространения, дальнейшего производства, потребления и проч. Подробнее см. в моей статье (настоящий сборник).
МИХАИЛ ИЛЬИН. Без воображения наш мир погиб бы, распался. Оно скрепляет разрозненные моменты нашего опыта, насыщает их смыслом и свободой, а значит, и человечностью. Однако воображение и воображаемость не только важные добавки к бесспорному и рациональному, как считал Касториадис, например. Как раз бесспорное, рациональное и объективное – это и есть продукт воображения. Он создается, когда воображение обретает интерсубъективность, становится общим для людей. Ограничивают же наше воображение, а значит, и творимый нами мир лишь конечность наших сил, лишь формы пространства и времени, в которых только и возможно наше существование.
СЕРГЕЙ ПАТРУШЕВ. Мне, пожалуй, неловко рассуждать о мере согласия с Чарльзом Тейлором, коль скоро текущий проект, которым я с коллегами занят, отталкивается от концепции «социального воображаемого», под которым канадский философ понимает те способы, благодаря которым люди представляют собственное существование в социуме, свои взаимоотношения с другими людьми, ожидания, с которыми к таким контактам обычно подходят, и глубинные нормативные идеи и образы, скрывающиеся за этими ожиданиями. В противовес теоретическим конструкциям, о которых 99% людей не имеют ни малейшего представления, но которые почему-то интересны оставшемуся 1%, включая участников этого обсуждения.
ДМИТРИЙ ЗАМЯТИН. С этим можно и нужно согласиться. Нехватка образов делает действительность убогой.
ЮЛИЯ ЛУКАШИНА. Операционные системы Windows, Mac, Linux явно не созданы силами природы. Они, как и многие другие технологии, появились благодаря человеческому «научному» воображению – умению найти способ достижения своих целей за пределами естественных, предоставленных природой возможностей.
ОЛЬГА МАЛИНОВА. Видимо, когда речь идет о том, что социальная действительность создана воображением, имеется в виду не воображение отдельного индивида, а коллективное воображаемое, т.е. представления, которые кажутся нам «естественными» и «само собой разумеющимися» именно потому, что их разделяют окружающие. Эти представления в значительной части задают рамки того, как мы мыслим и действуем. Понимание того, как складывались эти представления, выявление встроенных в них смысловых связок или смысловых конфликтов, разоблачение неочевидности «очевидного» отчасти помогает обрести дополнительную степень свободы, которая позволяет пересматривать спектр возможного и менять какие-то утвердившиеся нормы и практики, т.е. изменять привычные способы коллективного воображения (в качестве примера можно сослаться на современные успехи феминизма в некоторых странах, благодаря которым многие вещи, еще недавно казавшиеся «естественными», больше не считаются справедливыми). Вместе с тем очевидно, что у «социальной инженерии» такого рода есть пределы; коллективно разделяемые способы воображения мира – весьма консервативные конструкции. Поэтому понимание того, как они устроены, само по себе – не всегда достаточное условие для их трансформации.
АЛЕКСЕЙ ИВАНОВ. Можно согласиться полностью, однако, во-первых, действительность формируется воображением скорее репродуктивным, ориентированным в большей степени на сохранение устоявшихся форм коллективного опыта, чем на создание новых, во-вторых, воображением не личным и собственным, а скорее результирующим воображения многих. Но мне кажется сомнительным существование коллективного воображения, так же как и коллективного сознания.
ВАЛЕРИЙ ДЕМЬЯНКОВ. Действительность бывает не только воображаемой, но и изображаемой (вспомним противопоставление «воображение – изображение»). Воображаемая действительность создается воображением в рамках мысленного пространства каждого отдельного человека. Однако изображаемая действительность интерсубъективна. Интерсубъективное воображение – это путь к «изображению». Мы ищем «внешнюю», или интерсубъективную, действительность и постоянно в существовании ее убеждаемся, когда нам дороги – по той или иной причине – и адресаты изображения, и вообще все, что лежит за пределами нашего ментального пространства. Иначе мы даже не говорили бы об объективно существующих критериях истины, добра, справедливости, даже свободы и разумности.
Существует жанр мысленного эксперимента. В какой мере при таком эксперименте допустим авторский произвол? В какой мере он может оказаться ограничен? Что его может ограничить?
ДМИТРИЙ ЗАМЯТИН. Авторский произвол может ограничить только его собственное воображение.
ЮЛИЯ ЛУКАШИНА. В науке вообще произвол ограничен методом и исследовательским дизайном. В мысленном эксперименте воображение не должно ничем ограничиваться в процессе самого эксперимента, в то время как его результаты должны строго и аккуратно интерпретироваться и отбираться для дальнейшего обнародования.
АЛЕКСЕЙ ИВАНОВ. Мысленный эксперимент ограничен только своей целесообразностью для конкретного научного исследования, а его целесообразность определена предметом исследования, целями и задачами.
НИКОЛАЙ РОЗОВ. Мысленный эксперимент может быть сколь угодно смелым, но его качество, убедительность, продуктивность для дальнейших рассуждений прямо зависят от соответствия принятым в данном интеллектуальном сообществе правилам умозаключений, логического вывода.
МИХАИЛ ИЛЬИН. Мысленный эксперимент – одна из высочайших вершин научного воображения и творчества. Наши возможности, а с ними и наш произвол ограничиваются конечностью наших сил. Тут может возникнуть и возникает обычно зазор между нашими амбициями и способностями. Все зависит от нашей способности «увидеть» воображаемость. Это зависит от того, заняли ли мы «естественно предпочтительную точку» (un point naturellement avantageux), как писал Тейяр де Шарден во введении к «Феномену человека». Это то место, откуда открываются разные виды, где сходятся долины или пути. Но этого мало. Мы ничего не увидим и из этого предпочтительного места, если у нас худо со зрением. Нам следует либо развить это зрение, либо обзавестись соответствующей оптикой. Это два условия успеха – предпочтительное место и острое зрение.
Что касается произвола, то проблема не в нем. Наша попытка воображения становится произволом, когда воля неадекватна возможностям. Мятеж не может кончиться удачей – удачный именуется иначе. Так и удачный научный или мыслительный произвол именуется гениальным прозрением, неудачный – произволом. Хуже, когда кто-то не в предпочтительном месте, а в канаве, да еще извиваясь слепым червем, вещает, будто видит пути к торжеству коммунизма или всеобщее торжество рынка только потому, что такие заявления окажутся приятны начальству, толпе или собственному ущемленному «эго».
СУРЕН ЗОЛЯН. Есть науки, описывающие свой объект, и науки, создающие его. Как правило, гуманитарные науки, претендуя на описание объекта, создают новые. Мысленный эксперимент – неизбежность. Иного в гуманитарных науках и быть не может. Другое дело, что вследствие имплицитности метода часто имеют место симуляция и имитация мыслительной и экспериментальной деятельности.
Никакое мышление без воображения и фантазии невозможно. В чем различие между научным воображением и безответственным фантазированием? Что лежит между ними? Какие градации возникают в серой зоне между ними?
НИКОЛАЙ РОЗОВ. Научное воображение используется на определенных этапах исследования, соответственно, при наличии контекста эмпирических данных, имеющихся понятий, моделей, концепций, теорий, а также общей решаемой проблемы и частных более или менее четко поставленных задач. В ситуации безответственного фантазирования из всего этого контекста могут остаться только крайне общая аморфная проблема и, возможно, обрывочные сведения о каких-то частных случаях. Тогда и фантазируют много такого, что научного значения, как правило, вовсе не имеет.
К серой зоне относятся, увы, подавляющее число диссертаций и книг моих коллег-философов (эмпирические данные в философских исследованиях не являются обязательными, но почти повальной безответственности нынешних отечественных философов это никак не извиняет).
Немногим лучше обстоит дело и в гуманитарных, социальных науках, особенно в культурологии и политологии. Не случайно любые попытки как-то урезонить это безответственное фонтанирование «дискурса» встречает жесткий отпор – обвинения в «рецидивах плоского полицейского сциентизма». Так и живем.
СЕРГЕЙ ПАТРУШЕВ. В отличие от коллеги Розова мне не так часто удается сталкиваться со случаями «фонтанирования», под которым я по старой – так сказать, до-дискурсивной – привычке понимаю поток необычных и плодотворных мыслей. Благо я, каюсь, неплохо знаю старую и новую фантастику в версии science fiction, лучшие образцы которой отличаются свежими идеями и основательностью – вплоть до ссылок на десятки научных работ, чтобы провести различие между творческим вымыслом и невежественным трепом. Последнего действительно многовато. Но воображение и фантазия здесь ни при чем.
СУРЕН ЗОЛЯН. Существуют принятые критерии научности. Безусловно, степень того, что считать научным, может варьироваться (ср. филологию и астрономию). Научное воображение – это мастерство использовать аппарат данной специальности так, чтобы не следовать ему, а отклоняться от него. Подобно тому, что знание языка – это не следование правилам языка (это характеризует знание иностранного языка), а оправданное отклонение от этих правил. Кстати, и Касториадис трактует воображаемость в сходном духе.
ЛЕОНИД СМОРГУНОВ. «Научное воображение» следует прояснить. Что это такое? Уже прилагательное «безответственное», приложенное к фантазированию, наводит на мысль, что «научное воображение» является ответственным фантазированием. Что такое «ответственность» применительно к познанию, кроме истинности (весьма много споров о ней, но в данном случае – истина как идея)? «Серая зона» – это современный сциентизм. В фантазии есть хотя бы душа, пусть и недостаточно развитая.
МИХАИЛ ИЛЬИН. Воображение и фантазия – это разные названия и оценки одного и того же. Между ними все то, что нам не удается ясно оценить. Ответственное воображение и безответственная фантазия – это два полярных восприятия того, что мы делаем в интеллектуальной сфере. Вопрос в том, кто и на каких основаниях может давать оценки. Уверен, что в науке это только одна инстанция. Это научное сообщество. Но и оно не безгрешно, не безошибочно. Мы знаем, что порой все шагают в ногу, а один кто-то не в ногу. И очень часто именно этот шагающий не в ногу коллега может ясно видеть из занятого им предпочтительного места то, что недоступно взорам марширующих колонн. В этом риск одиночки. В этом трагедия марширующих колонн. Ну а серая зона – это пространство, где беглецы из привычных колонн устремляются к ступающему не в такт одиночке. Если можно говорить о долге и чести в науке, то они заключаются, пожалуй, в том, чтобы вовремя покинуть слепнущую колонну, заметить и поддержать одиночку, который смог увидеть, вообразить нечто необычное, важное и ценное.
Методологические альтернативы
Логика предпочтений и решение конфликтов (На примере Карабахского конфликта) 1
Золян C.Т.
Настоящее исследование представляет собой попытку применить аппарат логико-семантического анализа к конфликту – т.е. тому, что никоим образом не является языком или неким иным символическим образованием. Вместе с тем очевидно, что сам по себе конфликт, при всей его физически ощутимой брутальности, есть порождение некоторых концептуальных и ментальных схем, его зарождение следует искать в сфере социального воображаемого, и, стало быть, решение конфликта также возможно именно как символическая перформативная операция (в том числе и в буквальном смысле слова – как текст мирного договора и процедура его подписания и ратификации). Как мы пытались показать ранее [Золян, 1994; 1996, Zolian, 1995], в основе протекающего в настоящем конфликта лежит противоречие между различными, причем несовместимыми представлениями о будущем. Поскольку наше исследование выполнено в духе модальной семантики (семантики возможных миров), которая, при схожести проблематики, предполагает в достаточной мере иную стилистику, нежели определяющие для других статей сборника идеи Касториадиса и Тейлора, то считаем нужным вынести за скобки соотнесенность некоторых основополагающих положений, что в дальнейшем может стать темой отдельного исследования. Здесь же отметим лишь основные линии соотнесения между теорией социального воображаемого Касториадиса и современной семантикой.
Схемы модальной логики и семантики могут быть рассмотрены как формализации тех или иных институтов воображаемого. В частности, это относится к использованным нами таким разновидностям модальной логики, как временная логика Прайора и логика предпочтений фон Вригта. Логические схемы воображаемого – это и есть модальная семантика, позволяющая транспонировать модели прошлого в будущее, будущее – в прошлое, представлять будущее (или прошлое) как настоящее, а настоящее – так как оно (должно стать) в будущем. Можно, вслед за Касториадисом, определить «основную функцию языка – открывать обществу его собственное прошлое» [Касториадис, 2003, с. 120], но тогда требуется добавить: «И наоборот, вполне очевидно, что существенным свойством языка, как и истории, может быть названа способность порождать в качестве модификации своего “состояния” то, что всегда может быть интегрировано в определенное “состояние”, способность самоизменяться, продолжая эффективно функционировать, постоянно трансформировать непривычное в привычное, оригинальное в усвоенное, способность не прекращать процесс усвоения и устранения элементов, все время оставаясь самим собой» [Касториадис, 2003, с. 120]. Поэтому модальное описание синхронного состояния конфликта позволяет выявить не только диахронию, но и спектр возможных будущих состояний.
Само понимание и описание воображаемого есть отношение семантическое – между означаемым и означающим. Но как понимать это отношение? Отношение языка (символа) и мира – проблема фундаментальная для лингвистики и всех гуманитарных наук. И в лингвистике, и в гуманитарных науках в конце ХХ в. уже становится общепринятым понимание того, что язык и языковая деятельность – это не отражение (зеркало) действительности, а механизм сотворения новых миров. Или, как сказал Осип Мандельштам, хотя он ограничивал сказанное поэзией: «В таком понимании поэзия не является частью природы – хотя бы самой лучшей отборной – и еще меньше является ее отображением, что привело бы к издевательству над законом тождества, но с потрясающей независимостью водворяется на новом, внепространственном поле действия, не столько рассказывая, сколько разыгрывая природу при помощи орудийных средств, в просторечье именуемых образами» [Мандельштам, 1994, c. 216]. То, как понимал Мандельштам природу поэтического, для Касториадиса есть суть «воображаемого»: совпадают и те метафоры, которые оба отвергают, и те, которые оба принимают: «Воображаемое не может исходить из образа в зеркале или взгляда Другого. Скорее, само зеркало, возможность его существования и Другой как зеркало суть творения воображаемого как творчества ex nihilo. Все, кто, говоря о “воображаемом”, подразумевает под ним нечто “зеркальное”, отражение или “фикцию”, лишь повторяют, чаще всего неосознанно, утверждения, навсегда приковавшие их к пресловутой платоновской пещере: этот мир неизбежно является образом чего-то иного. Воображаемое, о котором говорю я, не есть образ чего-то. Оно представляет собой непрерывное, по сути своей необусловленное творчество (как общественно-историческое, так и психическое) символов / форм / образов, которые только и могут дать основание для выражения “образ чего-то”. То, что мы называем “реальностью” и “рациональностью”, суть результаты этого творчества» [Касториадис, 2003, с. 207–208].
Продолжая сопоставление, нетрудно убедиться в том, что не только означающее, но и означаемое оказываются «результатом» языковой деятельности. Согласно Касториадису, «главное состоит в том, что в сфере воображаемого означаемое, к которому отсылает означающее, почти неуловимо и его “способ бытия” по определению есть способ его “небытия”. В регистре ощущаемого (реального), “внутреннего” или “внешнего”, физически различаемое бытие означающего и означаемого дано непосредственно: никто не спутает слово “дерево” с реальным деревом, слова “гнев” и “грусть” с соответствующими аффектами. В регистре рационального различие не менее очевидно: мы знаем, что слово (“термин”), обозначающее понятие, – это одно, а само понятие – нечто совсем иное. Но в сфере воображаемого дело обстоит не так просто. Конечно, на первом уровне мы здесь также можем понять разницу между словом и тем, что оно обозначает, между означающим и означаемым: “кентавр” – слово, отсылающее нас к воображаемому, отличающемуся от этого слова существу, которое мы можем “определить” с помощью слов (в чем оно подобно псевдопонятию) и представить себе с помощью образов (в чем оно подобно псевдоощущению). Но даже в этом простом случае (воображаемый кентавр – не что иное, как соединение различных частей тела, взятых у реальных существ) проблема не исчерпывается данными соображениями, так как для культуры, переживавшей мифологическую реальность кентавров, они были чем-то большим, представление о чем нам не может дать ни словесное описание, ни скульптурное изображение. Но как мы можем постичь эту последнюю а-реальность? Мы можем судить о ней как о “вещах в себе” лишь на основании связанных с ней результатов, последствий и производных. Каким образом мы можем постичь Бога как воображаемое значение? Лишь на основании теней (Abschattungen), отброшенных им на социальные движения народов, – но в тоже время нельзя не видеть, что Бог является условием возникновения бесконечного ряда таких теней, хотя, в отличие от данных в ощущении явлений, он не может предстать перед нами “лично”. Рассмотрим субъекта, переживающего в воображении определенные события, отдающегося грезам или воспроизводящего в воображении то, что было пережито в реальной жизни. Воображаемые сцены состоят из образов в самом широком смысле слова. Эти образы созданы из того же материала, из которого мы можем формировать символы, но являются ли они символами? Для ясного сознания субъекта – нет. Они существуют не для передачи чего-то иного, чем они сами, но “переживаются” сами для себя» [Касториадис, 2003, с. 69].
Столь длинная цитата поможет избежать пересказа, что позволит нам сосредоточиться на комментарии лишь к первому и последнему из выдвинутых положений. Как часто бывает с критиками лингвистического метода (начиная с Бахтина – Волошинова), Касториадис полемизирует с той «ограниченностью» (мета)лингвистических средств, которую сам же приписывает современной ему лингвистике. За прошедшие годы (напомним, что оригинальное издание цитируемой книги вышло в свет в 1975 г.) лингвистическая семантика успела занять куда более радикальные позиции, чем та, которую предлагал Касториадис. Во-первых, относительно степени «реальности-воображаемости» различных по типу означаемых. Так ли отлично означаемое слова дерево2 от означаемого слова кентавр (не будем всуе поминать Божье имя)? Ведь и дерево это может быть не только существующее дерево, но и воображаемое – которое я срубил в прошлом году, которое я задумал посадить через десять лет, которое я увидел во сне, которое я описал в своих стихах – все эти нематериальные деревья или, точнее, референты слова дерево – так же принадлежат миру социального воображаемого. Смысл имени описывается в модальной семантике как функция, соотносящая означающее с теми значениями (референтами), которые данное имя принимает на заданном множестве возможных миров – миров нашей памяти, нашего творчества, наших планов или же нашего «здесь и сейчас». Думается, аналогия с теорией «социального воображаемого» более чем очевидна. Если же говорить о доминирующей в настоящее время когнитивной лингвистике, то здесь по сути снято то различие между денотациями таких имен как дерево и кентавр, которое в определенной мере сохраняется в модальной семантике: семантика имени есть концепт, соединяющий лингвистическое, понятийное, коннотативные и интертекстуальные значения (точнее, различие между этими типами значения оказывается нерелевантным и тут весьма подходящим оказывается используемое Касториадисом сравнение значения слова с магмой3).
Концепты, соответствующие словам дерево и кентавр, по своему типу не отличаются друг от друга. Сегодня лингвисты, говоря об означаемых, в первую очередь ставят вопрос: а как описать эти означаемые? – ведь они потеряли возможность опираться на «реальность» – актуальный мир, поскольку семантика языка сконструирована не как описание некоторого мира, принимаемого нами за актуальный, а как возможность меж-мировых путешествий. Потому и означаемое есть концепт, требующий для своего выражения некоторую отличную знаковую систему. Как нигде кстати оказывается идея о воображаемом как организующем принципе, который поддерживает единство означаемого и означающего.
И второе – относительно заключительного положения из вышеприведенной цитаты: могут ли быть не-символами «образы воображаемых сцен»? (если отвлечься от «ясного сознания субъекта» – чтобы понять, что это такое, мое сознание оказалось недостаточно ясным). В другом месте Касториадис говорит определеннее: «Что есть значение? Мы можем его описать только как безграничную сеть бесконечных отсылок к некоему другому, чем то, что казалось непосредственно сказанным. Это иное всегда может оказаться значением, как и не-значением – тем, с чем значения соотносятся и к чему они отсылают» [Касториадис, 2003, с. 133]. Здесь опять-таки нам видится некоторая непоследовательность. «Безграничную сеть бесконечных отсылок» – пожалуй, прекрасная метафора для описания межмировой и интертекстуальной семантики языкового знака. Вопрос лишь в том, что такое «не-значение» – ведь для того чтобы описать (осмыслить, проинтерпретировать) эти не-значения, нам понадобится рассмотреть их в качестве знака (означающего), отсылающего к некоторому новому смыслу / значению, которое может быть выражено, возможно, в том же по форме знаке, но уже принадлежащем к иной метаязыковой или коннотативной системе (ср. с семиотической теорией Л. Ельмслева – Р. Барта). То есть речь будет идти о том, что всякий «выход» за пределы значений к «не-значению» породит новую символическую систему, приведет если и не к созданию нового языка, то к его расширению. Такое уточнение, как нам кажется, в духе характерного для Касториадиса понимания «языка как языка», как одновременно и кода и коммуникации, что возвращает нас к фундаментальной гумбольдтовской дихотомии языка как эргона и энергии: воображаемое не только творится языком, оно и «закрепляется», фиксируется уже как язык-код, который становится основой для сотворения новых символов и смыслов. И тут уместно вновь обратиться к Мандельтштаму, который, на наш взгляд, куда последовательнее выразил мысль, определяющую для теории воображаемого: «Развитие образа только условно может быть названо развитием. И в самом деле, представьте себе самолет, – отвлекаясь от технической невозможности, – который на полном ходу конструирует и спускает другую машину. Эта летательная машина так же точно, будучи поглощена собственным ходом, все же успевает собрать и выпустить еще третью. Для точности моего наводящего и вспомогательного сравнения я прибавлю, что сборка и спуск этих выбрасываемых во время полета технически немыслимых новых машин является не добавочной и посторонней функцией летящего аэроплана, но составляет необходимейшую принадлежность и часть самого полета и обусловливает его возможность и безопасность в неменьшей степени, чем исправность руля или бесперебойность мотора. Разумеется, только с большой натяжкой можно назвать развитием эту серию снарядов, конструирующихся на ходу и выпархивающих один из другого во имя сохранения цельности самого движения» [Мандельштам, 1994, c. 233].
Знаковая (символическая) основа социального воображаемого очевидна. Какие бы причудливые формы ни принимали бы институты и инструменты социального воображаемого, в их основе будет лежать фундаментальное отношение между означаемым и означающим. На этом пути, используя выработанный в лингвистике и поэтике аппарат, можно пройти на шаг дальше, договорить то, что не договорено у Касториадиса. Воображаемое, основанное на символическом отношении между означающим и означаемым, позволяет достичь той степени свободы, которая не ограничена ни прошлым, ни настоящим (как в случае икона и индекса). Обоснованию этому посвятил свою ставшую классикой статью Роман Якобсон, но основной вывод он предпочел выразить словами Чарлза Пирса (сам Пирс считал этот вывод своим главным достижением): «Каждое слово есть символ. Каждое предложение есть символ. Каждая книга есть символ… Ценность символа в том, что он служит для придания рациональности мысли и поведению, и позволяет нам предсказывать будущее» [Якоб-сон, 1983, c. 116]. Не претендуя на предсказание будущего, мы предлагаем сосредоточиться на наших представлениях о будущем.
* * *
Как уже было сказано, мы исходим из того, что в основе протекающего в настоящем конфликта лежит противоречие между различными, причем несовместимыми представлениями о будущем. Как правило, эти представления о будущем оформляются как реставрация прошлого в настоящем – восстановление того «правильного» положения дел, которое было почему-либо нарушено в прошлом. Именно это и служит объяснением конфликта, являясь его семантикой. Очевидно, что возможное, т.е. некоторые, но не все альтернативы, существующие в настоящем именно как возможное будущее, через определенное время тем не менее должны реализоваться в истории. Несовместимые образы будущего могут иметь онтологический статус возможных миров. Они существуют именно как набор (множество) миров, один из которых реализуется в будущем. После того, как один из возможных миров оказывается реализован в истории, статус этих миров изменяется – все остальные миры остаются возможными, но нереализованными и уже никогда не реализуемыми в истории. Уместно сослаться на расхожую истину: история не знает сослагательного наклонения. Но вместе с тем то, что можно назвать «упущенными» возможностями, тем не менее остается как возможность, которая может реализоваться в некоторый иной момент истории, в некотором «другом» будущем. Тем самым конфликт, протекающий в настоящем, – это борьба за собственный проект, собственный вариант будущего, и течение событий, приводящее в конечном итоге к реализации только одного из вариантов, неизбежно приводит к победе одной стороны и поражению другой. Естественно предположить, что через некоторое время конфликт возобновится – новое «настоящее» предполагает уже новый набор возможных вариантов будущего, и проигравшая сторона попытается, основываясь на «правильной» предыстории, достичь иного состояния дел в уже новом будущем. Cхемы временной логики применительно к конфликту приводят к логически бесконечным циклам – т.е. к перманентно возобновляемым конфликтам.
Если подобный вывод представляется нам неудовлетворительным, то необходимо изменить наш подход, который и приводит к подобным пессимистическим выводам. Поэтому от логико-семантического дескриптивного моделирования логически противоречивых образов действительности следует перейти к конструированию такого непротиворечивого образа, который затем можно спроектировать на саму действительность. И тут необходимо ответить на фундаментальный вопрос – возможен ли вообще логико-семантический образ (проект) будущего, совместимого с позициями различных сторон конфликта, т.е. такого логически непротиворечивого будущего, которое может наступить (наступит ли оно в самом деле – в данном случае вопрос производный). При таком подходе задача может быть переформулирована (переписана) таким образом: какие из пропозиций (состояния дел) будут реализованы в будущем, т.е. требуется составить такой текст, предложения (пропозиции) которого могут быть одновременно истинными в будущем времени. От возможной истинности взятых по отдельности пропозиций (истинности в одном из возможных миров-альтернатив настоящего) или же истинности в актуальном прошлом необходимо перейти к их совместимой истинности в будущем. В таком случае мы должны опираться на обращенную форму фундаментальной аксиомы модальной логики: от формулы Р => ◇ Р, – из того, что наличествует некоторое состояние дел (пропозиция) Р следует, что оно возможно – перейти к формуле: ◇ Р => (Р \/ ~Р): если некоторое состояние дел возможно, то оно либо имеет место, либо нет (с возможными классическими и неклассическими вариациями, касающимися закона исключенного третьего, т.е. действует или нет принцип «tertium non datur», «третьего не дано»).
Используемые ранее интерпретационные модели временной логики, обладая достаточной объяснительной и предсказуемостной силой, тем не менее приводили к замкнутому кругу: проигравшая (победившая) в прошлом сторона побеждает (проигрывает) в будущем и, соответственно, проигрывает (побеждает), когда это будущее становится прошлым [Золян, 1994; 1999]4. Поэтому представляется целесообразным дополнить их содержательными принципами другой, а именно таким ответвлением модальной логики, как логика предпочтений, которая была разработана одним из ведущих философов-логиков Г.Х. фон Вригтом. Она позволяет не только элиминировать противоречащие друг другу состояния дел, но и логически моделировать выбор из различных, в том числе и взаимоисключающих друг друга, альтернатив, наиболее и наименее предпочтительных. Точнее, логика Вригта предусматривает понятие «нулевого мира» – он необходим для того, чтобы «использовать этот ”мир” как точку, отделяющую хорошие миры от плохих» [Вригт, 1984, с. 442–443]. Некоторый мир Х считается «хорошим», если он предпочитается нулевому миру, и «плохим», если ему предпочитается нулевой мир. Миры, не являющиеся ни хорошими, ни плохими, равноценны нулевому миру [там же]. При этом сам нулевой мир «представляет логически невозможный мир – мир, в котором ничто не истинно и ничто не ложно» [Вригт, 1986, с. 442]. Примечательно, что фон Вригт, объясняя содержательные принципы этой логики, начинает описание с логико-семантического статуса двух проблем, которые непосредственно соотносятся с нашей темой: «Когда мы говорим, что предпочитаем мир войне, мы, по-видимому, намереваемся сказать, что предпочитаем определенное состояние дел другому состоянию дел. Состояния дел могут быть названы сущностями типа пропозиции. Последнее означает, что можно рассматривать их как отрицания, формировать из них молекулярные соединения, которые подчинялись бы законам пропозициональной логики. Кроме того, когда мы говорим, что предпочитаем факт независимости страны ее существованию при правлении другой страной, в терминах отношений предпочтений, по-видимому, будет два состояния дел» [Вригт, 1986, 414–415]. Согласно этой логике, модальным оператором оказывается отношение предпочтения (обозначим его знаком >), связывающее полные состояния дел (миры):
Х > У
означает, что «возможный мир Х (полное состояние мира) предпочитается (нравится более, считается лучше, классифицируется выше) возможного мира У» [Вригт, 1986, с. 425].
Не вдаваясь в формальные и технические аспекты логики предпочтений, рассмотрим как описания мира следующие пропозиции:
1) (Карабах принадлежит Армении);
2) (Карабах принадлежит Азербайджану);
3) (Армения и Азербайджан находятся в состоянии войны: состояние войны);
4) (Армения и Азербайджан находятся в состоянии мира: состояние мира)
(для удобства обозначим каждое из этих пропозиций соответствующим порядковым номером – 1, 2, 3, 4)5.
Таким образом, описание универсума будет состоять из двух возможных состояний:
(1 \/ 2) & (3 \/ 4),
– Карабах принадлежит либо Армении, либо Азербайджану, и они находятся либо в состоянии мира, либо в состоянии войны.
Таким образом, возможны альтернативы (четыре возможных мира), в которых имеет место6:
(1 & 3);
(1 & 4);
(2 & 3);
(2 & 4)
Чтобы не связывать себя утверждениями о настоящем, которые, вероятно, будут расценены как политически ангажированные, отнесем все эти миры-альтернативы к будущему – независимо от того, какое состояние дел мы принимаем за настоящее, в будущем может быть актуализована любая из четырех альтернатив (точнее, все они могут быть реализованы, но в различные моменты времени, а это вновь возвращает нас к постоянно воспроизводимому циклу непрекращающегося конфликта – о чем было сказано выше). Поэтому здесь мы сузим задачу в духе логики предпочтений Вригта – рассмотрим, какое из возможных состояний может быть предпочтительнее.
Разумеется, у различных задействованных в конфликте сторон могут быть различные предпочтения. Участников можно сгруппировать в зависимости от их установок – какое состояние из четырех они считают предпочтительным. Можно условиться, что для любого участника при прочих равных условиях мир предпочтительнее войны (4 > 3), остальными отношениями предпочтения являются7:
1) 1 > 2, 1 > 4;
2) 2 > 1, 2 > 4;
3) 4 > (1 \/ 2)
Первые две позиции можно условно идентифицировать с позициями сторон конфликта: мир предпочтительнее войны, однако Карабах ценнее, чем мир. Третью позицию условно можно назвать нейтральной (или «позицией международного сообщества») – неважно, кому принадлежит Карабах, важно, чтобы был мир. Для полноты описания следует предположить и четвертую возможную позицию, внешнего деструктора: неважно, кому будет принадлежать Карабах, важен конфликт, т.е. постоянная нестабильность в регионе8:
4) 3 > (1 \/ 2)
Если эти возможные состояния дел ранжировать по их предпочтительности для участников, то возникает следующий спектр возможных в будущем состояний, которые есть не что иное, как установки сегодняшних действующих лиц:
а) позицию Армении можно представить как в дизъюнктивной форме:
((1 & 3) \/ (1 & 4)) > ((2 & 3) \/ (2 & 4)),
так и в конъюнктивной форме:
((1) & (3 \/ 4)) > ((2) & (3 \/ 4))
Тем самым желательными мирами (образами) будущего будут
(1 & 3) \/ (1 & 4),
которые предпочтительнее, чем нежелательные ((2 & 3) или (2 & 4)).
То есть безотносительно к тому, имеет ли место мир или война, предпочтительнее те миры, в которых Карабах принадлежит Армении. Даже если сама по себе ситуация мира предпочтительнее ситуации войны, все те миры, в которых Карабах принадлежит Армении, при любых иных условиях предпочтительнее миров, в которых Карабах принадлежит Азербайджану;
в) позиция Азербайджана зеркально повторяет позицию Армении. Ее также можно представить как в дизъюнктивной форме:
((2 & 3) \/ (2 & 4)) > ((1 & 3) \/ (1 & 4)),
так и в конъюнктивной: ((2) & (3 \/ 4)) > ((1) & (3 \/ 4)).
Желательными мирами будущего для Азербайджана окажутся
(2 & 3) \/ (2 & 4),
которые предпочтительнее, чем нежелательные ((1 & 3) или (1 & 4)). То есть все те миры, в которых Карабах принадлежит Азербайджану, при любых иных условиях предпочтительнее миров, в которых Карабах принадлежит Армении.
Позиции иных участников даже если и отличаются по типу предпочтений, ситуация мира предпочитается всем остальным: (4 > (1 \/ 2)), тем не менее относительно возможных в будущем состояний дел не могут отличаться от приведенных, почему и вынужденно повторяют позицию одного из участников9:
(1 & 4) \/ (2 & 4)
Таким образом, возможны два будущих, различающихся тем, кому будет принадлежать Карабах, и два будущих, различающихся тем, прекращен ли конфликт и наступил мир, или же он продолжается в той или иной форме военного противостояния. Нетрудно видеть, что при подобном подходе для Армении наихудшими явятся все те миры, в которых имеет место (2), и равноценными оказываются (3) или (4) – во всех тех мирах, в которых имеет место (2), различие между (3) и (4) оказывается нерелевантным (в терминах фон Вригта – «строго безразличным»10
