Читать онлайн Гарем. Реальная жизнь Хюррем бесплатно
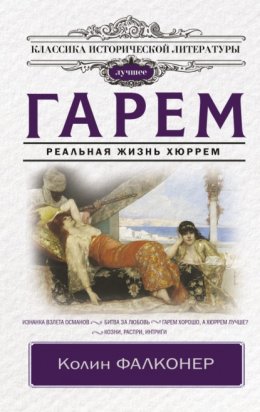
© Colin Falconer, 1993
© Г.И. Агафонов, перевод, 2022
© ООО «Издательство АСТ», 2023
Часть 1
Паутина
«Вход в цесарский дворец опутан паутиной»
из Саади
Глава 1
Стамбул, 1522 г.
Когда в гареме Старого дворца появлялась новая юная рабыня, ее незамедлительно начинали обучать азам османского языка, принятого при дворе, и основам учения Корана. А также препоручали одной из распорядительниц гарема для подготовки к исполнению конкретных обязанностей.
Хюррем в наставницы досталась кяхья, хозяйка Шелковой комнаты, желчная черкешенка с лицом цвета дубленой кожи. Старуха все цеплялась за воспоминание о своей единственной бесплодной ночи с султаном Баязидом, дедом нынешнего султана Сулеймана. С тех пор она коротала свои дни в гареме в роли главной портнихи, затерявшись среди гор парчи, дамаска и атласа, – но, по кротости нрава, не роптала.
Пальцы у Хюррем были ловкие, глаз – меткий, и носовые платки с ее вышивками снискали дошедшие и до нее похвалы самой валиде-султан, то есть матери султана. Работала она, тихо напевая, над вышивкой золотой и серебряной нитью по отрезу зеленого атласа из Дибы затейливого орнамента из листьев и цветов. Напев же этот девушка в детстве переняла у отца; это была татарская песня о степных просторах и северном ветре.
Вот и не услышала она, как сзади подкралась тихо вошедшая в комнату кяхья, а очнулась сразу от жгучей и звонкой оплеухи. В шоке отпрянув и выронив иголку, Хюррем замахнулась, чтобы дать сдачи…
Глаза кяхьи недобро блеснули:
– Ну давай, бей меня! Капы-ага тебе живо устроит бастинандо!
Хюррем опустила руку.
– И не петь мне тут, сколько раз тебе говорила! Это же гарем, и здесь всегда стоит полная тишина.
– Мне нравится петь…
– Тут имеет значение только то, что нравится повелителю нашему.
– Но его же здесь и близко нет сейчас. Можно хоть из пушки во дворе палить, и он об этом даже не прознает.
– Дерзкая проказница! – с этими словами кяхья влепила подопечной еще одну пощечину, но на этот раз Хюррем была к ней внутренне готова. Правда, удар оставил пунцовый след на ее щеке.
Затем старуха подобрала платок и принялась высматривать изъяны в вышивке. Не обнаружив ни единого, она брезгливо бросила его обратно на лавку и приказала:
– Возвращайся к работе.
Светелку для вышивания Хюррем делила на двоих с вороно́й масти еврейской девушкой. Куплена она была на невольничьем рынке в Александрии, и кяхья по этому случаю к ней иначе нежели по кличке «базарное мясо» не обращалась. На самом деле звали ее Мейлисса, и теперь Хюррем внимательно, хотя и краем глаза, наблюдала за тем, как та склонилась над собственной вышивкой, тщетно пытаясь затаиться и прикинуться невидимой за сорочками и чадрами, сложенными на столе перед нею. Но слишком уж заманчивую цель она собою являла для кяхьи в ее нынешнем настроении.
– Дай-ка посмотрю, – сказала кяхья и выхватила работу из рук Мелиссы. – Гляди сюда: лучшая парча из Бурсы, а ты ее испортила! – Размашистая оплеуха. – Ты чем думала-то?!
Мейлисса молчала, понурив голову. Старуха швырнула ее отрез материи на пол и приказала:
– Спарывай все до последнего стежка и начинай заново.
– Жирное смрадное дыхание из зада верблюдицы, – прошипела Хюррем вдогонку кяхье и вернулась к вышивке, напевая громче прежнего.
Услышав позади придушенные всхлипывания, обернулась. Мейлисса плакала, уронив голову на руки.
– Нечего из-за нее так расстраиваться.
Мейлисса покачала головой и разрыдалась пуще прежнего.
– Мейлисса? – Хюррем встала и обняла ее за плечи.
– Это не из-за нее…
– Из-за чего же тогда?
И тут же прочла очевидный ответ прямо в глазах девушки. Ужас голый и дикий. Внушенный невесть чем или кем, но никак не кяхьей.
Мейлисса вглядывалась ей в лицо в поисках поддержки.
– Нужно же мне хоть кому-то сказать, – жалобно произнесла она.
– Уж мне-то ты можешь довериться, – сказала Хюррем. – Что бы то ни было, я никому не проболтаюсь.
– Они меня убьют, – прошептала Мейлисса, комкая подол кафтана.
– Скажи на милость, за что, иначе как я тебе помогу?
– Я беременна.
Хюррем подумала было, что ослышалась.
– Быть того не может, полная чушь, – проговорила она.
– Правда. Срок давно прошел, а крови все нет.
Хюррем рассмеялась. Забеременеть? В этой тюрьме?
– Мейлисса, все в порядке, всякое случается. Бывают задержки, бывает, месячные и вовсе не приходят. Это же не значит, что ты беременна.
Мейлисса покачала головой.
– Нужен же мужчина, чтобы забеременеть.
Мейлисса бросила взгляд за плечо Хюррем: не подслушивает ли кто? До этого мгновения Хюррем считала себя более опытной в мирских делах, но тут, когда всякая защита была отброшена, она вдруг усмотрела в Мейлиссе знание и хитрость, которых ранее за ней не замечала.
– Капы-ага, – шепнула Мейлисса.
Капы-ага! Капитан стражи и главный белый евнух. У Хюррем даже рот открылся от изумления. Хотя капы-ага и возглавлял стражу гарема, наедине с любой из поднадзорных дев ему оставаться было строго воспрещено, поскольку полным скопцом он не был – в отличие от евнухов-негров. Она слышала, что большинство белых евнухов кастрировали не полностью, а просто перевязывали или придавливали им яички, как ягнятам.
Она была ошеломлена. Покуда она сражалась с пониманием нового языка, считая себя всяко выше этой селянки, та изыскала себе путь на ложе.
– Говорят, мужчины бывают способны вроде как восстановить их, – сказала Мейлисса. – Даже черные. Потому их раз в год и проверяют, чтобы убедиться, что они у них заново не отросли.
– Чушь! Ведь когда жеребца оскопят, он так и остается мерином!
– Так белые-то евнухи – они же и не скопцы вовсе; им же их штуки не отбривают напрочь в отличие от нубийцев.
– Ну и где у тебя с ним это вышло?
– Да есть тут один дворик в северном крыле дворца – в окружении высоких стен под сенью платанов. Дверь в стене туда всегда заперта, но никогда не охраняется.
– И чем ты там занималась?
– Изучала Коран, как нам велено. Он меня, должно быть, заприметил с северной башни. Я вдруг услышала ключ в замке́. Хотела убежать, но тут…
Хюррем склонила голову в ожидании продолжения «но тут…», но Мейлисса лишь пожала плечами:
– Он сказал, что я самая красивая женщина в гареме. И что он поможет мне сделать так, чтобы султан положил на меня глаз.
– Сколько раз это происходило?
– Всего единожды. Может, дважды. – Глубокий вздох. – Шесть раз.
– Шесть раз! Да ты хоть понимаешь, что бы они с тобою сделали, если бы ты попалась?
– Так я ведь и так им попалась. Разве нет?
Тут Хюррем чуть задумалась о том, как бы она сама себя повела, если бы сидела в тенистом дворике над Кораном, «но тут…». Даже смертельная опасность может показаться прельстительнее удушающей скуки дворца.
– Они меня собираются прикончить, – прошептала Мейлисса. – Завяжут в мешок и кинут в Босфор.
– Я тебе помогу, – сказала Хюррем. – Поверь мне.
Глава 2
Спальня была все той же, какой он ее помнил. Только через три дня после триумфального вступления в Стамбул Сулейман вновь почувствовал себя снова дома. Откинувшись на диван, снял и отложил в сторону шелковый тюрбан, нащупал и расстегнул защелку султанской короны.
Вот уже три года тому назад он унаследовал отцовский трон, но не переставал ощущать себя актером театра теней. И если поначалу думал, что это чувство пройдет, как только он привыкнет к новой роли, то сейчас понимал, что с течением времени оно лишь усиливалось. Даже в собственных дневниках он теперь величал себя в третьем лице.
Почему-то «носителем бремени» принято было называть его великого визиря. Но ведь великий визирь – не более чем ловкий жонглер в поисках баланса между лестью, расчетом и двуличием. А в действительности именно он, султан, несет на своих плечах воистину тяжкий груз ожиданий не только шести миллионов турок-подданных, но и всего исламского мира.
Лишь в тиши гарема находил он себе отдохновение. Сандаловое дерево горело в медных очагах, наполняя воздух умиротворяющим ароматом, отблески пламени расходились рябью по кафельным стенам. Ни тебе визирей, ни генералов, ни обязанностей.
Зато здесь есть Гюльбахар.
Тут он как раз и услышал шелест ткани, а в дальнем конце комнаты из-за камчатного занавеса появилась она – в прозрачной сорочке с двумя алмазными пуговицами, танцующими поверх ее плоти. Жилет из парчи; белый шелковый водопад шаровар; волосы, заплетенные в одну длинную косу, которая струится по спине.
Она подобна солнечным бликам на воде, подумалось ему. Гюльбахар – «Весенняя роза». Идеальное же имя тебе дали.
Она упала на колени и коснулась лбом ковра.
– Салам, Властелин моей жизни, султан султанов, повелитель мира, царь царей.
Султан нетерпеливо отмахнулся. Сколько раз можно повторять, что нет в этом нужды? Он – муж, вернувшийся домой, и никем иным тут быть не хочет этой ночью. Но она всякий раз приветствовала его все той же издревле устоявшейся фразой.
– Иди сюда, – позвал он.
Пробежав оставшиеся несколько шагов, она прильнула лицом к его шее. У себя под щекой Сулейман почувствовал влагу ее слез и вдохнул аромат сухого жасмина, исходивший от волос.
– Когда снега на минаретах не осталось, а ты не вернулся, я подумала, что уже никогда не вернешься, – проговорила Гюльбахар. – Мне без тебя было так страшно. Много ведь чего шепчут. – Она отстранилась от него и пристально взглянула ему в глаза. – Тебя ведь не ранили?
– Ни единого шрама не останется. Как Мустафа?
– Скучал по тебе. Он часто о тебе говорит.
– Дай с ним повидаться.
Гюльбахар взяла султана за руку и проводила через покои в спальню сына. На одном углу кроватки в золотом подсвечнике горела свеча, за нею присматривал паж в тюрбане. Другой паж стоял в полутьме напротив него в ожидании. Всякий раз, когда мальчик во сне переворачивался с боку на бок, свечу на той стороне, куда он оказывался лицом, тушили, а свечу за спиной у него зажигали.
Мужчина склонился над постелью. Светлыми волосами и умиротворенными чертами лица Мустафа пошел в мать. Этот высокий для своих девяти лет мальчик был преуспевающим учеником, одинаково искусным и в метании копья, и в усвоении Корана, и в математике.
«Следующий османский султан», – подумал Сулейман. Радуйся детству, пока можешь. И славно, что плечи у тебя растут широкие.
Какая же все-таки ирония в том, что сын его внешне так мало похож на него, а еще меньше – на турка, представителя народа, которым ему со временем предстоит править! Но в жены себе султаны брали девушек исключительно из неверных, поскольку Коран запрещал продавать в рабство мусульманок. Так что каждый султан был сыном рабыни, но тем не менее избранным свыше хранителем великой веры. Воистину велика была раскинутая Аллахом сеть.
– Он здоров? – спросил Сулейман.
– Крепок и силен. И больше всего желает походить на своего отца.
Он нежно погладил локон волос на лбу сына.
– Благословляю тебя, Мустафа, – сказал он. Затем обернулся к Гюльбахар. Ее силуэт был будто подчеркнуто обрисован пламенем свечи. Прилив желания был подобен физическому удару. Ему захотелось овладеть ею немедленно. Но так не пойдет.
– Нам надо подкрепиться, – сказал он вместо этого.
Гюльбахар сама подала ужин – нарезанную кубиками тушеную баранину со специями, кусочки курицы, запеченные на медленном огне, и фаршированные рисом баклажаны. Затем был инжир в сметанном соусе. Пажи молча пополняли их чашки и миски.
– Что говорят в гареме? – спросил ее Сулейман. Сплетни его всегда развлекали.
– Говорят, ты герой, – ответила Гюльбахар. – Когда пришла весть о том, что ты взял Родос, все стали говорить, что ты войдешь в историю как великий завоеватель, подобно твоему прадеду. А некоторые говорят, что тебе судьбой уготовано и вовсе стать величайшим из всех султанов.
– Слава эта обошлась дороговато. Слишком уж много людей мы потеряли.
– Не нужно тебе об этом думать, – сказала Гюльбахар. – Наша армия скоро снова станет сильной.
Замечание это вызвало у него раздражение. Что она вообще знает об армиях? Он омыл пальцы в серебряной чаше с розовой водой. Паж тут же подоспел с полотенцем.
– При свете дня об этом легко забывается. Но в ночной тиши куда труднее не слышать их криков.
«Как мне это до нее донести? – думал он. – То, что я не такой, как мой отец или дед. Они же жили лишь войной и ради войны, а я – нет. И мне это бремя теперь придется нести в одиночку».
Глава 3
У ее собственного народа купание было не в чести, его чуть ли не страшились. Все знали, что оно чревато простудой, болезнью и смертью.
Но тут девушек заставляли купаться дважды в день и сбривать с тела все волосы до единого. Хюррем все это ненавидела от и до. Ей казалось, что турки будто специально нагромождают одно унижение на другое.
В банях было три помещения: раздевалка, зал для разогрева и большая парная в самом центре. Она разделась, одна из гедычлы, рабынь-негритянок, подала ей надушенное полотенце, Хюррем надела сандалии из розового дерева и отправилась в теплый зал. Посреди него высился массивный мраморный фонтан, из которого била горячая вода, подаваемая из котельной снизу. Вокруг бассейна сидели и стояли девушки, черпали из фонтана воду медными чашами и лили ее себе на головы. Хюррем присоединилась.
В степи все женщины внешне похожи до неразличимости. До попадания в гарем Хюррем и не догадывалась, насколько обширен мир и как он богат на самые разнообразные человеческие типажи. Вот и теперь, оглядываясь вокруг, она видела и будто выточенную из черного дерева гедычлы, и кареглазых гречанок с вьющимися тысячами колечек волосами, и златокудрых черкешенок с голубыми глазами и ярко-розовыми соска́ми, и персиянок с волосами цвета ночи и глазами глубокими и темными, как колодцы.
Оглядев себя, по-мальчишески тонкую и маленькую, она еще раз удивилась, как и почему выбрали сюда и ее.
Пар обжигал легкие и лип к коже шпарящей вуалью. Пот тут же проступил тысячами капель из всех пор. Гибкими ивами проступали из влажной горячей мглы и растворялись в ней девичьи фигуры. Тишину изредка нарушали лишь клацанье медных чаш да всплески воды из купелей.
Свет из высоко расположенных под купольным сводом окон рассеивался так, что пар и серый мрамор стен перетекали друг в друга до полной неразличимости границ, так что казалось даже, будто и нет тут вовсе никаких стен.
Хюррем погрузилась в купель потеплее и сомкнула веки, чтобы полнее испытать ощущение от воды, смыкающей объятия на ее плечах. Откинув голову на мраморную губу, она зачерпнула ладонью воду, омыла лицо и откинула мокрые волосы с глаз.
Тут вода вокруг нее всколыхнулась. По соседству на бортике купели нарисовалась высокая фигура светловолосой женщины, а при ней пара рабынь, черпающих воду, омывающих тело и массирующих плечи. Сама же она сидела, откинувшись назад и уставившись в потолок, почти касаясь концами своих дивных волос мрамора позади нее. Гюльбахар.
Хюррем накрыла волна зависти. Ну почему, подумала она, имея всех этих женщин в своем распоряжении, султан выбрал именно ее? Она ли такая соблазнительная или это он настолько падок именно на ее чары?
Мраморные колонны с арками вели от парной к примыкающим покоям, где гедычлы всячески обхаживали и прихорашивали девушек – делали им массаж, досконально осматривали уши и носы, ноги и руки, лобки и промежности, дабы убедиться, что ни следа волосяного покрова на их теле не осталось. Хюррем давно перестала противиться этой непристойности.
Ее гедычлы звали Муоми. Это была угрюмая молодая негритянка с густыми и плотными донельзя кудряшками. Другие наложницы говорили о ней между собой только шепотом, подозревая в ней ведьму и всячески стараясь ее избегать. Ладони у Муоми были большие и сильные, а своими костяшками она добиралась до всех суставов и сухожилий и мяла их так, что девушки криком кричали.
Для начала Муоми размяла ей мышцы шеи и плеч. Хюррем, поглубже вдохнув и замерев, вытерпела. Затем негритянка принялась терзать ей мышцы спины.
– Говорят, ты ведьма, – сказала Хюррем.
– Кто говорит?
– Другие девушки.
– Их сюда берут за красоту, а не за ум. Они все тупы как верблюдицы.
– Так ты ведьма или нет?
Ладони Муоми продолжали бегать по ее спине. Ощущение было такое, будто она вгоняет свои костяшки между всеми ребрами и позвонками. Хюррем почувствовала, что у нее сейчас слезы хлынут из глаз ручьем, и закрыла ладонями лицо, чтобы их скрыть.
– Ну так ты ведьма или нет? – переспросила она.
– Была бы ведьмой, давным-давно бы сказала какое-нибудь заклинание и смылась отсюда.
С этими словами она обоими кулаками воткнулась глубоко в ягодицы Хюррем. Та стиснула зубы, чтобы не заплакать.
– А мышцы-то у тебя крепкие, прямо как у парня, – снисходительно признала Муоми.
– Да покрепче будут, – ответила Хюррем. – Я ведь почти и не почувствовала ничего.
Мейлисса застала Хюррем лежащей на спине, пока негритянка проделывала над нею депиляцию. Процедура заключалась в нанесении на кожу негашеной извести с последующим сбриванием размякших волосков острым краем створки раковины мидии. Груди девушки вздымались и опадали в такт с бритьем и дыханием. Щеки были мокры от слез.
– Ты в порядке? – спросила Мейлисса.
– Отныне Муоми – новый главный палач при нашем султане.
Муоми, не обращая внимания на эту реплику, властно раздвинула ноги Хюррем и принялась тщательно обследовать ее промежность на предмет ненароком сохранившихся волосков.
– В чем смысл-то всего этого? – спросила Мейлисса. – Разве кто-то, кроме Муоми, хоть когда-то увидит, выбриты мы или нет? Султан уж точно в жизни не увидит.
– Мы должны быть всегда готовы, – ответила Хюррем. – Мы не можем себе позволить упустить золотую возможность из-за случайно пропущенного золотистого волоска!
Мейлисса, присев на мраморный бортик, будто на насест, понизила голос до шепота и сказала, положа руку на втянутый смуглый живот:
– Скоро проявится. – Глаза ее при этом наполнились слезами.
– Что с ней не так? – встрепенулась Муоми.
– Да просто припомнила, как ты ей в последний раз спину терла, – нашлась Хюррем и, схватив Мейлиссу за руку, шепнула ей: – Ни слова об этом тут!
– А что мне делать?
– Не волнуйся. Есть у меня один план.
Глава 4
За два месяца капы-ага успел испытать поочередно лютый ужас, трепетное ожидание и лихорадочное наслаждение. Он знал, что с ним сделают, если его секрет откроется. Но остановиться он теперь не мог. Ведь собственно секс, – а женщина эта была воистину красива, что делало ее вдвойне запретной, – был лишь частью того, чем он наслаждался.
К нему вернулась мужская сила!
По четвергам за час до заката она приходила в сад читать Коран. Все его существование теперь вращалось вокруг ужасающе-изысканного мгновения, когда он поворачивал ключ в ржавом замке двери и вступал в этот сад. Всякий раз, толчком распахивая дверь туда, он не мог знать наверняка, ждет ли его там Мейлисса с улыбкой котенка на устах или его собственные подчиненные с острыми как бритва кылычами наголо. Даже будучи начальником дворцовой стражи и главным надсмотрщиком гарема, капы-ага не смог бы остановить свору своих собственных псов, если бы те его раскрыли.
Железная решетчатая дверь с лязгом распахнулась, будто пушечным выстрелом прорезав тишину гарема. Начальник стражи прокрался внутрь, запер за собою дверь и бросил взгляд наверх, на северную башню. Единственным местом, откуда его могли заметить, была самая верхняя смотровая этой башни, – оттуда, собственно, впервые и заметил Мейлиссу, – но он ведь собственноручно запер вход в эту смотровую на замок перед тем, как спуститься сюда.
Но все равно мужчине чудилось, будто каждый член Дивана зорко следит за ним и теперь отдает приказ главному палачу заточить поострее стальные крюки, которыми его разорвут на куски.
Сад был погружен в тень от высоких стен, дорожки обставлены колоннами паросского мрамора и обсажены кипарисами и плакучими ивами так, что не просматривались сверху. Под сенью деревьев царил вечный сумрак. Предзакатное солнце окрасило облицовку минарета мечети при гареме в розовый цвет.
Капы-ага огляделся в поисках Мейлиссы, рассчитывая обнаружить ее, как обычно, на мраморной скамье под колоннадой, но ее нигде не было. Он затрепетал от страха, затаил дыхание, прислушался, но единственным звуком была нежная трель распевающегося соловья в кроне ивы у него над головой.
– Она сегодня прийти не сможет.
Голос раздался из-за спины. Он рывком обернулся, инстинктивно выхватывая из кожаных ножен свой кылыч.
Девушка скрестила руки перед собой и рассмеялась ему в лицо.
Он ее не признал, но ведь тут теперь столько новеньких. Эта была маленькой и стройной, рыжеволосой и зеленоглазой. Одета в желтый хлопковый кафтан и золотую парчовую блузу, на голове – маленькая зеленая тюбетейка с единственной жемчужиной, вплетенной в кисточку.
Она была настолько миниатюрной, что, казалось, ее сметет первым же дуновением ветра.
– Где Мейлисса? – спросил он.
– В гареме, конечно же, вдали от мужских глаз.
– Над чем смеешься-то?
– Ты бел лицом, как твой тюрбан. Всё в порядке, видишь же, что я не из султанских янычар. Я простая швея. Вот, смотри, я же без оружия. У меня даже иглы при себе нет.
– Ты с кем, по-твоему, разговариваешь, девчонка? Я же тебя на бастинадо отправлю. – Он схватил девицу за руку и поднес острие сабли ей прямо к глазам, дабы припугнуть. Хюррем лишь улыбнулась в ответ и сомкнула пальцы на том, что у него в паху.
– У Мейлиссы будет от тебя ребенок.
Он отпрянул и выронил саблю, звонко клацнувшую о мрамор.
– Ты думаешь, это невозможно? Вот и она так думала. Но я тебе клянусь, капы-ага, ты посрамил их усилия лишить тебя мужественности.
– Ты кто? Чего ты хочешь?
– Я подруга Мейлиссы. Всё в порядке, я хочу тебе помочь.
– Кто еще об этом знает? – спросил он.
– Проще простого сплавить нас обеих в Босфор под покровом ночи – и дело с концом. Ты же об этом сейчас подумал, так? Вот поэтому-то мы и рассказали еще одной. Но имени ее ты в жизни не узнаешь.
Он вложил кылыч в ножны.
– И чем ты мне можешь помочь?
– Помочь я хочу Мейлиссе, но это и тебе пойдет на пользу. Или, может, тебе от меня помощи и не нужно вовсе? Женишься на ней, будете вместе растить детей…
– Хорош глумиться! – с новой решимостью подступился он к ней.
– …а однажды ночью заявится в ваши хоромы султан с двумя мешками. Один – для моей подруги Мейлиссы, чтобы утопить ее в Босфоре. А в другой мешок соберут ошметки того, что останется от бывшего капы-аги после того, как палач раскромсает его в крошево.
– Что ты предлагаешь?
– Могу устранить твою проблему.
– Как?
– Не твоя забота. Но взамен ты кое-что для меня сделаешь.
Ему хотелось убить ее на месте, но он понимал, что тогда ему точно несдобровать.
– Лады́, – сказал он наконец. – Чего хочешь? Повышения? Нарядов? Денег?
– Не слишком ли дешево ты оцениваешь свою жизнь?
Солнце садилось, и минареты из розовых сделались кроваво-багровыми.
– Ну так чего же тебе нужно-то?
– Чтобы ты подложил меня в постель к султану.
– Этого я не могу. Немыслимо!
– А ты замысли и устрой. Иначе султан однажды точно прознает о твоем вероломстве, вздернет на крюк и оставит вялиться на солнце. Слыхал о такой казни?
– Султан не спит ни с кем, кроме Гюльбахар. Исполнить твою просьбу не в моей власти.
Улыбка на ее лице вмиг погасла.
– Ну тогда приятной смерти! Они тебе это удовольствие растянут.
И она ушла.
Тени расползались по саду, и капы-ага в леденящем душу ужасе взирал на подступающий мрак.
Глава 5
Гарем появился в стародавние времена, когда турки-османы были бродячими торговцами и кочевали по плоскогорьям Анатолии и Азербайджана. Саму идею гарема они позаимствовали у персов. После того как османы осели и создали султанат со столицей сначала в Бурсе, а затем в Стамбуле, гарем их султана постепенно превратился в самодостаточное учреждение со своим уставом, протоколами и системой управления.
Во главе этого замкнутого сообщества евнухов и дев стояла валиде-султан – мать верховного правителя. Правой рукой ее являлся капы-ага, главный белый евнух, совмещавший обязанности начальника стражи и посредника между валиде и самим султаном.
Любая из сотен наложниц могла дослужиться до высокого положения в администрации гарема и собственными трудами. Но путь к истинной власти был один-единственный – привлечь к себе внимание султана.
Если тот приглашал наложницу в свою постель, ей полагались собственные покои и жалованье. Она могла провести с господином жизни хоть одну ночь, хоть тысячу и одну. Всё это ей в зачет не шло до тех пор, пока она не родит султану сына. Родившая же сына наложница становилась кадын, одной из жен султана. Всего же их у султана могло быть четыре и не более. После появления четвертой кадын всякая беременность в гареме прерывалась абортом. Каждая из четырех жен затем оказывалась в шаге от истинной власти, но лишь одной из четырех суждено было в один прекрасный день стать следующей валиде-султан, если именно ее сын унаследует титул султана Османской империи.
Но Сулейман решительно порвал с традицией. Хотя ему было уже тридцать лет от роду, у него до сих пор была одна-единственная кадын и единственный сын. Слишком уж тонкая нить для столь буйного рода, как Османы, и мать Сулеймана тревожилась из-за воздержанности сына по части приумножения числа наследников.
Валиде приняла капы-агу в своей палате для аудиенций, необъятном вместилище мерцающего оникса и паутинистого мрамора.
Желтой молнией струился из-под высокого остекленного купола косой сноп солнечного света.
Она взирала на начальника стражи, сидя на кресле черного дерева с высокой спинкой и пурпурной парчовой обивкой.
– Хотел меня видеть, капы-ага?
Главный белый евнух облизал пересохшие губы. Он до глубокой ночи отрабатывал речь, но теперь слова вдруг покинули его, будто смытые нахлынувшим потоком черной паники.
– О, царица покрытых никабом головок… – выдавил он из себя официальное обращение.
– В чем дело? Нездоровится тебе?
– Познабливает.
– Так может, тебе лучше к аптекарю?
– Как скажете, Ваше Высочество.
– Тебя что-то тревожит?
– Прослышал о смуте среди девушек.
– Какой такой смуте? – нахмурилась валиде.
– Ну, кое-кто из них вроде как…
– Короче, капы-ага!
– Ревность их обуяла.
– Девы в гареме всегда ревнивы.
– Это не мимолетная зависть, а растущее недовольство. Думаю, надо бы нам обратить на это внимание.
Валиде пристально вперилась взглядом ему в лицо. Это еще больше нервировало.
– Давай дальше, – приказала она.
– Дело в Гюльбахар. Ее все любят, конечно…
– Кроме меня.
«Ну а то, – подумал капы-ага. – На это у меня и расчет».
– Часть девушек чувствуют себя несправедливо обиженными тем, что полностью обойдены вниманием Властелина своей жизни. Они делаются почти совсем неуправляемыми.
– Так это же твоя работа – твоя и кызляр-агасы – управлять ими.
– Конечно, госпожа моя. Только вот если бы мне было чем их приободрить на словах…
Валиде-султан приставила к щеке указательный палец с драгоценным перстнем.
– И чего бы им, по-твоему, хватило для ободрения?
– Того, верно, что Властелин жизни воспользуется ими в один прекрасный день, и день этот не за горами?
– Да кто ж его знает, что и когда он соизволит сделать или не сделать?!
Задел-таки он ее за живое. Если кто и был недоволен тем, что Сулейман такой однолюб и кроме Гюльбахар никого знать не хочет, так это его мать.
– Все они только и ждут дражайшей возможности сослужить своему господину службу, как только могут, – заверил он.
– Но есть ли среди них хоть кто-то сравнимый с Гюльбахар?
– Сами себя они все считают и вовсе несравненными, – ответил он с натянутой улыбкой.
Валиде перевела взгляд за окно, на сверкающие купола гарема. Перебрав большим пальцем левой руки остальные, она будто пересчитала в уме заветное число жен своего сына.
– Я переговорю с Властелином жизни, – сказала она. – Спасибо за то, что привлекли мое внимание к этому предмету.
Капы-аге хотелось крикнуть ей: «Постойте, я еще главного не сказал!». Но было поздно. Его отпустили. Он отвесил поклон и попятился к выходу.
– И последнее.
– Да, Ваше Высочество?
– Есть у тебя конкретная девушка на примете?
Он едва скрыл облегчение. А то ведь подумал было, что и не спросит.
– Есть одна достойная, по моему разумению, того, чтобы наш господин обратил на нее свой высочайший взор. Она смышлена и жива по своей природе, и он вполне может найти ее более чем приятной.
– Звать ее как?
– Хюррем, Ваше Высочество. Имя ей Хюррем.
Глава 6
Всякий раз по приходу в гарем в старом дворце Сулейман прежде всего посещал свою мать. Таково было требование.
Валиде-султан приняла сына на террасе. На ней был цветистый парчовый кафтан, а весеннее солнце искрилось на вычурных узорах из перламутра и гранатов в ее волосах. Ей же эти безделицы были милее настоящих драгоценных камней.
– Мать. – Сулейман поцеловал ей руку. Он присел на диван подле нее, а одна из служанок поспешила за шербетами и розовой водой. – Ты в порядке?
– Мерзну сильнее, чем раньше. В моем возрасте ждешь не дождешься весны.
– Да не так уж ты и стара.
– Я бабушка, – сказала она. – Правда, внук у меня один-единственный. Не впечатляет.
Сулейман, закинув голову, залился смехом:
– Только не это, сколько можно-то?
– Я опечалена твоим легкомысленным отношением к страхам старухи-матери. – Отняв руку, она взяла ею отборную фигу из стоящей перед нею чаши с фруктами. – А что покоритель Родоса? Куда тебя призывает Диван нанести следующий удар?
– В этом году военных барабанов ты больше не услышишь. Мои генералы пока зализывают раны. Пройдет какое-то время, прежде чем они изготовятся снова выпустить когти.
– Ну а ты?
– Мысль о еще одной кампании претит моей душе, – сказал он, тяжело вздохнув.
– Султан, отказывающийся идти на битву под знаменем Мухаммеда, надолго в султанах не задержится. Янычары за этим проследят.
Сулейману вспомнились слова отца, которыми тот напутствовал его, отправляя в Манису на первый в его жизни официальный пост губернатора: «Если турок слезает с седла ради того, чтобы рассесться на ковре, он обращается в ничтожество».
Ну так отец-то его в ту пору был воистину дик нравом.
– Не нужно напоминать мне о моем долге ни перед ними, ни перед Аллахом. Но на этот сезон я сыт войной по горло.
– Долг султана лежит не только на поле брани.
Так вот в чем дело: первые слова матери должны были его насторожить. Им снова предстоит разговор о Гюльбахар.
– У Османов есть наследник, – сказал он.
– А что, если он занеможет? У султана должно быть много сыновей.
– Чтобы они друг друга поубивали после моей кончины?
Сулейман снова вспомнил об отце. Ведь Селим-султан недаром получил в народе прозвище Грозный, а начал свое правление со свержения с помощью янычар собственного отца, которого затем еще и отравили по дороге к месту ссылки. Затем он порешил еще и двух своих братьев, и восемь племянников, дабы никто не оспаривал его власть. И даже трех других собственных сыновей он повелел казнить, дабы не обременять самого Сулеймана столь грязным делом, как учинение расправы над родными братьями. Или сомневался, не тонка ли у его наследника кишка на это?
– У тебя есть долг.
– Он включает множество обязанностей.
– И ни единой из них тебе не должно пренебрегать.
– Но я счастлив с Гюльбахар.
– Не о счастье речь, а о наследниках по линии Османов.
Сулейман отвернулся и уставился на панораму минаретов и куполов поверх нагромождения деревянных домов над Золотым Рогом.
– На этот миг в доме Османов бьются лишь два сердца, – сказала валиде. – Этого мало.
– Чего ты от меня хочешь?
– Я не прошу тебя отказываться от Гюльбахар. Естественно, у тебя должна быть любимая жена. Но в гареме много девушек. Кто-то из них вполне может послужить усладой для твоего взора.
– А я, значит, должен заступить на роль быка-производителя ради дома Османов?
– Грубо сказано, тем более перед пожилой-то женщиной, но да, именно в этом твой долг. Другое дело, если бы Гюльбахар родила тебе больше сыновей. Но она ведь уже девять лет твоя кадын…
– Мне с нею хорошо.
– А с другой разве не может быть хорошо?
Сулейман вскочил с дивана. Одна из материных служанок робко состроила ему подведенные сурьмой глазки. Его вдруг обуяло нетерпение поскорее покончить с этим разговором. Что с ним действительно не так? Ведь большинству мужчин исполнение такого долга было бы не в тягость, а в радость. Или, может, это он так доказывает всем и самому себе, что не такой, как все те грубые животные, что восседали на троне до него?
– Сделаю, как ты просишь, – сказал он и поцеловал матери руку. «Всех их покрою по очереди, если тебе так хочется, – подумал он. – Пусть дворец ломится от колыбелей с моими детьми».
А потом вернусь к своей Гюльбахар.
Кяхья вырвала из рук Мейлиссы подушку, швырнула ее на пол и принялась топтать.
– Это что такое?! Ты меня нарочно доводишь?
Мейлисса жалобно покачала головой.
– Ты только погляди на эти стежки! Я бы такое крестьянке в поле под задницу не дала подложить – не то что валиде-султан под голову!
– Простите.
– Что вообще с тобою? В последние недели ты сделалась просто несносной! – С этим словами кяхья больно ущипнула Мейлиссу за щеку. Девушка взвыла, старухе это понравилось, и она ущипнула ее и за другую.
Хюррем вскочила со своей рабочей лавки и выхватила шелковую подушку из-под ног у кяхьи.
– Вовсе не плохо. Оставьте ее в покое.
– Не сидится смирно, когда перья летят, дорогуша? – переключила свое внимание на нее женщина.
– Ей нездоровится.
– Ну так в лазарет ее тогда! А у тебя, смотрю, все стежки-то ровные да гладкие, вот и выполнишь всю работу и за себя, и за нее.
Хюррем швырнула старшей в лицо свою вышивку.
Кяхья замахнулась на нее, но на этот раз Хюррем оказалась проворнее и едва не сбила старуху с ног мощной оплеухой. За звоном пощечины последовала гробовая тишина.
Лицо кяхьи медленно расплылось в победной улыбке.
– А вот за это тебе точно причитается бастинадо, – шепнула она. – Капы-ага тебе своими батогами подошвы-то до костей обдерет. Теперь у нас весна на дворе. Почитай за счастье, если к зиме снова ходить начнешь.
На пороге появилась пара стражей. Один вошел и взял Хюррем за руку со словами:
– Тебе со мною. И шитье свое прихвати.
Хюррем была ошеломлена. Разве могла стража прийти за нею так скоро? Разве что караулила за дверью… Она сделала, что было велено: собрала свои иглы, пакетик с наждачным порошком и отрез зеленого шелка, который вышивала.
– Куда это вы ее уводите? – спросила кяхья.
– Куда капы-ага приказал, туда и уводим, – ответил стражник и увлек Хюррем за собою на выход.
– Ее же нужно в темницу, на бастинадо! – кричала им вслед кяхья.
Хюррем же позволила стражам побыстрее увести ее прочь по коридорам. Ведь если за нею послал сам капы-ага, это могло означать лишь одно – и отнюдь не бастинадо.
Глава 7
Над вымощенным миндалевидными булыжниками двором владений валиде господствовал мраморный фонтан с вычурной резьбой. Со всех сторон внутрь двора выходили окна.
Стражники спешно вывели Хюррем на середину двора и оставили там.
– Капы-ага велел тебе ждать. И петь не забывай.
– Петь? Зачем? Что происходит-то?
Но мужчины поспешили удалиться, не обронив более ни слова, и Хюррем лишь проводила их взглядом.
Наверно, капы-ага устроил ей смотрины у матери султана, подумала она.
Найдя у фонтана место, где камни попрохладнее, девушка уселась там по-турецки, разложила на коленях прихваченный с собою из мастерской платок, достала иголку и принялась за вышивание. А напевать при этом начала любовную песню, которой ее научила мать, – от лица парня, придавленного павшей лошадью в заснеженной степи. Замерзая и чуя близкий конец, юноша рассказывает ветру, как сильно любит одну девушку и как не смог набраться храбрости ей в этом признаться. Вот он и просит ветер донести его слова через равнину до любимой, чтобы она всегда помнила о нём. Глупая сентиментальная песенка, думала Хюррем, но ей всегда была по душе сама мелодия.
Она даже не заметила высокую стройную мужскую фигуру в белом тюрбане, до тех пор пока тень от нее не легла на шитье у нее на коленях.
– Первый закон гарема – тишина.
Вздрогнув, она подняла глаза. Мужчина стоял со стороны солнца, и девушке пришлось защищать глаза ладонью от слепящих лучей, чтобы хоть как-то его рассмотреть. Судя по голосу, не евнух, а по светлому цвету кожи – никак не нубиец. Оставался единственный мужчина, который волен был здесь разгуливать.
– Так может, нам и всем здешним соловьям глотки перерезать? А потом, опять же, пчелы. С ними же тоже нужно что-то делать. А то всё гудят и гудят без умолку. Или для них правила не писаны? – Слова эти сорвались у нее с языка прежде, чем она успела себя одернуть.
Мужчина смерил ее долгим взглядом. Тут только Хюррем вспомнила, что, прежде чем открывать рот, она должна была склонить голову в земном поклоне в знак повиновения. Она отложила вышивку и встала на колени. Она подумала, что следовало бы сразу попросить у султана милостивого прощения за нарушение тишины, но теперь как-то поздновато.
Позади Сулеймана стоял, обливаясь потом и обмахиваясь белым шелковым платком, старый кызляр-ага, главный черный евнух. Выглядел он так, будто его вот-вот хватит солнечный удар.
– Ты хоть знаешь, кто я? – спросил Сулейман.
– Властелин жизни.
– Что ты пела?
– Песню, которую узнала от матери, мой повелитель. Она о любви. И о неловком юноше, придавленном лошадью.
– Он что, лошади ее пел?
– Едва ли. Осмелюсь заметить, лошадь к тому времени лишилась всякого очарования.
– Как твое имя?
– Тут меня прозвали Хюррем, мой господин.
– Хюррем? Смешливая? Кто тебя так нарек?
– Те, кто меня сюда привез. Говорят, что якобы за мою вечную улыбчивость.
– А почему ты тогда все улыбалась-то?
– Да чтобы им слез моих видно не было.
Сулейман нахмурился. Своим ответом она его застала врасплох.
– Сама-то ты откуда родом, Хюррем?
Девушка снова глянула на него снизу вверх. Вот он, тот момент, на который всё поставлено, а она и думать не может ни о чем, кроме боли в коленях. Долго он еще, интересно, продержит ее перед собою коленопреклоненной на этой брусчатке?
– Я татарка, – ответила Хюррем. – Крымская.
– У вас, татар, у всех ли волосы столь дивного цвета?
– Нет, мой господин. В нашем клане я одна была такими обременена.
– Обременена? По-моему, так нет. Они у тебя весьма красивые. – Мужчина чуть погладил ее по волосам и пощупал одну прядку пальцами, будто оценивая качество и прочность ткани на базаре. – Прямо как шлифованное золото. Правда, Али?
– Красотища, мой господин, – согласно пробормотал кызляр-агасы.
– Ну, вставай, Хюррем.
Наконец-то. Она поднялась на ноги. Хюррем знала, что тут ей полагается потупить взор, и даже была этому обучена, но ее природное любопытство взяло своё. Так вот он каков – Властелин жизни, Хозяин мужских вый, Владыка семи миров… Привлекательный, как ей показалось, но не особо красивый и тем более не «великолепный», как его величают. Впрочем, намек на щетинистую бороду вкупе с орлиным носом все же придавал оттенок величия его лицу. Глаза серые…
Ими он и осматривал ее теперь с головы до пят, прямо как воины султана в тот день, когда отец Хюррем ее им запродал. Недовольства увиденным мужчина внешне вроде бы и не выказал, вот только вздохнул по завершении смотрин как-то долго и тяжеловато.
– Что вышиваешь-то? – спросил он ее.
– Платок, мой господин.
– Дай взглянуть. – Девушка протянула платок. – Тонкая работа. Ты великая искусница. Можно мне его взять?
– Он не закончен.
– Подготовь его мне сегодня же к ночи, – сказал он и бережно опустил платок ей на левое плечо. Хюррем успела заметить, что кызляр-ага от неожиданности даже выпучил глаза. Платок на левом плече означал, что отныне она гёзде – приглянувшаяся, – и Султан желает с ней спать. Ей говорили, что ни одна девушка из гарема такой чести не удостаивалась со времени его восшествия на престол.
Сулейман удалился, не произнеся более ни слова. Кызляр-агасы поспешил за ним.
Хюррем проводила их взглядом. «Не в бровь, а в глаз», подумалось ей. Теперь нужно просто так и оставаться зеницей его ока.
Сулейман быстро шествовал вдоль аркады. Он испытывал разом и злость, и некое облегчение. После прочитанной ему матерью тем утром нотации он понял, что выбора у него нет. Попросил капы-агу подогнать ему подходящую девушку. Выбранная им для него Хюррем ему глянулась своим эльфийским обликом и даже немного заинтриговала. В ней чувствовалось присутствие духа, в отличие от большинства гаремных наложниц – невыносимо пустых и тщеславных.
А теперь, если она от него забеременеет, мать его этим удовлетворится, а сам он сможет со спокойным сердцем вернуться к Гюльхабар и продолжить жить с нею в мире и счастии.
Глава 8
Полумесяц дрожал в остывающем ночном небе. Сулейман и Ибрагим отужинали осетриной, омаром и меч-рыбой утреннего улова из щедрых вод Босфора под шербет на меду с фиалками. Завершили же трапезу они распитием бутылки доброго кипрского вина.
Хотя вино и было запрещено Кораном, прегрешение это было ничтожно малым на фоне неимоверного удовольствия, которое оно приносило Сулейману, тем более что во всех прочих отношениях он неукоснительно следовал букве закона и предписаниям дворцового протокола.
Едва он пробуждался, как тут же прибывали главные мастера по уходу за его ногтями и волосами. Затем главный смотритель его гардероба выкладывал перед ним одеяния на предстоящий день – всенепременно ароматизированные алоэ. Затем главный тюрбанщик обматывал феску на его голове причудливыми извивами белого льняного полотна.
На рассвете султан уже спешил в Диван – кроме как по пятницам, когда выезжал на намаз в Айя-Софию вместе со всем своим двором, включая великого визиря, главного охотничьего, главного блюстителя соловьев, главного ключника и сорок сотен янычар.
После полудня он, согласно обычаю, некоторое время дремал вне зависимости от того, утомился он или нет. Всё это время султана бдительно охраняли пятеро стражников. Ну а затем он возвращался в Диван – к нескончаемым государственным делам.
Бокал вина на этом фоне выглядел чуть ли не бунтом.
С Ибрагимом же был связан главный в его жизни скандал. Во время осады они спали в одном павильоне и частенько менялись одеждами. Сулейман прекрасно знал о том, что вывел весь двор из себя столь показным вниманием к презренному рабу. Но ведь для Сулеймана тогда Ибрагим был не только и не столько рабом, сколько исповедником и советником. Если кто и подставил ему плечо, чтобы помочь вынести на себе эту ношу, то уж никак не Гюльбахар, не валиде и даже не великий визирь. Исключительно Ибрагим.
После вина Ибрагим уселся, скрестив ноги, под окном и ударил по струнам своей виолы. Хотя они и были ровесниками, Сулейман ощущал себя многим старше товарища. Точнее, более усталым от множества забот.
Ибрагим родился в деревне на западном побережье Греции, откуда работорговцы похитили его и вывезли на продажу на один из невольничьих рынков Стамбула. Купившая его там вдова из Манисы воспитала из него мусульманина, а обнаружив в нем способности к музыке и языкам, устроила ему хорошее образование. Так он научился игре на виоле и овладел персидским, турецким, греческим и итальянским.
Позже она продала его с большой прибылью в слуги Сулейману, когда тот прибыл в Манису новым губернатором провинции Каффа.
Став в 1520 году султаном, Сулейман взял Ибрагима с собою в Порту и поставил главным над челядью. И совета у него он искал много чаще, чем у Пири-паши, престарелого великого визиря своего. А после Родоса султан и вовсе произвел Ибрагима в советники, сделав вторым по рангу после великого визиря.
«Вот поэтому-то мы, османы, и пришли к верховенству в мире, – думал Сулейман. – Даже рабу из христиан у нас открыта возможность возвыситься по заслугам и сделаться выдающимся лицом в величайшей из исламских империй мира всех времен».
– Что за печаль, мой господин? – сказал Ибрагим, откладывая виолу.
– А тебя, Ибрагим, сожаления никогда не гложут?
– Сожаления? Оглядись вокруг. Хорошая еда. Доброе вино. Не дом, а дворец. О чем тут жалеть-то?
– А тебе никогда не хотелось быть кем-то иным? Ты никогда не задумывался, кем бы ты мог стать, не случись пиратам в тот день напасть на вашу деревню и увести тебя в рабство?
– Знаю, что случилось бы: ел бы одну рыбу на завтрак и ужин да латал бы рыбацкие сети целыми днями. А я вместо этого обитаю во дворце, пью лучшее кипрское вино и пребываю в милости у величайшего на земле императора.
– Зато жизнь там была бы куда как проще.
– Моя жизнь там гроша ломаного не стоила бы.
– Нравится тебе всё это, как я посмотрю? И на войну тебе ходить в радость, и бесконечное политиканство в Диване услада.
– Мы в самом центре мира, мой господин. Мы пишем историю.
– Мы служим исламу.
– Ну да, и это тоже. – Он снова взялся за виолу. – Мы – величайшие слуги ислама.
«Да нет, ты всё это делаешь просто ради дела, – подумал Сулейман. – Поэтому-то я тебя и люблю и так тебе завидую. Мне бы хотелось побольше походить на тебя».
– Мне порою думается, что лучше бы ты был султаном, а я сыном греческого рыбака, – сказал он. – Так нам жилось бы счастливее. – Он поднялся на ноги.
– Идем спать, мой господин?
– Ты можешь ложиться, Ибрагим. А мне нужно выполнить еще один долг.
Хюррем препроводили к хранительнице бань на омовение и массаж. Там же ей покрасили ногти, надушили волосы жасмином, умастили кожу хной, чтобы не потела, и подвели глаза черной сурьмой.
Затем рабыню отвели к хозяйке одеяний, и та обрядила девушку в розовую сорочку и лиловый бархатный кафтан с халатом из серебристо-абрикосовой парчи. Хозяйка драгоценностей принесла ей колье с брильянтами, тяжелое, как железный ошейник, нить маслянистых арабских жемчужин для вплетения в волосы и пару увесистых серег с рубинами, достававших ей чуть ли не до плеч.
Но утром всё это нужно будет сдать обратно, объяснила она.
Гедычлы поднесла ей зеркало, чтобы Хюррем как следует себя в нем осмотрела. Она и ее отражение взирали друг на друга с выражением, близким к полному недоумению.
– Жуть какая-то.
Хозяйка одеяний положила ей руки на бедра.
– Так положено.
– Так и положу мужа на пол кататься со смеху.
– Ты хоть понимаешь, сколь великая честь тебе выпала? Мне ли не знать, каково это, я ведь и сама была некогда зеницей ока прежнего султана Баязида. Давай расскажу, чем и как его лучше всего ублажить…
– Сама знаю, – ответила Хюррем. – Мне надо забеременеть.
Глава 9
Два стража – та же самая пара, что привела ее раньше днем во двор, – препровождала ее теперь по лабиринту мрачных и холодных крытых галерей и далее вниз по узкой лестнице. Подол халата и свободные рукава кафтана ее цеплялись за деревянные ступени и перила. Щеки овеяло холодом, когда девушку вытолкнули в ночь через тяжелую железную дверь. Там ее ждала карета. Хюррем уловила запах лошади и старой кожаной сбруи, а затем чья-то мягкая, пухлая рука втащила ее внутрь.
Карета дернулась и покатилась под цокот копыт по брусчатке. Как только глаза Хюррем привыкли к тьме, ей удалось разглядеть напротив себя грузную мужскую фигуру главного черного евнуха.
– Куда едем?
– К султану. Он ждет тебя во дворце Топкапы.
Занавески были задернуты. Хюррем хотела было их раздвинуть, чтобы выглянуть на улицу, но получила за это по рукам.
– Далеко еще?
– Недалеко. – Хюррем ощутила на себе испытующий взгляд. – Это ведь всё капы-ага для тебя устроил, – сказал кызляр-агасы.
– Зачем ему это?
– Я и сам весь день этим вопросом задавался.
– Нашли ответ?
– Нет. Он в последние дни весь бледный ходит, будто в ожидании казни. Или нездоровится ему, кто знает.
– Всякое может быть.
– Ты только пойми меня правильно. Случись капы-аге впасть в немилость, я по нему горевать не буду. Но мне хотелось бы знать, что его гложет. – Он пристально посмотрел на нее. «Заподозрил что-то», – подумала Хюррем.
Цокот утих, карета остановилась, и дверца распахнулась. Девушка быстро огляделась и спустилась на мостовую. Так вот он каков, знаменитый Топкапы! Над ней нависала величественная башня Дивана, прилегающие сады были усеяны мерцающими среди кустов факелами. Воздух полнился шелестом листьев тысяч деревьев на ночном ветру.
Два стража с алебардами, в тяжелых шлемах со скрывающими пол-лица забралами провели ее через массивную дверь с железными шипами в самое сердце сераля. Кызляр-агасы сопел и пыхтел, едва поспевая за ними. Девушка была потрясена здешними простором и порядком после унылой тесноты Старого дворца. Стены все каменные, а не деревянные, а коридоры намного шире и освещены куда лучше.
Скоро они подошли к инкрустированной перламутром и черепаховой костью двустворчатой двери в личные покои султана. По обе стороны её стояло по часовому из его личной стражи.
Хюррем сделала глубокий вдох. Она столь многое поставила на эту единственную ночь. Ты уж не обмани его, внушала она себе. Просто прими его семя и дай ему вволю расцвести.
Кызляр-агасы распахнул створки двери и завел ее внутрь.
Хюррем в ужасе осмотрелась.
Стены покоев султана были украшены изникской керамикой – сине-бирюзовой с оранжевым, с диковинными узорами из цветов и фруктов. Потолок вздымался посередине высоким куполом, из-под которого свисали на длинных золотых цепях кадильницы, инкрустированные рубинами. Еще там были камин в виде медной пирамиды и мерцающие масляные лампы в стенных нишах.
На помосте в углу высилось ложе, оно было занавешено зелено-золотой парчой, притороченной к рифленым серебряным колоннам. Красные бархатные покрывала и подушки были вышиты жемчугами. По углам ложа горели конические свечи в платиновых подсвечниках.
Сам Сулейман полулежал на диване золотистого бархата. На мужчине был халат цвета зеленого яблока и ослепительно-белый шелковый тюрбан с пучком перьев цапли в пряжке, а в складках халата переливался изумруд размером с детский кулачок. Вид у султана был слегка скучающий.
Кызляр-агасы тихо затворил дверь за спиной у Хюррем, и она осталась наедине с султаном.
Мужчина долго-долго рассматривал ее в тишине. Она почти слышала его немой вопрос: «Да что же они с тобой сделали-то?»
Девушка развязала и скинула халат, расстегнула брильянтовые пуговицы кафтана и стянула его с себя через голову, сорвала с себя брильянтовое ожерелье и бросила его на халат вместе с серьгами. Наконец, она расплела жемчуга и распустила волосы.
Когда на ней остались лишь сорочка и гаремные шаровары, указав на гору нарядов у своих ног, она вымолвила:
– Хозяйка одеяний мне это лично подобрала. Понятно, что она в ее-то годы подслеповата.
Султан пожал плечами, и Хюррем поняла, что нужно его вывести из этого оцепенения. Ей был известен единственный способ расшевелить мужчину. И, рухнув на колени, она спрятала лицо в ладони и разрыдалась.
– Что не так?
– Владыка жизни моей, ну почему ты выбрал именно меня? В гареме же столько красивых девушек. Я для тебя недостаточно хороша!
Он поднялся с дивана и положил руку ей на плечо. Она позволила ему поднять себя с колен.
– Я не хотела, – прошептала она. – Мне страшно.
– Тише, тише. Иди присядь. – Сулейман усадил ее на диван подле себя. – Ты неправа. На мой вкус, ты – исключительная, – сказал он и погладил ее по щеке.
Затем мужчина привлек лицо Хюррем к своему и нежно поцеловал в губы. Она ощутила пьянящий вкус вина – и стала расстегивать жемчужные пуговицы сорочки.
Глава 10
Хюррем положили жалованье в двести акче, выделили собственные покои и столько органзы, шелка, тафты, парчи и сатина, что хозяйке одеяний этого за глаза хватило бы на полное обновление гардероба. Была у нее отныне даже собственная купальня из розового мрамора с каскадным фонтаном ароматной розовой воды, а на ее личной террасе в клетках кедрового дерева заливались трелями соловьи. А еще ей позволили обзавестись и собственной гедычлы, и Хюррем попросила привести Муоми.
Банщица восприняла приглашение без видимого удивления, но и безо всякой радости. Когда ее привели в новые покои, она встала при входе, переминаясь с ноги на ногу, с застывшей на лице маской угрюмого безразличия.
Сидевшая на диване поджав ноги Хюррем изучающе осмотрела её и спросила:
– Нравится тебе твоя работа в бане?
Муоми молча пожала плечами.
– Мне, как одной из его гёзде, положена служанка и дозволено самой ее себе выбрать. Работа тут будет много легче той, что тебе привычна. – Хюррем встала с дивана и продолжила шепотом на ухо Муоми. – Мне нужна твоя помощь. Скажи, чего ты хочешь взамен…
– Чего я хочу? – Она подняла глаза. – Когда мне было семь лет от роду, в хижину моей семьи пришел колдун со жгучей крапивой. Он раздвинул мне ноги и втер крапиву мне прямо во влагалище. Это для того, чтобы оно набухло. На следующий день колдун вернулся, промыл мне промежность, смазал ее маслом с медом, а затем отрезал всё то, через что женщина получает удовольствие, и прижег рану раскаленным углем. Мать моя притворялась плачущей от радости, да погромче, чтобы заглушить мои вопли. После того как меня выдали замуж, супруг всякий раз вскрывал меня ножом, чтобы мною овладеть, а затем меня заштопывали до следующего раза. И после рождения ребенка меня снова зашили. Когда торговцы меня выкрали, ребенка у меня отняли, потому что это был мальчик. Я понятия не имею, где теперь мой сын и жив ли он. Да если и жив, они его кастрируют, как меня. А сама я обречена до конца своих дней маяться в этом дворце. Вот и скажи мне на милость, что ты можешь здесь предложить?
Хюррем улыбнулась, погладила Муоми по щеке и коротко ответила:
– Месть.
С Окмейданы – «площади Стрел» – открывался вид через розовые сады на темные воды Золотого Рога. Близилось лето – пришло время бить в барабан войны при дворе янычар и выступать в поход за новыми земельными завоеваниями для Великой Турции.
Но в этом году война отменяется. Вместо похода Сулейман отправляет свой двор на охоту в Эдирне.
Они с Ибрагимом ежедневно выходили упражняться в стрельбе из лука и метании копий. Для этого Ибрагим расставил вдоль набережной трофейные статуи из Белграда в качестве мишеней. Милое же дело – расстреливать истуканов греческих богов, считал он.
После стрельбища приходила пора отдыха в сени раскидистого фигового дерева, а пажи подавали им маслины, сыр и шербет.
– Безупречно меток нынче твой прицел, Ибрагим. Будь я кабаном, почел бы за благо тотчас же задать от тебя деру хоть на Русь.
– Меток и твой глаз, господин.
– Не льсти впустую. Думы мои сегодня о другом.
Ибрагим опорожнил серебряный кубок и, взяв маслину и принявшись медленно смаковать ее, отставил кубок в траву на расстояние вытянутой руки от себя, а затем с превеликой театральностью выплюнул косточку точно в пустой кубок. И повторил этот трюк несколько раз подряд без единого промаха.
– Что тебя тревожит, мой повелитель?
– Позволь я первым тебя спрошу кое о чем. Когда мы с тобою впервые прибыли сюда из Манисы, тебе же сразу было дозволено завести себе гарем?
– Конечно, хотя и не столь обширный, как у тебя, мой господин.
– А у тебя есть фаворитка?
– Кто из женщин со мною, та и фаворитка.
Ответ Сулейману не понравился. Вот как объяснить свою проблему такому мужчине, как Ибрагим? На следующую ночь после Хюррем он во исполнение долга перед родом Османов и по настоянию валиде-султан призвал на ложе другую девушку из своего гарема – грузинку с черными очами невиданной красы. Только огромные очи рабыни, похоже, не оставили в голове места ни для чего другого, поскольку, открыв рот, она так и не нашла там, что ему сказать. И в постели затем просто лежала бревном.
Зато черноокая наложница не будила его потом три раза за ночь просьбами повторить, подобно Хюррем.
Гюльбахар проходила у него в фаворитках долгих десять лет. И до Хюррем ему казалось, что она удовлетворяет все его нужды. Теперь ему открылась дверь к новым возможностям.
Когда-то он зарекся делить ложе с кем-либо, кроме Гюльбахар, более одного раза. Но теперь Сулеймана одолевало искушение нарушить зарок и призвать к себе Хюррем вторично.
Однако же султан медлил. Ведь ясно же, что не пристало женщине находить удовольствие в плотских утехах наравне с мужчиной. Душа Хюррем запятнана грехом Рахили. И если он потакает ей в этом пороке, разве не пятнает тем самым и себя самого? И как быть с Гюльбахар? Он же преступит клятву, данную не только себе, но и ей. Никогда прежде не испытывал он столь горьких угрызений совести перед какой-либо женщиной, кроме матери.
Тяжкая вина.
– Есть ли у женщины душа, Ибрагим, а?
– Разве это имеет значение? – Ибрагим чутко уловил смену настроения господина и склонился поближе к нему. – Ты что, за Гюльбахар тревожишься?
– Нет, за другую.
– Могу я спросить ее имя?
– Ее зовут Хюррем, – ответил Сулейман.
Ибрагим поднял бровь и, прицелившись в чашу кубка очередной оливковой косточкой, впервые промахнулся, отправив её в траву далеко в стороне от мишени.
Глава 11
Мейлисса возлежала в купели. Лицо ее будто плыло сквозь молочную пелену стелющегося из парилки тумана. Глаза же отслеживали каждый шаг Хюррем к воде. Та остановилась подле бассейна, дала Муоми снять с нее накидку и спустилась в воду.
– Что-то ты плохо выглядишь, – сказала ей Хюррем.
– Тошнит теперь каждое утро. Кяхья хочет отправить меня в лазарет.
– Не поддавайся.
– Что я, тупая, по-твоему? – Мейлисса придвинулась. – Талия-то у меня с каждым днем всё толще. Не могу же я вечно притворятся, что это от сладких булок. Ты же мне обещала помочь!
– Обещала – сделаю.
– Как? Попросишь для меня пощады у Властелина жизни, пока будешь с ним возлежать на перине?
Хюррем кивнула головой в сторону своей служанки:
– Муоми позаботится.
– А что она может сделать-то?
– Она ведьма. Изготовит тебе зелье для выкидыша.
У Мейлиссы дрогнули губы.
– Да ты не бойся, – шепнула Хюррем.
– Слишком поздно.
Хюррем крепко схватила её за руку:
– Ничуть не поздно. Думаешь, мне легче, чем тебе? Если кызляр-агасы проведает, меня же тоже казнят.
Мейлисса прикусила губу.
– И когда?
– Пришлю к тебе Муоми завтра. Всё будет хорошо, вот увидишь.
Мейлисса кивнула и выбралась из купели. Хюррем внимательно посмотрела на очертания её фигуры. Талии практически не осталось. Значит, и времени у них в обрез.
Сулейман возлежал среди подушек и шелков с нагой Гюльбахар подле себя. Поднеся ладонь к ее груди, он провел пальцем по синей жилке от соска до ключицы. В нем всколыхнулось сомнение. Тело ее уже не то, что прежде. Что-то необратимо изменилось.
Она раздвинула ноги в полной готовности принять его, и он легко пристроился поверх нее, стал пристально выискивать на ее лице свидетельство подтверждения ее чувств. «Она жаждет ублажить меня, – подумал он. – И от меня ей никогда ничего не хотелось сверх того, чтобы дать ей утолить мой голод. Ну и зачем мне самому желать чего-то сверх этого?»
Войдя в нее, Сулейман сомкнул веки, и перед мысленным взором его предстала Хюррем – с запрокинутой головой и открытым в немом крике ртом, с гривой волос цвета червонного золота, разметанной по подушке, телом, выгнувшимся под ним, будто ее пытают. И высший пик не заставил себя ждать.
Мужчина со стоном откинулся, лишившись сил. Гюльбахар притянула его руками к себе. Объятие рук ее было по-прежнему теплым. На лице ее сияла все та же улыбка.
– Хорошо тебе было, мой господин? – прошептала она.
– Да. Да, хорошо было.
Но хорошо ему не было, он хотел бо́льшего, он хотел ее – Хюррем.
Хюррем сидела на террасе, любуясь на рассвет над городом. Серебряный полумесяц на глазах тускнел и растворялся в густеющей синеве утреннего небосвода под звенящие в хрустальной тишине призывы муэдзина. Вот и еще одна ночь прошла без него, еще одна ночь, проведенная султаном с Гюльбахар вместо нее.
Прошла неделя с тех пор, как он попросил себе ее. Не может же она довольствоваться тем, что всего лишь попала в число избранниц? Если она не забеременела, а Сулейман продолжит ею пренебрегать и дальше, придется ей вернуться в швейную комнату и жить без проблеска надежды на большее впереди.
Ну нет уж, она этому случиться не позволит.
Глава 12
Капы-ага пережил тысячу мучительных смертей за неделю после той встречи с Хюррем. Он весь трепетал от адского ужаса и всякий раз, заслышав шаги в коридоре, готовился предстать перед посланными за ним султаном истязателями. Спал он теперь урывками и в полудреме грезил о побеге. Но где ему было искать убежища от султана? Ведь империя его простиралась по трем континентам чуть ли не до краев земли.
И вот одним душисто-теплым вечером он отважился-таки на повторную вылазку вниз, в сад. Соловьи заливались в кронах платанов. Какая милая преисподняя! Каждый камень этого проклятого места таит опасность, подумал он, сколько бы пташек ни порхало среди деревьев.
Отомкнув мало-помалу старинным ключом замо́к, Капы-ага так же тихо, дюйм за дюймом, приотворил дверь во внутренний двор.
На лужайке у фонтана коленопреклоненная Хюррем корпела над лежащим перед нею на деревянном стульчике открытым Кораном, отблескивающим зелено-золотистым светом. Сама она была в сорочке из изумрудного цвета дамасской парчи и белых шелковых шароварах.
– Я сделал, как ты просила, – сказал он.
Хюррем мельком подняла на него взгляд и тут же вернулась к Корану.
– Говорю, сделал, как ты просила.
– Хорошо.
– Ну и?
– Что «ну и»?
– Теперь ты изволь выполнить свою часть уговора.
Она перелистнула страницу Корана. Капы-ага едва сдерживал ярость. Какое наслаждение, думал он, было бы отсечь ей сейчас башку! Покончить с этой выскочкой на месте! Увидеть, как фонтан крови ее жизни брызнет поверх слова пророка Мухаммеда на серую каменную стену. Если бы только одним этим решалась проблема…
– Когда возвращается султан? – спросила она.
– Завтра он выезжает на север, в Эдирне, на охоту. Вернется не раньше листопада.
– Есть еще одно условие.
– Я сделал, как ты просила. Так что не смей мне больше выдвигать никаких требований.
– Пока я ради тебя храню твою тайну, я могу делать, что мне угодно.
А ведь она права, подумал он. Снова меня держат за яйца. Жестоко поплатится она за это у меня рано или поздно.
– Ты сказала, что поможешь мне.
Хюррем закрыла книгу, поднялась и подошла к нему. К полному его изумлению, она провела пальцем по руке капы-аги сверху донизу и схватила его за ладонь.
– Я тебе помогу. Нынешней ночью твоя проблема исчезнет. И жить в страхе тебе больше не придется.
Мейлисса была занята вышиванием кафтана цвета золота для юного шехзаде Мустафы. Она поднесла рукоделие к окну, чтобы рассмотреть, хорошо ли всё у нее выходит, в тускнеющем предвечернем свете, – и тут услышала, как кто-то за ее спиной вошел в мастерскую.
– Что, испугалась? – спросила Муоми.
– Ничуть, – мотая головой, солгала Мейлисса.
– То, что тебе нужно, при мне. – Муоми поставила на рабочую скамью перед нею сине-белый пузырек.
Мейлисса вынула пробковую затычку с округлой головкой и принюхалась к содержимому.
– Дрянь какая-то.
– Конечно, дрянь. Это же яд в своем роде. Ты его заглоти весь залпом – и тебе от него сделается только дурно, а ребенка он убьет.
Мейлисса дрожащими пальцами закрыла пробку.
– Спасибо тебе.
– Ко мне это не имеет никакого отношения, – ответила Муоми, прежде чем уйти.
Глава 13
Кызляр-агасы проснулся от пронзительных женских криков. Решил поначалу, что кому-то из новеньких снится кошмар, – такое случалось. Но, проснувшись окончательно, понял, что дело там посерьезнее кошмара соплячки. Доводилось ему слышать подобные крики – из пыточной камеры. Он скинул ноги с топчана и нашарил деревянные сабо.
Судя по длине свечи, поспать ему дали не дольше часа. Прихватив свечу, он, как был, в ночной сорочке, поспешил в коридор.
Крики доносились из девичьей ночлежки этажом выше. Прихватив двух стражей, кызляр-агасы ринулся наверх.
Там он обнаружил катающуюся по полу в корчах и впивающуюся ногтями в некрашеные доски нагую Мейлиссу. От очередного спазма её скрутило в клубок и вырвало. Всё вокруг, включая постель и лицо ее, было замызгано кровью и рвотой. На губах несчастной пузырилась розовая пена.
Вокруг нее столпились бледные от ужаса девушки. При очередном рвотном позыве они с визгом отпрянули, будто боясь, что Мейлисса их этим заразит, но на этот раз она лишь разинула рот и выпучила мутные глаза, как рыба на воздухе, однако исторгла при этом из себя воистину нечеловеческие звуки. Затем, судорожно втянув в себя воздух, снова схватилась за живот, скорчилась и возопила.
Стражи попытались было поднять ее с пола, но она яростно отбрыкнулась. Подняв глаза, страдалица уставилась на кызляр-агу и обнажила зубы в улыбке сродни оскалу бешеной собаки. Кто-то тихо подошел сзади и встал у него прямо за плечом. Обернувшись, он увидел Хюррем.
Мейлисса указала на нее и попыталась что-то произнести, но захлебнулась кровью раньше, чем сумела вымолвить хоть слово.
Охотничьи собаки подняли куропатку из ее гнездовья в полыни. Та взмыла из укрытия, отчаянно хлопая короткими крылышками. Ибрагим со смехом поднял левую руку в тяжелой кожаной перчатке. Сокол-сапсан его трепетал от возбуждения.
Ибрагим снял колпак, и во мгновение ее золотого ока птица ринулась в небо за добычей, а Ибрагим и Сулейман пришпорили коней и устремились следом.
Сокол сложил крылья. Только что реял в воздушных потоках невесомый как воздух – и тут же упал с неба камнем. Куропатка в панике забила крыльями еще отчаяннее, но без единого шанса ускользнуть; сапсан обрушился на добычу свыше, взметнул тучу перьев, и удар когтей его по спине жертвы был столь мощен, что та лишилась жизни прямо в полете.
В последний миг сокол разжал свою мертвую хватку и ушел в сторону, а мертвая куропатка рухнула в болото.
Ибрагим гикнул и галопом полетел к кромке черной воды. Псы его с плеском устремились за добычей прямо из-под копыт его коня, состязаясь за право принести ее хозяину.
Ибрагим глянул в небо и протянул руку в перчатке кружившему теперь над ним соколу.
На это вторжение из своего сокровенного логова в зарослях шиповника взирал вепрь, и желтые глаза его полнились ужасом. Он попытался забиться и спрятаться еще глубже – в ежевичник. С одной стороны – лай гончих, с другой – грохот копыт и возгласы лучников.
Ловушка. Выбора нет.
С яростным хрюканьем вепрь ринулся прочь из колючего кустарника.
Сулейман, заметив его, крикнул: «Берегись!» Но зверь успел ударить в бок арабской кобыле Ибрагима и вспороть ей брюхо клыком. Та заржала и осела назад в агонии. Вепрь ударил снова и вышиб Ибрагима из седла на землю.
Сулейман был в пятидесяти шагах оттуда. Выхватив из притороченного к седлу кожаного чехла свой лук, он прицелился. Первая стрела вошла вепрю в бок и завалила. С трудом встав на ноги и истошно визжа, зверь, пошатываясь, развернулся лицом к новому мучителю.
Сулейман подъехал поближе, извлекая на ходу следующую стрелу из украшенного драгоценными камнями колчана. На этот раз он целился точно за левую лопатку, чтобы стрела вошла в тушу по самое оперение, а стальное острие стрелы поразило вепря в самое сердце.
Задние ноги жертвы подломились.
Тут и другие лучники принялись вместе с ним посылать в серую тушу стрелу за стрелой, пока та не перестала дергаться, испустив последний дух. Стрелки с победными криками устремились к месту одержанной победы. К Сулейману же только теперь подоспела его личная конная стража. Игнорируя выкрикиваемые ее капитаном извинения, султан одним прыжком спешился.
– Ибрагим?
Арабская кобыла друга еще не отмучилась, а, вскочив на ноги, с ржанием металась туда-сюда, охотничьи собаки прыгали у ее ног и рвали на куски волочащуюся шлейфом за нею по грязи выпавшую из вспоротого бока лиловую требуху. Вокруг суетились янычары. Один пытался ухватить кобылу под уздцы, другой – отогнать собак бранными окриками и взмахами кылыча.
Вдруг раненая лошадь с выпученными глазами понеслась галопом прямо на него. Сулейман отпрянул, но тут на нее снова наскочили собаки, и кобыла свернула в айвовый сад.
Ошеломленный, Сулейман растерянно огляделся по сторонам.
Тут только ему на глаза и попался Ибрагим – по колено в болотной жиже, в покрытом грязью белом кафтане. Сбитый на сторону тюрбан придавал его лицу выражение безумия. Правой же рукою он потрясал поднятой над головою за окровавленную шею куропаткой.
– Вот он, наш приз! – крикнул он Сулейману.
– Я думал, ты погиб!
– Пока я под защитой моего султана, разве я могу погибнуть?
Он рассмеялся так, будто вся случившаяся дичь была игрой. И выглядел он теперь настолько самодовольным, что Сулейман невольно откинул голову и тоже расхохотался.
И вот они уже сидели в павильоне султана. Виола Ибрагима тщилась перепеть скрипучий хор болотных лягушек, а отсветы свечей рябили на складках навеса.
Восторженное возбуждение от прошедшей охоты гнало от Сулеймана всякий сон. Он сидел на диване скрестив ноги и слушая игру Ибрагима, но мыслями был далеко от музыки. Наконец-то он разрешил для себя вопрос, тревоживший его не первую неделю. Положив на одну чашу весов свой выбор, а на другую требования придворного протокола, он наконец нашел свое решение оправданным перед собственной совестью.
– Смещаю Пири-пашу с должности великого визиря, – сказал он внезапно.
Ибрагим перестал играть.
– Он в чем-то пренебрег своими обязанностями?
– Нет, дело не в небрежении. Просто я не верю в его способность по-прежнему с ними справляться.
– Но он же исправно нес службу в Диване долгие годы.
– Да-да. Некогда он, возможно, вполне соответствовал должности. Но теперь подрастерял те силы, которыми тогда обладал. Намереваюсь назначить его своим губернатором в Египте, дабы не унижать.
– Кто будет вместо него?
Сулейман ощутил себя сродни отцу, передающему семейное сокровище наследнику.
– Ты, Ибрагим.
– Я?
– Да, ты будешь моим новым великим визирем!
Сулейман ждал изъявления благодарности, но не дождался. Ибрагим обнял виолу и стал рассматривать свои ладони.
– В чем дело?
– Диван будет дивиться, с какой стати ты возвысил меня за счет столь многоопытного мужа.
– Не им ставить под вопрос мое суждение о чем бы то ни было.
– Но что они будут говорить между собой? Вот что меня тревожит.
– Что бы они там ни говорили между собой, тебе это никак не повредит.
– Выглядеть будет так, что это назначение я получил исключительно по нашей дружбе.
Сулейман взглянул на него в изумлении. Вот уж чего он никак не ожидал.
– Мне страшно, – пробормотал Ибрагим.
– Значит, быть задранным вепрем или затоптанным собственной лошадью – это тебе не страшно, а Дивана ты боишься?
– Нет, мой повелитель. Я тебя боюсь.
– Меня?
– Шея великого визиря всегда у тебя под мечом.
Сулейман был потрясен тем, что Ибрагим способен подумать о нем такое. Отец Сулеймана и вправду казнил восемь своих визирей за долгие годы правления. Но он-то ни в чем не похож на своего отца.
– От меня тебе нечего бояться, Ибрагим.
– Ты оказываешь мне великую честь. Всегда раньше думал, что и сам этого хочу, но только не теперь. Не возносил бы ты лучше меня до такой высоты, падение с которой станет для меня смертельным.
Сулейман положил ладонь на плечо Ибрагиму.
– Клянусь тебе: пока я жив, ни единый волос не упадет с твоей головы. И да покарает меня Аллах, если нарушу эту клятву!
Ибрагим взял руку Сулеймана в свою и поцеловал в рубиновый перстень.
– Очень хорошо, – прошептал он. – Ты принес мне славу свыше моих дичайших мечтаний. Клянусь собою верно служить тебе до самой смерти.
Глава 14
Валиде сидела на дворцовой террасе над тенистым восточным двором и наметанным глазом изучала новую любимицу сына. Она сразу поняла, что та преподносит себя совершенно иначе, чем Гюльбахар, – это было видно и по походке, и по тому, как она держится.
Поговаривали, что она скорее умна, чем красива. Ну так это отнюдь не плохо. Она и сама не выжила бы столько лет в гареме Селима Грозного без определенной смекалки.
– Хюррем, – тепло приветствовала она ее, протягивая руку, – я в восторге от той новости, что ты принесла. Иди ко мне, сядь рядышком.
День выдался теплый, в резных кедровых клетках, свисавших с карнизов, щебетали вьюрки. На низком столике перед ними были выложены сладкие шербеты, дыня и рахат-лукум – «нега для нёба» со вкусом фисташки. За их спиной в полуденной дымке колыхался город, тускло поблескивая сквозь пыль алмазами минаретов.
– Сулейман нынче на охоте в Адрианополе, да ты, верно, и сама об этом слыхала. Я к нему уже отправила гонца с этой вестью. Он будет вне себя от радости.
Хюррем положила ладонь на живот.
– Нам еще много месяцев ждать, прежде чем откроется истинная мера его радости.
Добрый ответ, отметила для себя валиде. Ведь если родится девочка, все вернется на круги своя.
– На все воля Аллаха. – Она протянула руку и, взяв прядь волос девушки, приподняла и рассмотрела на просвет. – Красивые же у тебя волосы. Не рыжие, не золотистые… Ты откуда сама?
– Мой отец был крымско-татарским ханом, царица хиджабов.
– И как ты к нам попала?
– Отец усмотрел возможность.
– Для тебя или для себя? – усмехнулась валиде.
– Сипахи его распластали по земле связанным – и принялись насильно совать ему деньги в карманы. Он изворачивался, кричал. Мне пришлось отвести глаза.
– Ты это будто с улыбкой говоришь. Тебя его предательство забавляет?
– Так он ведь до сих пор ютится в палатке, а я живу во дворце. Так что в конечном итоге я осталась в выигрыше от той сделки.
– Так ты здесь счастлива?
– И буду много счастливее, как только вернется мой господин.
– Я вот пробыла замужем за султаном Селимом долгие годы, а недели, проведенные нами вместе, могу перечесть на пальцах. Одинокая это жизнь, Хюррем.
– Раз так, то я отправляюсь обратно к отцу. Лошадь для меня не устроите?
Валиде невольно рассмеялась. Метко. Зачем горевать из-за того, что ты не в силах изменить?
– Ну нет, раз уж ты носишь дитя султана, этот гарем – твой дом до конца твоих дней.
– Тогда мне нужно в нем обустроить покои попросторнее.
– Навроде моих?
– Если Аллах соблаговолит.
– Не удивлюсь даже и тому, что все это высший промысел Его. – Валиде взяла кусочек лукума и принялась его смаковать. – Если что нужно будет, ты мне сразу передавай. Все сделаю для твоего спокойствия.
– Уже нужно, Ваше Высочество.
– Да?
– Телохранителя бы мне.
– Телохранителя? Зачем?
– Страшно мне.
– И чего страшишься?
– Да дошли тут до меня всякие слухи, что не доживу я до рождения ребеночка-то…
– И кто это тут смеет угрожать жизни ребенка самого султана?
Хюррем отвела взор.
– Не знаю. Так, может, просто сплетни по гарему…
Лжет, подумала валиде. Знает, кто смеет, а сказать не отваживается. Смерти ей тут желать могла одна лишь Гюльбахар. Но ведь сама Гюльбахар на убийство не способна – или все-таки да?
– Если думаешь, что под этими слухами имеются хоть какие-то основания, пусть служанка твоя отведывает прежде тебя все твои блюда – и даже одеяния твои примеривает на себя до того, как ты в них облачишься, на случай, если ткань пропитана ядом. Да, и на всякий случай распоряжусь, чтобы кызляр-агасы приставил к тебе отдельного евнуха.
– Спасибо тебе, царица хиджабов.
– Ничто – ничто! – не должно угрожать сыну султана.
Капы-ага со своего поста на северной башне внимательно наблюдал за тем, как вышедшая из тени Хюррем усаживается на мраморную скамью у фонтана. Вот она раскрыла свой Коран. Три дня кряду выходит она в сад. Зачем ей такой риск, думал он. Ей же и так вскоре светит стать одной из кадын Сулеймана. Разве этого мало?
Ему нужно было немедленно выведать, чего она хочет.
И он, поспешно заперев за собою дверь смотровой, устремился вниз по деревянной лестнице во двор.
У железной двери в сад он на мгновение замешкался, но затем решительно шмыгнул внутрь.
Хюррем подняла на него тут же расширившиеся от испуга глаза, уронила Коран, вскочила и пронзительно закричала. Капы-ага застыл в немом недоумении – и слишком поздно понял, что натворил. Обратившись было в бегство, он обронил ключи на мраморные плиты.
Пока он шарил по земле в поисках злосчастных ключей, девушка успела издать еще два пронзительных крика с призывами на помощь. Распахнув же, наконец, дверь на выход из сада, начальник охраны лицом к лицу и глаза в глаза столкнулся с одним из собственных стражников.
Он ринулся обратно в сад. «Ах ты, шлюха!» – воскликнул он, выхватил из ножен кинжал и полоснул им, метя в нее. Хюррем, пронзительно взывая о помощи, откатилась за скамью, чудом увернувшись от его клинка.
Тут подоспел и бросился на него собственный страж. Сабля его рубила воздух, а затем вдруг из поля зрения капы-аги исчез его кинжал, да еще и вместе с его же правой рукой. Боли не было – один лишь ужас при виде забившего на их месте фонтана крови.
Капы-ага упал на колени, попытался левой рукой выхватить клинок из мертвой хватки отсеченной правой. Ему бы только прикончить эту тварь – и все в порядке. Пусть делают с ним что хотят, главное, чтобы она сдохла. Но стража уже волочила его по булыжникам, оставляя длинный кровавый след, а он лишь изрыгал одно за другим последние истошные проклятья в адрес рыжей ведьмы, пока очередной страж не ударил его эфесом по голове, заткнув словесный фонтан.
Ястреб сначала парил в восходящих от пропекшейся булыжной мостовой города воздушных потоках, затем забрал ближе к Босфору и снова завис над стенами Топкапы. Золотому глазу его отчетливо видна была пара башен над створами Врат блаженства, где провяливалась до цвета маслины отсеченная голова капы-аги. А обезглавленное тело его так и висело до сих пор на железном крюке там, где его истязали трое суток, прежде чем отсечь голову. С поперечины эшафота свешена была веревка, на которой оно удерживалось в положении стоя. Так ему и надлежало там стоять, пока вороны-стервятники не склюют всю плоть и последние сухожилия не истлеют до голых костей.
Ястреб снова сменил курс – и повернул к Золотому Рогу и деревянному дворцу на высоком холме подле большой мечети Баязида II. На балконе среди медных куполов стояла женщина с огненного цвета волосами.
Оставшиеся месяцы пролетят быстро, думала она, поглаживая себя по животу.
И да будет сын.
Снег покрывал крыши гарема.
В покои Хюррем принесли родильное кресло и пеленки. Пахло ладаном и разбросанными по мраморному полу лепестками роз. По всей комнате были развешены амулеты и бирюзовые бусины от сглаза.
Подобной боли Хюррем в жизни не испытывала. Когда ребенок в очередной раз не выходил, повивалка с новой силой усаживалась ей на живот, чтобы выдавить его из утробы.
Хюррем кричала. Повитуха вставляла ей между зубов палочку из слоновой кости, чтобы приглушить ее крики.
Так, раскоряченная на кресле и поддерживаемая с обеих сторон повитухами, она и разрешилась ребенком. Третья повитуха приняла новорожденное дитя на отрез льняной ткани, вознося хвалу Аллаху.
Кызляр-агасы, согласно требованиям династии Османов, за родами пристально наблюдал во избежание подмены. Он же и отнес новорожденного к беломраморному фонтану и совершил троекратное омовение тельца согласно обычаю. В ротик влили подслащенного масла для привития вкуса к сладкой жизни и сладкоречию; глазки сразу же подвели сурьмой для глубины взгляда на всю жизнь вперед; к лобику приложили инкрустированный брильянтами Коран.
Хюррем же нетерпеливо вцепилась в руку одной из повитух.
– Так кто там?
Ответил ей, однако, кызляр-агасы:
– Вы родили сына, госпожа моя.
Часть 2
Ангел тьмы
Глава 15
Венеция, 1528 г.
Она явилась ему призрачным видением в бархатном облачении, ангелом тьмы с черными и блестящими как уголь волосами и кожей цвета слоновой кости. Модный лиф с низким вырезом и золотой крестик под самым горлом – воображение дорисовало ему мягкую пульсацию под ним – лишь добавляли ее образу провоцирующей притягательности.
Белая и крещеная – дважды запретная.
На улице было многолюдно, воздух звенел от призывных криков лоточников и грязной брани моряков, проигрывавшихся под аркадами. Мимо протиснулся албанец в мешковатых портках, смакуя дольку чеснока будто сладость. Некоторые принялись приветствовать едущего мимо сенатора в пурпурном одеянии, тот время от времени снисходительно помахивал рукою в ответ.
Аббас локтями прокладывал себе путь сквозь толпу вслед за нею – к порталу церкви. Глаза она подняла лишь единожды, и взгляды их встретились.
Сопровождавшая ее старуха лишь смерила его презрительным взглядом при входе в церковь Санта-Мария-деи-Мираколи.
– Видел ее? – шепнул он своему другу Людовичи.
– Конечно. Это же Джулия Гонзага.
– Ты с нею знаком?
– Моя сводная сестра Лючия знакома. Она ей доводится кузиной.
Аббас вцепился в Людовичи и поволок его к ступеням входа.
– Хочу поближе разглядеть.
– Ты спятил! – осадил его Людовичи. – Знаешь хоть, чья это дочь? Ее отец – Антонио Гонзага, тот самый, консильяторе!
– Мне все равно.
Людовичи был встревожен, но в целом не особо удивлен. Аббас был величайшим упрямцем из всех его знакомых. Отец называл его безрассудным. И все это было у него в крови: мавр – он и есть мавр. Но на этот раз Людовичи не даст ему себя одурачить. К тому же затея Аббаса действительно была крайне опасной.
Он припер друга к стене:
– Аббас, нет!
– Я же хочу на нее просто взглянуть.
– Тебе не положено ее видеть. Она же Гонзага.
Аббас ловко вывернулся и устремился вверх по ступеням.
«Ну и черт с ним!» – подумал Людовичи и пошел было прочь, но затем передумал и вошел в церковь следом за другом.
С золоченого потолка осуждающе смотрели вниз святые. Бюст Девы Марии из Санта-Клары хмурил свой лик с балюстрады на стене розового кораллового мрамора.
В церкви царила приятная после зноя площади прохлада. Две фигуры в черном преклонили колени перед алтарем. По обе стороны от них на страже стояли святой Франциск и архангел Гавриил.
Аббас услышал сзади гулкие шаги Людовичи по мрамору.
– Милейшее создание из всех мною виденных, – шепнул он ему.
– Не про твою она честь, дружище.
Дуэнья юной дамы, заслышав их голоса, подняла голову от молитвы. Аббас и Людовичи мигом спрятались за ближайшей колонной. Людовичи приложил палец к губам.
Когда же они осмелились снова выглянуть оттуда, женщин перед алтарем уже не было. Пожилая поторапливала молодую на выход через боковую дверь. На пороге Джулия Гонзага еще раз оглянулась, прежде чем дать дуэнье утянуть себя прочь.
– Ну вот и поглядел, – сказал Людовичи. – А теперь забудь.
Капитан-генерал Венецианской республики провожал взглядом солнце, садящееся за снежные пики Кадора в разжигаемом им пожаре на заднике кучевых облаков. Гондолы и галеры на глазах растворялись во тьме, окутывавшей жемчужную раковину лагуны. Какая гавань, какой город! Так и тянуло почувствовать себя частью всего этого. Но ведь сами-то они не местные. Жаль, что сын его порою об этом забывает.
– Это исключено, – сказал он. – Ты, видно, так до сих пор не понял главного касательно этих людей.
– Значит, защищать их жизни нам можно, а жениться на их дочерях нельзя – это, что ли, главное?
– Жениться? У тебя еще и такое на уме? – Он резко обернулся к тут же отпрянувшему на шаг сыну. Статью Махмуд и так был похож на медведя, а густая и окладистая седеющая борода придавала ему еще больше веса и свирепости. – Венецианцу черный сын мусульманина нужен ничуть не больше, чем мне белая дочь неверных!
Да и ноги бы их в Венеции давно не было, если бы здешний дож мог доверить командование своим воинством хоть кому-то из местной знати. Но иного выбора у дожей во все времена не оставалось, и на посту капитан-генерала Венецианской республики так и сменяли друг друга иноземцы и даже, как ныне, иноверцы.
– Они к нам относятся как к грязи, и обращаются соответственно, – возмутился Аббас.
– Они ко всем чужеземцам относятся как к грязи, это для них в порядке вещей.
– Но мы-то все-таки царских кровей…
– А что для них, по-твоему, значит царская кровь в жилах какого-то мусульманина? Мы для них наемники – и все. Живи ты хоть в палаццо и одевайся как сенаторский сын, ты так и останешься всего лишь чужеземцем. Даже если ты сам вдруг об этом забудешь, уверяю тебя, они не только не забудут, но и быстро изыщут способ и тебе об этом напомнить.
– Ну и что мне в таком случае делать?
– Делай как все молодые наших кровей: ищи, что тебе нужно, на Ponte delle Tette.
Аббасу это место было знакомо: полуобнаженные женщины стояли там с голыми грудями в дверных проемах, зазывая к себе молодых прохожих.
– Незачем что-то делать ради того, что ты можешь с легкостью получить за пару монет. Ты слишком молод, чтобы думать о женитьбе.
– Я хочу не жениться, а просто познакомиться с Джулией Гонзага.
Махмуд тяжело вздохнул. Отец семейства Гонзага в жизни не допустит и мысли не только о знакомстве, но и о том, чтобы его дочь дышала одним воздухом с каким-то мавром. Magnifico из Совета десяти, такой как синьор Гонзага, просто не снизойдет до приватной беседы с иностранцем – пусть и столь высокопоставленным, как капитан-генерал Венецианской армии.
– Это все от молодости, Аббас. Поверь мне, пройдет. Завтра же и думать о ней забудешь.
– Плохо же ты меня знаешь, если так обо мне думаешь, – ответил Аббас.
Джулия Гонзага смотрела на театр венецианского вечера с забранной плетеной решеткой лоджии. Свисающие с гондол фонари оставляли причудливые следы на ряби канала за кормой, из аллей доносились отзвуки голосов и смеха исчезающих в их сгущающейся тьме влюбленных парочек.
Зависть резанула ее кинжалом.
Она еще раз подумала о том, что с нею приключилось днем в Санта-Мария-деи-Мираколи. Почему тот мальчик так на нее заглядывался? Черный мавр, с лица как гондольер, вот только одет он был совсем иначе, чем прочие черномазые: шапка с драгоценными камнями, льняная рубаха с распахнутым воротом, как у самых высокородных модников.
Синьора Кавальканти, ее дуэнья, конечно, не уставала поучать ее, что молодые красавцы – дьявольское искушение на погибель ее души. Но Джулия порою задумывалась: не лучше ли этому соблазну поддаться и навлечь на свою душу вечное проклятие, чем то, что она имеет?
Ее ведь и так погребли заживо.
Глава 16
От девки разило вином и потом. Она со смехом рухнула Людовичи на колени. Он запустил руку ей за вырез платья и выкатил наружу грудь, взвешивая ее на ладони, будто плод на рынке. А сосок-то подрумянен, отметил для себя Аббас.
– Вот, гляди! – обратился к нему Людовичи. – Зачем сам себе голову морочишь? Все они одинаковые под покровом!
Девка игриво обвила юношу руками за голову, а затем, с наигранной стыдливостью подтянув лиф, ретировалась. Людовичи поднял кубок и залпом влил в себя густое rosso. Часть вина выплеснулась ему на белую рубаху – и расползлась кровавым пятном по его груди.
Таверна была битком набита сыновьями богачей и их подстилками. При этом девки на фоне их кавалеров поражали буйством цветов. Согласно строгим законам La Serenissima, как любили величать свой город венецианцы, лишь трудовому люду да проституткам дозволено было одеваться во что им вздумается; жены же и дочери патрициев обязаны были носить только черное.
– Слишком уж серьезно ты относишься к жизни, – сказал Людовичи.
– Устал я от всего этого, – ответил Аббас и рывком поднял молодого венецианца на ноги. – Пойдем уже. – Выпавший из рук друга кубок с клацаньем ударился о деревянный пол.
Людовичи было запротестовал, но был слишком пьян, чтобы сопротивляться. Аббас выволок его наружу и прислонил к стене таверны, удерживая его за рубаху. Та была насквозь мокрой и липкой от вина.
– Слушай, – сказал Аббас, – ты мне обязан помочь.
– С чем помочь?
– С Джулией. Можешь как-нибудь доставить ей письмо?
Людовичи разразился смехом.
– Я серьезно. Сделаешь?
– Синьор Гонзага же тебя просто убьет!
– Ты говорил, она кузина Лючии.
– Так это же ничего не меняет.
– Она же может передать от меня письмо.
Людовичи обвис у него на руках.
– Ничего хорошего из этого не выйдет.
– Ну пожалуйста, сделай это ради меня. Я тебя умоляю.
Людовичи застонал.
– Ладно, попрошу ее. Только теперь отпусти уже. – Он замотал головой. – Опасно это!
– Опасность как раз и придает жизни смысл.
– Куда чаще она полагает ей конец. Ну да если даже и встретишься ты с нею, – хотя это и невозможно, поскольку без эскорта она нигде не появляется, – так ведь после твою голову даже твой собственный отец не спасет. Нельзя же безнаказанно играть в игрушки с честью такого человека, как синьор Гонзага!
– А как насчет моей чести, Людовичи? – проговорил Аббас. – Отец мой, может, и готов быть верным псом при доже, но я-то – сам себе хозяин. Напишу письмо сегодня же ночью.
С этими словами он обнял друга за плечо и увел его в направлении площади Святого Марка.
Джулия, нежась на солнце, разложила кружевное плетение у себя на коленях. Подле нее сидела Лючия, нашептывая ей милые сплетни, услышанные от брата. Летом кузина частенько ее навещала, чтобы поболтать за шитьем, – под присмотром собственной дуэньи, разумеется.
– Слышала, ты замуж собираешься, – сказала Лючия.
– Да, по осени.
– Он красивый?
– Я о нем только со слов отца знаю. – Джулия сделала вид, что поглощена изучением своих стежков. – Он его вернейший союзник в ближнем кругу дожа – Consiglio di Dieci. Третьего лета овдовел.
– Так он, верно, немолод?
– Скоро шестьдесят стукнет. Но, возможно, он все еще хорош собой. – Девушка едва сдерживала дрожь в голосе.
Синьора Кавальканти резко посмотрела на нее и нахмурилась. Джулия опустила глаза.
– Я его видела, – сказала Лючия. – Весь такой важный из себя.
Они погрузились в молчание. Синьора Кавальканти отложила свою вышивку.
– Думаю, мне пора отдохнуть, – сказала она и удалилась с лоджии внутрь. Джулия услышала, как она зашторивает окно у себя в спальне на верхней террасе.
Блики отраженного каналом солнечного света играли причудливой светотенью на стенах. Увешанная сушащейся одеждой веревка танцевала на свежем бризе. По другую сторону канала женщина, высунувшись по пояс из окна, вытягивала веревкой из причалившей гондолы корзину с провиантом.
Дуэнья Лючии, извинившись, также ненадолго отлучилась, и девушки остались без присмотра. Лючия тут же извлекла из складок широкого платья запечатанное сургучом письмо и почти небрежно кинула его на колени подруге с таким видом, будто это в порядке вещей.
Джулия ошеломленно уставилась на доставленное ей послание:
– Это еще что такое?
Лючия оглянулась через плечо – никого.
– Быстро вскрывай!
Девушка сломала печать, вынула из конверта листок и прочла лаконичную записку:
Видел тебя в церкви. Мы должны встретиться. Ты – само совершенство. А.
– От кого это?
– От друга моего брата, сама я его не знаю.
– Как его звать?
– Брат не говорит. Просто попросил тебе передать. Покажи-ка.
Лючия попыталась выхватить письмо из рук у Джулии, но та сложила его и сунула за лиф платья. Конверт же изорвала в клочки и вышвырнула с балкона в канал.
– И зачем, интересно, этот друг твоего брата шлет мне письма? Опозорить меня хочет?
– Людовичи сказал, что это единственный способ.
– Единственный способ чего?
– Единственный способ вас познакомить, полагаю.
Джулия попыталась хоть как-то собраться. Щеки пылали. Она обмахивалась вышивкой вместо веера. Письмо она тут же сожжет, как только останется одна. Если бы его автор был достоин ее общества, он бы договорился о встрече через отца. А само то, что он подбил друга переправить ей записку контрабандой, лишь подтверждает, что этому типу не место не только в знатной семье, но и просто среди порядочных людей.
– Что делать будешь? – шепотом спросила Лючия.
– Выясню-ка, кто он такой, – прошептала в ответ Джулия. – Синьора Кавальканти спит каждый день с полудня до вечерни, пока я изучаю Библию. Передай своему брату, чтобы друг его гондолу не отпускал, чтобы стояла у канала наготове. И если заявится раньше или позже, я к нему не спущусь – и пусть после этого меня больше не беспокоит.
Глава 17
Джулия обернула вокруг плеч длинную накидку и натянула капюшон пониже на лицо. «Еще не поздно отказаться от всей этой затеи и вернуться к себе», – подумала она. Заслышав доносившийся из спальни синьоры Кавальканти храп, она рассмеялась. Все-таки приятно было перехитрить старую дуэнью.
Девушка открыла тяжелую деревянную дверь и окинула взглядом каменные ступени, ведущие к воде.
Гондольер, высокий мавр в атласной рубашке с лоскутными рукавами и в широкополой шляпе, окантованной алой лентой, небрежно накинул веревку на полосатый швартовочный столб и стоял, опершись на багор, с заносчивой непринужденностью.
Она тихонько притворила за собою дверь и сделала глубокий вдох. Сбежала вниз по ступеням. Гондольер раздвинул перед нею занавес, Джулия запрыгнула внутрь – и чуть не ахнула.
Она тут же узнала того, кто встречал ее внутри гондолы.
– Все говорят, что у меня есть все задатки для того, чтобы стать отменным гондольером, – сказал юноша. – Но отец бы мне этого так или иначе не позволил. Он думает, что сыну главного защитника республики подобает стремиться к бо́льшему.
– Твой отец – капитан-генерал нашей армии?
– Да. А самого меня зовут Аббас. Если же внешность моя тебя слишком шокирует, миледи, можешь уйти прямо сейчас, и я клянусь, что в жизни тебя больше не потревожу.
Он был молод, разве что самую малость старше нее самой. Кожа у него была цвета красного дерева, волосы плотно-курчавые. В левом ухе переливался рубин.
Девушка села на скамью.
– У меня есть всего несколько минут, иначе хватятся.
Синие бархатные занавеси со всех сторон надежно скрывали их от любопытных глаз. Единственное, что Джулии было видно из крошечной каюты, – пестрая штанина гондольера на его посту на корме. Лодка пахла плесенью и грецким орехом.
Аббас высунул голову за полог занавеса и что-то сказал гондольеру. Лодочник отцепил веревку, и она услышала мягкие всплески шеста: тот выводил их на середину канала.
Она запустила руку за накидку.
– Вот твое письмо.
– Мне оно без надобности.
– А мне слишком опасно его хранить. Если хочешь, я его сожгу.
– Нет, не надо. – Юноша забрал у нее листок. – В нем ровно то, что я имел тебе сказать. С тех пор как я увидел тебя, ни о чем другом думать не могу.
Джулия почувствовала прилив жара к щекам.
– Ты знаешь Людовичи Гамбетто?
– Отец у него генерал и советник моего отца. Мы тут оба изгои, полагаю. Чужаки.
– Но ведь Гамбетто – знатная венецианская фамилия.
Аббас выглядел явно смущенным.
– Людовичи же внебрачный сын. У синьора Гамбетто была любовница. Она умерла, когда Людовичи был еще младенцем. Синьор Гамбетто – человек добрый, вот и воспитывал его наравне с законными детьми, но Людовичи здесь никогда не примут как своего среди людей, обладающих весом. Я полагал, тебе это известно.
Но откуда ей было это знать? Никто ей никогда ничего не рассказывал.
– Мне жаль, что все так обстоит. – Аббас развел руки и ухватился ладонями за бархатный полог. – Я хотел, чтобы мой отец замолвил перед твоим слово за меня. А он сказал, что это невозможно. Но я верю в то, что нет на свете ничего невозможного. – Он протянул руку и откинул капюшон с ее лица.
У нее перехватило дыхание. Внезапно все риски этого дня оказались стоящими того.
Джулия понятия не имела, что ей теперь делать или говорить. Она ошеломленно надвинула капюшон обратно на лицо.
– Мне пора домой.
– Нет еще.
– Если дуэнья обнаружит мое исчезновение, у меня будут страшные неприятности.
Тень прошла над навесом, это гондола проскользнула под мостом. Сверху до нее донеслись крики играющих на мостовой детей.
– Мне нужно с тобою снова увидеться, – сказал он.
– Не могу. Осенью мне предстоит выйти замуж. Жених мой вернется с Кипра в конце лета прямо к свадьбе.
Он взял ее за руку.
– А могла бы ты полюбить мавра так же, как я полюбил неверную?
Девушка не ответила. Аббас вздохнул, высунулся за полог и отдал распоряжения гондольеру. Мгновения спустя Джулия почувствовала, как лодка заскрежетала бортом о нижнюю ступень лестницы под ее палаццо.
– Ты меня больше не увидишь, – сказала она, выкарабкалась из гондолы и убежала внутрь. Добежав бегом до самой своей спальни, венецианка рухнула на колени перед деревянным распятием на стене и принялась вымаливать прощение.
Через некоторое время на смену раскаянию пришло другое чувство. На нее нахлынуло сожаление. Нужно бы было ей оставаться с ним подольше.
Теперь же как знать, выдастся ей второй такой шанс или нет.
Глава 18
Антонио Гонзага уловил неявную перемену в настроениях дочери и встревожился. Горько ему было глядеть на ее нездоровый румянец и нервозность поведения. Подобные признаки при всей их малости не подобало являть миру юной даме, которой полагалось все свое время делить между религиозным воспитанием и плетением кружев.
Служанка поставила перед отцом и дочерью по тарелке. Гонзага наблюдал за дочерью. Та взяла ложку.
– Расправь плечи.
Джулия исполнила.
Гонзага раздраженно нахмурился. Чем раньше он сбагрит ее замуж с глаз долой, тем лучше.
– Скоро ты будешь женой члена Consiglio di Dieci. Он будет ждать от тебя хороших манер.
Видел он и раньше такие коровьи глаза на женском лице: у жены в их первую брачную ночь и у любовницы всякий раз, как она беременела от него очередным ублюдком, а делала она это с незавидной регулярностью.
Мужчина пил вино, не закусывая. Да ведь точно, это из-за мыслей о предстоящем замужестве у нее щеки так пылают.
От осознания этого он издал долгий и тяжелый вздох.
– Что-то мне нехорошо, – сказал он дочери. – Мне нужно пойти прилечь. Извини. – И отец оставил ее заканчивать ужин в одиночестве.
Друзья вывались из таверны, опираясь друг о друга, от них разило вином. Людовичи скрючился, упершись ладонями в колени, и блеванул на мостовую. Аббас прислонился к балюстраде каменного моста и залюбовался лунными бликами в канале.
– Никогда еще не чувствовал себя столь живым, – сказал он. – Я люблю ее.
Людовичи вытер рот.
– Ты же о ней ничего не знаешь. Если ты чем и очарован, так это собственной наглостью.
– В горьком же мире ты обитаешь.
– Это не горечь. Просто я вижу мир таким, как он есть, и ничего более. Мне тут ясно одно: если бы ты мог завтра на ней жениться с благословения ее отца и твоего, она бы тебя привлекала не больше первой встречной шлюхи в дверном проеме.
– Погоди, однажды и ты влюбишься.
– Только если лишусь ума. Аббас, ты мой лучший в мире друг. Но ты все-таки послушай, что я тебе скажу: любая женщина – это всего лишь женщина, и в мире их полным-полно. Она не более чем мягкая подстилка для твоего тела и теплое вместилище для твоего семени. Допускаю, что кто-то из них может оказаться и доброй спутницей, и однажды я и сам обзаведусь женой – хозяйкой моего дома и матерью моих детей. Но женюсь я на той, кого выберу по трезвому уму, а не по зову сердца. Муж, поступающий иначе, – конченый дурак.
– Значит, я и есть дурак, потому что, клянусь тебе, я полюбил ее навеки.
– Если твоя любовь к ней продлится до следующей недели, с меня два золотых дуката.
– Жаль мне тебя, Людовичи. Бесчувственный ты внутри. Но однажды жизнь вынудит тебя снова испытывать чувства.
– Просто ты влюблен не в нее, а в собственную влюбленность.
– Вот увидишь. Так что лучше гони два дуката сразу.
Людовичи покачал головой. Бутылка выскользнула у него из руки и разбилась о брусчатку. Над головой у них из окна высунулся мужчина в ночной рубашке и принялся громко звать ночного сторожа, и друзья со смехом убежали прочь.
Гонзага сидел в кабинете, пристально глядя на пламя свечи. В убранстве комнаты над всем доминировало «Успение Богородицы» кисти Карпаччо; по обе стороны от него висела пара подношений поскромнее – «Мадонна с младенцем» Беллини и его собственный портрет, заказанный им пятью годами ранее у Якопо Пальмы. Каминную полку украшали две бронзовые статуэтки работы Андреа Риччо.
В дверь постучали.
– Да?
– Синьора Кавальканти, Ваше Сиятельство.
– Войдите.
Дуэнья прокралась в кабинет и склонилась в поцелуе к рукаву его бархатного платья.
– Посылали за мною, Ваше Сиятельство?
– Да. Я глубоко встревожен, синьора Кавальканти.
– Не каким-нибудь моим недосмотром, надеюсь?
Гонзага нащупал на рукаве выбившуюся нить и предельно аккуратно удалил ее.
– Даже и не знаю, синьора.
– Заверяю Ваше Сиятельство в своем безмерном усердии, – развела руками она. – Все свои обязанности я выполняю неукоснительно.
– Точно? – Старая дама отпрянула в испуге. – А я вот имею основания полагать, что госпожа Джулия от вас кое-что утаивает.
– Не думаю, Ваше Сиятельство.
– Правда? Много ли она с вами говорит о предстоящей радости выхода замуж?
– Очень мало.
– Стало быть, предвкушение свадьбы не доставляет ей удовольствия? – Гонзага решил дать ей время подумать над ответом или хотя бы изобрести нечто вразумительное и занялся приведением в порядок меха у себя на плечах. – Без присмотра она ведь никогда не остается?
Ага, вот оно! Взор дуэньи чуть потупился, щеки едва заметно покраснели. Готовится солгать.
– Никак нет, Ваше Сиятельство.
– Вот и продолжайте следить, – с притворным облегчением выдохнул он. – Пристально следить. Глаз с нее не спускайте! Понятно?!
– Да, Ваше Сиятельство. Еще как понятно. – И дуэнья с небывалой поспешностью откланялась.
«Хорошо, должно сработать», – подумал Гонзага. Как и собирался, он и запугал, и насторожил ее. Если там есть нечто, о чем ему нужно знать, она теперь это точно выведает.
Глава 19
О второй встрече Джулия и не помышляла, однако ровно через неделю после их первого свидания знакомая гондола вдруг снова появилась у выхода к воде, и устоять перед столь великим искушением было выше ее сил. Ну а второе свидание упростило и третье. Так они и привыкли видеться, и число их встреч теперь, вероятно, перевалило за дюжину. Девушка и сама дивилась собственной смелости.
– Могу остаться еще лишь на несколько мгновений, – сказала она.
Джулия протянула руку, и Аббас нежно уложил ее в свою.
– Я люблю тебя, – пробормотал он.
– Нельзя тебе меня любить. Я же говорила: это невозможно. Этот раз должен стать последним.
– Но я теперь не могу остановиться. Разве что могила меня остановит.
– Аббас, мне скоро замуж. – Она и сама представить не могла, как ей жить без этого. Как вернуться к созерцанию мира через окно?
– Давай сбежим.
– Что?
– Могу устроить нам проход на корабль.
– Покинуть Венецию? – Джулия поверить не могла, что он способен замышлять подобное.
– Можем отправиться в Испанию. Там у нас будет надежное убежище от твоего отца. А мой нам поможет деньгами.
– Ну пожалуйста, прекрати.
– Нельзя тебе выходить за богатого старика, чтобы провести остаток жизни взаперти в его дворце.
Джулия оцепенела от ужаса. Легко же ей было до этой минуты обманывать себя, делая вид, что все это просто игра без всяких последствий.
– Что я буду делать в Испании? – услышала она невольно сорвавшийся у нее с уст вопрос.
– Будешь моей женой. А я там найду себе работу – хоть солдатом-наемником.
– Лючия мне рассказывала истории о том, как мужчины увозят женщин, обесчещивают и бросают. Это же безумство!
– И ты лучше проведешь остаток жизни за семью запорами в клетке со стариком?
– По крайней мере, я буду в безопасности. Да и грех-то какой, Аббас, разве нет? Если мы так поступим, Господь нас покарает, если и не в этой жизни, так в следующей.
Юноша взял ее за плечи и привлек к себе. Она ощутила легчайшее прикосновение его губ к своим, столь же нежное, сколь грубой была хватка его рук. Джулия закрыла глаза и замерла, едва дыша и вкушая тонкий аромат его одежды и сладко-гвоздичного дыхания. Наконец он отстранился от нее.
– Давай сбежим, – повторил он.
– Ты же про меня ничего не знаешь, – сказала она. – Мне пора домой.
Джулия выскочила из гондолы и взбежала по ступеням лестницы к палаццо будто в тумане. С порога напоследок оглянулась: он стоял меж раздвинутых занавесей и смотрел на нее.
Она потихоньку приоткрыла скрипучую дверь в палаццо. За дверью, скрестив руки на груди, стояла синьора Кавальканти.
– Так ты меня, значит, обманываешь, – сказала она.
Джулия развернулась, захлопывая за собою тяжелую дверь, – и ринулась вниз по лестнице обратно к каналу, но гондола уже отчалила. Девушка хотела было окликнуть его и позвать обратно, но, заслышав позади звук шагов дуэньи, спускающейся вслед за нею по каменным ступеням, поняла, что звать его теперь, тем более окликая по имени, было бы предательством.
Старуха грубо схватила ее за руку и поволокла обратно наверх. Она оказалась поразительно сильной. Но Джулия все-таки еще раз успела оглянуться и вроде бы заметила колыхание полога навеса, и тут гондола скрылась за изгибом канала, никакой уверенности, что ее тайный друг что-то видел, у девушки не было.
Антонио Гонзага стоял у окна, стиснув приподнятые кулаки и вперившись в высящиеся поодаль над крышами кампанилу собора Святого Марка и Дворец дожей.
Посреди комнаты стояла, скрестив руки на груди и отводя глаза, Джулия.
– Кто этот парень? – прорычал он.
Дочь не ответила.
– Я спрашиваю, что это за парень?!
Синьора Кавальканти стояла поодаль в тени, дожидаясь своей очереди; глаза ее блестели от удовлетворения. Ничего, с нею он позже разберется. Сама эта ситуация в жизни бы не возникла, если бы она исправно выполняла свою работу. Кроме того, если позволить ей трепать языком, об этой истории завтра будет говорить вся Венеция.
Он пересек комнату и отвесил дочери оплеуху такой силы, что та рухнула на пол. Встав над нею, изготовился повторить, если дочь поднимется и осмелится и дальше не повиноваться.
– Буду бить тебя как собаку, пока не выдашь мне его имени.
– Ни в жизни, – сказала она.
Неожиданная сталь в голосе дочери еще более взбесила его. Он схватил ее за волосы, как следует тряхнул, отволок к окну и дал ей хорошего пинка. Джулия закрыла голову руками и, всхлипывая, свернулась в клубок, пытаясь защититься от дальнейших побоев.
– Ваше Сиятельство, – вмешалась синьора Кавальканти. «Да она, похоже, в шоке, – подумал он. – Неужто полагала, что деловому человеку чужды уличные повадки?» От его грозного взгляда дуэнья тут же забилась обратно в угол.
– А теперь ты скажешь мне его имя.
Он ухватил дочь пальцами за дутые рукава и рывком поставил на ноги. Отвесил ей еще две мощные пощечины, другой рукой прочно удерживая, чтобы не увернулась. Наконец отец ослабил хватку, и Джулия рухнула на пол во второй раз за экзекуцию.
Похоже, сегодня он от нее толку не добьется. Ну да ладно, у нее теперь будет время одуматься.
Рукав и лиф ее платья он порвал при наказании.
– Прикройся, шлюха! – рыкнул он. Руки у нее тряслись, и она все никак не могла прикрыть срам.
– Отведи ее в спальню, – приказал Гонзага дуэнье, – и запри снаружи. Затем возвращайся сюда. Хочу с тобою поговорить.
Синьора Кавальканти в жизни не бывала так напугана. Она всегда почитала Его Сиятельство за человека строгого, сурового и даже грозного, – и в этом он был для нее в чем-то сродни самому Господу Богу. Но сцена, свидетельницей которой она только что стала, потрясла ее до глубины души.
Когда она вернулась в кабинет, Гонзага уже вполне овладел собой. Он сидел за рабочим столом, сложив руки на коленях. Лишь всклокоченные пряди волос из-под берета напоминали о недавнем всплеске буйного насилия.
– Моя дочь постыдно упряма.
Синьора Кавальканти не нашлась, что ответить. Она лишь вглядывалась в скорбный лик «Богородицы» Карпаччо и испытывала неимоверный стыд.
– Похоже, она не понимает всю меру причиненного ею урона, – добавил он.
– Я верой и правдой наставляла вашу дочь, объясняя, в чем ее дочерние обязанности, в чем ее долг перед Республикой и в чем перед Господом, Ваше Сиятельство.
– Возможно. – Гонзага сжал губы и постучал указательным пальцем себе по виску, будто обдумывая, не поднять ли ставку налога на шерсть. – Но, если ты говоришь правду, почему она оказывает мне подобное неповиновение?
Тут только дуэнья осознала, что теперь она и сама на допросе с пристрастием. Нужно было оставить свое открытие при себе и самой разобраться с подопечной. Впрочем, сделанного не воротишь.
– Отсюда вытекает много вопросов, – сказал Гонзага. – К примеру, как устраивались эти свидания?
Синьора Кавальканти сглотнула так и рвущееся из нее искреннее «не знаю», ведь таким ответом дуэнья расписалась бы в собственной некомпетентности.
– Непременно дознаюсь, – ответила она вместо этого.
– Надеюсь, что так, синьора Кавальканти, – ответил он и улыбнулся. – На самом деле я не просто надеюсь, а полагаюсь на это!
Глава 20
Аббас следовал за каретой пешком от самого палаццо. Он было потерял ее из виду на узких улочках, но снова нагнал в рыночной толчее на Кампо-Санта-Мария-Нова. Продираясь сквозь ряды торговцев фруктами и коробейников, юноша без тени смущения прокладывал себе дорогу к цели и даже опрокинул тележку с отрезами шелка.
Церковь Санта-Мария-деи-Мираколи была одной из красивейших в городе, с фасадом из античного мрамора. Карета остановилась у ступеней, и Аббас увидел, как с нее сошли две женские фигуры – грузная коротышка и высокая, стройная и грациозная красавица. Лицо второй скрывала вуаль, но он узнал ее по одной лишь походке.
– Ну пожалуйста, Аббас, не надо, – выпалил настигший его Людовичи, запыхавшийся от уличной погони за товарищем.
– Тебе действительно не доводилось влюбляться, Людовичи?
– Это не любовь, а эскапада какая-то!
– Жить без нее отныне не могу.
– Ты дышишь, ешь, пьешь. Этого достаточно для жизни. Все просто. И каждому доступно.
– Так это не жизнь, это лишь борьба за место под солнцем. – И Аббас устремился к церкви.
Внутри было пусто. Святой Франциск уставил на него мраморный палец, будто указывая солдатам дожа, кого хватать.
Где же они? Только что были здесь – и вдруг растворились тенями среди теней. И вот уже семенят прочь за двери у него за спиной.
– Джулия!
Когда он выскочил обратно наружу, их и след простыл. Аббас осел на ступени. Людовичи взирал на него, сокрушенно мотая головой. Карета уже катила прочь по Via delle Botteghe под стук колес и звон копыт по булыжной мостовой.
Это была ловушка, и Аббас в нее с ходу попал.
– Аббас Махсуф? Сын мавра?
Синьора Кавальканти истово закивала, упиваясь собственным коварством. До чего же ловко и просто она его заманила и вывела на чистую воду! Она была уверена, что Его Сиятельство придет от нее в восторг.
Гонзага вскочил на ноги, с грохотом откатив дубовое кресло до самой кафельной стены у себя за спиной.
– Мавр, значит?!
– Он за нами проследовал внутрь, так же как и в первый раз. Видела его собственными глазами. Он ее еще окликнул по имени, когда мы выходили из церкви.
– В первый раз? Какой еще «первый раз»? Когда? И ты мне ничего об этом не говорила?!
Дуэнья осознала свою ошибку, и у нее сперло дыхание.
– Так на вид-то был сущий пустяк…
– И как тот пустяк случился?
– Я о нем и не задумывалась. Мужчины же на нее вечно пялятся.
– Потому она и носит вуаль!
– Летом, говорит, ей слишком жарко. Вот изредка и откидывает.
– И ты ей это позволяешь?
– Она упряма и своевольна.
– Я тебе деньги плачу́ разве за то, чтобы ты ей потакала?
Синьора Кавальканти понимала, что линию допроса нужно как-то отвести от себя, обратив внимание Его Сиятельства на что угодно иное.
– Я там еще кое-кого заприметила оба раза.
– И кого же?
– Людовичи Гамбетто.
Он ошеломленно вытаращился на нее.
– Думаешь, она успела столковаться с ними обоими?
– Да нет же, конечно, Ваше Сиятельство. Этот просто приглядывал. Я видела, как он нас провожал глазами, когда мы отъезжали от церкви. Полагаю, что они с мавром друзья.
Гонзага подошел к окну. Вверх и вниз по Гранд-каналу шли гондолы и барки. Ему нужно было осмыслить это интригующее открытие.
– Вот, значит, каков выблядок моего свояка! Думаешь, через него записки передавались?
– Его сестра Лючия здесь частая гостья.
– Понятно, – кивнул Гонзага. – Ну конечно же! Поздравляю с раскрытиями. Награда за мною, синьора Квальканти. А теперь можешь идти.
Дверь за дуэньей тихо затворилась, и Гонзага погрузился в обдумывание имеющихся у него вариантов. Если он вынесет дело в суд, то выставит себя на посмешище перед всей Венецией и однозначно лишится места в Consiglio di Dieci.
Можно было, конечно, довести суть дела до сведения отца Людовичи, но и это было не менее рискованно. Жена Гамбетто-старшего – его собственная сестра – давно мертва, а сам он метит в дожи, состязаясь за право занять это место лично с ним, Гонзагой, и вполне может воспользоваться любой возможностью для разжигания скандала вокруг его имени.
Дело щепетильное и долгое, решил он. Наказание Людовичи можно и отложить до лучших времен. А вот с мавром нужно разделаться прямо сейчас.
В тот же день, едва Лючия прибыла, ее дуэнью отпустили, а саму девушку синьора Кавальканти препроводила вместо лоджии Джулии в личный кабинет Гонзаги.
– А, Лючия, – сказал он. – Как приятно с вами снова увидеться.
– Ваше Сиятельство, – сказала Лючия, встревожившись, и, преклонив колено, облобызала его манжету.
– Иди сюда, сядь рядом, – сказал он ей, взглядом указав синьоре Кавальканти на выход.
Она опустилась на диван у окна подле него, и он принялся разглядывать ее с застывшей улыбкой на лице. Лючию затрясло в этой гнетущей тишине. Неужто проведал про письмо?
– Полагаю, тебе есть о чем мне сказать, – произнес он наконец.
– Я ничего плохого не сделала.
– Знаю, что не сделала. Все хорошо. Джулия мне все рассказала.
– И вы не сердитесь?
– На нее сержусь, и еще как! А на тебя? Сержусь и на тебя тоже, дорогуша. – Он вперился в нее своим палаческим взором, по-прежнему улыбаясь. – Но ты все еще можешь заслужить помилование в моих глазах. Ведь ты же, в конце-то концов, была лишь гонцом.
– Я же понятия не имела, что там внутри. Брат попросил ей это передать – только и всего. А больше я ничего не знаю.
– По-твоему, это оправдывает твое соучастие в обмане меня и синьоры Кавальканти?
– Не знаю, – ответила он, уставившись в ладони.
– Может, ты и права. Думаю, это для тебя достаточное извинение.
– Вы и вправду так считаете, Ваше Сиятельство?
– Тебя попросили передать послание от друга. Разве это грешно?
– Ничуть.
– Конечно же. Так не соизволишь ли ты и мне протянуть руку помощи и оказать ровно такую же услугу?
Лючия смотрела на него в ошеломленном недоумении.
– Скажи, – продолжил он, – а не доводилось ли тебе доставлять брату письма от самой Джулии?
– О нет, Ваше Сиятельство. Только то единственное через моего брата ей. Ничего в ответ она мне в жизни не вручала.
– Это хорошо. Потому что теперь мы это изменим. – Он достал из ящика стола и передал ей конверт с тяжелой сургучной печатью. – Это Аббасу.
– Аббасу? От кого, Ваше Сиятельство?
– От Джулии, вестимо.
Она замялась.
Гонзага перегнулся через стол, и улыбка исчезла с его лица.
– Слушай меня внимательно и запоминай. Передашь это своему брату и скажешь, чтобы вручил Аббасу, и что передала тебе это письмо для него собственноручно Джулия. О нашем же с тобою разговоре не должна знать ни единая душа. Если подведешь, доведу до сведения твоего отца, какую роль вы с братом сыграли, и тем самым покрою ваши головы таким несмываемым позором, что путь в приличное общество La Serenissima вам обоим будет заказан по гроб жизни. Да и отцу вашему скандал вполне может стоить места в Совете десяти, и он вас за это по головке не погладит. Я доходчиво объяснил?
Лючия кивнула. Конверт в ее пальцах дрожал.
– Можно мне теперь увидеться с Джулией?
– Боюсь, что нет. Ей нездоровится и не до приема гостей. – Он встал и распахнул дверь на выход. – Синьора Кавальканти проводит вас до порога.
Когда она проходила мимо него, Гонзага опустил ей ладонь на плечо.
– Сделай так, чтобы Аббас это послание получил всенепременно. Иначе я об этом все равно узнаю.
Лючия лишь кивнула, будучи не в силах вернуть себе дар речи. Едва лишь дверь за нею затворилась, девушка схватилась за стол в поисках точки опоры. Голова ее шла кругом от страха. Зачем только она позволила брату подбить себя на это?! Все, чего ей хотелось теперь, – это поскорее передать Людовичи послание синьора Гонзаги и навсегда покончить с этим делом.
Глава 21
Дражайший мой Аббас,
Меня отсылают в монастырь в Брешии до самой свадьбы. Времени в обрез. Верю в тебя. Я все-таки сумею выбраться к тебе, но это будет последняя возможность. Дверь на канал теперь от меня навеки заперта, но я найду какой-нибудь другой путь. Жди меня завтра в полночь на Античном мосту. Готова отправиться с тобою, куда захочешь. Жизнь моя отныне в твоих руках.
И да пролетят поскорее часы, остающиеся до завтрашней полуночи!
Джулия.
Он перечитал письмо еще дважды. Людовичи нетерпеливо наблюдал за другом.
– Что пишет?
Аббас порвал пергамент на куски и поднес обрывки к свече. Вскоре на столе остались лишь перистые черные хлопья.
– Ничего, – сказал он.
– Так-таки ничего?
– Ты хороший друг. Не хочу и дальше подвергать тебя опасности.
Аббаса проводили в отцовский кабинет для совещаний в здании Военного министерства. Махмуд оторвался от разложенных перед ним карт Апеннинского полуострова и прилегающих к нему османских владений.
– Что за срочность такая у тебя, чтобы беспокоить меня здесь?
– Прости, отец. Но мне нужны деньги.
– Тебе жалованья офицера моей армии не хватает?
Аббас сделал глубокий вдох.
– Мне придется уехать.
Махмуд выпрямился и заткнул большие пальцы за широкий серебряный пояс. Он живо напомнил Аббасу огромного бурого медведя, некогда виденного им в лесу под Беллуно. В тот раз зверь вот так же предстал перед ним в полный рост, правда с десятью стрелами в спине. Сюда бы лучников, промелькнуло в голове…
– Куда это?
– В Испанию.
– Зачем тебе в Испанию?
– Я тайно встречаюсь с одной женщиной. Мы с нею планируем покинуть Венецию как можно скорее.
Махмуд покачал головой.
– Ты дурак, – сказал он.
– Я люблю ее.
– Я в твоих чувствах смысла не вижу. Ты же нам обоим, считай, головы на плаху положил.
– Когда все свершится, Гонзаге придется с этим смириться. Год, от силы два, – и я вернусь в Венецию.
Махмуд покачал головой.
– К твоей изобретательности еще бы толику ума. Как ты исхитрялся обманывать Гонзагу так долго, я не знаю, но ты даже не помышляй о том, что он когда-либо простит тебя после того, как узнает, что ты наделал. И мне не простит. Он же вспоен змеиным ядом вместо молока.
– После того, как мы обвенчаемся, что он сможет поделать-то?
– Много чего. Кто-нибудь еще знает об этом?
Аббас покачал головой.
– Хорошо.
Удар был столь неожиданно внезапен, что Аббас на ногах не устоял, а просто вдруг оказался на полу со сводчатым потолком перед глазами. В ушах гудело, во рту был вкус крови.
Махмуд поднял его как перышко одной рукой и припер к стене.
– А теперь слушай меня. Я тебя люблю и не позволю разрушить твою собственную жизнь – и мою заодно – по порыву юношеской похоти. Купи себе любовницу, а Джулию Гонзагу оставь в покое. Понял?
Аббас опустил голову отцу на плечо и дождался прояснения чувств. Тут он почувствовал, что хватка отцовских пальцев ослабла. Как только это случилась, он вырвался и, пошатываясь, ринулся прочь.
– Прощай, отец, – сказал он, вываливаясь за дверь.
Никому из Magnifico по закону не полагалось беседовать с капитаном-генералом армии один на один. Члены Consiglio di Dieci пуще всего опасались, как бы кто-либо из знати не попытался использовать их армию против них же. Поэтому Махмуда повсюду сопровождали два сенатора. Были они при нем и тем ранним утром, когда Махмуд ворвался в частные покои Антонио Гонзаги.
Гонзага восседал в дальнем конце помещения спиной к окну со свинцовыми стеклами. За окном на фоне сиреневого неба чернели купола Сан-Марко.
– Мое глубочайшее почтение, преподобный синьор, – пробормотал Махмуд и склонился в поцелуе к рукаву мантии Гонзаги.
– Мне сказали, ты хочешь видеть меня по делу неотложной срочности, – сказал Гонзага, переглянувшись с двумя сенаторами. – И дело это частное, а не государственной важности, если я правильно понял?
Махмуд замялся от смущения. Лучше бы это было обсудить наедине с Гонзагой, но закон не позволял.
– Дело в наивысшей мере деликатное, синьор…
– И оно имеет отношение к делам сердечным, не так ли?
Махмуд с облегчением понял, что Гонзага уже знает. Это упрощало обсуждение при двух сенаторах, которые уже облизывались в предвкушении скандала. Нужно попридержать языки в присутствии этих господ.
– Так вы уже отчасти в курсе событий?
– Знаю только, что некой юной даме достало наглости тайком передавать своей подруге письма от одного зарвавшегося юнца. Отношу это на буйство молодости.
– Мне нужно было убедиться, что вы в курсе ситуации.
– Подобные неосторожности, конечно же, недопустимы. Но я ценю, что вы пришли меня предупредить. Заверяю вас, что мною уже приняты все необходимые меры для пресечения этих глупостей, дабы эти юные особы не отбились от рук.
– С облегчением вижу, что вы хорошо осведомлены.
– Примите мою благодарность, генерал. Но могу я все-таки спросить, как вы сами об этом проведали?
Махмуд чуть помедлил с ответом. Теперь, когда есть все шансы замять скандал в зародыше, какой смысл раскрывать Гонзаге, что сам он своего сына со вчерашнего вечера не видел?
– От самого молодого человека. Его долг – служить Венеции. Как и мой.
– Не расстраивайтесь. У нас все предусмотрено.
Махмуд откланялся. Покидая палаццо, он убеждал себя, что все, в конце концов, обойдется.
Глава 22
Аббас держался в тени. Денег ему хватило на оплату места для них на купеческой галере, отплывающей с утренним отливом, только до Пескары. Как и на что им оттуда добираться до Неаполя и дальше в Испанию, он понятия не имел, но был уверен, что что-нибудь придумает. Главное для него было вызволить Джулию из палаццо Гонзаги и сбежать из Венеции.
Весь тот день Аббас прятался на Джудекке в квартире, которую Людовичи снимал для своей любовницы. Вечером, заглянув его проведать, Людовичи сообщил Аббасу, что солдаты Махмуда рыщут за ним по всему городу и переворачивают вверх дном гостиницы и таверны.
– Что будешь делать?
– За меня не беспокойся, – сказал Аббас. – Я и так тебя сверх всякой меры в это вовлек.
– Игра теперь пошла смертельно серьезная. Я ведь тебя предупреждал.
– Это не игра, и для меня все это изначально было смертельно серьезно. – Аббас кивнул в сторону темноволосой девушки, хмуро наблюдавшей за ними из угла комнаты. – Она все думает, что ты решил ею со мною поделиться. Заверь уже ее, что я сегодня же ночью отсюда уберусь, оставив твой дом и твою любовницу в целости и сохранности.
– И куда отправишься?
– Даже тебе не могу сказать. – Аббас обнял его. – Спасибо тебе. Ты самый лучший друг, какой только может быть у человека.
Людовичи сунул ему в ладонь увесистый кошель. Аббас не протестовал. Без этого ему бы в Пескаре по прибытии было и на хлеб не наскрести.
Куранты на Piazza San Marco пробили полночь, и он поплотнее укутался в плащ. Гондола была пришвартована и ждала его у ступеней под мостом.
Людовичи был прав: он же ничего о ней не знает, подумалось Аббасу. Но ведь любовь – не в знании; познается все лишь в браке. А любовь – это волнение, тайна.
Тень метнулась из проулка по ту сторону моста.
– Джулия!
Аббас ринулся к ней через мост. Завидев его, она повернулась к нему спиной. Но, прежде чем молодой человек успел настичь ее, он услышал топот шагов по мостовой у себя за спиной. Обернулся через плечо: ночной дозор.
– Джулия!
Капюшон соскользнул с ее головы. В неверном свете половинки луны на него из темноты с кривой ухмылкой взирал бородатый незнакомец.
– Что, не похож я на твою красотку? – сказал он. Аббас увидел блеск клинка и ощутил сильный укол острием между ребер. – Может, я и не Джулия, но путь к сердцу мужчины знаю.
Аббас ответил ему ударом колена. Мужчина согнулся пополам и рухнул у его ног. У Аббаса перехватило дыхание. Падая, нападавший полоснул-таки его по боку кинжалом.
Юноша обернулся, выхватывая меч и зная, что прятавшиеся в тени подельники ряженого теперь у него прямо за спиной.
Он попытался было спастись бегством, но поверженный в капюшоне вцепился ему в ногу. Аббас нанес мечом колющий удар сверху вниз и почувствовал хруст кости под лезвием. Мужчина вскрикнул от боли и разжал хватку.
Но его уже окружили. Аббас отступал, пятясь, пока не оказался приперт спиной к холодному камню моста. Он услышал, как его гондольер поспешно отчаливает, отталкиваясь багром от ступеней. И тут же тени ожили; двое подскочили с боков, и оба были отнюдь не столь дерзки и неопытны, как все еще корчившийся у его ног в предсмертных муках первый убийца. Аббас рассек воздух вокруг себя мечом, и эти двое отступили обратно в сумрак.
Но еще одного их сообщника он и заметить не успел. Просто на луну вдруг упала тень, а ему на голову и плечи – сеть. Аббас попытался ее сбросить, но споткнулся об умирающего и упал, и оба они оказались в одном улове. От попыток выпутаться сеть только сильнее затягивалась. Тут еще и умирающий напомнил Аббасу, что с кинжалом до сих пор не распрощался.
Он пронзительно закричал от жгучей боли в лице. Но тут они на него и обрушились, и от удара чем-то тяжелым по затылку юноша провалился в темноту.
Когда он открыл глаза, вокруг не было ни малейшего просвета. Чувствовался лишь затхлый запах застоявшейся в трюме воды и медленный плеск волн о корпус судна. И было там кое-что еще, знакомое ему по полю боя: трупный запах.
Кем бы ни были напавшие на него, это точно были не уличные головорезы ради денег. Они же его вырубили, когда он запутался в сети, и легко могли добить, но делать этого не стали. Он попытался пошевелиться, но обнаружил себя прочно связанным по рукам и ногам. Лицо горело огнем.
Аббас попытался здраво рассудить о своем незавидном положении.
Должно быть, это люди Гонзаги. Если письмо написала Джулия, значит, она его нарочно заманила в эту ловушку; но не исключено, что письмо вышло из-под руки ее отца. Ему хотелось на это надеяться. Но почему они его просто не убили и не швырнули в канал?
Тут донеслись шаги по сходням и мужские голоса. Люк распахнулся, и в трюм хлынул свет факела. Юноша повернул голову и оказался лицом к лицу с тем самым незнакомцем в капюшоне с моста. Тот был мертв. Рядом лежал еще один труп – какая-то старуха в черном с перерезанным горлом.
Он услышал мужской смех. Мучители его были, как на подбор, бородатыми босяками из матросни того пошиба, что вербуется прямо на причале в Маргеро за поденную плату в несколько денариев. Один из них, обдав Аббаса смрадом дешевого вина и немытого тела, склонился над ним и поднес пылающий факел к самому лицу.
– Ну-ка, мальчик мой, поглядим. Неважнецки ты теперь выглядишь, бывший красавчик. Бартоломео-то тебе щеку напополам раскроил, прежде чем помер. Но тебе до этого скоро дела не будет. Даже очень скоро.
Двое других позади него снова разразились смехом.
Он склонился еще ближе к лицу Аббаса.
– А видишь, кто тут рядом с Бартоломео? Это бывшая дуэнья Гонзаги. Настоящий бой нам дала, а как же. Только не особо ей это помогло. Тебе свинью резать доводилось? Было чуток похоже. – Он ухмыльнулся. – Но ей еще повезло по сравнению с тобой, это факт. Тебе еще захочется поменяться с нею местами этой ночкой.
Один из троицы рассек путы на щиколотках, а другой стянул с юноши штаны. Они схватили его за колени и насильно раздвинули ноги. Аббас кричал от ужаса и пытался отбрыкиваться, но они были намного сильнее его.
Первый выхватил нож. Аббас извивался, сопротивляясь. Теперь он знал, почему его не прикончили прямо на Античном мосту.
– Ты хотел, чтобы дочь синьора Гонзаги поигралась с этими игрушками, так ведь? Ну так ты не против, если мы их ей передадим через консиляторе, чтобы он их своей дочери мог лично преподнести?
От ужаса у него разжался мочевой пузырь, и троица заржала.
– Прощайся с ними, мавр, – фыркнул главарь. Лезвие блеснуло в свете факела, и мир обратился в пылающий ад.
Молочный рассвет. Гондолы в черных бархатных драпировках одна за другой выныривали из-под моста Молино и в полной тишине скользили дальше из затона Милосердия через лагуну к кладбищенскому острову Сан-Микеле. Джулия провожала их взглядом, пока они не растворились в тумане.
Отец отсылал ее в монастырь в Брешии дожидаться там того, что сам он называл «радостным случаем ее свадьбы». Она же все думала о своем последнем дневном свидании на борту той гондолы. «Нужно было мне тогда ответить “да”, – думала она. – Это был мой единственный шанс, а я его отринула. Теперь меня точно похоронят заживо».
Часть 3
Весенняя роза
Глава 23
Стамбул, 1528 г.
Поля подсолнухов слепили глаза. По другую сторону Рога в пыльном янтаре за серыми земляными валами проступала рябь города, и некоторые девушки впервые видели такую панораму. Сегодня весь гарем вывезли в каиках – каноэ с навесами – на прогулку по Босфору, сулившую желанное отдохновение от гнетущей монотонности Старого дворца.
Девушки сплетничали на сине-багровых персидских коврах в тени кипарисов, а гедычлы подавали им на серебряных подносах персики и виноград; музыканты услаждали их слух игрой на флейтах и виолах; груды шелковых подушек оберегали их изнеженные тела от грубого соприкосновения с жесткой землей; ручные медведи послушно танцевали перед ними на задних лапах среди изумрудной травы.
Гюльбахар держалась особняком. Одна из ее гедычлы поднесла ей зеркало и держала перед ней, пока она прихорашивалась. Ручка его была инкрустирована сапфирами, а преподнес ей это зеркало в дар лично Сулейман после рождения у них Мустафы. Изучив свое отражение, она поправила выбившийся локон волос.
Остальные девушки внимательно за нею наблюдали.
– А где Хюррем? – вдруг спросила одна из них.
– Кызляр-агасы говорит, что она с Сулейманом, – ответила другая. – Он теперь при ней проводит все дни напролет, не говоря уже о ночах.
Сирхан, черноволосая персиянка, отправила в рот виноградину и сообщила:
– На базарах шепчут, что она ведьма и приворожила Властелина земли каким-то заговором.
– Вы только взгляните на нее, – шепотом сказала другая, глядя на Гюльбахар, которой ее гедычлы как раз принялась расчесывать волосы. – Воистину красавица! Если Владыка жизни даже на нее больше смотреть не желает, у нас-то, остальных, выходит, и вовсе ни малейшего шанса нет, или я не права?
– Так говорят, даже сам великий визирь боится Хюррем, – сказала Сирхан. – Кызляр-агасы мне сказал, что султан теперь с нею и политику свою обсуждает, и за советами о ведении военных кампаний отправляется прямиком к ней.
– У кызляр-агасы плодовитое воображение.
– Он клянется, что это истинная правда.
– Будь так, великий визирь ее давно бы повелел утопить в Босфоре.
– А вдруг он не властен? – сказала Сирхан, и все они погрузились в молчание. Что тут правда, а что домыслы? Разве может кто-то располагать большей властью, чем великий визирь? – В любом случае, Гюльбахар мне жаль, – добавила Сирхан. – Владыка жизни ее обесчестил.
– Так ведь Гюльбахар – по-прежнему первая кадын, – возразила другая девушка. – И однажды она станет валиде-султан. Придет еще ее день.
– Говорят, Аллах наказывает Владыку жизни за то, что сделал ведьму своей кадын. Недаром же его последний сын умер в колыбели.
– Ну так у Хюррем от него по-прежнему еще и три живых сына имеется.
– Только ни один из них в жизни не сравнится с Мустафой, – сказала еще одна девушка. На этом их разговор закончился, а внимание переключилось обратно на пляшущих медведей.
Одну сплетню из числа нашептанных ею кызляром-агасы Сирхан предпочла сохранить при себе: Хюррем замышляет избавиться от Мустафы.
Среди резных киосков и декоративных прудов царила тишина, лишь подчеркиваемая вздохами ветра в кронах каштанов да нежным журчанием воды в опоясанных орнаментами фонтанах на фоне пасущихся на лужайках непуганых газелей.
Сулейману всегда нравилось здесь гулять, собираясь с мыслями и отдыхая от бесконечных требований Дивана и увещеваний гарема. Когда-то он выходил сюда в одиночестве. Позднее стал это делать в сопровождении верной спутницы. Последние пять лет его жизни были воистину многократно благословенны, думал он. По возвращении с охоты в Эдирне вскоре после их первого соития он обнаружил Хюррем уже полнящейся новой жизнью. А в начале следующего года она принесла ему сына.
Восторгов матери султан не разделял. В то время как она праздновала укрепление рода Османов, он погрузился в раздумья о неизбежных будущих конфликтах. Ему ли было не знать, как именно его собственный отец обеспечил ему место на престоле? Сулейман опасался, что и его сыновья пойдут на подобное.
Хюррем была его второй кадын, но всю свою привязанность он переключил именно на нее. Гюльбахар так долго пробыла его единственным светочем, но так и не стала той, с кем он мог бы разделить бремя своего султанства. Эта доля выпала Ибрагиму.
Но когда Ахмед-паша поднял в Египте восстание, Ибрагима пришлось отправить на его подавление. А пока друга не было, он стал обсуждать государственные проблемы с Хюррем, и, к его удивлению, она оказалась не по годам искушенной и обладающей врожденным пониманием тонкостей придворной политики. И Сулейман продолжил доверяться ей и по возвращении друга. Тем более что своей осмотрительностью она выгодно отличалась от не в меру агрессивного Ибрагима.
Она открыла ему целый новый мир. Не в пример безропотной и предсказуемой Гюльбахар Хюррем его раз за разом удивляла. При одном посещении она могла предстать угрюмой, но страстной; при другом – веселой и игривой. Она могла то умиротворять его своим пением и игрой на виоле, то возбуждать своими танцами. Могла предстать перед ним в наряде мальчика в солдатской тунике или в образе танцовщицы в тончайшем газе. Он никогда не знал, чего именно ждать от нее, но она всякий раз являла ему чудеса бесподобного дара предугадывать его настроения.
Правда, ее жажда занятий любовью была богопротивна, и он знал, что рано или поздно он должен будет отослать ее к муфтию на перевоспитание. Но пока что неверная душа ее доставляла ему лишь бесконечные наслаждения. Один возглас экстаза приносил ему больше удовольствия, чем все унижения иностранных послов перед Диваном, вместе взятые.
Хюррем была теперь его единственной радостью; все прочее – долгом.
Сама Хюррем тем временем заботливо выпестовала их дружбу с валиде, а природа помогла скрепить их союз, послав ей еще двух сыновей. Подкачала она лишь на четвертый раз, когда родила двойню. Мальчик Абдулла умер, а его сестре Михримах было теперь три года.
Столь же преданной матерью, как Гюльбахар, она не была, но это Сулеймана не тревожило; он хотел Хюррем всецело для себя.
– Хочу с тобою поговорить, – сказал он ей на прогулке по саду.
– Да, мой господин?
– Это снова венгерский вопрос. Фердинанд отправляет посла на переговоры с нами. Он же не знает, что их князь Запольский еще раньше послал своего человека к Ибрагиму и они обо всем тайно договорились.
Проблему ей объяснять было не нужно; Хюррем и так все узнала о перипетиях внешней политики тех лет, просто внимательно прислушиваясь к нему.
Армия Сулеймана под командованием Ибрагима сокрушила венгров на Дунае в битве при Мохаче двумя годами ранее. Их король при бегстве утонул в болоте, придавленный лошадью. Но, поскольку Венгрия расположена далековато для постоянной оккупации, Сулейман после той победы вывел войска, – и страна обратилась в пустошь, за владычество над которой теперь воюют между собой местные воеводы-разбойники во главе с Запольским и великое семейство Габсбургов в лице Фердинанда. Но ни тем, ни другим к власти над этой землей теперь не прийти без предварительного согласования условий с ним, султаном.
– И каковы твои мысли на этот счет, мой господин?
– А зачем мне теперь вообще иметь дело хоть с тем, хоть с другим? Отныне я сам и есть король Венгрии!
– Да, но тогда тебе каждое лето придется отправлять туда армию на повторное покорение годом ранее завоеванных земель. Однажды ты от этого просто устанешь.
– Приблудные собаки всегда скребутся в дверь, почуяв запах объедков.
– Так заведи себе цепного пса, чтобы их отгонять!
– Запольский – самозванец. Какой из него король?!
– А что есть король? Не корона делает короля, а меч. Сделай Запольского своим цепным псом, и пусть себе носит железяку на голове. А взамен потребуй с него дань и свободный проход для твоей армии. Нет границы – нет вопросов, что ты его хозяин.
– У Запольского не хватит сил сдерживать войска Фердинанда.
– Он сможет удерживать границы до той поры, пока против него там не соберется армия, которая по-настоящему заслуживает твоего внимания. Да и тогда ты еще можешь использовать Запольского для того, чтобы выманить Фердинанда в чистое поле на битву, а там пусть хоть оба канут в болото, как их предшественник.
– Очень даже хорошо. Значит, Запольский?
– Если только мой господин сочтет должным внять моему совету. Я всецело уповаю на твою мудрость.
Сулейман кивнул, вполне удовлетворенный дипломатичностью Хюррем. Воистину редкое сокровище!
Сулейман и Гюльбахар откушали кебабы из баранины на серебряных шампурах под розовую воду из изникских чаш. После того как гедычлы убрала посуду, долго сидели молча.
– Я тебя чем-то обидела, мой господин? – вымолвила наконец Гюльбахар.
– Нет. А что?
– Ты столько месяцев меня не просишь. Если и приходишь, то лишь проведать Мустафу.
– Не тебе с меня спрашивать.
Гюльбахар понурила голову. Сулейману стало ее жалко: она же была доброй женой. Если чего и просила у него, то разве что немного венецианского атласа, багдадского шелка или черепаховый гребень какой. А главное – это же она принесла ему Мустафу.
Он ее обидеть вовсе не хотел, но каждое мгновение с нею порождало невольные сравнения с Хюррем и лишь усиливало его нетерпеливое раздражение.
Наконец он поднялся на ноги. Гюльбахар удивленно взглянула на него снизу вверх.
– Вы уже уходите, мой господин?
– Меня ждут дела государственной важности.
– Хюррем.
Нарушение протокола было непростительным, но Сулейман решил его проигнорировать.
– Мое почтение, сударыня, – сказал он и удалился.
В Старом дворце царил вечный сумрак. Даже летом солнцу было не изгнать все тени из этого лабиринта бесконечных коридоров среди комнат с темными стенами. Это был мир покрытых пылью тусклых светильников и веками не мытых вычурных зеркал. Черноокие женщины с рубинами в волосах проступали и исчезали во мраке лестничных клеток подобно призракам, не дождавшимся своего часа и канувшим в забвение.
Недоброе настроение передалось и Хюррем. «Однажды и меня может ждать подобная участь», – подумала она.
Она ведь так далеко зашла. Подарила ему сыновей и даже исхитрилась отвадить его от этого запущенного склада утех. Все это далось ей нелегко. Вынашивание детей истощало силы, а после родов ей всякий раз приходилось сдаваться на милость Муоми с ее колдовскими массажами и флакончиками со зловонными зельями, чтобы восстановить фигуру. Детей же приходилось доверять кормилицам, чтобы они не иссушили груди ей самой.
Однако все это по-прежнему могло быть с легкостью отнято у нее во мгновение ока.
Прадед Сулеймана, прозванный Завоевателем, создал прецедент на все времена, оставив в наследство потомкам следующий кровавый канун:
Улемы объявили допустимым, что, кто бы из моих достославных детей и внуков ни взошел на престол, он может ради обеспечения мира во всем мире приказать казнить своих братьев. И да будут они отныне и вовеки действовать соответственно.
Она знала, что, умри вдруг Сулейман, новым султаном станет Мустафа. Сама она окажется тогда в лучшем случае в изгнании, а сыновей ее точно истребят.
– Муоми!
Ее гедычлы явилась на зов мгновенно. Она всегда кружила наготове в пределах слышимости за дверью.
– Да, моя госпожа?
– Хочу, чтобы ты сделала для меня одну вещь.
Глава 24
В подвальных каменных кухнях Старого дворца было тесно и душно, пахло специями, потом и паром. От открытых очагов волнами шел жар, воздух полнился дребезгом горшков и чайников. Повара кричали на подручных и друг на друга, а между ними сновали среди всего этого чада и гвалта гедычлы в никабах с блюдами и чаями на подносах.
В такой суете запаренные пажи, слуги и повара попросту не обратили внимания на высокую черную женщину с подносом апельсинов. Да если бы и обратили, то и самые наблюдательные едва ли заметили бы, что пришла она с одним подносом, а ушла с другим.
К четырнадцати годам Мустафа обладал всем, о чем только мог мечтать Сулейман, рисуя себе образ достойного сына и наследника. Как всякий принц, учился он в школе при дворце вместе с отборными призывниками по девширме, уникальной османской системе. Он блестяще владел конем и саблей, был общителен и пользовался авторитетом и популярностью. Он сделался любимцем янычар, собиравшихся поболеть за него на ипподроме во время игр в джерид – конный бой с метанием деревянных копий. И школяром он был одаренным: легко усваивал и Коран, и персидский, и математику.
Однако сегодня сын предстал со сливой над совсем заплывшим правым глазом. Сулейман с притворным ужасом покачал головой, когда тот преклонил колени, чтобы поцеловать перстень с рубином на его правой руке.
– Что это с тобою приключилось?
– Получил копьем, играя в джерид, – ответила за сына Гюльбахар. – Скажи ему, чтобы впредь был поосторожнее. Мои слова до него, похоже, не доходят.
– Мне что, и вправду быть поосторожнее, отец? – спросил Мустафа с усмешкой.
– Тебе нужно поостеречься пропускать удары слишком часто.
– Да он бы целыми днями в седле проводил, будь на то его воля, – сказала Гюльбахар.
– В этом нет ничего плохого. Были же времена, когда у рода Османов не было ни дворцов, чтобы рассиживаться, ни законов, чтобы над ними корпеть. Так что хорошо, что будущий султан прочувствовал, каково это – быть в седле.
Надо же, какой высокий мальчик вырос, подумал Сулейман. Сын уже был ростом с него самого, хотя борода только начала пробиваться на его лице. Глаза горели юношеской жаждой жизни. «А я в его возрасте пребывал в полном ужасе и лишь гадал, когда уже тень Селима упадет на мое лицо. Слава Аллаху, что избавил Мустафу от подобного отца».
Гюльбахар села на диван и сложила руки на коленях.
– А теперь оставь нас, Мустафа, я хочу поговорить с владыкой жизни наедине.
Мустафа сказал салам отцу, поцеловал в щеку мать и покинул комнату.
– Ты с ним слишком сурова, – сказал Сулейман сразу после ухода сына.
– Приходится. Он – все, что у меня есть.
– Юноше нужно вкушать радостей юности, пока это возможно. А обязанностей у него так или иначе скоро будет предостаточно.
– Каждый день он приносит с ипподрома какую-нибудь новую травму. На прошлой неделе трижды вылетел из седла. А что, если его убьют в этой дурацкой игре?
– На все воля Аллаха.
– Тебя что, даже не тревожит, что с ним может случиться?
– Султан должен быть еще и воином, а не только правителем. А от шрамов с ипподрома он только окрепнет. Сама-то ты как?
– Тебя это разве интересует? Ты ведь приходишь сюда только ради того, чтобы увидеться с Мустафой.
– Это мое право.
– А у меня, значит, никаких прав больше нет?
Ей не нужно было ему об этом напоминать. Он и так знал, что пренебрег своим долгом, не явившись к Гюльбахар в ту ночь, когда настал ее черед. Каждой кадын, согласно обычаю, причиталось не менее одной ночи в неделю наедине с султаном.
Но она тут не хозяйка, чтобы его попрекать! Он вскочил на ноги.
– Ты, может, и первая кадын, но ты по-прежнему моя рабыня. Вот и соизволь делать как я тебе велю, и не смей ничего и никогда спрашивать с меня.
– А ведь было время, когда тебе и в голову бы не пришло разговаривать со мною на таких тонах, – пробормотала она, понурив голову. – Вот ведь до чего Хюррем тебя околдовала. Она хочет владычества над всем гаремом – включая даже тебя.
– А ты разве не этого же хочешь?
Она подняла глаза.
– Я хочу просто служить тебе.
– Вот и служи мне тем, что будешь отныне хранить молчание, – сказал он.
Поздним вечером после последней молитвы безмолвные пажи принесли Мустафе ужин на золотом подносе. Там были мелкие кубики пряного жареного мяса, фаршированные рисом кабачки, инжир в сметане и свежие апельсины.
Еду подали в сине-белых фарфоровых чашах с филигранной ручной росписью. Слуга, как заведено, отведал понемногу каждого блюда, чтобы удостовериться в отсутствии яда, и, поклонившись, удалился. Мустафа сидел, скрестив ноги, на ковре и вкушал трапезу в полной тишине. Время от времени он поднимал указательный палец правой руки, и по этому знаку паж, сделав шаг вперед, подливал ему в золотой кубок шербета.
Покончив с едой, Мустафа выбрал себе апельсин, содрал кожу с одного бока и попробовал плод на вкус: суховат и кисловат. Он бросил цитрус на поднос и отодвинул тот от себя, давая понять, что трапеза окончена.
