Читать онлайн Карамора и другие сказки чёрного таракана бесплатно
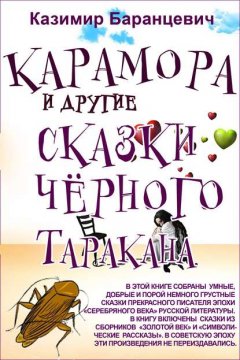
Сказки чёрного таракана
Вместо предисловия
Нужно сказать, что это был очень большой и очень старый таракан. Когда я его увидел в первый раз на стене, около водопроводной раковины, то усомнился даже, – таракан ли это, – до того он был велик; – но потом, когда я увидел его уже на дне раковины, в компании с другими тараканами, когда увидел, как все они, собравшись в кучу, шептались о чём-то, тихонько поводя усами, сомнение исчезло, я убедился, что это был, точно, таракан.
Он был, по-видимому, предводителем, старшиною тараканов; редко я его видел одиноким, всегда его окружало несколько штук соотчичей, и всегда они о чем-то шептались, точно вели совещания.
Когда я случайно, с лампою в руках, появлялся в маленькой комнатке, служившей умывальной, – все тараканы поспешно убегали из раковины и прятались по щелям, все, кроме большого, старого таракана, который со дна медленно взбирался на край раковины и, поводя своими большими усами, мужественно ждал.
Он ждал, может быть, что я, движением пальца, сброшу его на пол, растопчу ногою, – полагаю, что моё появление не могло сулить ему ничего хорошего; – и тем не менее он не уходил, а ждал.
Дело кончалось тем, что уходил обыкновенно я. Ах, не смейтесь, пожалуйста! Я человек и, конечно, смышлёнее и сильнее какого-нибудь таракана. Мне ничего не стоило ошпарить его кипятком, как делают кухарки, и таким образом предать беднягу мучительной смерти, наконец, убить его одним щелчком, всё это делалось так просто, но я не решался ни на то, ни на другое. Меня останавливало уважение к мужеству таракана. Он не боялся меня, и это заставляло меня задумываться над свойствами непрошенного гостя водопроводной раковины.
«Очевидно, он храбрее и сильнее всех остальных тараканов, – думал я, – Но неужели он и умнее их?» Храбрость и сила – признаки физического превосходства, но не умственного (так, по крайней мере, очень часто наблюдается у нас, у людей).
Неужели он глупее остальных своих товарищей, убегавших при моем появлении? Однако, он как будто знал, что я не покушусь на его жизнь, и оставался на месте. Значит, он умнее их. Эти вопросы так сильно занимали меня, что я, наконец, решился, по мере возможности, ближе изучить моего таракана.
Сперва нужно было сделать так, чтобы тараканы не разбегались при моём появлении с лампой. Прежде всего, чего они боялись? Конечно, света! Значит, нужно было приучить их к свету. Для этого я прикрепил на стену никогда не освещавшейся умывальной небольшую лампочку, которая давала очень слабый свет, но, все-таки, такой, при котором видны были тараканы. Лампочка должна была гореть с утра до ночи.
В первый вечер тараканы ушли и не появлялись. Даже мой Смельчак (так я прозвал большого таракана) хотя по-прежнему остался в раковине, но затем ушел, с удивлением, как мне казалось, пошевеливая усами. Очевидно, он был недоволен и смущен непривычным освещением.
Во второй вечер (при моем появлении) Смельчак остался, хотя не двигался с места, а только быстро и сердито поводил усами; в третий – все тараканы находились в раковине и разбежались только, когда я вошел.
Теперь нужно было приучить их к моему присутствию в этой комнате.
Ради изучения этих занимательных тварей, я решился пожертвовать удобством моего кабинета и велел перенести любимое кресло в умывальную. Слуга, которому я отдал это приказание, не мог скрыть своего удивления и заставил меня по крайней мере раза три повторить его.
Кресло было поставлено в недалеком расстоянии от раковины, я сел в него и приготовился наблюдать. Не скрою, что вначале мне было порядочно скучно, так как наблюдать, кроме Смельчака, было некого; остальные тараканы разбежались и не показывались, да и сам Смельчак стоял неподвижно и только быстро, быстро, и с очень недовольным видом, шевелил усами.
Так прошли вечер и часть ночи.
Во второй вечер к Смельчаку подошел один таракан, стал очень близко, пошептался и сходил ещё за одним, затем все трое разгуливали по раковине, шепчась и потрагивая друг друга усами. Остальные выглядывали, по всей вероятности, из щелей, и, не решаясь показаться, завидовали положению товарищей.
На третий вечер любопытство, жажда и пример товарищей побудили и остальных спуститься в раковину. С каким наслаждением после обильного, жирного обеда, приготовленного для них неряшеством моей кухарки, они пили чистую воду, скопившуюся на дне раковины от капель, сочившихся из крана!
Короче сказать, через пять вечеров я совершенно освоился с тараканами, и, что еще важнее, тараканы освоились со мною.
Правда, они не ползали по моему платью, по рукам и лицу, а ходили по раковине или сидели, собравшись в кучу, но они меня уже не боялись, свободно предаваясь своему таинственному шёпоту. И вот, наконец, я узнал, что это был за шёпот! Представьте, Смельчак рассказывал им сказки, те сказки, которые я хочу здесь предложить!
Не удивляйтесь и не спрашивайте меня, как я постиг речь тараканов, – покуда это моя тайна. Впоследствии, может быть, я вам её открою; может быть, эта тайна сама обнаружится перед вами, – не знаю.
А теперь послушаем, о чем нашептывал своим товарищам старый, черный таракан.
I. Волшебный платок
… «Я жил тогда в очень небольшой семье и, конечно, не пользовался такими изысканными кушаньями, какими угощает нас здешняя кухарка.
Вместо спаржи и цветной капусты, – которую, кстати сказать, я очень люблю, если она приправлена хорошим, сливочным маслом с сухарями, – приходилось питаться сухими корочками хлеба. да и то в очень ограниченном количестве. Бабушка, – её все звали бабушкой, должно быть, потому, что она была старая-престарая, сморщенная и даже страшная. – хотя добрая-предобрая, – итак, бабушка была очень опрятная, бережливая хозяйка. Ничего-то у неё не заваляется, не пропадет, – корки хлеба не сыщешь. Бродишь, бродишь по столу, по полу, все углы обшаришь, просто одурь возьмёт! Подумывал я даже переселиться из этой квартиры в другую, и непременно переселился бы, потому что в ней, мало того, что было голодно, но по зимам и холодно, – да очень уж мне не хотелось расставаться с одной из внучек домовитой бабушки. Всех внучек у ней было три, – всех их называли по именам, да имена-то их я перезабыл и помню только, как сам назвал. Старшую, лет 14, я назвал Модницей потому, что она ужасно любила наряжаться. Как увидит на ком что-нибудь модное из одежды, придет к бабушке и начнет приставать: – «Купи, бабушка, то, купи другое! Мне хочется это и это иметь!»
– Что ты, голубушка, откуда мне денег взять! – ответит бабушка. И точно, откуда было взять денег старухе? Раз в месяц ходила бабушка куда-то далеко-далеко: на целый день, бывало, уйдет и принесёт какие-то бумажки, заберётся в свой уголок, начнёт считать, да так горестно головою качает. Видно, мало! Я в бумажках толку не понимаю, и до сих пор удивляюсь. как это у людей на бумажки можно доставать и хлеб, и говядину!
А бабушка, хоть понемногу, а доставала, и того, и другого. Вот только на наряды уж не оставалось ничего, и наша Модница сердилась и скучала.
Сколько раз я слышал, как она, остановившись перед зеркалом, с грустной усмешкой, осматривала своё скромное, ситцевое платьице и говорила, про себя:
– Боже мой, какая я несчастная! Ах, за что я такая несчастная!?
Так как всё несчастье девочки состояло в том, насколько я мог понять, что вместо шёлковых или шерстяных платьев ей приходилось носить ситцевые, то я не мог ей сочувствовать и, сидя у себя за печкой, даже удивлялся людской, глупости! Подумайте сами! Люди здоровы, сыты, могут делать, что хотят, считают себя выше и разумнее нас, тараканов, и вдруг плачут оттого, что не могут надеть лучшее платье! Ну не смешно ли, право!
Вторую внучку, которой было 13 лет, я прозвал Кокеткой. Это была очень недурненькая девочка с белыми, как лён, волосами и серыми, веселыми глазками. Она была не особенно умна, но подвижна, обладала добрым, отзывчивым сердцем, и я, пожалуй, полюбил бы эту девочку, если бы у неё не было большого недостатка, – кокетства. Она была только что недурна, – например, её маленький, вздернутый носик не мог служить украшением её лица; а между тем, она считала себя красавицей, да еще какой, чуть ли не первой в мире! Она мирилась и с ситцевым платьем, и с простыми башмаками на ремешке. а не на пуговицах, но зато тормошила бедную бабушку, прося купить ей то цветочек, то ленточку, то еще какое-нибудь украшение к её костюму. Она ходила вся обвешанная разными цветными ленточками и могла по получасу стоять перед зеркалом, любуясь своими тряпками, улыбаясь самой себе, поворачивая голову то направо, то налево. Сажей она чернила себе брови и ресницы и, случалось, за неимением настоящих ленточек, делала их себе из цветной бумаги.
И эту девочку, несмотря на то, что она была добра, я не любил и опять-таки удивлялся, как это люди могут только и думать что о самих себе, о том, как бы разными тряпками и бумажками облепить себя и ходить, воображая, что ты всем нравишься, что все не сводят с тебя глаз?
Теперь осталась моя любимица, – третья внучка, и, право, стоит только мне ее вспомнить, так сейчас же хочется про неё говорить, говорить без конца. Что это была за девочка! Я прозвал ее: Простенькая, и, полагаю, лучшего имени не придумаешь. Она была совсем, совсем простая и, право, столько же думала о себе, как о летошнем снеге. Никогда я не слышала чтобы она сказала – «я этого хочу, мне это не нравится», – никогда она не говорила о себе! Никогда она не обращала внимания на то, как она одета, что бабушка дала ей кушать. А между тем, в то время, как у Модницы её новое, шерстяное платье, которое она выпросила-таки у бабушки, оказалось разорванным, а она так и ходила с прорехою, – ситцевое, тёмное платьице Простенькой было всегда чисто, без пятнышка, и там, где оно прорвалось от ветхости, так искусно заштопано девочкой, что нужно было долго искать, чтобы найти это место.
Простенькая, обыкновенно, занималась хозяйством: она стряпала, стирала, гладила на бабушку и на обеих сестер. Бабушка была уж очень стара, часто хворала и лежала в своем уголке за печкой, а Модница и Кокетка целые дни проводили у окна, глазея на прохожих и мечтая о том, как обе будут блистать в свете: одна нарядами, другая – красотой.
– Я буду актрисой! – говорила Модница, – актрисы одеваются лучше всех!
– А я выйду замуж за богатого! – говорила Кокетка, – и сейчас велю с себя снять сто дюжин фотокарточек.
Я слушал их речи и только поводил усами. Подумайте сами! Ведь актрисы, настоящие актрисы, – не только одеваются нарядно, но и трудятся; каков там ни будь талант, а нужно учить роли, нужно репетировать, – глядишь, день и ушёл, а вечером представление, тут еще больше нужно трудиться, еще больше уставать.
Простенькая ничего не говорила, никуда не метила, всё на кухне да на кухне, а когда суп сварится, она накроет на стол, да позовёт бабушку и сестер: идите, мол, обедать!
Вот, однажды, бабушка ходила куда-то там за деньгами и вернулась с обновкой – голубым платком. Платок был простой, ситцевый и куплен был за недорогую цепу у татарина; но так как всякая обновка обязательно отдавалась первой Моднице, то бабушка, хоть и на старости лет, а схитрила… и, отдавая платок, сказала, что купила его в магазине и заплатила за него не дёшево.
Модница едва взяла его в руку, сейчас же узнала, что он ситцевый и с презрением швырнула на пол.
Кокетка была добрая. Она подняла платок и сказала:
– Зачем ты обижаешь бабушку? Если платок тебе; не нравится, я возьму его себе!
– Возьми, пожалуйста! Все равно. я носить не буду! – сказала Модница.
Кокетка подошла к зеркалу и примерила на голове платок. И едва лишь она надела платок, верите ли, нет ли, она мне показалась такой красавицей, что ни в сказке сказать, ни пером описать.
Открыть ли вам секрет? Платок-то был волшебный, вот оно что! А волшебство его заключалось в том, что тому, кто имел его при себе, он давал красоту, успех во всём и счастье.
И покуда Кокетка носила его, она не сделалась, правда, умнее, потому что ума у неё не было, – но стала до того красивой, что люди и взаправду начали заглядываться на неё.
И Кокетка уже не отходила от окна…
Но скоро платок загрязнился. Вместо того, чтобы выстирать его и надеть снова, Кокетка (бросила его за кровать, – это была её обычная повадка обращаться с вещами, которые ей больше не нравились).
Убирая комнату, Простенькая нашла грязный платок, выстирала его вместе с другими вещами, и чистенький, выглаженный подала Кокетке.
– Ах, как он полинял! – воскликнула та, взглянув на платок. – Фу, какой он скверный! Он мне не нравится, возьми его себе!
И едва лишь Простенькая надела платок себе на шею, как вдруг преобразилась: сделалась красавицей. Да какой! Еще краше, чем была в нём Кокетка!
Но никто, кроме меня, этого не замечал. Люди, живущие вместе, никогда не замечают перемен, происходящих друг у друга; им всё кажется, – сколько бы лет ни прошло, – что они всё те же. Ни Модница, ни Кокетка, ни даже бабушка не замечали, как похорошела Простенькая: им всё казалось, что она дурнушка, и что её назначение быть постоянно на кухне да служить сёстрам.
Так прошло несколько лет. Бабушка, старилась, хирела, не могла уже выходить из дому, а всё лежала в своем углу, да охала. У неё, как у всякого больного, и при том старого человека, были свои причуды и прихоти: она ворчала на внучек, сердилась; всё ей не нравилось, всё было не по ней. Старшие не обращали внимания на её воркотню, часто даже делали наперекор старухе и, несмотря на это, странное дело, она меньше ворчала на них; но Простенькой, которая всегда участливо относилась к бабушке, берегла её, холила, кормила из своих рук, – доставалось за всех троих. Бабушка почему-то страшно сердилась на нее, ворчала, с утра до ночи. Внучка спокойно и мужественно переносила свою участь. Ей помогал волшебный платок, который она, – вовсе не зная, что он волшебный, – постоянно носила на шее. Просто, ей было нечего надеть, до того она обносилась: всё, что было ещё лучшего из одежды в доме, носили обе старшие сестры.
Но вот бабушка умерла, и сёстрам пришлось еще хуже. Покуда была жива бабушка, Простенькая ходила вместо неё куда-то и приносила деньги. Теперь и этого не стало.
В день похорон бабушки, обе старшие сестры плакали: они жалели, конечно, всего больше себя, думая о том, как им придется жить.
Простенькая тоже плакала; ей одной было искренно жаль бабушку, потому что она чувствовала, что хотя та ее и бранила, но в душе всё-таки, любила свою внучку и желала ей добра. О себе Простенькая не думала: она знала, что не пропадёт и без бабушки.
Я забыл вам сказать, что в доме, где жила старуха с внучками, поселился старичок-художник, и так как он имел обыкновение заниматься у окна. выходившего на двор, то Простенькая, проходя мимо, останавливалась иногда, чтобы посмотреть на его работу. Художник, видя, что девушке нравятся его картины, однажды позвал ее к себе и показал, как он работает.
Простенькой понравилось его искусство, и художник, видя это, стал ее учить.
И опять же я должен сказать, что и тут дело не обошлось без волшебного платка потому что чем же, как не волшебством, можно объяснить то обстоятельство, что через какой-нибудь месяц Простенькая научилась рисовать по фарфору.
Да как рисовать! Уж на что мы, тараканы, любим бродить по блюдечкам, чашкам, тарелкам, в особенности, если на них что-нибудь осталось, что может прийтись нам по вкусу, а я ни разу не решался прогуляться по свежему рисунку Простенькой, – до того это было хорошо сделано! Такое небо, такие цветы, какие рисовала девушка, можно было найти только в воде, а вода у неё выходила такая, что так и хотелось сесть в лодочку и покататься.
А старшие сёстры подтрунивали над Простенькой.
– Ну, что ты заработаешь своими рисунками? Какой-нибудь грош! – говорила Модница; – Уж если так тебе хочется пачкаться в красках, – рисовала бы лучше портреты!
– Конечно! – восклицала Кокетка, – нарисовала бы меня… да не один, а много, много раз: наверное, нашлись бы покупатели.
– Я рисую для себя, а не на продажу! – скромно отвечала Простенькая, брала кисть и усердно, подолгу работала над каким-нибудь цветком.
Зато и выходил он у неё, как живой.
И вот, когда бабушка умерла, настало время, когда сёстрам нужно было позаботиться о себе. Тут-то и оказалось, что обе старшие ничего не знали, ничего не умели. Привыкнув жить на чужой счет, они даже не чувствовали желания чем-нибудь заняться, им было неприятно думать о каком бы то ни было труде.
По-прежнему обе сидели у окна, смотрели на улицу и от безделья ссорились между собою. Однако, когда наступало время обеда, то обе, голодные, шли на кухню и спрашивали Простенькую, которая по-прежнему хлопотала около плиты:
– Скоро ли обед? Чем ты нас сегодня накормишь?
Им и в голову не приходило спросить, откуда, Простенькая брала деньги на провизию, – до того они привыкли жить на всём готовом.
Откуда же, в самом деле, явились деньги у Простенькой?
Когда она издержала последний двугривенный оставшийся после бабушки, она отправилась за советом к старичку-художнику.
Старичок подумал, подумал и сказал:
– Юношей я был в таком же положении, как вы. Я остался сиротой и без гроша. Тогда я попробовал отнести свои рисунки в магазин картин; рисунки мои понравились, их купили у меня и заказали сделать ещё. Так я и начал жить. Сделаем ещё раз пробу. Дайте мне ваши работы, я их отнесу в один магазин, там не возьмут, – попробую отнести в другой. Почем знать, – может быть, и удастся. А самое лучшее, – пойдёмте вместе.
Так они и сделали. Когда я смотрел из своей щёлки, как одевается Простенькая, собираясь идти в магазин, я боялся, что она не наденет голубого платка. Тогда бы всё пропало! Я был уверен, что девушку постигнет неудача.
Но она надела именно этот платок и вернулась радостная, сияющая. Платок показать свою волшебную силу: – работы Простенькой понравились хозяину магазина, и он тут же купил их.
Так вот откуда появлялись деньги у Простенькой! Работая по хозяйству, она уделяла несколько часов в сутки на свои занятия живописью и на скудный заработок кормила и содержала обеих сестёр.
Конечно, такая скромная, даже бедная жизнь была не по нутру сёстрам. Модница изо всех сил старалась поступить на сцену и добилась-таки своего, – поступила. Она тотчас же переехала от сестёр на свою квартиру. Но должно быть то, чего она так добивалась, не удовлетворяло ее, должно быть, платили ей мало, и жить ей было тяжело, потому что в дни, когда она заходила к сёстрам, я видел её грустной, с заплаканными глазами. Она похудела, исчез румянец с её щек, исчезла её самонадеянная весёлость. Я догадывался, что жизнь, которую она вела, была губительна для её здоровья. Ночи без сна, тяжёлый воздух за кулисами и на сцене, холод, сквозной ветер, – всё это могло испортить какое угодно здоровье. Если бы еще у неё был талант, то успехи на сцене, одобрение публики могли бы её вознаградить за те жертвы, которые она приносила искусству; но таланта у неё не было, и она, недовольная, озлобленная, затерялась в толпе.
Кокетка тоже была недовольна своею жизнью, Замуж она не вышла, а страсть к кокетству довела её до того, что люди стали показывать на нее пальцами и смеяться. То, что простительно было девочке, во взрослой девушке вызывало насмешки и глумления, и люди, глядя на цветные бумажки и пёстрые ленточки, украшавшие платья Кокетки, называли ее сумасшедшей.
– Смотрите, смотрите, сумасшедшая идёт! – кричали мальчишки, завидя издали Кокетку, показывали ей язык, а некоторые, посмелее, даже дёргали её за платье.
Случалось, что в это время выходила Простенькая. Тогда она брала сестру за руку и уводила домой.
Сердце её надрывалось и болело за сестру, но она садилась за работу и в труде забывала все огорчения. Труд – любимый, осмысленный труд превозмогает всё!
Теперь она зарабатывала столько, что была обеспечена во всём.
Так как занятия по хозяйству мешали живописи и отнимали много времени, она наняла женщину-стряпуху, а сама отдалась исключительно своей работе.
Каждая вещь, выходившая из-под её рук, была так художественна, что ее уговорили послать несколько работ на выставку. Ей присудили одну из первых наград. Но высшей наградой для неё были слова старичка-художника, сказавшего, что положения переменились, и что теперь ему не мешало бы поучиться у своей бывшей ученицы.
Вместе с актёрами Модница уехала в провинцию. Больше двух лет Простенькая не получала от неё писем, не имела: о ней никаких известий, как вдруг однажды, в зимний вечер кто-то сильно позвонил у дверей квартиры.
Простенькая побежала отворить и… столкнулась с сестрою. Худая, бледная, – она едва держалась на ногах.
Простенькая бросилась ухаживать за нею. Радостно сжимая в объятиях, она усадила ее в кресло, освободила ее от шубки, платков, велела приготовить чай.
– Ну, скажи, как, когда ты приехала? Где была? Отчего ты не писала, не отвечала на мои письма? Как здоровье твоё? – спрашивала Простенькая.
Вместо ответа, сестра обвела комнату своими большими, черными глазами, закашлялась, поднесла ко рту платок, и на нем показалось пятно крови.
– Боже мой! Что это? Ты больна?
Излишний был этот вопрос. Стоило взглянуть на эту страшно исхудавшую женщину, на её костлявые руки и плечи, чтоб понять, что Модница пришла к сестре умереть.
И тогда настали тяжёлые, скорбные дни! Как, бывало, бабушку, – Модница мучила сестру прихотями, вспышками беспричинного гнева, упрёками, жалобами на судьбу, и, оскорбив её, горячей рукой брала её руку и говорила:
– Я обидела тебя? Прости! Не буду больше! Мне, так тяжело.
Да, ей было тяжело! Вся её неудавшаяся, испорченная жизнь проходила перед ней в мучительных воспоминаниях. В горячечном бреду она переживала своё прошлое, она разговаривала с людьми, которых не было вокруг неё, она отгоняла от себя призраки своего больного воображения, хрипло, задыхаясь от кашля, кричала: – «Прочь, прочь, не подходите ко мне!» Она смешивала сестёр с лицами представлений, в которых она играла, называла их именами, она металась, не зная покоя ни ночью, ни днем.
– Посмотри, как идет мне это платье! В нём я – настоящая королева, не правда ли? – говорила она и вдруг заливалась горькими слезами, вызванными какими-нибудь неясно мелькнувшими воспоминаниями из дней детства.
Как она хотела покоя, как молила о нём, и не было ей покоя ни, ночью, ни днем, – злая болезнь мучила, терзала её неустанно; и, казалось, конца не будет этим мучениям!
И вот однажды, в глухую зимнюю полночь, она ясным, твёрдым голосом позвала сестру.
Та явилась тотчас.
С того вечера, как приехала Модница, Простенькая не знала настоящего сна. Она даже не раздевалась и спала сидя, чутко, сквозь дрему, прислушиваясь, не зовёт ли сестра.
– У меня какой-то странный, непонятный страх! – сказала старшая сестра, – дай мне руку!
Простенькая взяла ее за руку.
– Мне холодно… плечам… накрой меня чем-нибудь.
Простенькая схватила первое, что ей попалось под руку, и накрыла сестру. Это был голубой платок.
Неземное, спокойствие разлилось по лицу старшей сестры. Черты лица, искажённые до той минуты страданиями, разгладились и приняли выражение строгой вдумчивости, и всё тело, измученное, истерзанное болью, вытянулось и застыло в отрадном покое. И в комнате вдруг всё стало тихо и спокойно.
На коленях, приникнув головою к краю постели, неслышно, тихо плакала младшая сестра…
Знаете ли, друзья моя, иногда я забегало в квартиру Простенькой, чтобы посмотреть на её теперешнее житьё-бытьё. Как у неё чисто, опрятно, каким миром веет от стен этой скромной квартирки, как хорошо чувствуешь себя в ней!
В ней нет излишней, надутой роскоши, нет ничего такого, что бросалось бы в глаза, – это квартира трудящейся женщины. В уютной спальне Простенькой есть небольшой, черного дерева шкафчик, а в нём спрятаны вещи, с которыми соединены семейные воспоминания. В каждом доме вы найдёте такие вещи, – это или крестик, или клочок бумажки с белыми, как лён, волосами сына или дочери, куколка с разбитой головой, полинялый, оловянный солдатик, иногда пожелтелый листок почтовой бумаги, исписанный кругом, на котором уже выцвели чернила; иногда пучок засохших цветов.
В шкафчике из чёрного дерева хранятся две вещи: недовязанный чулок, – работа бабушки, и совсем ветхий, превратившийся в тряпку, когда-то голубой платок, – эти два воспоминания последних минут жизни двух любимых существ.
Чаще всего я застаю хозяйку за работой, – но уже не на кухне, как было прежде, а в просторной, светлой комнате, стены которой увешаны картинами и образчиками работ Простенькой…
Иногда в эту комнату заходить странного вида исхудавшая женщина с сумасшедшим блеском в глазах. Платье её пестрит нашитыми на нём разноцветными лоскутками, пальцы унизаны медными кольцами, с цветными стеклами вместо камней, на голове её с распущенными волосами, красуется измятый венок из бумажных цветов…
Простенькая усаживает в кресло свою бедную сестру, старается развлечь её разговорами, предупреждает малейшее её желание, малейшую прихоть. Когда уж ей очень жаль станет сестры, и невольные слёзы набегут на её глаза, она поворачивает в сторону своё милое лицо, быстро, украдкой, вытирает слезы, пробует рассмеяться и хоть чем-нибудь рассмешить сестру…
II. Старая лампа
– Мне кажется, что вам как будто понравилась моя первая сказка? – так начал Смельчак, когда на следующий вечер все тараканы снова собрались вокруг него на дне раковины, – Если я только не ошибся, то это дает мне смелость рассказать вам еще одну?
– Конечно, конечно! – зашумели тараканы и начали усиленно шевелить усами. – Расскажи, пожалуйста!
– Ну, хорошо, я расскажу вам про одну старую лампу.
– Тоже волшебную? – спросил один таракан побойчее.
– Пожалуй, немножко и волшебную. Ну, да узнаете сами! Итак, я начинаю… Жил на свете один молодой человек. Он был хорошего происхождения, богат, весел, обладал цветущим здоровьем и мог бы служить образчиком для всех молодых людей, если бы получил хорошее воспитание. Родители его не жалели средств ни на его воспитание, ни на образование, нанимали гувернёров учителей, но или гувернёры были плохи, или сами родители не сумели воспитать своего сына, как следует, не знаю, но только молодой человек получил дурное воспитание. Он был очень образован, знал множество наук, говорил на нескольких языках, и в то же время причинял столько зла и даже горя окружавшим, что его перестали любить.
Родители его умерли, назначив ему опекуном и наставником одного почтенного, старого учёного. Это был очень образованный и добрый человек, он старался изо всех сил перевоспитать юношу, но это ему никак не удавалось. Ученый был в отчаянии. Он уже подумывал отправить своего ученика, в чужие края одного, без слуг и даже без всяких средств, рассчитывая, что жизнь научит молодого человека уму-разуму; но это была, такая решительная и опасная мера, над которой стоило подумать, да, хорошенько подумать. Могло случиться и худшее! Скитаясь по свету без мудрого советника, без поддержки, молодой человек мог попасть в дурное общество и пропасть окончательно. Не зная, на что решиться, наставник зашел однажды к старому своему товарищу, тоже учёному, с целью попросить его совета.
– Право, не знаю, чем могу помочь! – ответил тот. – Разве ты не пробовал указать ему на примеры из истории?
– Пробовал сколько раз, но эти примеры он не хочет понять, как следует, а понимает их наоборот, по-своему.
– Да откуда же у него это «своё»? Ведь ты был его наставником.
– То-то и оно, что я сделался его наставником совсем недавно, а раньше были другие, которые, боюсь, испортили его.
Товарищ задумался.
– Вот что! – сказал он, наконец, – я дам тебе одну вещь, с которою я готов расстаться только потому, что она уже сослужила мне свою службу, и больше того, что я знаю, она уже ничему меня не научит. Это моя рабочая лампа.
– Лампа? – воскликнул наставник, – помилуй, чему же может научить лампа?
– Всякая другая – ничему, но моя лампа совсем особенная. Стоит только её зажечь и поставить на стол, за которым я работаю, она начинает мне напевать удивительные вещи! Когда я был молод, думал только о собственном благе, вёл пустую, рассеянную жизнь, она мне говорила о высоких подвигах самопожертвования для ближнего моего, о спасительном воздействии труда, о радостях познания окружающего нас мира; теперь, когда я состарился, когда, сердце моё очерствело и недоверие, и нелюбовь к людям закрадываются в мою душу, она и теперь учит меня не терять веры в человечество прощать и снисходить к тем которые не ведают, что творят.
– О, это удивительная лампа! – воскликнул восхищённый наставник. – Если тебе не жаль расстаться с этой чудной лампой, то дай мне её сейчас!
– Изволь! – ответил товарищ, – только будь осторожен, не разбей её. Она так хрупка, что при малейшей неосторожности может сломаться.
Он вынес из другой комнаты с виду совсем простую и старую лампу и вручил ее товарищу.
Тот принес её в дом своего ученика и поставил на письменный стол, не сообщил молодому человеку ничего о чудной силе лампы, а сказал только, что он её дарит ему.
Юноша усмехнулся про себя. Он привык не к таким подаркам, но, не желая огорчить наставника, ничего ему не сказал, а подумал, однако, что наставник становится стар, впадает в младенчество до того, что начинает дарить никуда негодные старые вещи, и что хорошо бы было как-нибудь его удалить.
Но он вскоре забыл о подарке наставника, тем более, что ему редко случалось присаживаться к письменному столу.
Однажды, в обществе, он поспорил с приятелем и, так как был человек не сдержанный, сказал ему резкое слово. Произошла ссора. Чувствуя себя оскорблённым, молодой человек уехал домой, и, войдя в кабинет, решил, что напишет, в свою очередь, приятелю оскорбительное письмо.
Слуга зажёг лампу. Молодой человек сел к столу, обмакнул перо в чернильницу и только что хотел начать писать, как задумался. Ему показалось, что кто-то нашёптывает ему совсем не те мысли и речи, которые он хотел изложить в письме к оскорбившему его человеку.
Какие усилия ни делал над собою юноша, сколько ни принимался он начинать писать, зачеркивать и снова писать, – того, что он хотел, не выходило.
«К чему, – думал он, – я буду оскорблять своего друга, – ведь мы с ним давнишние друзья! Положим, он меня оскорбил, но неужели тут участвовала злая воля? Не было ли это нечаянно сорвавшееся с языка слово? Не мучается ли он теперь, что сказал мне его, и не есть ли это самое сильное наказание, которое он уже заслужил? Положим, я напишу ему оскорбительное письмо, – что же из этого выйдет? Под влиянием того же чувства мести он ответит мне такими же письмами или снова оскорбит меня словесно и нашей дружбе наконец. А между тем сколько в ней было хорошего! Много лет мы провели неразлучно вместе; мы делились мыслями, впечатлениями, много раз он заступался за меня, брал мою вину на себя, однажды, когда я чуть не утонул, купаясь, – он спас меня! И всё это будет забыто, мы разойдемся и сделаемся врагами из-за одного слова, сказанного необдуманно, невзначай, слова, в котором он, может быть, раскаивается теперь сам! Нет, я не стану ему писать…
И он отложил перо.
А на другой день оскорбивший его человек пришел к нему просить прошения, они помирились и остались по-прежнему друзьями.
В другой раз старый, престарый слуга, служивший ещё при родителях юноши, прибирая в его кабинете, нечаянно разбил дорогую статуэтку. Если бы это случилось не при хозяине, то беда бы так и миновала, потому что в кабинете было так много разных дорогих безделушек, что отсутствие одной не могло быть замеченным, но, как на грех, юноша вошёл в то время, когда старый слуга, стоя на коленях, дрожавшими руками подбирал с пола осколки фарфора:
При виде разбитой статуэтки юноша пришел в бешенство; он бросился на слугу с поднятыми кулаками и, наверно, ударил бы его, если бы тот не отклонился, но, отклоняясь, он задел головой за угол книжного шкафа, да так сильно, что из ранки показалась кровь.
Эта новая неловкость, вместо того, чтобы смягчить сердце хозяина, еще более ожесточила его, и он, принялся осыпать слугу самыми оскорбительными ругательствами.
Слуга молча стоял перед своим господином. Тонкая струйка крови от виска текла по щеке старика, и он время от времени вытирал ее рукавом.
Юноша прогнал его, наконец от себя, приказав вечером явиться за расчётом.
Все утро, весь день он помнил эту сцену, помнил, как старик ползал по полу, дрожащими руками собирая осколки, как он молча, стоял перед ним, вытирая кровь, и эта картина не только не смягчила, его души, но еще больше возбуждала в нём гнев.
Настал вечер. Другой слуга зажёг в кабинете лампу, – подарок наставника. Юноша присел к столу, сделал расчёт, сколько следовало жалованья старому слуге, из ящика достал его паспорт и едва лишь взялся за колокольчик, как вдруг задумался.
Опять ему показалось, что кто-то нашёптывает ему совсем не те речи, с которыми он хотел обратиться к человеку, которого он выгонял.
«Зачем ты так безжалостен, так строг к этому бедному старику? Вспомни, – он носил тебя на руках. Собственная безопасность дороже всего каждому, однако, ты доверчиво и спокойно вверялся ему, потому что знал, что он тебя не уронит. Да, тогда он, был не стар и силён, руки его не дрожали, и ему не стоило больших усилий взять и держать тебя на руках. Теперь он состарился, – руки его дрожат, зрение его ослабело, и то, что ты называешь неосторожностью, происходит от того, что он стар! Но хотя бы и так! Пусть это будет неосторожность, неужели за все долгие годы службы ты не можешь простить её старику? Он жертвовал для тебя всем своим здоровьем, силой, всем своим временем, он честно и преданно служил тебе, берёг твоё добро, а ты ему только платил его скудное жалованье. Ты никогда не поинтересовался узнать: как он живёт, есть ли у него семья, как живёт эта семья, по целым годам не видя его, не терпит ли она нужды? Какое было дело тебе до всего этого? Ты платил жалованье, и за это, что ты ему платил, ты обращался с ним грубо, надменно, как с человеком, стоящим ниже тебя. В детстве, когда, капризничая, ты его кусал, царапал, бил по щекам, – окружавшие тебя люди находили это очень забавным, смеялись твоим выходкам и думали, что они не могут оскорблять его. Теперь, когда ты платишь ему за службу, ты обходишься с ним грубо, бранишь его и тоже думаешь, что это не должно его оскорблять?»
«Ошибаешься! Посмотри на него, – он такой же человек, как ты. Из-за одного неосторожного слова, сказанного другом, ты готов был разойтись с ним навсегда, а это слово не составит и тысячной доли тех оскорблений, которые получил и получает от тебя этот человек. И за что? За то, что судьба сделала, его слугою, заставила его всю жизнь быть подневольным человеком. Он и так обижен ею!.. Посмотри!»
И вдруг, в широком свете лампы, на который все время были устремлены глаза юноши, обрисовалась картина…
Темный, с маленькими, запыленными окошками подвал. Стены промёрзли, отсырели. на них собирается вода, и струйками скатывается на некрашеный, грязный пол. Всё помещение разделено на углы. В одном из углов, на грубо сколоченной койке лежит и охает больная старуха. У окна, пользуясь, скудным светом зимнего дня, спешно шьёт что-то молодая девушка и тут же, склонив голову, худенький, бледный мальчик торопится выучить урок. Вдруг дверь отворяется, и входит отец этой семьи, старый слуга. Он держит под мышкой узелок со своим бедным имуществом, единственное, что он унёс из богатого барского дома. Он говорит что-то своей дочери, та в ужасе поднимает голову и отшатывается от него; мальчик оторвался от урока и в слезах бросается к отцу. Тот указывает в угол, где лежит старуха-мать, и грозит пальцем.
– Тише, тише! Не нужно, чтобы она слышала, чтобы она знала, что ему отказано! Но кто же будет их кормить, кто будет платить за угол, платить за мальчика в школу? Бог! Одна надежда на Бога! Он Милостив, Он поможет бедным!..
Картина исчезла. Тяжелый вздох раздался в тиши кабинета. Юноша спрятал паспорт старого слуги в ящик письменного стола и позвонил.
В глубине кабинета показалась робкая фигура старика. Седая голова тряслась. Он со страхом ждал приговора.
– Ты останешься! Я тебя прощаю! – сказал хозяин, и почувствовал, как у него самого стало легко на душе.
Но однажды, когда ему пришлось смирить свою гордость в присутствии целого общества, – молодой человек возмутился. Целый день он не выходил из дому; его мучили ложный стыд и сознание того, что он действовал помимо своей воли и как бы под влиянием внушения.
Кто же внушал этому невоспитанному, властолюбивому человеку идеи всепрощения и, смирения?
Его наставник? Нет! Правда, он всегда одобрял его поступки, но только после того, как они были совершены, – он не советовал ему ни примириться с другом, ни простить виновного слугу. Он сам? Но отчего же добрые мысли являлись ему не всегда? Отчего днём, когда он ходил среди людей, ездил, развлекался, – у него не было этих мыслей, он даже стыдился их вспоминания, и только по вечерам, когда он садился иногда к столу, при свете лампы, эти мысли являлись внезапно?
Тогда он думал о многих, многих людях, которым живётся не так весело и хорошо, как ему, о многих несчастных, не имеющих на что купить хлеба, не знающих где преклонить голову. И ему становилось жаль их! В голове его возникали широкие планы устройства общежитий, богаделен, школ. Он видел обширные, окружённые тенистым садом, благоустроенные дома, наполненные бесприютными бедняками, видел прекрасно устроенные, снабжённые всеми учебными пособиями школы… Где он видел всё это?
В том широком круге огня, которым горела старая лампа, подарок наставника!! Кто шептал ему о бесчисленных добрых делах на пользу страждущему человечеству? Всё та же старая лампа, тихо напевавшая ему в длинные зимние вечера свои чудные, полные кротости и любви к человечеству песни!
Вмиг он понял всё это. Но не доброе чувство признательности явилось в нем, не желание сохранить навеки лампу, чтобы всю жизнь пользоваться её благотворным влиянием, – нет, в нем возникла слепая, дикая злоба, ненависть к такому незначительному предмету. который имел власть над его мыслями, и тогда… Тогда он решился, что уничтожит, разобьёт лампу!
Ему казалось, что он должен был это сделать затем. чтоб иметь покой. а главное – оправдаться в тех дурных намерениях, которые жили в нём.
С этой целью он вошёл в кабинет, подошёл к столу, взглянул на то место. где обыкновенно стояла старая лампа, и – удивился…
Лампы не было!
«Должно быть, кто-нибудь унёс её на время!» – подумал он и позвал слугу.
Явился слуга. Юноша спросил его о лампе, и тот, смущенный, ответил, что не знает, куда она подевалась.
Тогда юноша созвал всех своих слуг и стал их допрашивать. Но никто не мог сказать, куда девалась лампа.
«Ну что ж! – подумал юноша, – Я хотел ее разбить, а она исчезла сама, – тем лучше!»
И, забыв о лампе он стал вести прежний, рассеянный образ жизни, и по-прежнему грубо поступал с подвластными ему людьми, не воздерживался от вспышек гнева, оскорблял и унижал, кого только мог и никогда, никогда не приходила ему мысль, что он поступает несправедливо.
Наставника у него уже не было; оскорблённый несправедливостями юноши. он ушёл от него.
Но однажды юноша заболел и так опасно, что доктора не отвечали за его жизнь. Дни и ночи больной проводил в страданиях без сна, не имея подле себя никого близкого, окружённый слугами, которые боялись его и с нетерпением ожидали его смерти.
Чувствуя, что силы оставляют его, юноша велел разыскать своего наставника и позвать к себе.
Наставник явился.
– Ты видишь, – сказал ему юноша, – я умираю. Я призвал тебя за тем, чтобы ты был свидетелем исполнения моей последней воли. Кроме тебя, у меня нет никого близкого. Я знаю, что те, кто меня окружают, ждут только моей смерти, чтобы расхитить моё имущество!
– А ты хочешь его сберечь? – спросил наставник. – Но ведь когда ты умрёшь, оно тебе всё равно будет не нужно!
Юноша ничего не ответил и задумался.
– Тогда не лучше ли будет изложить свою волю письменно? – предложил наставник.
– Да, я сам думал об этом! – согласился юноша и велел слугам поднести себя к письменному столу, а затем, так как это было вечером, – подать свет. Лампа, которую подал слуга, – была та самая, старая лампа, которая так странно исчезла.
Но юноша не узнал её, взглянул только на её свет и задумался.
Он думал о последних словах наставника. Сберечь свои деньги и имущество! Для кого сберечь? Если он умрет, оно ему не нужно будет. Ведь кому-нибудь нужно оставить? Из близких у него нет никого!.. Наставнику? Он не возьмет потому, что привык довольствоваться тем малым, что имеет. Кому же тогда?..
И вдруг складки его лба разгладились, и лицо просияло.
Юноша взял перо и на листе бумаги дрожавшей рукой написал:
«Завещаю свои деньги и имущество сиротам, больным и бедным. Пусть тот, у кого окажется эта бумага, разделит всем справедливо».
Он отдал этот лист наставнику, и в первый раз за всё время болезни заснул.
Сон был крепкий, живительный. Проснувшись, юноша почувствовал облегчение в своем недуге, а через некоторое время оправился совершенно, словно переродился. И переродился не только телом, но и духом.
Ничего прежнего не осталось в нём и в помине; он дожил до глубокой старости и всегда был помощником и другом бедных, защитником угнетенных и добрым, любящим человеком для всех… И старая лампа всегда стояла у него на столе.
III. Искусственные цветы
– В дни моей юности, – так начал Смельчак свою следующую сказку. – я очень близко познакомился с искусственными цветами. В доме, где я тогда жил, – кстати сказать, это был очень богатый дом, – их было много повсюду. Букеты этих цветов стояли на столах и столиках в роскошных фарфоровых вазах, стояли на подоконниках в. прелестных цветочных горшках, в которых землю заменял бархатистый мох, из искусственного плюща и винограда была устроена целая обрешётка, – словом, всюду, где, по мнению хозяев этого дома, полагались цветы, – настоящие были заменены искусственными.
И нужно сказать правду: цветы были так прекрасно сделаны, так похожи были на настоящие, что не только я, таракан, – сроду не видавший ещё натуральных цветов, но даже люди ошибались и принимали их иногда за настоящие.
Мне же казалось, что лучше этих цветов нет на свете! Во-первых, от них всегда пахло прелестными духами, – хозяйка дома каждое утро опрыскивала их из разных склянок, – затем, в состав их входили любимые мною вещества: крахмал, клей, лак и разные очень вкусные краски.
Что же мудрёного, что я по целым дням проводил или на дне вазы, или зарывался в мох и оттуда, исподтишка, любовался своими красавцами-цветами, горделиво поднимавшими кверху пышные головки из тряпок, раскрашенных в голубой, красный и жёлтый цвета.
Когда наступала ночь, – люди гасили лампы и ложились спать, – я тихонько выползал из своего убежища, поднимался по проволочному стеблю какого-нибудь цветка, садился на лакированный листик и хотя робко, – потому что все эти цветы высоко ценили себя и гордились своей красотой, – заводил разговоры.
– Как тебя зовут? – спрашивал я, – ты – такой красивый цветок, твои лепестки так нежны, так розовы, так стройна эта нераспустившаяся почка, увенчанная зеленым усиком, мне кажется, что имя твоё непременно должно быть тоже красиво.
– Ты прав! – ответил мне цветок. – Меня зовут Розой. Не правда ли, красивое имя?
– О, да! Такое же красивое, как ты сама! Но объясни мне. пожалуйста, кто дал тебе эту красоту?
– Ну об этом, пожалуй, ты мог бы не спрашивать! Не всё ли равно, кто мне её дал, довольно того, что ты и все, кто меня увидит, – любуются ею.
– Но, однако…
– Если уж ты так хочешь знать, изволь расскажу. Я родилась в маленькой, тесной, комнатке бедной цветочницы, среды обрывков марли, крепа, кусков проволоки, банок с клеем и грязных ящиков с красками. Хозяйка этой комнатки делала очень спешно и очень много цветов, всё больше простеньких: незабудок, маргариток, иван-да-марьи и зарабатывала так мало, так мало, что питалась хлебом и чаем и очень редко покупала себе немного мяса. А какая она была бледная, какие у неё были худенькие руки! Того и гляди, сломятся, как та проволока, из которой она делала стебли! Но вот однажды она получила заказ сделать букет из роз; за этот букет ей обещали хорошо заплатить. И однако в эту минуту у неё не было ни гроша, даже двадцати копеек на покупку в цветочном магазине настоящей розы для образца. Делать же наобум она не решалась. Тогда она пошла в цветочный магазин и чуть не плача, стала просить приказчика, чтобы тот отрезал ей одну розу из тех, которые уже начали увядать. Тронутый просьбами девушки, приказчик взял ножницы и ушел в другое помещение, а покуда он ходил, девушка не сводила глаз с пышной розы, стоявшей на окне, стараясь удержать в памяти её положение, окраску её лепестков, – словом, всё, что было нужно.
Вернувшись в свою комнатку, девушка положила розу перед собою, и из того материала, который был заготовлен раньше, – начала делать меня. Но мере того, как подвигалась работа надо мною, от настоящей розы, один за другим, падали на стол последние её лепестки, и когда я была готова, – от розы осталась одна голая луковица. Её предсмертный, жалобный, вздох заглушил голос цветочницы, воскликнувшей:
– Отлично! Совсем как живая!
Это относилось ко мне.
– Да, – заметил я, – как живая, но не живая!
– Ах, не все ли это равно! – капризно ответила. Роза, – было бы хорошо сделано, а кому какое дело: живая я или нет? У меня даже есть преимущество: живые розы отцветают, пропадают, а я – никогда. Лепестки мои вечно розовы, листья – зелены.
– Не нужно только, чтобы светило солнце! – заметил находившийся поблизости Мак. – Солнце – вот наша беда. А затем мы можем существовать сколько угодно! Вот я – так очень доволен, что меня сделала цветочница, и что я попал в хороший дом! Скажите, пожалуйста; г-н таракан, слышали ли вы, чтобы Мак имел запах?
– Не знаю… не слышал! – ответил я нерешительно. – А разве…
– То-то и есть, что мак, настоящий мак, не имеет запаха, а вы чувствуете, как от меня пахнет, да еще какими великолепными духами?
– Но это запах ведь не настоящий! – заметил я.
– Ха, ха! – засмеялся Мак, – какой вы странный! Не все ли равно, когда настоящего запаха у меня нет!
И я должен был согласиться, что это, конечно, всё равно.
Большинство цветов, – если бы они только были настоящими, – не должны были пахнуть ничем, а между тем от моих искусственных друзей разносились чудные ароматы, заключавшиеся, конечно, в тех склянках, из которых их опрыскивала хозяйка.
И как же они гордились, эти искусственные цветы! Из гордости они даже не разговаривали между собою, а сидели в своих горшках и вазах и спесиво посматривали один на другого; в особенности гордился Мак… Хотя, сказать откровенно, я не находить его особенно красивым.
Впрочем, Роза и Гортензия перекидывались иногда замечаниями в тех случаях, когда к хозяйке приходили гостьи, и она, разодетая, выходила их встречать.
– Посмотрите, пожалуйста! – восклицала Роза, – На что похожи эти уроды! Какая безвкусица!
– Да, вы правы! – подтверждала Гортензия, – Эти дамы одеты очень пёстро. Слишком, много ярких цветов.
– А между тем, обратите внимание, – их наряды сшиты из лучших тканей! Если бы нас сделали из такого материала! Меня бы из шёлка, например!
– Да это не то, что коленкор! – вздыхала Гортензия.
– Позвольте, сударыня! – вмешался Мак. – Всё это не то! Бархат ли, шелк, или коленкор, – по-моему решительно всё равно! Важна окраска! Если бы эти дамы надели всё красное и чуточку где-нибудь черное, – было бы прелесть что такое!
– Этакой дурак!. Он толкует, конечно, о себе! – раздражённо шептала соседке Роза.
– Уж это как водится! – отвечала Гортензия.
Как видите, друзья мои, общество, в которое я попал, было очень весёлое, разговоры, которые я слышал, – как вы можете сами судить, – были возвышенные, и мне, простому чёрному таракану, воспитанному на русской печке, было очень приятно и лестно находиться в нём.
Но вот, однажды летом маленькая дочь хозяйки принесла огромный букет полевых цветов и поставила их в кувшин с водою.
Ах, друзья мои, я не знаю, что сделалось со мною! Я был просто ошеломлён! Свежий запах цветов так сильно подействовал на меня, так опьянил меня, что я, едва дождавшись ночи, вышел из моха, в котором сидел, и бросился к кувшину. Я быстро вскарабкался наверх, оттуда – на сочный стебель лесного ландыша и в упоении приник к его белой душистой головке. Сколько гибкости, сколько влаги было в этих только что сорванных стеблях, сколько свежести и живой красоты в этих кашках, фиалках, незабудках, полевых гвоздиках, мышином горошке, во всей куче скромных цветов, перемешанных с пучками травы и ржаных колосьев!
На меня пахнуло чем-то бодрым, свежим и радостным, чем-то таким, чего я никогда еще не испытывал в жизни! Я всегда был мрачным, любившим прятаться по темным углам тараканом, но теперь мне вдруг захотелось света, воздуха, воли. Не видя никогда ни поля, ни леса, ни моря, я размечтался, представляя себе поле огромным, сплошь усеянным этими милыми цветами, зеленым ковром, а море в десять, во сто раз больше того пространства воды, которая залила однажды полкухни, когда кухарка забыла завернуть водопроводный кран и ушла, а вода лилась из крана неустанно.
Мне хотелось знать, о чём будут говорить эти милые, живые цветы, захотелось послушать их рассказы о вольной жизни на открытом, чистом воздухе. Насладившись чудным запахом ландыша, я сполз вниз, притаился между стеблями и стал ждать.
Но ждать мне пришлось недолго: весело, шумно, живые цветы заговорили все разом, перебивая друг друга. Одни обменивались воспоминаньями о вольной жизни; другие рассказывали о каких-то неведомых мне зверюшках вроде стрекоз, бабочек, жуков, упоминали никогда невиданных мною каких-то лягушек; третьи рассказывали о дождях и грозах, как о чём-то таком, что для них было особенно полезно и приятно.
Я с удивлением слушал эти рассказы из неведомого мне мира и заметил, что искусственные цветы прислушиваются тоже.
Наконец, Роза не выдержала и надменно спросила:
– Долго ли вы будете болтать и не давать никому покою?
Живые цветы сразу притихли. Но Мышиный горошек, как самый бойкий, вдруг спросил:
– Разве мы вам мешаем?
– Конечно! Теперь ночь, и все хотят спать! – угрюмо заметил Мак. – И откуда вас столько нанесло! Сидели бы у себя в поле.
– Мы бы и рады, да что делать! – отвечал Мышиный горошек. – Мы здесь против своей воли!
– Нас сорвали! – хором подтвердили живые цветы.
– Ну, значит, вы обречены на погибель! – сказал Мак.
– Как? Отчего? – встревоженно заговорили цветы.
– Очень просто! Вы не можете жить без земли, к которой прикреплены корнями, а где ваши корни, где земля?
Живые цветы молчали. И опять Мышиный горошек спросил:
– А вы, позвольте узнать, кто такие?
– Мы? – удивился Мак. – Разве не видишь, – цветы!
– Нет! – покачал головкой Горошек. – Не похоже, чтобы вы были цветы.
– Ну, вот ещё! Что ты понимаешь! Видал ли ты когда-нибудь мак?
– Видал сколько раз, на огороде.
– Ну, так я и есть этот самый мак!
– О, нет, нет! – воскликнул Горошек, – мне кажется, что вы как будто кем-то сделаны наподобие мака, но вы не мак; вот и эта роза – тоже!
– Ах, какой дерзкий! – в негодовании воскликнула Роза.
– Постойте, не сердитесь, соседка, я ему отвечу! – остановил её Мак и продолжал: – Положим, ты угадал, я, действительно, сделан, но что же из этого? Я сделан очень искусно цветком, ведь не скажешь же ты, что я похож на осину?
– Да, конечно! – согласился Горошек, – вы похожи на мак, но вы не мак.
– Фу, какой упорный! О тобою не сговоришься! – рассердился Мак.
– Позвольте! Не сердитесь, пожалуйста! – Скажите, пожалуйста, под вами земля?
– Нет, мох!
– Откуда вы берете силы жизни?
– Ни откуда!
– Вы расцветаете и отцветаете?
– Никогда!
– Из чего сделаны ваши лепестки?
– Из коленкора!
– А стебель?
– Из проволоки и бумаги.
– Из бумаги! – воскликнули живые цветы. – Значит, вы все должны размокнуть от дождя?
– Конечно, и выцвести от солнца! – подтвердил Мак, – но что же из этого? Мы все-таки счастливее вас!
– Почему? – спросил Горошек.
– Потому, что мы долговечны. Я, например, живу в этой комнате два года, и проживу еще два, а не то и больше. Вы же все умрёте: кто завтра, кто послезавтра, а дней через пять превратитесь в охапку сена, и вас выкинут в помойную яму.
– Да, это потому, что мы без корней! А на воле?
– На воле вы живете всего одно лето!
– Не правда! – сказал молчавший все время Ландыш, – вы говорите так потому, что не знаете живой жизни! Если бы вы переселились в поля и стали наблюдать настоящую жизнь, то увидели бы, что она вечна, что ей нет конца. Мы не только живем, но и производим себе подобных. Умирая, мы оставляем в земле семена, из которых весною вырастут такие же цветы, – те же мы. И это длится вечно, с тех пор, как существует мир, и кончится только тогда, когда кончится мир. Настоящее искусство делает то, что из меня, простого ландыша, может образоваться садовый, – и больше, и красивее, и душистее. – но смысл этого искусства заключается в том, чтобы только помочь природе, не трогая меня, – ухаживать за мною, улучшить землю, на которой я расту, вовремя дать мне влаги, во время прикрыть от солнца. Но и без этого я не утрачу ни своего вида, ни запаха! Я останусь таким же маленьким, лесным ландышем, не буду бояться ни дождя, ни солнца, умру, когда настанут холода, и снова возрождусь с наступлением тепла, потому что я вырос в природе, и Творцом моим был Всевышний Вас же сделало ремесло. И как бы тот, кто вас сделал, ни старался близко подражать природе, он не мог вложить в вас того, чего не было в его власти. Вы останетесь теми, какими сделаны, – не сделаетесь ни больше, ни красивее, вы не оставите себе подобных…
– Так, так! Всё это прекрасно, а вот как-то вы будете умирать в вашем тесном кувшине! – заметил Мак.
– Мы умрем, как следует! – кротко ответил Ландыш.
И, действительно, они все, все до одного умерли, как следует! Я всё время наблюдал их и ни разу не слышал ни ропота, ни вздоха. Какая это была прекрасная, героическая смерть!
Первыми завяли полевые колокольчики, – они были очень нежны.
Они склонили свои красивые, голубые головки и не поднимали их больше. Затем завяли гвоздика, фиалка и ландыш. Последними остались незабудки и кашка.
Утром, когда люди открывали окна, привлёченные медвяным запахом кашки, в комнату влетали пчелы и, усердно работая своими хоботками, высасывали из душистых цветов остатние капли меда; но вот завяла, засохла и кашка, и остались одни незабудки, от которых, с каждым днем, всё более и более осыпалось на стол лепестков.
Девочка, принёсшая букет, вбежала однажды в комнату и с горестью увидала, что цветы завяли.
– Ах, мои бедные цветочки! – приговаривала она, – вы совсем засохли, как мне жаль вас!
Но их нечего было жалеть. Хотя было бы лучше вовсе не срывать их с поля. Ведь стоило девочке выйти из дому, и она увидела бы столько живых цветов, такое наслаждение доставили бы они ей своею живой красотой и запахом, что никакое удовольствие иметь у себя в комнате целый букет не могло бы сравниться с ним.
Ведь, нельзя же предположить, что девочка, составляя букет, хотела сделать приятное мне? Но я, впервые тогда узнав, что такое настоящие, живые цветы, до сих пор не могу забыть их. И каждый раз, как я вспомню о них, мне мерещатся открытое, далекое поле и голубое небо с белыми облачками на нём и горячее солнце…
И чёрный таракан стал задумчиво шевелить усами.
– А что же искусственные цветы? – спросил один из слушателей-тараканов, – что сталось с ними?
– Я погубил их!
– Ты? Не может этого быть! Они тебе так нравились!
– Да, до тех пор, пока я не узнал настоящих. Потом я их стал презирать!
– И ты не боялся их? Ведь, они были такие гордые, надменные!
– Да ведь они ничего не могли сделать! Вот в чем штука! Живые цветы могли отравить меня своим соком, – кто их знает, может быть, он у них был ядовитый, а эти… Я отлично знал, из чего они состоят, и вот как-то случилось, что в доме началась переделка. Хозяева перебрались, а вместо них явились какие-то страшные люди с ведрами, кистями, с целыми мешками извести и подняли такую историю в кухне, что я, давай Бог ноги, удрал в гостиную. В целом доме не оказалось ничего съестного, и мне пришлось голодать. А вы знаете, – голод не тётка! Вот я подобрался к самому сердитому, к Маку, и говорю ему:
– Позволь, пожалуйста, отведать кусочек твоего листика? Ужасно есть хочется!
– Хорошо, – говорит тот, – маленький кусочек можешь!
Съел я кусочек, опять есть захотелось. «Что же, – думаю, – спрашивать опять? Ведь, Мак мне всё равно ничего не может сделать!». Съел весь листок. А потом другой, третий. Объел все листики, добрался до лепестков.
– Ну, – говорит Мак, – ты, кажется, и меня хочешь съесть?
– А что же, – отвечаю – когда сеть хочется, голод ведь – не свой брат!
И съел, как он там меня ни уговаривал.
А когда съел Мак, – добрался до Розы. Той тоже не хотелось быть съеденной, да что будешь делать, когда голодно! Так, покуда шли переделки, я все цветы и съел. Хозяева переехали, видят, – остались от них одни тряпки да клочки, и велели выбросить всё в помойную яму.
IV. Дедушкино кресло
В холодную январскую ночь собрались все тараканы в кучку на печи и стали просить известного нам Смельчака рассказать им еще сказку. Когда же их и рассказывать, как не в холодные ночи на тёплой печи? Пригрелись тараканы, усиками пошевеливают, лапками об лапки потирают, смотрят так умильно и просят: «Расскажи да расскажи!»
– Ну, так и быть, – согласился Смельчак, – слушайте! Я вам расскажу сказку про «Дедушкино кресло». Жил я тогда в одном бедном семействе, в маленькой квартирке, состоявшей из двух холодных, сырых комнат и кухни. Комнаты-то, может быть, и не были бы холодными и сырыми, если бы их отапливать, как следует; но чтобы топить – нужны ведь дрова, а чтобы были дрова, – нужны деньги, – такое уж у людей положение, – а где их взять, денег-то! Добывал, сколько мог, отец, работала и доставала мать, однако, семья была так велика, и нужд было так много, что денег на всё не хватало. Мебели в квартире не было почти никакой; пара столов, да нисколько поломанных стульев, вот и всё, если не считать наследства дедушки, – старого, с высокой спинкой, ободранного кресла. Слышал я, рассказывали в семье, что когда-то, очень давно была у них порядочная мебель, только всю ее, понемногу по нужде распродали, осталось это старое кресло, и надо полагать, что осталось оно потому, что его за ветхостью никто не хотел купить.
А так как это кресло было мягкое, то его очень любили в семье, в особенности, – дети. С утра заберутся на него все четверо малышей и сидят, голова к голове, что птенцы в гнездышке, греются, только глазёнки блестят. Или начнутся у детей игры на этом же кресле. Тут уж Бог знает, что они изображают! Кресло – у них карета, табуретка – лошадь, от неё веревка тянется, это – вожжи; на ручке кресла сидит один малыш и дёргает верёвкой, – значит, кучер, а остальные, что забьются на сиденье, – седоки. Потом начнут играть в трубочисты. Тут уж каждому хочется быть трубочистом, – значит, встать на сиденье, веревку до полу спустить, – по ихнему, трубу чистить. И достаётся же бедному креслу от детских ног: пружины звенят, – словно стонут, обивка мочалится спинка трещит, а ребятишкам любо!
Наиграются дети на кресле, устанут, разойдутся, – глядь уж какой-нибудь скорчится и спит на сиденье: положит головёнку на ручку, голые ноги в изорванных чулках свесит и спит так хорошо да сладко!
К ночи кресло превращалось уже в настоящую кровать. Подставлялся стул, подстилалась кое-какая одежонка, и готовилась постель для Вани, – трехлетнего малыша.
Утром стул отставят, подстилку уберут, и кресло опять креслом, хоть кто угодно приходи, хоть самый большой, самый важный господин садись.
Только важные господа в эту квартирку никогда не хаживали, и сидеть им, конечно, на этом кресле не приходилось. Чаще всего сиживал на нём отец. Это был болезненный человек, с худощавым лицом и впалой грудью. Уходил он из дому рано, а приходил поздно и, насколько я мог заметить, всегда голодный и сердитый. Был ли он сердит оттого, что всегда был голоден, или наоборот, – не могу вам сказать. Часто я видел, как он ходил по комнате, обхватив обеими руками голову и бормотал что-то, а когда кто-нибудь из ребятишек подходил к нему, то он смотрел на него таким взглядом, что даже мне, Смельчаку, становилось страшно.
Вот вы сейчас подумаете, что он так смотрел потому, что не любил детей. О, нет, наоборот, он их очень любил! Стоило только этому человеку сесть в кресло, как его со всех сторон облепляли ребятишки: один усаживался на одно колено, другой на другое, третий примащивался на ручку, четвертый норовил поместиться за спиною отца и обнять его сзади, за шею; а когда в доме появился вдруг самый крошечный, пятый, – как и когда это случилось, решительно не могу вам сказать, – то этого последнего, который был немножко больше вон того соусника, что вы видите на столе, – отец брал на руки и, как мне казалось, своим дыханием старался согреть его крошечные, цепкие ручонки.
Словом, кресло представляло в такие минуты целый муравейник. Ребятишки наперебой рассказывали что-то отцу, теребили его, целовали его лоб, глаза, уши, маленький «соусник» что-то гукал и тянулся к отцовской бороде, а отец улыбался, гладил головы ребят и казался таким веселым и сытым, что я удивлялся волшебному свойству старого кресла так сильно изменять людей.
Но послушайте, что будет дальше! Это, право, интересно! В то время, когда появился «пятый», мать была больна. Она лежала очень худая и бледная два дня в постели; на третий ей, должно быть, сделалось лучше, потому что я видел, как она встала с постели, и, придерживаясь руками за стены, потащилась на кухню. Нужно вам сказать, что там был порядочный беспорядок, который так нравится нам, тараканам. Не подумайте, однако, что там было много съестного! О, нет! Корок хлеба нельзя было найти, но посуда все два дня была не вымыта, и грязи накопилось порядочно.
Вот и принялась заботливая хозяйка за уборку: налила горячей воды в лохань, перемыла, перетерла посуду, убрала в шкаф, вымыла стол, – словом, сделала всё, как следует быть, и когда закончила с уборкой, то так устала, что едва, едва добралась до комнаты, где стояло кресло. Села в кресло, закрыла глаза, и я, признаться, думал, что умерла, – до такой степени лицо её сделалось бледным, а дыхания и заметно даже не было. Ребятишки бегают около, тормошат, зовут мать, а она им и отвечать не может. Старшей девочке, Соне, хотя и было всего семь лет, но и она поняла, что маме худо, что мама может умереть, бросилась к ней, стала целовать руки, плакать и просить:
– Мама, голубушка, не умирай!
Тяжело было смотреть на то, что происходило вокруг кресла, и я, хоть и таракан, и видывал на своём веку виды, – а прослезился!
И представьте, – ведь, мама не умерла! Не знаю уж, право, от кресла ли это зависело, или от чего другого, только больная женщина опамятовалась, пришла в себя, обняла худыми руками всю кучку детей, улыбается и говорит:
– Видите, вот я и проснулась! И мне лучше теперь! Я скоро совсем поправлюсь! Скоро буду здорова.
С тех пор больная женщина каждое утро садилась в кресло, подолгу отдыхала в нем, и я, да не я один, а все, даже дети, замечали, что маме день ото дня становится лучше.
Конечно, оправиться совсем и быть здоровой она не могла, как не могли быть совершенно здоровыми ни отец, ни дети. Все они были и худы, и бледны, а причина того была ясна даже для меня, таракана.
Удивляюсь, как не понимали того люди, которые гордятся тем, что они люди, исповедуют христианство, и, однако, на каждом шагу забывают свои обязанности по отношению к ближнему?..
Однажды, в холодный, зимний день, в квартиру пришел дворник. И отец, и мать, и даже дети, должно быть, ожидали его прихода, потому что стоило только этому грубому человеку переступить порог кухни, как у всех лица сделались испуганными, грустными.
– Хозяин меня послал спросить, когда заплатите за квартиру? – сказал дворник, – за три месяца не заплачено.
– Это правда! – отвечал отец, – я знаю, что не заплатил за три месяца, но я теперь не могу! Нельзя ли попросить хозяина подождать, неделю?
– Нужда будет беспокоить хозяина! Вы уж и так просили, он вам дал отсрочку, а теперь велел сказать, что если не можете платить, так выезжайте! – отвечал дворник.
– Куда же мы выедем? Нам не на что выезжать!
– А это уж дело ваше! – отвечал дворник, нахлобучивая шапку. – мое дело передать, что сказал хозяин! Не выедете, так он вас выселит! На то он и есть хозяин!
Сидя в своей щели, я удивлялся тому, что у людей есть закон, на основании которого можно выгнать на улицу, в мороз, бесприютного бедняка. Мне казалось, что дворник сказал это нарочно, чтобы испугать жильцов и побудить их к уплате. Но, должно быть, таксой закон, действительно, есть, потому что, когда ушел дворник, я заметил на лицах мужа и жены действие его угрозы. Оба побледнели, на глазах у жены показались слезы, и бедная женщина с такою грустною любовью обняла, одного из своих детей, что мне стало невыразимо жалко их всех.
И тут же я вспомнил кое-что из своих путешествий по дому. Однажды, летом, бродя по квартирам, я забрался в одну, которая принадлежала хозяину дома. Нечего и говорить, что эта квартира в восемь комнат, в которых жил всего один человек, была, обставлена роскошно. Но так как мы, тараканы, не особенно ценим роскошь, то об ней нечего и упоминать. Роскошь еще не делает человека ни счастливым, ни даже весёлым; а кроме того, я заметил, что если человек живет один в нескольких комнатах, то он почти всегда бывает и мрачен, и зол. Вот я и забрался в кабинет этого человека с целью посмотреть, что он делает. Видал я заключенных в тюрьме, – об этом я вам когда-нибудь расскажу, – видал их бледные, удрученные, даже безумные лица; но ни одно не произвело на меня такого тяжёлого впечатления, как лицо этого богатого человека! Право, оно было не лучше лица того бедняка, в квартире которого я жил, даже страшнее: кроме того, что оно было изжелта-бледно и худо, в нем были заметны и алчность, и страх, и какая то непонятная злость.
Когда я вполз в богатый кабинет, владелец этого кабинета ничего не делал. Он сидел за письменным столом и о чем-то думал, – долго, со страданием думал. Потом он взял карандаш, листок бумаги, придвинул счёты и длинными, сухими пальцами начал считать, записывая, по временам, на бумажке. Затем он тяжело вздохнул и начал ходить взад и вперед по кабинету. Должно быть, этих сотен и тысяч, на которые указывали косточки счётов, – было мало, и несчастный человек думал, как бы их ещё приумножить! Наконец, он подошёл к двери, запер ее на ключ, – я думал, несчастный человек застрелится; – нет, он вернулся к железному шкафу, повертел какими-то медными бляшками, всунул ключ, замок щелкнул, и массивная железная дверка открылась, обнаружив внутренность шкафа с несколькими ящиками. Богатый человек начал вынимать из ящиков толстые, перевязанные бечевкой пачки бумажек. Это были деньги. Сухие пальцы богатого человека тряслись, когда он развязывал бечевку и пересчитывал одну за другою пачки. Ах, какое у него было ужасное лицо, какие глаза!
И вот, глядя на этого человека, я подумал, что если бы из множества вынутых им пачек хоть бы одна, хоть бы половина пачки была отдана бедному семейству! Мой хозяин, обойщик, вместо того, чтобы ходить на подёнщину и зарабатывать гроши, мог бы открыть маленькую мастерскую, и тогда всё бы изменилось, всё пошло бы к лучшему, был бы достаток, было бы здоровье, веселье!
Покуда я думал, богатый человек пересчитывал последнюю пачку, аккуратно связал бечевкой, спрятал в шкаф и запер. Так эти деньги и остались под спудом, бесполезные для людей, возбуждавшие алчность их собственника, причинявшие ему муки страха!
Дворник еще несколько раз приходил к моим хозяевам, с каждым приходом становясь всё грубее и требовательнее.
Бедный обойщик, урываясь от работы, бегал по знакомым, прося взаймы; но все они были такие же бедняки, как он сам, и никто не в силах был ему помочь. Об этом я слышал по вечерам, когда обойщик усталый приходил домой и рассказывал о своих неудачах жене.
– Сходи к хозяину, попроси подождать! – советовала она.
– К хозяину? – восклицал обойщик. – Разве ты не знаешь, что это за человек! Разве ты не знаешь, до чего он жаден и бессердечен! Меня и теперь в дрожь бросает, когда я только подумаю идти к нему! Да меня и не допустят!
И вот однажды богатый человек пришел сам. Это было вечером, когда обойщик вернулся с работы и сидел в дедушкином кресле, окружённый детьми. По обыкновенно, кто взгромоздился на колени отца, кто сидел на ручке кресла, а двое, самых бойких, бегали по комнате и так весело шумели и кричали, как будто были детьми состоятельных родителей. Но когда вошел богатый человек, всё сразу притихло и попряталось по углам. Обойщику стало неловко, даже страшно за веселье своих детей. Он стоял по средине комнаты, не смея сделать шага навстречу гостю. Жена старалась утешить маленького «соусника», который расплакался, увидев чужого.
– Вы тот и есть, которого я выгоняю с квартиры? – грозно вопросил домохозяин. – Отчего вы не платите? А? Если у вас не из чего платить, не держите квартиры, выезжайте в комнату, в угол. Я несколько раз посылал к вам дворника, а вам и заботы мало!
– Простите, хозяин! Я очень забочусь о том, чтобы заплатить, но…
– Это и видно! – перебил с злорадным смехом домохозяин. – Это и видно! За три месяца не заплатить за квартиру, – по-вашему, значит, заботиться! Завтра же очистить квартиру, иначе я вас выселю!
– Позвольте, хозяин…
– Нечего позволять! Вы – ремесленник, да?
– Я обойщик.
– Значит, вы плохой обойщик, если не можете заработать, сколько вам нужно! Может быть, при этом пьянствуете и пропиваете заработок! Это бывает с вашим братом!
– Извините, хозяин! – вступилась жена бедного человека. – Мой муж не пьет, он не пьяница! Позвольте вас попросить присесть! – добавила она, пододвигая хозяину дедушкино кресло.
Хозяин покосился на старое, с оборванной обивкой кресло, но так как был человек больной, и старые ноги его скоро уставали стоять, то, подумав немного, он сел.
– А вы-то ничего не делаете, – спросил домохозяин женщину, – возитесь с детьми?
– Я шью на рынок! – отвечала жена обойщика.
– Ну, вот видите! Оба вы работаете и не в состоянии жить, как следует! – воскликнул хозяин, но уже значительно смягчённым тоном. – Сколько у вас детей?
– Пятеро!.. – отвечала жена. – И все маленькие.
– Пятеро… Гм!.. – задумался богатый человек. – Это, пожалуй, много. Но объясните, пожалуйста, как же это так случилось, что до сих пор вы были исправны, а теперь задолжали за квартиру?
– Вот в пятом-то вся и штука, г-н хозяин… – начал обойщик.
– Как в пятом? Что значит – в пятом?
– Я хотел сказать в пятом ребенке, г-н хозяин! – поправился обойщик. – Изволите ли видеть: две недели жена не могла выходить за работой из дому, а когда поправилась, то подённая работа была отдана другой и пришлось искать других давальцев. Затем жена уже не может столько зарабатывать, сколько раньше, – мешает всем этот пятый.
– Так что вы были бы рады, если бы его не было… если бы он, например, умер?
– Ах, нет, г-н хозяин! Сохрани Бог! – воскликнул обойщик, – мальчик такой понятливый, он всех нас знает, так глазёнками и поводит! А если бы вы видели как он смеется!
– Ну, хорошо, хорошо! Вот вы говорите, ваша жена не могла зарабатывать, ну, а вы-то?
– Со мною тоже случилось несчастье, г-н хозяин! Только уж пятый тут ни при чём! А вышло вот что: тут хозяин той мастерской, где я работал, умер, мастерская временно прикрылась, с неделю я был без работы, а какую нашел, – оплачивается плохо, – в половину того, что я получал!..
– Гм!.. Так вот какие дела! – задумался хозяин и начал пальцами барабанить по ручке кресла.
– Только я все заплачу, г-н хозяин, ей Богу, заплачу! Я не останусь вам должным! Бог даст, всё устроится, всё пойдет по-старому!
– А где же ваши дети? Отчего я их не вижу? – спросил хозяин.
– Они не привыкли к чужим, боятся и попрятались!
– Ну, а этот… который так хорошо смеется? Пятый?
– Вот он! – отвечала жена обойщика, вынося маленького «соусника», завернутого в ватное, рваное одеяльце.
Хозяин взглянул на ребенка. Тот смотрел на него широко раскрытыми, голубыми глазами, потом засмеялся, высвободил пухлую ручонку и потянулся к лицу хозяина.
– А он, действительно, хорошо смеется! – сказал хозяин и прибавил тихо, как бы про себя: – Только дети могут так смеяться!
И это была правда. Смех взрослого человека не таков, в нём – хитрость, лицемерие и заискивание… нехороший смех! Смех старика – еще хуже!
– Что вы сказали, г-н хозяин? – спросил обойщик.
– Я? Ничего… ничего… это так! Про себя! Ну-ка, маленький пятый, как тебе понравится эта штука? А-гу!
Он протянули над лицом ребенка свой длинный, сухой палец, на котором блестел огромный солитёр[1]. Но ребенок оставался равнодушным к чудному блеску драгоценного камня: его больше занимал нос хозяина, к которому он изо всех силёнок тянулся.
