Читать онлайн Эрос невозможного. История психоанализа в России бесплатно
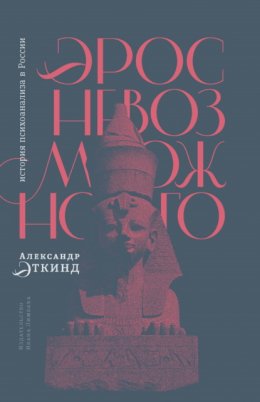
© А. М. Эткинд, 1993, 1994, 2016, 2023
© Н. А. Теплов, оформление обложки, 2023
© Издательство Ивана Лимбаха, 2023
Введение
Интеллектуальная история России XX века внутри страны оказалась фальсифицированной в не меньшей степени, чем ее политическая история. Результаты исследований западных историков и историков-эмигрантов, свободные от идеологического пресса, до сих пор, к сожалению, в России остаются малоизвестны. Впрочем, эти исследования в ряде случаев тоже оказывались ограниченными как вследствие недоступности архивов, так и в результате дистанции между их авторами и интересующим их советским опытом. Несчастно общество, правда о котором пишется другими; но и эта правда бывает ущербна – неполна и монологична.
История, написанная изнутри – и тем более изнутри глобального исторического кризиса, – неизбежно субъективна. Но это именно та субъективность, в которой нуждается меняющееся общество. Непосредственное переживание исторического процесса искажает перспективу; но и обогащает ее опытом людей, точно знающих, к чему привела сегодня их История.
* * *
Русская традиция не знала и до сих пор не знает такой специализации профессионалов, какая привычна на Западе; академическая и художественная культуры были в ней слиты одними и теми же духовными влияниями и политическими идеями. В истории психоанализа в России участвовали не только врачи и психологи, но и поэты-декаденты, религиозные философы и профессиональные революционеры. Взлет русской культуры в короткие полтора десятилетия между началом столетия и Первой мировой войной породил свои вершины и провалы в гуманитарных науках так же, как в политике и социальной мысли, живописи и поэзии. Россия Серебряного века была одним из центров высокой европейской цивилизации. Хотя среди утонченных представителей культуры модерна не было недостатка в пророках, предвещавших скорый расцвет варварства, в столицах и провинциях развивались самые современные направления наук и искусств. Аргументы славянофилов отступали перед напором Запада, однако в тот раз реформам не суждено было сбыться. Серия военных поражений, бесконечные ошибки царя, разочарования в возможностях изменить реальный ход вещей, предчувствие близкой катастрофы – все это вызывало интерес к эзотерическим тайнам и заставляло брать на веру романтические мечты. «Эрос невозможного» – так сформулировал настроение эпохи лидер русского символизма Вячеслав Иванов. Бурная жизнь интеллигенции порождала все более удивительные плоды, от столоверчения до масонства, от оргий придворных хлыстов до политического подполья эсеров.
Мысль направлялась сразу же на предельные вопросы бытия, по пути проскакивая конкретное разнообразие жизни. Любовь и смерть стали основными и едва ли не единственными формами существования человека, их исследование – главным средством его понимания; а став таковыми, они слились между собой в некоем сверхприродном единстве. Интуиция единства любви и смерти стала инвариантом этой культуры, объемля такие разные ее проявления, как философия Владимира Соловьева, поздние повести Льва Толстого, поэзия Вячеслава Иванова, романы Дмитрия Мережковского, драмы Леонида Андреева и психоанализ Сабины Шпильрейн.
Как нигде и никогда популярен был в России на рубеже веков Фридрих Ницше. Его презрение к обыденной жизни, призыв к переоценке всех ценностей оказали долговременное, до сих пор не до конца осмысленное воздействие на русскую мысль. По словам самого авторитетного свидетеля, Александра Бенуа, «идеи Ницше приобрели тогда прямо злободневный характер (вроде того, как впоследствии приобрели такой же характер идеи Фрейда)». Страстная проповедь Ницше вовсе не была рассчитана на практическую реализацию. Но на русской почве она приобретала конкретные черты, казавшиеся зримыми и доступными для воплощения в жизни каждого. Как писал Федор Степун: «Замечание Достоевского, что русская идея заключается в осуществлении всех идей, верно не только по отношению к общественной, но также и к личной жизни». То, что для Ницше и большинства его европейских читателей было полетом духа и изысканной метафорой, которую лишь варвар может принимать буквально, в России стало основанием для социальной практики.
Новый человек, Сверхчеловек, попиравший своим существованием отживший здравый смысл, должен быть создан и будет создан именно здесь. Православные философы, начиная с Владимира Соловьева, призывали строить Богочеловечество на земле, переделывая тварного человека. Потом этот импульс истощился в магических абстракциях антропософии Рудольфа Штейнера, обещавшей все то же, но более легким путем. Такие лидеры будущей советской интеллигенции, как Горький, Маяковский, Луначарский, в свои молодые годы находились под сильнейшим влиянием Ницше, и их позднейший большевизм позаимствовал у Ницше не меньше, чем у Маркса. Политический экстремизм русских марксистов соседствовал тогда с духовным экстремизмом Николая Федорова, требовавшего оставить все человеческие занятия ради своей «философии общего дела», заключающейся в научном методе воскрешения всех живших на земле людей. Теперь, почти столетие спустя, легко судить о том, что эти духовные течения, казавшиеся современникам абсолютно различными, общи в своем утопизме, основанном на вере в науку и родственном Ницше пренебрежении существующим на свете порядком вещей.
Программная книга Александра Богданова, самого серьезного теоретика среди большевиков и психиатра по образованию, под точным названием «Новый мир» начиналась с эпиграфов из Библии, Маркса и Ницше. «Человек – мост к сверхчеловеку», – цитировал Богданов и продолжал от себя: «Человек еще не пришел, но он близок, и его силуэт ясно вырисовывается на горизонте». Шел 1904 год.
Человек как он есть оказывается не целью и безусловной ценностью, а средством для построения некоего будущего существа. Как учил Ницше: «Человек есть то, что следует преодолеть». Эта идея представляется нам сегодня, на основе опыта прошедшего столетия, не просто опасной, но и в буквальном смысле этого слова человеконенавистнической. В начале века с ней соглашались многие. Литераторы-декаденты и православные теософы, сановные масоны и идеологи терроризма непримиримо спорили о средствах грядущего преображения человека и человечества – мистических или научных, эстетических или политических. Но сама цель и необходимость изменения природы человека мало кем подвергалась сомнению.
Православный идеал соборности – особого недемократического коллективизма, основанного на априорном согласии и повиновении, – добавлял свой оттенок в представления о целях и средствах преображения. Духовная традиция, развивавшаяся под разнообразными и, кажется, несовместимыми влияниями ницшеанства, православия и социального экстремизма, приобретала особую, поучительную цельность. Победившие большевики в своих программах массовой переделки человека довели идею до ее воплощения – воплощения варварского и для этой культуры самоубийственного, но, возможно, в ее рамках единственного, которое только и могло быть на деле осуществлено.
* * *
С начала 1910 и вплоть до 1930-х годов психоанализ был одной из важных составляющих русской интеллектуальной жизни. В многоцветной мозаике быстро развивавшейся культуры необычные идеи Зигмунда Фрейда воспринимались быстро и без того ожесточенного сопротивления, которое они встречали на Западе. В годы, предшествовавшие Первой мировой войне, психоанализ был известен в России более, чем во Франции и даже, по некоторым свидетельствам, в Германии. В России, писал Фрейд в 1912 году, «началась, кажется, подлинная эпидемия психоанализа».
Извечная русская «тоска по мировой культуре» находила естественное удовлетворение в те времена, когда Осип Мандельштам и Борис Пастернак, Вячеслав Иванов и Андрей Белый, Николай Евреинов и Сергей Дягилев, Иван Ильин и Лев Шестов, Лу Андреас-Саломе и Сабина Шпильрейн годами жили, учились и работали за границей (уже следующее российское поколение будет лишено этой роскоши уезжать и возвращаться домой). Сегодня трудно даже представить, насколько тесно русская интеллигенция тех лет была связана с интеллектуальной жизнью Европы, насколько доступны были для выходцев из российских столиц и местечек лучшие университеты, салоны и клиники Германии и Франции, Австрии и Швейцарии.
Возвращаясь домой, молодые аналитики находили в обществе, с небывалой быстротой освобождавшемся от старых зависимостей, заинтересованную клиентуру. Первые русские психоаналитики занимали престижные позиции в медицинском мире, были тесно связаны с литературными и политическими кругами, имели свой журнал, университетскую клинику, санаторий и шли к институциализации психоанализа по лучшим европейским образцам. Среди их пациентов были и выдающиеся деятели Серебряного века. Психоанализ, который проходили в 1910-е годы Эмилий Метнер и Иван Ильин, был одной из подспудных причин раскола в символизме, повлиявшего на судьбу и творчество его лидеров. Под влиянием многочисленных переводов Фрейда в языке русских интеллектуалов, от Вячеслва Иванова до Константина Станиславского, распространяется слово «подсознание», специфическое для психоанализа (в отличие от более старого слова «бессознательное»).
История психоанализа полна удивительными выходцами из России, которые стали выдающимися фигурами психоаналитического движения. Блестящая и космополитичная Лу Андреас-Саломе, психоаналитик и близкий друг Фрейда, была одной из самых ярких звезд общеевропейской культуры модерна и сохраняла при этом в своем творчестве отчетливые следы влияния русской философии. Макс Эйтингон, ближайший ученик Фрейда, в течение многих лет возглавлял Международную психоаналитическую ассоциацию, финансируя ее мероприятия деньгами, которые, как выяснилось позднее, контролировались правительством большевиков. Сабина Шпильрейн, самая романтическая фигура в истории психоанализа, вернулась в 1923 году в Россию, чтобы внести вклад в строительство утопии, и прожила вторую половину своей жизни в нищете, одиночестве и страхе. Эти и другие выходцы из России, сохранявшие разнообразные связи со своей страной и нередко в нее возвращавшиеся, составляли важную часть окружения Фрейда и его первых учеников. Аналитики Вены, Цюриха и Берлина годами вели богатых русских пациентов. Как и в других европейских странах, в России в 1910-е годы начала формироваться собственная психоаналитическая традиция. Николай Осипов, Моисей Вульф, Татьяна Розенталь, Михаил Асатиани, Леонид Дрознес обучались или консультировались у самого Фрейда, Юнга или Абрахама; все они вернулись в Россию до революции, чтобы начать активную работу в качестве практиков и популяризаторов психоанализа.
Дальнейшая их судьба была различной. Розенталь покончила с собой в 1921 году. Асатиани отказался от психоанализа, и имя его носит Институт психиатрии в Тбилиси. Осипов и Вульф вновь, и навсегда, уехали на Запад в 1920-х. Вульф вместе с Эйтингоном положил начало психоанализу в Израиле. В Праге Осипов со своим учеником Федором Досужковым основал местное психоаналитическое движение, так что психоанализ в Чехословакии ведет свою историю от русских аналитиков. В самой России следующее поколение психоаналитиков, которое на Западе вошло в силу в конце 1920-х годов, реализоваться не сумело.
Фрейд внимательно, сначала с надеждой, потом со страхом и, наконец, с отчаянием и отвращением следил за развитием событий в Советской России. Он, впрочем, стремился опровергнуть легко возникающее впечатление, что его «Будущее одной иллюзии» было вызвано к жизни именно советским опытом: «Я не собираюсь проводить оценку того громадного культурного эксперимента, который в настоящее время совершается на обширных пространствах между Европой и Азией», – писал Фрейд в 1927 году. Но уже через три года он признавался С. Цвейгу, что происходящее на этих пространствах заботит его как личная проблема: «Советский эксперимент… лишил нас надежды и иллюзии, не дав ничего взамен. Все мы движемся к тяжелым временам… Я сожалею о своих семи внуках». Среди тех, с кем Фрейд обсуждал русские проблемы на протяжении десятилетий, был его пациент и соавтор Уильям Буллит, первый посол США в СССР. Он оставил свой след в «Мастере и Маргарите», и неожиданные взаимопересечения судеб Фрейда, Буллита и Михаила Булгакова позволяют по-новому прочесть этот роман.
Проблемы, к которым обращался формировавшийся психоанализ, много раз оказывались в центре исканий русской интеллигенции. Один из самых необычных русских мыслителей, Василий Розанов, завоевал скандальную славу, пытаясь разрешить загадки пола. Крупнейший писатель эпохи Андрей Белый пытался реконструировать в своих романах опыт раннего детства таким способом, что исследователи, начиная с не менее известного Владислава Ходасевича, при анализе его творчества прибегают к психоанализу. И в советский период мы находим новые неожиданные пересечения. Михаил Бахтин, чьи литературоведческие работы получили мировое признание, всю свою долгую жизнь продолжал явный или неявный диалог с Фрейдом. Михаил Зощенко, знаменитый сатирик, десятилетиями лечил себя самоанализом, который практиковал под прямым влиянием Фрейда; с помощью него он сумел выиграть духовную борьбу с направленной лично против него мощью режима. Сергей Эйзенштейн, крупнейший кинорежиссер эпохи, тоже был увлечен психоанализом и использовал его идеи в своем творчестве.
Работы московских аналитиков одно время поддерживались и курировались высшим политическим руководством страны и активнее всего Львом Троцким, история отношений которого с психоанализом заслуживает особого обсуждения. Педология, специфически советская наука о методах переделки человека в детском возрасте, создавалась людьми, прошедшими более или менее серьезную психоаналитическую подготовку. Определенное влияние психоанализ оказал на зарождавшиеся в 20-е годы идеи, которые стали определяющими в развитии психологии в стране на полвека вперед. Крупнейший психолог советского периода Александр Лурия начинал свой длинный путь в науке ученым секретарем Русского психоаналитического общества. Книги Фрейда оказали заметное влияние на работы Льва Выготского и Павла Блонского. Общение с Сабиной Шпильрейн, привезшей в Москву живые традиции венской, цюрихской и женевской психологических школ, оказало важное влияние на формирование психологических воззрений Выготского, Лурии и их окружения.
Русская медицина принимала психоанализ менее охотно, чем широкая публика. Книги Фрейда систематически переводились на русский язык с 1904 по 1930 год, но в университетских курсах психиатрии и психологии они редко находили отражение. Физиология Ивана Павлова и психоневрология Владимира Бехтерева, боровшиеся между собой за первенство в той области, которая сегодня называется нейронаукой, периодически проявляли некоторый интерес к психоанализу, но оставались далеки от него. Советская психиатрия развивалась по пути механических классификаций и репрессивных методов лечения, которым психоанализ был чужд. В советской психотерапии, в полном соответствии с духом времени, господствовал гипноз.
После падения Троцкого психоаналитическая традиция в России была грубо и надолго прервана. Часть аналитиков нашли прибежище в педологии, но и эта возможность была закрыта в 1936 году. Сейчас, уже в самом конце XX века, мы вновь стоим перед задачей, которая с видимой легкостью была решена нашими предками в его начале. Только теперь задача возобновления психоаналитической традиции кажется нам почти неразрешимой.
* * *
Особенности психоанализа делают специфичной и его историю. История психоанализа – отдельная область исследований со своими авторитетами, традициями, журналами и своей Международной ассоциацией. Русский читатель легко заметит в стиле и содержании этой книги отличия от известных ему отечественных историй психологии. Мой подход отличается и от тех доминирующих сегодня взглядов на особенности русской и советской психологии, которые представлены в работах американских историков.
Истории таких смежных с психоанализом наук, как психология и медицина, больше ориентированы на анализ научных идей, методов и категорий и меньше интересуются людьми науки, их личностями, биографиями и взаимоотношениями. В истории психоанализа развитие идей тесно переплетено с судьбами людей; и то и другое отчасти вбирает в себя черты своего времени, а отчасти сопротивляется его меняющимся влияниям. Меня в большей степени интересовало то, что можно назвать историческим и, еще шире, человеческим контекстом психоаналитической теории и практики: глубокая и по политическим причинам часто недооцениваемая преемственность между советским и дореволюционым периодами духовной истории России; взаимные влияния психоанализа и современной ему русской философии, литературы, художественной культуры; отношения между содержанием науки и жизнью вовлеченных в нее людей.
Жизни людей – как аналитиков, так и их пациентов, – интересны в истории психоанализа не меньше (а пожалуй, и больше), чем судьбы их научных идей. Такова природа анализа, что на биографиях этих людей, на их словах и поступках, на выборе, который они делали в жизни, и на их отношениях между собой сказались психоаналитические ценности, взгляды, цели, средства, методы. Через людей влиял на существо аналитических представлений сам ход Истории. Взаимодействие идей, людей и эпох – вот что будет интересовать нас здесь, в истории психоанализа в России.
Такая методология не является ни общепринятой, ни тем более единственно возможной. Мы можем настаивать только на том, что она соответствует взглядам многих героев этой книги. Ницше писал в 1882 году Андреас-Саломе: «Моя дорогая Лу, Ваша идея свести философские системы к личной жизни их авторов (хороша)… я сам так именно и преподавал историю древней философии, и я всегда говорил моей аудитории: система опровергнута и мертва – но если не опровергнуть стоящую за ней личность, то нельзя убить и систему». Споря с Юнгом, Фрейд так заключал свою историю психоанализа: «Люди сильны, пока защищают великую идею; они становятся бессильными, когда идут против нее». Юнг, со своей стороны, писал русскому литератору Эмилию Метнеру в 1935 году: «…твоя философия сродни твоему темпераменту, и оттого ты рассматриваешь личность всегда в свете идеи. Это меня очаровало». Владислав Ходасевич говорил «о попытке слить воедино жизнь и творчество… как о правде символизма. Эта правда за ним и останется, хотя она не ему одному принадлежит. Это – вечная правда». Михаил Бахтин формулировал: «Идея – это живое событие, разыгрывающееся в точке диалогической встречи двух или нескольких сознаний». А булгаковский Воланд понимал задачу так: «Я – историк… Сегодня вечером на Патриарших будет интересная история!»
Эта книга в своей композиции пытается соответствовать сложной исторической ткани. Рассказ о людях, делавших историю психоанализа в России, чередуется с рассказом о последовательных периодах этой истории. Главы книги следуют друг за другом так, что после монографической главы, посвященной истории жизни кого-то из наших героев, следует обзорная глава, посвященная той или иной эпохе в восприятии, развитии и трансформации психоанализа в России.
В западной, и прежде всего французской и американской, а также английской, немецкой, итальянской, венгерской, болгарской, швейцарской и шведской, литературе, истории психоанализа в России посвящены интересные исследования. В отечественной литературе настоящая книга по существу открывает эту благодарную тему.
* * *
Автор признателен всем, кто помогал ему в течение нескольких лет работы над этой книгой. Если бы Галина Козлова (издательство «Прогресс», Москва), Irina Manson (Radio France) и Alan de Mijolla (Международная ассоциация истории психоанализа, Париж) в свое время не проявили интерес к ее изданию, она, возможно, никогда не была бы закончена.
М. Г. Ярошевский (Институт истории естествознания и техники АН СССР, Москва), Б. М. Фирсов (Институт социологии РАН, Санкт-Петербург), Clemens Heller (Дом наук о человеке, Париж) в разных, иногда сложных обстоятельствах поддерживали автора, проявляя доверие и терпимость. Н. П. Снеткова, М. И. Шпильрейн, Н. Н. Трауготт, М. И. Давыдова, Е. А. Лурия, А. И. Липкина, Ефим Эткинд, Ronald Grele, James Rice, Борис Кравцов, Геннадий Обатнин, Леонид Ионин, Paul Roazen, Валерий Максименко, Юрий Виноградов, Eugenia Fischer, Ferenz Eros, Michael Molnar, Вера Проскурина, Елена Костюшева предоставили мне разного рода информацию, в некоторых случаях совершенно бесценную.
Я особо признателен работникам Центрального государственного архива России.
Искренне благодарю всех, кто читал рукопись целиком или отдельные ее части и помог мне своими замечаниями и самим своим интересом: Е. Эткинда, Ю. Каган и М. Кагана, М. Хмелеву, И. Кона, I. Manson, Б. Колоницкого, Л. Флейшмана, A. Samuels, N. Zalcman, 3. Домич, Л. Гозмана, Л. Михайлову, Я. Гордина, Е. Голынкину, L. Byckling, E. Гордееву.
И наконец, отдельная моя благодарность – Анне Эткинд.
Ленинград – Париж – Санкт-Петербург
1992
Глава I
На грани миров и эпох: жизнь и работа Лу Андреас-Саломе
В 1861 году в Петербурге, в здании Главного штаба на Дворцовой площади, родилась девочка, которую ждала мировая слава и полная неизвестность на родине. Ее отец, генерал русской службы Густав фон Саломе, был прибалтийским немцем, а по религии – французским гугенотом; получив военное образование в России, он сделал быструю карьеру при Николае I. Мать, по происхождению из датских немцев, родилась в России. Новорожденную нарекли русским именем Леля.
Современница Веры Засулич
Она прожила в Петербурге первые 20 лет своей жизни. Рассказывая о своем детстве, она затруднялась назвать язык, который был для нее родным. В семье говорили по-немецки, но у Лели была русская няня и гувернантка-француженка, а училась она в частной английской школе. «У нас было чувство, что мы русские», – вспоминала она, замечая тут же, что слуги в доме были татары, швабы и эстонцы. Петербург для нее «соединял обаяние Парижа и Стокгольма». Вспоминая его имперское великолепие, оленьи упряжки и ледяные дворцы на Неве, она говорила, что, несмотря на все это своеобразие, Петербург был городом-космополитом.
Саломе, генерал и тайный советник, был в молодости близок к Николаю, а теперь с недоверием и опаской наблюдал реформы Александра II. Шестеро его детей – Леля была младшей сестрой пяти братьев – росли в эпоху, интеллектуальная и политическая насыщенность которой почти не имела равных в русской истории. Романы Толстого и Достоевского были написаны в эти решающие десятилетия. Тогда же сформировались первые революционные движения, и женщины играли в них важную роль. По подсчетам историков, в политических процессах 70–80-х годов были осуждены в общей сложности 178 женщин. Бóльшая часть их принадлежала к террористической организации «Народная воля», которая с седьмой попытки совершила успешное покушение на Александра II: царь-освободитель был убит накануне подписания им первой русской Конституции. Ключевую роль и в этом заговоре играли женщины, одна из них была казнена. Мы не знаем, насколько была увлечена всем этим Леля, но известно, что всю жизнь она хранила у себя фотокарточку Веры Засулич, которая была оправдана судом присяжных после покушения на петербургского градоначальника. Тогда Засулич была названа одним французским журналом самым популярным человеком Европы. В этом же 1878 году в Петербурге был открыт первый в истории России женский университет[1].
Леля была очень дружна со своим отцом и братьями. Позднее она писала, что в детстве так привыкла находиться среди мужчин старше себя, что «весь мир казался мне населенным братьями». Но, насколько можно судить по ее воспоминаниям, девочка росла самостоятельной, погруженной в себя и очень мечтательной. Она не играла с куклами, зато все время выдумывала разные истории: разговаривала с цветами, растущими в саду в Петергофе, где она проводила каждое лето, сочиняла сказки о людях, которых видела на улице. Она помнила, что долго не могла поверить что зеркала правильно отражают ее облик, она не чувствовала себя отдельной от своего окружения. Мир был, наверно, добр к ней, но в памяти остались и следы ее детских ссор с матерью. Ее воспоминания о первых сознательных годах жизни включают в себя и детскую веру в Бога, и раннюю утрату этой веры. Протестантская религия не обременяла ее ритуалами, и Леля верила постольку, поскольку сама нуждалась в вере. В какой-то момент ее детства Бог «исчез», но осталось «смутно пробудившееся чувство, которое уже никогда не исчезало, – чувство беспредельного товарищества… со всем, что существует» (там же).
Первая встреча
Идиллия, если она была, скоро закончилась. До нас дошло письмо, которое Леля Саломе написала пастору Гийо, чьи проповеди ей нравились: «Вам пишет семнадцатилетняя девушка, которая одинока в своей семье и среди своего окружения, одинока в том смысле, что никто не разделяет ее взглядов и тяги к подлинному знанию. Вероятно, мой способ мышления отделяет меня от большинства девушек моего возраста и моего круга. Вряд ли есть что-то хуже для девушки, чем отличаться от других в своем характере и взглядах, в том, что мне нравится и что не нравится. Но так горько запирать все в себе, потому что иначе сделаешь что-нибудь неприличное, и так горько чувствовать себя совсем одинокой, потому что тебе недостает приятных манер, которыми так легко завоевать доверие и любовь» (там же).
Пастор, видимо, ответил вежливо, и они встретились. Эта встреча была первой из тех, которые раз за разом меняли ее жизнь. Гийо загрузил девушку уроками: философия, история религии, голландский язык… Главными героями их общения были Кант и Спиноза. Гийо освободил ее от тягостных для нее мечтаний способом, смысл которого она поняла гораздо позже: он потребовал рассказывать их ему – все и полностью. Они встречались втайне от ее родителей. Можно представить себе, насколько трудно и бурно давалось это общение, которому не было названия, закрытой и страстной девушке. В Гийо, вспоминала она, ей виделся Бог, и она поклонялась ему как Богу. Они сближались все больше, и это было тяжело для обоих. Однажды она потеряла сознание, сидя на коленях у пастора.
В 1879 году умер отец Лели. По настоянию Гийо она рассказала матери об их уроках. Встретившись с матерью, Гийо сделал Лу предложение. Девушка была в шоке; она пережила это как вторую потерю Бога. «Одним ударом то, чему я поклонялась, вышло из моего сердца и стало чужим для меня» (там же). Сексуальная близость еще много лет будет для нее невозможной. Гийо стал первым из длинной череды мужчин, которые будут испытывать восторг от духовной близости с этой девушкой и отчаяние от ее телесной холодности, сочетавшихся с необычайной привлекательностью.
История с Гийо закончилась ссорой с матерью, отказом от конфирмации и легочным кровотечением. Выход был найден в отъезде за границу. Гийо не помог ей достичь зрелости, но содействовал в получении паспорта – это было трудно потому, что она не имела вероисповедания. В паспорте стояло ее новое имя: Лу. Под этим коротким именем она и войдет в историю.
Что-то почти неженское
Вместе с матерью Лу оказалась в Цюрихе. Какое-то время она посещала в университете курс философии. Профессор, читавший историю религии, отзывался о ней как о «совершенно чистом создании, которое обладает необыкновенной энергией, сосредоточенной исключительно на духовном поиске», и даже видел в этом «что-то почти неженское». Другой мемуарист вспоминал о ней как о «самом обаятельном, всепобеждающем, подлинно женственном существе, которое отбросило все средства, которыми пользуются женщины, и использует исключительно то оружие, которым завоевывают мир мужчины». На сохранившихся от этого времени фотографиях фрейлейн Саломе выглядит высокомерной и очень красивой: глухое черное платье, гладко зачесанные назад волосы, бледное, сосредоточенное лицо. Девушке только исполнилось 20 лет, в Европу она попала впервые.
Но ее здоровье вновь не выдерживает, и мать везет ее в Италию. Лу знакомится в Риме со знаменитой Мальвидой фон Мейзенбуг, писательницей, которая пропагандировала освобождение женщин и всю жизнь искала новые, «благородные» отношения между полами. Мальвида была близким другом и многолетним корреспондентом А. И. Герцена, воспитывала его дочь и подолгу жила в его доме в Лондоне. За четверть века до описываемых событий Герцен писал в одном письме: «Хочу я испытать и взять к нам мадемуазель Мейзенбуг. Она необыкновенно умна и очень образованна, пребезобразная собой и 37 лет».
В своих «Мемуарах идеалистки» Мейзенбуг вспоминала, как она хотела основать просветительский союз с тем, чтобы вести взрослых людей обоего пола к свободному развитию их духовной жизни, «чтобы они затем вошли в мир сеятелями новой, одухотворенной культуры». В проекте Мальвиды знакомые формы светского салона сочетались с только начинающимися поисками нового человека и новых отношений между людьми. Речь идет не о теории; для Мальвиды, как и для некоторых ее современников и множества последователей, идея эта имела вполне практический характер. Нового человека можно создать. Для этого нужно только… В ответе на этот вопрос и состояла важная, может быть, определяющая часть культуры модерна.
Частым гостем в салоне Мальвиды был Фридрих Ницше. Его постоянным собеседником был тридцатидвухлетний философ Поль Рэ. Автор книг по моральной философии, в которых он доказывал сводимость принципов этики к практической пользе, рациональности и дарвинизму, Рэ был страстным и совершенно непрактичным человеком. У него случались приступы вполне иррациональной меланхолии, и он не мог побороть своей любви к рулетке. К тому же он был еврей, панически стеснявшийся своего еврейства. А Мальвида писала о своем проекте просвещения Лу и других юных созданий: «Эта идея нашла самый горячий отклик среди собеседников. Ницше и Рэ готовы были тотчас принять участие в качестве лекторов. Я была убеждена, что можно привлечь многих учениц, которым я хотела посвятить свои особые заботы, чтобы создать из них благороднейших защитниц эмансипации женщин».
Лу не стала феминисткой в Италии, как не стала и революционеркой в России. Она шла своим путем, проходя сквозь интеллектуальные течения своего времени, выбирая свое и двигаясь туда, куда влекло ее рафинированное любопытство и столь же изощренное чутье.
Рэ познакомился с Лу, когда читал лекцию группе образованных девиц в салоне Мальвиды. Он сразу в нее влюбился и, хоть считал, что жениться и делать детей в этом дурном мире нерационально, поспешил сделать ей предложение. Лу отклонила его так же твердо, как немногим ранее отказала Гийо. Но теперь она чувствовала себя достаточно сильной для большего. Не надо бежать от мужчины, который оказался не способен контролировать свои чувства; надо победить в нем эти чувства, заставив его подавить их так же, как она подавляла их в себе. В награду Рэ получал возможность видеть Лу и даже жить с ней. План девушки был таков. Рэ отказывается от всяких притязаний на ее тело. Тогда они смогут жить общими духовными интересами. Общественное мнение ее не волновало. Рэ, в очередной раз нарушив принципы своей моральной философии, согласился. Оставалось преодолеть понятное сопротивление окружающих: матери, пастора Гийо и даже Мальвиды фон Мейзенбуг, идеи которой уже не казались современными. Лу писала пастору: «Мальвида тоже против нашего плана… Но мне уже давно стало ясно, что, даже когда мы с ней соглашаемся, на уме у нас разные вещи. Обычно она выражается так: мы не должны делать то-то, мы должны добиться того-то, – а я понятия не имею, кто это мы, наверно, какая-то идеальная или философская партия. Я знаю только мое я».
В 1882 году Ницше стоял на пороге очередного поворота, после которого ему предстоял высший расцвет, а потом окончательный крах. Он был тяжело болен. Врачи и историки до сих пор не сумели определить диагноз. Одни считают, что он страдал сифилисом, другие (как одесский врач И. К. Хмелевский, посвятивший этому специальное исследование) утверждали, что прогрессивный паралич может иметь и иное, несифилитическое происхождение. Ко времени встречи с Лу Ницше был почти слеп и тяжело страдал от головных болей, с которыми справлялся все увеличивающимися дозами наркотика и постоянными переездами. Болезнь имела периодическое течение, и в те промежутки, когда приступы ее стихали, он непрерывно и очень много писал. Он был одинок и необыкновенно привязан к своей сестре Элизабет. Несколько раз он просил друзей подыскать ему жену. Когда он начал слепнуть, ему стала необходима хотя бы секретарша. О нем ходили сплетни, будто он никогда не знал женщин. Менее всего он был похож на своего любимого героя – сверхчеловека. Это был романтик, живший бесплотной жизнью своего больного и гениального духа.
Но весной 1882 года он чувствовал себя лучше, чем когда-либо. Когда Рэ, а потом Мейзенбуг написали ему о Лу, он понял их по-своему: «Передайте от меня привет этой русской девочке, если видите в этом смысл: меня влекут такие души… Я нуждаюсь в них для того, что я намерен сделать в течение ближайших десяти лет. Брак другое дело – я бы согласился на женитьбу на два года примерно», – легко отвечал он Рэ, не подозревая о последствиях.
Они встретились втроем в апреле в Риме. Ницше читал Лу и Рэ свою только что законченную книгу «Веселая наука», самое жизнерадостное свое произведение, в котором утверждаются сила и великолепие необыкновенного человека будущего – сверхчеловека. Человек, каким мы, люди, его знаем, не удовлетворяет Ницше. «Иной идеал влечет нас к себе, чудесный, искушающий, чреватый опасностями идеал…, для которого все то высшее, в чем народ справедливо видит свое мерило ценностей, представляло бы не более чем падение, унижение, опасность или по меньшей мере средство самосохранения». И добавлял: его идеал «довольно часто кажется почти нечеловеческим». Ницше оставалось немного времени, чтобы увидеть свой идеал в этой жизни. Он ждал трагедии, но успел пережить лишь мелодраму: встречу и разрыв с Лу.
Втроем они путешествуют по горам Северной Италии, Швейцарии и собираются поселиться в Париже. Вместе они успешно отражают атаку матери Лу, которая, в ужасе от происходящего, пытается увезти дочь обратно в Россию и даже вызывает себе на помощь любимого брата Лу – Евгения.
Не забудь плетку!
Сохранилась удивительная фотография, снятая в те дни в Люцерне, на фоне Альп. Ницше и Рэ стоят, запряженные в двуколку, в которой сидит Лу и держит кнут. Рэ позирует уверенно и чувствует себя на месте. Ницше устремляет взгляд невидящих глаз вдаль. На лице Лу, только что выстроившей эту мизансцену, нет насмешки. Действительно, все это серьезно. Не пройдет и года, как после мучительного для него разрыва с Лу Ницше напишет свое знаменитое: «Ты идешь к женщине? Не забудь плетку!»
Помахивая своим кнутиком, Лу мечтала построить маленькую интеллектуальную коммуну, «святую как Троица», в которой мужчины, отказавшись ради нее от своих на нее же притязаний, воплощали бы их в общем духовном поиске, в котором ей принадлежала бы равная роль. Рэ принимал этот проект. «Братец Рэ», называла она его, хваля за «неземную доброту». Сам он в письмах к ней называл себя «твоим маленьким домом» и считал ее благополучие «единственной задачей моей жизни, если не считать моей книги». Рэ, действительно, занял в ее новой жизни место ее прежнего дома, наполненного братьями. С Ницше у нее складывались иные отношения.
В августе 1882 года Лу пишет Рэ: «Разговаривать с Ницше, как ты знаешь, очень интересно. Есть особая прелесть в том, что ты встречаешь сходные идеи, чувства и мысли. Мы понимаем друг друга полностью. Однажды он сказал мне с изумлением: Я думаю, единственная разница между нами – в возрасте. Мы живем одинаково и думаем одинаково. Только потому, что мы такие одинаковые, он так бурно реагирует на различия между нами – или на то, что кажется ему различиями. Вот почему он выглядит таким расстроенным. Если два человека такие разные, как ты и я, – они довольны уже тем, что нашли точку соприкосновения. Но когда они такие одинаковые, как Ницше и я, они страдают от своих различий».
Со своей стороны, Ницше писал, что «вряд ли когда-либо между людьми существовала большая философская открытость», чем это было между ним и Лу. Своему другу Петеру Гасту он описывал ее так: «Она дочь русского генерала, ей 20 лет, она резкая, как орел, сильная, как львица, и при этом очень женственный ребенок, который будет жить недолго… Она поразительно зрела и готова к моему способу мышления… Кроме того, у нее невероятно твердый характер, и она точно знает, чего хочет, – не спрашивая ничьих советов и не заботясь об общественном мнении». А самой Лу Ницше написал даже такое: «Я не хочу больше быть одиноким и хочу вновь открыть для себя, как быть человечным». Не стоит гадать о том, чему учил бы Заратустра, если бы отношения с Лу сложились иначе, но похоже, Ницше стоял тогда на пороге совсем других открытий.
Возможно, чувственные влечения Ницше были столь же сильно подавлены, что и не проснувшиеся еще чувства Лу, и потому им было так хорошо ощущать свою невероятную близость в разреженных высотах духа. Во всяком случае, знатоки вопроса соглашаются с его сестрой Элизабет, что чувство к Лу было самым сильным в его жизни, и ни одной из женщин не удалось вызвать у знаменитого философа ничего подобного. Матери Лу в Санкт-Петербург было направлено письмо с формальным предложением. На какое-то время влюбленный Ницше порвал отношения со своими сестрой и матерью, которые Лу, естественно, ненавидели. Разрыв с семьей был для Ницше актом героизма, соответствовавшим его философии, но совершенно невозможным в практической жизни.
Со времени их первой встречи прошло немногим больше года, когда, вновь оказавшись под влиянием своей сестры, Ницше проклял Лу. «Если я бросаю тебя, то исключительно из-за твоего ужасного характера… Ты принесла боль не только мне, но и всем, кто меня любит… Не я создал мир, не я создал Лу. Если бы я создавал тебя, то дал бы тебе больше здоровья и еще то, что гораздо важнее здоровья, – может быть, немного любви ко мне». В его письмах к Лу угрозы окончательного разрыва сменяются раскаянием: «Мои дорогие Лу и Рэ, не беспокойтесь об этих вспышках моей паранойи или уязвленного самолюбия. Даже если однажды в припадке уныния я заберу свою жизнь, не должно быть повода для печали. Я хочу, чтобы вы знали, что я не больше чем полулунатик, пытаемый головными болями и помешавшийся от одиночества. Я достиг этого разумного, как я сейчас думаю, понимания ситуации после приема солидной дозы опия, спасающего меня от отчаяния».
На вершине отчаяния он пишет главную книгу своей жизни «Так говорил Заратустра». Первая ее часть написана всего за 10 дней. Человек есть то, что следует превзойти. Человек – не цель, а мост, ведущий к цели, к сверхчеловеку. «Что такое обезьяна в отношении человека? Посмешище или мучительный позор. И тем же самым должен быть человек для сверхчеловека: посмешищем или мучительным позором». Сверхчеловек – это смысл земли, а человек – лишь грязный поток. Только море может принять в себя грязный поток и не сделаться нечистым. «Смотрите, я учу вас о сверхчеловеке: он – это море, где может потонуть ваше великое презрение». Презрение людей к себе, презрение автора к людям, презрение автора к самому себе.
Его сестра Элизабет вспоминала: «Какой-то злой рок пожелал, чтобы именно в это время, когда здоровье брата несколько восстановилось, его посетили тяжелые личные испытания. Он пережил глубокие разочарования в дружбе… и в первый раз познал одиночество». По ее мнению, в образе Заратустры воплотилась его мечта о совершенном друге, которого он не мог найти в этот последний период своей жизни. Это предназначалось для публики. В частном же письме, в ноябре того самого 1882 года, Элизабет выражалась более определенно: «Как искусно она использует максимы Фрица, чтобы связать ему руки!.. Не могу отрицать, она действительно воплощенная философия моего брата». В другом дошедшем до нас документе Элизабет говорит о Лу как о хищнице, которую следует раздавить любой ценой.
Петер Гаст, друг Ницше, рассказывал о его романе с Лу более спокойно: «В течение определенного времени Ницше был действительно заворожен Лу. Он видел в ней что-то необыкновенное. Интеллект Лу и ее женственность возносили его на вершину экстаза. Из его иллюзий о Лу родилось настроение Заратустры. Настроение, конечно, принадлежало Ницше, но именно Лу вознесла его на Гималайскую высоту чувства».
Действительно ли Ницше нашел в двадцатилетней русской девушке свой идеал сверхчеловека, а Заратустра и есть недостающий «совершенный друг», закодированная прекрасная Лу? Трудно судить о том, насколько буквально можно принять эту странным образом восходящую к сестре Ницше интерпретацию. Достаточно того, что именно любовь к Лу, любовь не удовлетворенная и не изжитая, вызвала в страдающем Ницше тот накал чувств, которым до сих пор обжигает его книга. Сама Лу в своей монографии о философии Ницше расскажет об этом так: «Когда Ницше уже не насилует своей души, когда он свободно выражает свои влечения, становится ясно, среди каких мук он жил, слышится крик об избавлении от самого себя… В полном отчаянии он ищет в самом себе и вне себя спасительный идеал, противоположный своему внутреннему существу».
Элизабет Ницше всю жизнь пыталась присвоить себе сначала самого брата, а потом его наследие. Тот бунтовал, но с усилением своих страданий становился все более от нее зависим. Через два года после разрыва с Лу он писал Мальвиде фон Мейзенбуг о сестре: «Между мной и мстительной антисемитской гусыней не может быть примирения. Позже, гораздо позже она поймет, как много зла она принесла мне в самый решающий период моей жизни…» Элизабет травила Рэ как еврея; через много лет, уже в старости, она объявит еврейкой и Лу. В 1885 году она вышла замуж за Ферстера, активиста немецкого националистического движения, известного тем, что он собрал четверть миллиона подписей под направленной Бисмарку петицией, требовавшей запретить въезд евреев в Германию и уволить их с государственной службы. Не найдя правды на родине, он уехал с женой в Парагвай строить там новую Германию. Его руководящая деятельность привела к бунту поселенцев, и он застрелился в июне 1889 года. Элизабет вернулась домой и занялась наследством своего брата, только что скончавшегося в психиатрической больнице (где его лечащим врачом был Отто Бинсвангер, дядя Людвига Бинсвангера, близкого друга Фрейда). Изданная ею компиляция незаконченных рукописей Ницше под названием «Воля к власти» признана историками фальшивкой. Именно Элизабет Ферстер-Ницше ответственна за примитивное и расистское понимание сверхчеловека, которое было канонизировано нацистами. Вершиной ее деятельности было посещение архива Ницше в Веймаре Гитлером в ноябре 1935 года. Самому Ницше расизм и тем более антисемитизм были совершенно чужды. Его сверхчеловек был чистой гипотезой, не столько мифом, сколько проектом мифа, призывом, не включавшим никаких рецептов. Себя же Ницше вообще не считал немцем, возводя свой род и необычную фамилию к польским шляхтичам.
В России Ницше понимали как романтика и пророка. «Быть может, именно в Ницше всего сильнее проявилось романтическое желание принять весь мир» и увидеть в нем «присутствие бесконечного в конечном», – писал в 1914 году В. Жирмунский. Именно у романтиков «жизнь и поэзия сближаются; жизнь поэта похожа на стихи; жизнь в эпоху романтизма подчиняется поэтическому чувству… Переживание становится темой поэтического изображения, и, через это изображение, пережитое получает форму и смысл». По точной формулировке Жирмунского, в этом выразился, может быть, «массовый бред»; «но с психологической точки зрения, во всяком случае, бред является таким же состоянием сознания, как и другие».
В этом романтическом свете любовь Ницше и Саломе и не могла закончиться иначе чем бредом. Разыгрывавшаяся среди альпийских вершин и средиземноморских курортов, эта любовь странно напоминает романтические истории русской литературы. До встречи с Лу Ницше читал Лермонтова и писал другу: «…страна, столь незнакомая мне, и разочарованность в западном духе, все это описано в прелестной манере, с русской наивностью и с мудростью подростка». Экзотика русской жизни не мешала, а скорее помогала увидеть в Лермонтове те же знакомые проблемы, что в Байроне или Новалисе. В письмах Ницше времен его романа с юной Лу упоминания о наивности и незрелости русских отсутствуют. Лу была хорошо подготовлена, и чувства Ницше подчинялись известным ей правилам – международному коду романтических переживаний, в котором счастье недостижимо, любовь сливается со смертью, а конечный человек имеет значение лишь как отсвет бесконечности.
Возможно, восторженный отзыв Ницше о Лермонтове относится к самому удивительному лермонтовскому творению, написанному за полвека до «Заратустры», но странно его напоминающему. Запрещенная царской цензурой, поэма «Демон» вышла в Германии раньше, чем в России, и не раз переводилась на немецкий (впервые в 1852 году Ф. Ботенштедтом, лично знавшим как Лермонтова, так и Ницше). «Демон «поражает той же, что и знаменитая книга Ницше, доведенной до абсурда романтикой – поэтикой одиночества, презрением к обыденной жизни, мечтой о возрождении в любви и отсутствием интереса к техническим деталям осуществления этой мечты. Автор «Заратустры», возможно, с изумлением находил в странном герое русской поэмы себя, свои мечты, тревоги и чувство вины. Мрачные символы мужского начала, извне вторгающегося в устоявшуюся женственную обыденность, герои Лермонтова и Ницше полны предчувствий «жизни новой». Наследники классических дьяволов Гёте и Байрона, оба они оказываются дальними предшественниками новых демонов русской литературы – «Бесов», Хулио Хуренито, Воланда.
Достаточно раскрыть лермонтовского «Демона», чтобы узнать, как начинаются и чем кончаются истории любви в романтической культуре. Герой Лермонтова, существо непонятной природы, не бог и не человек, «сеял зло без наслажденья… И все, что пред собой он видел, Он презирал иль ненавидел». Так бы он и жил, если бы не встретил земную женщину, преобразившую само его существо: «В нем чувство вдруг заговорило Родным когда-то языком. То был ли признак возрожденья?» Он рассказывает красавице о своих необыкновенных идеях и возмущает ее мысль «Мечтой пророческой и странной». Наконец, он соблазняет ее происходящим с ним тотальным преображением: «Хочу любить, хочу молиться, Хочу я веровать добру». Но удовлетворение демонической страсти ведет к гибели красавицы.
После встречи Ницше и Саломе пройдет еще двадцать лет, и идея эквивалентности любви и смерти, намеченная в «Демоне» (и в «Египетских ночах» Пушкина), станет общей темой всей «декадентской» русской культуры. Эта идея будет считаться воспринятой от Ницше, но своеобразно впишется в русский контекст, перенасыщенный традиционной и новой романтикой (см. гл. II).
Любопытно, что для осуществления трагедии всякий раз нужна была экзотическая, нездешняя женщина, на которой легче сосредоточить несбыточные ожидания: Демону – дочь Кавказа, Ницше – русская… Правда, Лу, в отличие от лермонтовской Тамары, общение с Демоном явно не казалось последним в ее жизни.
Заратустра выходит замуж
После разрыва с Ницше Лу и Рэ жили вместе в Берлине. В их салоне бывали многие люди, входившие или готовившиеся войти в интеллектуальную элиту Европы, такие как Герман Эббингаус, один из основателей экспериментальной психологии, и Фердинанд Теннис, крупнейший немецкий социолог конца века. Все они ухаживали за Лу и все получили отказ. К этому времени восходит история о Франце Ведекинде, драматурге, известном своими скандальными эротическими пьесами. Встретив Лу в компании, он принял ее за даму полусвета, но, привезя ее к себе домой, натолкнулся на столь поразившее его сопротивление, что наутро нанес ей визит во фраке и с цветами. Согласно этой легенде, Ведекинд отомстил ей, сделав героиней своей знаменитой пьесы «Лулу».
Целых три года Лу Саломе и Полю Рэ удавалось сохранять то состояние бесполого интеллектуального партнерства, которое было столь желанно для Лу и, видимо, приемлемо для Рэ. Но расставание стало для него мукой. Он бросил свою моральную философию и стал работать врачом в маленькой немецкой деревне. Местные жители считали его святым: он жил отшельником, лечил больных бесплатно, устраивал их за свой счет в больницы Берлина и Бреслау и приносил им под одеждой еду и вино. Всю жизнь говоривший о самоубийстве, он погиб во время прогулки в горах. Случилось это, однако, много позже, в 1901 году.
Биографы, изучившие все, что было оставлено Лу, и выстроившие на этом материале довольно разные истории ее жизни, так и не смогли объяснить, как и почему она вышла замуж за Фреда Андреаса, сорокалетнего знатока восточных языков. Это произошло в июне 1886 года. Брак был удивителен и, как почти все, что происходило с Лу, имел некую сверхчеловеческую природу: по ее требованию и условию, которое было выдержано в течение многих десятилетий совместной жизни, их брак не включал в себя сексуальной близости. До нас дошли описания неудовлетворенной страсти Андреаса и того жестокого сопротивления, которое ему оказывала Лу. Это многолетнее сопротивление она не могла объяснить даже в своих написанных много позже воспоминаниях.
Но во всем этом содержался, несомненно, глубокий и необходимый смысл. Своей жизнью Лу осуществляла любимый афоризм Ницше: «Стань тем, что ты есть». Муж не мог склонить ее к близости, на которую имел право. Она этого не хотела, позволяя себе жить в соответствии со своими личными влечениями (или страхами?). Когда же ей захотелось близости – с другими мужчинами – она не стала жертвовать своим желанием ради мужа.
Общечеловеческая мораль, известная под названием здравого смысла, говорит о том, что за удовольствия такого человека приходится расплачиваться другим. Сверхчеловек, спроектированный Ницше, презирает здравый смысл как нечто, что нужно преодолеть; то, что он дает и что берет, находится вне морали, по ту сторону добра и зла. Ницше не сказал ничего конкретного о том, как сверхлюди будут общаться между собой. Его, как потом и его последователей-большевиков, совсем не заботили и другие очевидные для здравого смысла проблемы: например, как и из чего создается сверхчеловек, что ему надо делать, чтобы от его действий не страдали другие, и как он будет жить, меняясь во времени.
Сверхчеловек существует лишь в единственном числе. Заратустра одинок не так, как бывает одинок человек или как был одинок Ницше: одинок не потому, что болен, или не сжился с кем-то, или так сложилась его жизнь. Он одинок в принципе, иначе не мог бы и не хотел; одиночество – одно из определяющих его качеств. Откроем его монолог на любой странице: «О, уединение, отчизна моя! Как блаженно и нежно говорит мне твой голос!» Или: «Кто хотел бы все понять у людей, должен был бы ко всему прикоснуться. Но для этого у меня слишком чистые руки».
А Лу была частью человеческой истории, изменяясь вместе с окружающими ее реальными людьми. Осуществляла ли она ницшеанский миф на практике? Пока она становилась тем, что есть, другие либо уходили с ее пути, либо пытались ей соответствовать. Для них это кончалось по-разному, но нас сейчас интересует сама Лу. Миф статичен, а мир меняется. Завтра человек будет не тем, чем он был вчера. Поэтому, становясь тем, что есть, он перестает быть тем, которым был. Самоосуществление человека оказывается его историей. Стань тем, что ты есть, говорил Ницше девушке, желая добиться от нее того, чего хотел он. Стала ли она с другими тем, кем была – то есть не смогла быть – с Ницше? История человека почти необъяснима, а его развитие почти непредсказуемо, потому что он осуществляет себя вместе с другими людьми, и с каждым новым партнером человек – это меняющееся и почти новое Я.
Испытав сильнейшее влияние Ницше, Лу стала совсем другой. Историки расходятся во мнении о том, кто был первым мужчиной в ее плотской жизни. Согласно наиболее выразительной версии, им был основатель социал-демократической партии Германии и марксистской газеты «Форвартс» («Вперед»), в будущем активный революционер, а потом член рейхстага Георг Ледсбур. Пройдут десятилетия, и с ним в Вене будет общаться Троцкий…
Потерявшей невинность Лу было уже за 30. Происшедшее потрясло семейную жизнь Андреасов. Фред собирался покончить с собой, Лу чуть было к нему не присоединилась, но в итоге все закончилось мирным соглашением, в результате которого их роли определились на всю жизнь. Лу стала пользоваться совершенно необычной свободой, сохраняя общий дом и дружескую близость с Андреасом. К этому времени относятся несколько книг, сделавших ее довольно известной среди интеллектуальной элиты; в них она перерабатывает и преодолевает влияние Ницше. В одной из них дается своя трактовка евангельского сюжета, в которой Христос оказывается одиноким страдающим героем. Другая прямо посвящена философии Ницше. Последняя имела успех, и довольно скоро, в 1896 году, ее перевод появился на русском языке в журнале символистов «Северный вестник» (он издававался петербургским приятелем Лу Акимом Волынским, и в нем печатал тогда свои романы Дм. Мережковский).
В мае 1897 года Лу встретилась с Рильке. Рене Мария Рильке был 21 год, и он был на 14 лет моложе Лу Андреас-Саломе. Роман между ними возник сразу. В жизни Рильке было много женщин; он писал им стихи, быстро очаровывался верой в возможность счастья и так же быстро охладевал. На их фоне Лу была единственной. Их близость продолжалась четыре года; но еще целых тридцать лет Лу оставалась для Рильке самым большим авторитетом, а возможно, и самым близким человеком.
О том, что она значила для него, говорит их переписка. В начале романа он писал ей: «Моя весна, я хочу видеть мир через тебя, потому что тогда я буду видеть не мир, а тебя, тебя, тебя». Позже, в 1903 году, он писал иначе: «Я чувствовал тогда и знаю сейчас, что бесконечная реальность, которая окружала тебя, была самым важным событием… Никогда раньше я в своих мечтаниях на ощупь не чувствовал жизнь так сильно, не верил в настоящее и не узнавал будущего. Ты противостояла всем моим сомнениям и свидетельствовала, что все, к чему ты прикасаешься, что видишь и чего достигаешь, – существует. Мир перестал быть похожим, как в моих первых стихах, на облака, которые то сливаются вместе, то распадаются; в нем появились вещи, я научился различать животных и цветы; медленно и трудно я понимал, что все просто, и учился говорить простые вещи. Все это благодаря тому, что мне посчастливилось встретить тебя в то время, когда я рисковал потерять себя в бесформенности».
Под ее влиянием он изменил даже имя; переделал неопределенное и интимное Рене в твердое романтическое Райнер («Ваше имя хотело, чтобы Вы его выбрали», – писала Рильке много лет спустя заочно влюбленная в него Цветаева). Творческие периоды перемежались у Рильке с болезненными циклами тоски, страха и беспомощности. Лу была для него любовницей и одновременно – матерью и терапевтом. Она принимала его эмоции, которые, однако, часто казались ей чрезмерными, ценила и стимулировала тот канал самовыражения, который был для Рильке спасением, – его поэзию, и терпеливо приближала его к реальности.
Их общей любовью была Россия. «Все настоящие русские – это люди, которые в сумерках говорят то, что другие отрицают при свете», – писал Рильке своей матери. «В его воображении поэта Россия вставала как страна вещих снов и патриархальных устоев», – писала его русская знакомая Софья Шиль. Всю свою жизнь он пытался приобщиться именно к такой России: учил язык, писал стихи о русских богатырях и монахах, переписывался с русскими поэтами и одно время собирался даже эмигрировать в Россию. В его последние дни с ним была его русская секретарша.
Вымысел в гуще невымышленного
В 1898 году Лу публикует в «Ди Цайт» статью под неожиданным названием «Русская философия и семитский дух», в которой дает обзор современной интеллектуальной жизни в России. Она признается, что изумлена накалом происходящей там борьбы за развитие философской и религиозной мысли. Русским пока трудно дается философское возвышение духа, переходящее за пределы наивной религиозной метафизики; и потому их попытки двигаться в этом направлении остаются подражанием немецкой философии времен Шеллинга и Гегеля. Все же абстрактная немецкая философия, продолжала Лу, мало приспособлена к оплодотворению русского духа. Между тем Россия нуждается для своего культурного развития в более систематическом философском воспитании; для этого, полагала Лу, в России есть народ, «который развил в себе талант абстрактного Богопознания до уровня гениальности». Это евреи. По мнению Лу, именно в философии евреи могут оказать более плодотворное влияние, чем в любой другой области. Она ссылается здесь, как на источник информации, на своего друга Акима Волынского, известного литературного критика и издателя. Зинаида Гиппиус писала о нем как о человеке, который, в отличие от многих современников, «еврейства своего и не скрывал… а, напротив, им даже гордился».
Нельзя представить себе ничего более противоположного, писала Лу, чем русский дух с его наивной образностью и художественной конкретностью и еврейский талмудический дух с его тягой к предельным абстракциям. «Еврейский дух воспринимает телескопически то, что русский дух видит через микроскоп». И все же в отличие от немцев, которые стремятся схватить любое явление клещами понятий, евреи смотрят на него глазами, полными любви и энтузиазма. Именно этим они близки к молодой культуре русских. Но путь в российскую культуру евреям пока запрещен, и оттого «еврейская диалектическая сила получает там изощренно острое направление». Как только философские кафедры России дадут евреям возможность свободной конкуренции, так мы увидим, предсказывает Лу, как две эти нации, отправляющиеся от противоположных полюсов культуры, научатся понимать друг друга и друг в друга проникать.
Ницше еще двенадцатью годами раньше писал, что «мыслитель, на совести которого лежит будущее Европы… будет считаться с евреями и русскими как с наиболее надежными и вероятными факторами в великой игре и борьбе сил». Последовавшее столетие прошло под трагическим знаком этих трех национальных вопросов – немецкого, русского и еврейского. В свете этого опыта проницательность и одновременно ограниченность анализа Лу поражают. Она предвидела великую духовную вспышку, которая последует, как только русская и еврейская духовность начнут «проникать друг в друга». Но она не угадала специфически социальной направленности того нового варианта талмудизма, который будет порожден в атмосфере еврейских местечек, равно как и той странной уязвимости, которую проявит к этому влиянию вовсе не такая уж молодая русская культура.
В апреле 1899 года супруги Андpeaс-Саломе и Рильке втроем приезжают в Россию. Пасхальная неделя в Москве подтверждает их сказочные ожидания. Они встречаются с Леонидом Пастернаком, скульптором Паоло Трубецким и самим Львом Толстым. Их русские собеседники были гостеприимны, но не разделяли их восприятия России, и близости между ними не было. Такая духовная близость с русскими возникнет у Рильке только тогда, когда вырастет новое их поколение. Борис Пастернак считал его величайшим поэтом, а видевшая его лишь на фотографиях Марина Цветаева была всерьез влюблена в него, и оба состояли с Рильке в многолетней переписке. Та Россия, которой поклонялся Рильке, была прекрасной сказкой и для этих русских, чудом выживавших в коммуналках или в эмиграции.
Когда после двух месяцев пребывания в Москве и Петербурге путешественники вернулись в Берлин, подруга Лу нашла ее и Рильке столь погруженными в изучение русского языка, истории и литературы, что, когда она встречала их за столом, они были так утомлены, что не могли поддерживать разговор Через год они снова приезжают в Россию, на этот раз вдвоем, без Андреаса. Вот какое впечатление произвели они тогда на десятилетнего Бориса Пастернака, который спустя много лет именно этим эпизодом откроет свою книгу воспоминаний: «Жарким летним утром 1900 года с Курского вокзала отходит курьерский поезд. Перед самой отправкой к окну снаружи подходит кто-то в черной тирольской разлетайке. С ним высокая женщина. Она, вероятно, приходится ему матерью или старшей сестрой… Тут, на людном перроне, между двух звонков, этот иностранец кажется мне силуэтом среди тел, вымыслом в гуще невымышленности». Лу и Райнер ехали к Толстому в Ясную Поляну. Они встречались уже второй раз; семидесятилетний Толстой, возможно, тоже не увидел в них «невымышленности». Во всяком случае, он не проявил особого интереса ни к стихам Райнера, ни к идеям Лу. Ближе сошлись они тогда с малоизвестным крестьянским поэтом Спиридоном Дрожжиным.
Для Лу путешествия в Россию, совпавшие по времени с ее поздней женской зрелостью, имели иное значение, чем для Рильке. Она переживала их как свой возврат – к юности, к семье, к родным и любимым с детства местам, к реальности. Она передумывает свое прошлое: теперь роль, которую сыграл Гийо в ее жизни, предстает перед ней как ее «дерусификация», и она с большей благодарностью вспоминает любовь к ней ее «русского» отца. Волжская природа кажется теперь Лу символом и продолжением ее женской сущности, и в ее дневниках появляются малознакомые ей раньше желания покоя и уединения. Поэтическое визионерство Рильке, привязываемое им к России, теперь кажется ей преувеличенным и даже нездоровым. Любовь к России, которая раньше сближала ее с Рильке, теперь разлучила их.
Лу оставила Рильке в Петербурге, уехав к брату в Финляндию. В довольно жестком письме, озаглавленном «Последнее послание», Лу вспоминает, как она была для Райнера матерью, и, как мать, хочет выполнить последний долг, рассказав ему о диагнозе, который поставил Рильке, с ее слов один, врач: этот поэт, сказал он, может повторить судьбу Гаршина. Знаменитый русский писатель, страдавший приступами депрессии, покончил с собой в тридцать три года, бросившись с лестницы. Читать это Рильке было тем более тяжело, что врач, о котором говорила Лу, Фридрих Пинельс, был ее новым любовником. В этом письме Лу требовала от Райнера твердости и роста: что касается ее самой, то «несмотря на разницу в возрасте, которая существует между нами, я все время… росла, я все дальше и дальше врастала в то состояние, о котором с таким счастьем говорила тебе, когда мы прощались, – да, как ни странно это звучит, – в мою юность! Потому что только теперь я молода, и только теперь я являюсь тем, чем другие становятся в восемнадцать: полностью самой собой». Лу росла, переживая все новые идентификации, и ссылка на Пинельса в ее письме к Рильке прямо соседствует со скрытой цитатой из Ницше. Ответ Рильке был полон тоски: «…ты не имеешь представления о том, какими длинными могут быть дни в Петербурге…»
Трагическое чувство Рильке к Лу зашифровано во многих его стихах. Вот одно из самых знаменитых, появившееся на свет в «Книге паломничеств», уже после расставания с Лу и женитьбы на Кларе Вестхоф, но написанное, по свидетельству самой Лу, в 1897:
- Нет без тебя мне жизни на земле.
- Утрачу слух – я все равно услышу,
- очей лишусь – еще ясней увижу.
- Без ног я догоню тебя во мгле.
- Отрежь язык – я поклянусь губами.
- Сломай мне руки – сердцем обниму.
- Разбей мне сердце. Мозг мой будет биться
- навстречу милосердью твоему.
- А если вдруг меня охватит пламя
- и я в огне любви твоей сгорю —
- тебя в потоке крови растворю.
Переписка Рильке и Лу Андреас-Саломе составляет большой том. В течение десятилетий после того, как закончилась их любовная связь, Рильке писал Лу о том, чего не смел сказать в стихах. Когда волнами охватывавшая его тревога оказывалась чрезмерно велика, он молил о встрече, но почти всегда получал отказ. Выражая очевидное намерение держать слишком неустойчивого партнера на расстоянии, письма Лу поощряли Рильке к творчеству. Она рассматривала его стихи как спонтанно найденный и ничем другим не заменимый способ самолечения. Позднее, в 1912 году, она даже отсоветовала Рильке начать курс психоанализа, к которому он всерьез собирался прибегнуть. Они согласились тогда друг с другом, что психоанализ наверняка поможет Рильке избавиться от его эмоциональных кризисов, но, скорее всего, он избавит его и от способности писать стихи. Всего через месяц после незавершенных тогда переговоров с одним аналитиком Рильке начал писать свои «Дуинские элегии», так что история сумела доказать по крайней мере обратное: без психоанализа Рильке сохранял свою гениальность.
Позже кенигсбергский пациент Лу, которому она иногда в ходе анализа рассказывала истории из своей жизни, вспоминал: «Однажды, говорила Лу, мы сидели с Рильке в поезде и играли в свободные ассоциации. Вы говорите слово и партнер говорит любое слово, какое придет в голову. Мы так играли довольно долго. Неожиданно мне пришло в голову объяснить, почему Рильке захотел написать свою повесть о военной школе, и я ему сказала об этом. Я объяснила ему природу бессознательных сил, которые заставляют его писать, потому что они были подавлены, когда он был в школе. Он сначала засмеялся, а потом стал серьезным и сказал, что теперь он вообще не стал бы писать эту повесть: я вынула ее из его души. Это поразило меня, тут я поняла опасность психоанализа для художника. Здесь вмешаться – значит разрушить. Вот почему я всегда отговаривала Рильке от психоанализа. Потому что успешный анализ может освободить художника от демонов, которые владеют им, но он же может увести с собой ангелов, которые помогают ему творить».
«Эротическое»
В 1903 году супруги Андреас поселились в Геттингене. Местность вокруг напоминала Лу волжский пейзаж, и она «обрела маленький дом после большого Отечества». Впрочем, она проводила там немного времени: путешествовала с друзьями по Европе, каждый год навещала мать в Петербурге (до смерти последней в 1913 году), подолгу жила в Берлине.
Спустя полвека после расставания с Лу пожилой, благородного вида джентльмен, имени которого мы не знаем, рассказывал ее биографу: «В ее объятиях было что-то странное, примитивное, анархическое. Когда она смотрела на вас своими лучащимися голубыми глазами, она будто говорила: „Принять твое семя будет для меня верхом блаженства“. У нее был огромный аппетит к этому. В любви она была безжалостна. Для нее не имело значения, имел ли мужчина другие связи… Она была совершенно аморальна и одновременно очень благочестива – вампир и дитя».
Шведский психоаналитик Пол Бьер, встречавшийся с ней на протяжении двух лет, писал о Лу так: «Сразу было видно, что Лу необычная женщина. У нее был дар полностью погружаться в мужчину, которого она любила. Эта чрезвычайная сосредоточенность разжигала в ее партнере некий духовный огонь. В моей долгой жизни я никогда не видел никого, кто понимал бы меня так быстро, так хорошо и полно, как Лу. Все это дополнялось поразительной искренностью ее экспрессии. Она обсуждала самые интимные и личные дела с поразительной беспечностью. Я помню, что был шокирован, когда она сообщила мне о самоубийстве Рэ. И у тебя нет угрызений совести? – спросил я ее. Она только улыбнулась и сказала, что сожаления – это признак слабости. Я знал, что это только бравада, но она действительно казалась ничуть не озабоченной последствиями своих действий и этим была больше похожа на силу природы, чем на человека. Ее необычно сильная воля, как правило, одерживала триумф над мужчинами. Она могла быть очень страстной, но только на мгновение, и это была странно холодная страсть. Я думаю, Ницше был прав, когда сказал, что Лу – это воплощение совершенного зла. Но только в смысле Гёте: это то зло, которое порождает добро. Она могла разрушать жизни и семьи, но ее присутствие побуждало к жизни. В ней чувствовалась искра гения. В ее присутствии люди вырастали… Ни в коем случае не будучи холодной, она не могла полностью отдать себя даже в самых страстных объятиях. Она могла быть поглощена своим партнером интеллектуально, но в этом не было человеческой самоотдачи. Возможно, в этом была трагедия ее жизни. Она стремилась найти освобождение от своей сильной личности, но не могла найти его. В самом глубоком смысле этих слов Лу была несостоявшейся женщиной» (там же).
Знавший ее не столь близко немецкий писатель Курт Вольф говорил иначе: «Ни одна женщина за последние 150 лет не имела более сильного влияния на страны, говорящие на немецком языке, чем эта Лу фон Саломе из Петербурга». В 1910 году Лу подружилась с Мартином Бубером, одним из крупнейших философов XX века. По заказу Бубера Лу написала книгу под названием «Эротическое». Книга имела успех прежде всего вследствие содержавшегося в ней откровенного восторга по поводу физических аспектов половой жизни; но высокая оценка книги, данная таким авторитетом, как Бубер, говорит и о ее интеллектуальном уровне. Все живые существа любят друг друга, но по мере приближения к человеку и по мере развития самого человека любовь становится все более индивидуальной. Чем более индивидуален человек, тем более требователен и тонок его выбор и тем быстрее наступает пресыщение и потребность в переменах. Любовь, и прежде всего половой акт, по-разному переживается мужчиной и женщиной. Для мужчины, пишет Лу, половой акт – момент удовлетворения. Для женщины это состояние – нормальное и целостное явление, вершина ее человеческой сущности.
Примерно в то же время сходные идеи легко найти у русских философов – Вл. Соловьева, В. Розанова, Н. Бердяева: «У мужчины пол более дифференцирован, у женщины же он разлит по всей плоти организма, по всему полю души». Святость мужчины равносильна аскетизму, асексуальности; святость женщины, как доказывает Лу, говоря о Мадонне и Марии Магдалине, – вершина ее эротической сущности матери и любовницы. В сексе женщина приближается к тому, что Лу называла словом «всё»: по ее формулировке, «всё» для женщины значит то же, что внешний мир для мужчины. Эротическое «всё» у Андpea-Саломе парадоксально напоминает мистическое «всеединство «современной ей русской философии.
Что бы она ни называла этим словом, оно помогало ей сохранять стабильные отношения с мужем; она много писала, и ее проза и критические эссе дали ей определенную известность; ее поклонники и друзья принадлежали к интеллектуальной элите Европы… Но в ее сложной духовной конструкции не хватало еще главного элемента.
Моисей и Магдалина
В сентябре 1911 года в обществе Пола Бьера Лу посетила Психоаналитический конгресс в Веймаре и там встретилась с Фрейдом. Ей уже исполнилось 50, но она вновь начинала все сначала. Прибыв вскоре в Вену, она произвела наилучшее впечатление на узкий круг аналитиков, окружавших Фрейда. Карл Абрахам рекомендовал ее учителю на основе знакомства с ней в Берлине: «Я никогда не встречался со столь глубоким и тонким пониманием психоанализа». На просьбу Лу о посещении знаменитых «сред» Фрейд ответил: «Если вы приедете в Вену, мы сделаем все, что в наших силах, чтобы показать вам то немногое, что можно показать в психоанализе».
Вечерние встречи по средам аккуратно проводились Фрейдом начиная с 1902 года; потом эти встречи превратились в собрания Венского психоаналитического общества. Лу включилась в психоаналитическое движение в ключевой момент его развития. Фрейд добился успеха в проработке теории и метода клинического психоанализа; вот-вот психоанализ начнет победное шествие по миру… Однако ощущались и первые признаки тех тревожных и неясных пока для Фрейда явлений, которые вскоре приведут к диссидентству Адлера и Юнга, к расколу всего психоаналитического движения.
Все же удивительно, как после близости с двумя величайшими романтиками, Ницше и Рильке, эта женщина смогла приобщиться к суровому реализму Фрейда. Но, как всегда случалось на поворотах ее судьбы, Лу осознала новое направление своих жизненных интересов сразу и сменила курс без видимого сопротивления. Позднее она выделит два фактора, которые сделали ее столь восприимчивой к фрейдовской психологии: то, что она выросла среди русских, а это люди особо готовые к самоанализу; и длительный опыт общения с человеком необычной духовной судьбы – Рильке.
Фрейду в 1912 году было 56 лет. Этот гениальный человек, которого потом многие, а в России почти все, считали ниспровергателем моральных ценностей, был отцом шестерых детей, упорядоченная жизнь которого протекала почти целиком в стенах его венской квартиры. Он был всегда тщательно одет, речь его привлекала своей грамотностью и безупречным выговором, его величественные манеры принадлежали XIX веку. Интеллектуальная смелость его приключений в области духа уравновешивалась размеренностью его личной жизни. Изо дня в день он вставал, работал и ложился спать в одно и то же время. Его приемная находилась через несколько дверей от его спальни, так что в короткие перерывы между приемом пациентов он мог пройтись лишь по комнатам своей квартиры. Пациенты знали его пунктуальность и понимали то значение, которое он придает их опозданиям. Единственной его слабостью были сигары, да еще коллекция античных и восточных статуэток, в которую, особенно в конце жизни, он вкладывал все свободные деньги. Его рабочий стол был весь заставлен этими статуэтками, стоявшими в образцовом порядке и оставлявшими точно отмеренное место для листов бумаги, на которых он писал свои книги. Пациент, проявивший особое мужество в раскрытии глубин своего бессознательного, удостаивался награды в виде краткой экскурсии по этой коллекции.
Так много знавший о человеческих страстях, он вел жизнь, всецело находившуюся под интеллектуальным контролем. Помощь, которую он предоставлял своим пациентам, была подчинена этой задаче, и именно такое отношение к ней, как к сотрудничеству в деле познания бессознательного, он поощрял у пациентов. Борьба с лицемерием общества, так хорошо знакомая по его книгам, была и его борьбой с самим собой. Его взгляды в сексуальной области с современной точки зрения кажутся пуританскими. Он открыл детскую сексуальность, но эти открытия самому ему казались неприятными и отталкивающими. Заложивший основы сексуального просвещения, он направлял своих сыновей к доктору, чтобы они узнали от другого необходимые факты половой жизни. Одна из его невесток вспоминала, как он ругал ее за то, что она слишком ласкает своего маленького сына и этим вызывает в нем эдипову фиксацию. Ему был 41 год, когда он писал своему близкому другу, что сексуальное возбуждение более не представляет для него интереса.
Его ум естествоиспытателя видел в сексуальности могущественную природную силу, но, показывая ее мощь и универсальность, он не испытывал по этому поводу восторга, скорее сожаление. Более всего он был далек от того, чтобы на основе нового знания искать пути практического приобщения к этой силе. Он неизменно осуждал тех из своих учеников, которые нарушали жесткую мораль психоанализа и, поддавшись соблазну или экспериментируя для пользы дела, вступали в половые отношения со своими пациентками. Его официальный биограф приводит слова, однажды сказанные им: «Великий вопрос, на который нет ответа и на который я не смог ответить несмотря на тридцатилетний опыт исследования женской души, – это вопрос: чего же на самом деле хочет женщина». Его восхищение вызывали те героические фигуры, которые, подобно Моисею или Леонардо да Винчи, сумели освободить себя от непреодолимого давления своей сексуальности – совершить чудо, не предусмотренное теорией психоанализа.
В этом смысле особенно красноречив его этюд о Леонардо, в понимании которого Фрейд, кстати, следовал за Д. С. Мережковским, которого считал «единственным поэтом», приблизившимся к разрешению загадки великого художника. Подобно Леонардо, сам Фрейд жил в эпоху, которая «была свидетельницей борьбы безграничной чувственности с мрачным аскетизмом», и видел свою собственную жизнь осененной тем же высоким и асексуальным вдохновением, которое находил у Леонардо, «претворившего страсть в стремление к познанию». Подобно Леонардо, он дарил своему времени «пример хладнокровного воздержания, которого нельзя было бы ожидать от художника и ценителя женской красоты». И, подобно своему герою, он вряд ли предвидел, как превратно будет понят этот пример.
Фрейд сознательно стремился освободить себя и свое учение от соблазнов Ницше, относясь к нему как к самому опасному сопернику в борьбе за интеллектуальное влияние. Ученики Фрейда – Юнг, Ранк, Джонс, Шпильрейн, Хитчмен и другие множество раз по разным поводам проявляли свою зависимость от Ницше, и это неизменно вызывало недовольство Фрейда. Лу Андреас в этом кругу все еще ассоциировалась с Ницше. Юнг, например, видел в ее появлении в Венском обществе возможность расширить интеллектуальное влияние психоанализа в Германии, «где фрау Лу имеет известную литературную репутацию вследствие ее отношений с Ницше». Фрейда она не могла не интересовать как новое, привлекательное поле для возобновления старого соперничества.
Известно, что в молодости Фрейд читал ранние работы Ницше и даже участвовал в «Кружке немецких студентов Вены», который сочетал политический радикализм с преклонением перед Шопенгауэром, Ницше и Вагнером. В 1900 году Фрейд писал Флиссу, что изучает книги Ницше, в которых надеется «найти слова для того, что остается немым во мне». Одно из заседаний Венского психоаналитического общества в 1908 году было специально посвящено обсуждению идей Ницше. Докладчиком был Поль Федерн. Он говорил, что Ницше так близко подходит к психоаналитикам, что остается лишь искать, в чем, собственно, состоит его отличие. Фрейд ответил, что Ницше не смог открыть механизмы вытеснения и инфантильные фиксации. Однако Фрейд сказал тогда, что уровень интроспекции, достигнутый Ницше, никем, кроме него, не был и вряд ли будет когда-либо достигнут; но, добавлял Фрейд, сам он не может читать работ Ницше, и ссылался на причину, которая кажется парадоксальной, – на то, что мысль Ницше чересчур богата.
В 1921 году Фрейд, пытаясь понять природу иррациональных масс, начинавших определять страшное лицо столетия, перебирает метафоры, позволяющие понять роль их лидеров, – гипнотизер? вожак первобытной орды? – и сравнивает вождя ненавистной ему массы с ницшеанским сверхчеловеком. Еще позже, в 1934 году, когда эта тема приобрела небывалую актуальность, Фрейд пытался отговорить Цвейга писать книгу о Ницше, особенно возражая против намерения Цвейга сопоставить с ним Ницше. Фрейд говорил о Лу Андреас-Саломе, что она – единственный мост, который связывает его с Ницше. Подобно великолепным мостам Петербурга и Парижа, она была для него символом победы.
Между Андреас-Саломе и Фрейдом не было и быть не могло сексуальных отношений. Но по-своему, в сублимированной форме, Фрейд был очарован ею и не затруднялся в выражении своих чувств. Он слал ей цветы и провожал после своих лекций до отеля. Однажды она не пришла на очередную среду. Фрейд послал ей записку, в которой ревниво интересовался, не является ли причиной отсутствия ее общение с Адлером. На лекциях у Фрейда была привычка выбирать в аудитории кого-нибудь одного и обращаться к нему; в этой записке Фрейд признается, что последнюю свою лекцию он читал пустому месту, на котором раньше сидела Лу.
Эрнест Джонс, написавший по заказу дочери Фрейда, Анны (по некоторым сведениям, проходившей анализ у Лу), трехтомную «официальную» биографию основателя психоанализа, замечал, что Фрейда привлекали женщины «интеллектуального и, возможно, маскулинного типа… Фрейд испытывал особое восхищение Лу Андреас-Саломе, ее выдающимися личностными качествами и этическими идеалами, которые, как он полагал, далеко превосходят его собственные».
Попав в узкий круг близких учеников Фрейда, Лу сразу же сблизилась с тем из них, которого она считала наиболее способным, – с Виктором Тауском. Красивый голубоглазый врач был намного моложе нее: ему было тридцать три, ей – пятьдесят один. Пол Роазен, взявший в 60-х годах интервью у 70 людей, лично знавших Фрейда, и написавший на основе этого материала сенсационную биографию Фрейда, считает, что очарование Лу было более всего связано с ее славой подруги гениальных людей. Тауск был честолюбив и, возможно, ему нравилось быть в одном ряду с Ницше и Рильке. Но гораздо более важными были для него отношения Лу с Фрейдом. Подобно Адлеру и Юнгу, Тауск пытался конкурировать с Фрейдом, но в отличие от них не был достаточно силен для того, чтобы сделать это открыто и принять неизбежное в этом случае отвержение со стороны учителя. История их отношений полна взаимным недоверием: Фрейд подозревал Тауска в плагиате, хотя сам бывал неаккуратен в использовании мыслей и слов своих учеников. Тауск пытался преодолеть дистанцию тем единственным способом, который Фрейд, все более закрывавшийся с течением лет, оставлял другим людям: он просил Фрейда принять его в качестве пациента. Лу, которая умела быть одновременно другом Фрейда и любовницей Тауска, какое-то время сдерживала и уравновешивала эту опасную конструкцию. Тауск, вероятно, мог утешать себя обладанием тем, что было недоступно Фрейду, а тот часами обсуждал с Лу своего соперника и, таким образом, держал его под контролем.
Впрочем, для Лу ее отношения с Фрейдом были гораздо важнее, и довольно скоро Тауск остался один: Лу отказала ему в близости, а Фрейд – в анализе. На протяжении нескольких лет Тауск безуспешно пытался добиться участия у кого-либо из них, и в 1919 году эта история закончилась трагически: он покончил с собой тщательно продуманным способом, завязав петлю вокруг шеи, а потом прострелив себе голову. Фрейд посвятил ему скорбный некролог и в то же время с жестокостью, на которую бывал способен, признался Лу в письме, что гибель Тауска не является потерей. «Уже давно я считал его бесполезным, и он мог представлять угрозу в будущем».
Происхождение оптимизма
Для психоаналитических работ Андреас-Саломе характерны энтузиазм и оптимизм, столь отличные от мрачного стоицизма позднего Фрейда. Ее общее радостное мироощущение изменяет даже трактовки конкретных клинических явлений. Например, нарциссизм для нее не инфантильное состояние, к которому зрелый человек рискует вернуться в случае болезни или несчастья, как для Фрейда, но позитивное чувство любви к себе и даже «аффективная идентификация с существующим» – со «всем». Нарцисс, говорила она, смотрелся не в зеркало, сделанное рукой человека, а в лесной источник, так что он видел не отражение своего лица, а его дивное единство с бесконечным миром природы.
В единстве субъекта и объекта, в своем пределе объемлющем всю универсальность природы и культуры, она видит саму сущность любви. Неправильно, писала она, видеть природу и культуру как противоположности наподобие света и тени; и те, кто, подобно Прометею, создают человеческую культуру как вторую реальность, являются развившимися в полной мере Нарциссами. Нарцисс любит самого себя и потому любит весь мир, который он воплощает в себе. И именно поэтому, продолжает она, любящий обречен на разочарование: не потому, что любовь угасает с течением времени, а потому, что те ожидания универсальности, которые адресует любящий к своему объекту, его индивидуальность не способна исполнить.
Исследователь творчества Лу Анджела Ливингстон видит здесь сходство с идеей коллективного бессознательного, несколько позже разрабатывавшейся Карлом Юнгом. Юнг, как и Андреас-Саломе, создавал свой вариант преодоления фрейдовского скепсиса путем раскрытия индивидуального бессознательного в тотальную, граничащую с мистикой духовную целостность. Обоим пришлось пожертвовать для этого ясностью и рационализмом, представлявшими для Фрейда высшую духовную ценность (что он прощал женской природе Андреас-Саломе, но не мог принять в Юнге). Возможно, эта трактовка недооценивает русские корни философии, этики и эротики Андреас-Саломе.
Своеобразие идей Лу, как представляется, основывалось на русских источниках, которые были хорошо знакомы и близки ей, но недоступны ее европейским коллегам, и более всего на религиозной философии Владимира Соловьева. Образ всеединства как воплощения «мировой души «и некоего духовного идеала занимал у Соловьева центральное место и благодаря ему был чрезвычайно популярен в России начала века. У Соловьева, как и у Андреас-Саломе, всеединство имеет женские черты; его символом является София, мистический образ вечной женственности и одновременно – Богочеловечества. «Софийность», по мере восприятия философии Соловьева русской культурой, приобретала все более чувственные черты, вплоть до «прекрасной незнакомки» Блока[2]. Интересы Соловьева и Саломе с очевидностью пересеклись как минимум в одной важной для них области – в интерпретации Ницше на русской почве. Знаменитая в России серия статей Соловьева «Смысл любви «вышла в 1893 году; перевод книги Лу о Ницше, ставший первым в России систематическим изложением его философии, – в 1896 году. Чуть позже вышла статья Соловьева «Идея сверхчеловека», в которой от констатации того, что «к некоторому несчастию для себя, Ницше делается, кажется, модным писателем в России», он переходит к своей трактовке сверхчеловека: Ницше все же лучше Маркса с Дарвином; подлинным сверхчеловеком был Христос; главное в сверхчеловеке то, что он бессмертен. Грядущее осуществление основной задачи человечества, каковой как раз и является «полная и решительная победа над смертью», сделает такого сверхчеловека реальностью54.
В своих переходах от философской эротики к мистике всеединства и утопии Богочеловечества Соловьев оказал чрезвычайное влияние на развитие русской мысли, задав рамки, внутри которых поиск будет продолжаться почти столетие. Мистическое и «соборное» мироощущение Владимира Соловьева весьма далеко от фрейдовского рационализма и индивидуализма, и вместе с тем в некоторых формулировках своей философии любви он бывал близок к психоанализу. «Начало… всего лучшего в этом мире возникает из темной для нас области неосознаваемых процессов и отношений», – писал он до выхода первых книг Фрейда. Эротика у Соловьева есть влечение к целостности и богоподобной всеобщности человеческого существа. «Сила же этого духовно-телесного творчества в человеке есть только превращение или обращение внутрь той самой творческой силы, которая в природе, будучи обращена наружу, производит дурную бесконечность физического размножения»55.
В этой идеальной целостности преодолевается различие как между мужчиной и женщиной, так и между жизнью и смертью. Человек будущего, мечта о котором роднит Соловьева со всем современным и последующим ему поколением русских интеллектуалов, преодолеет как смерть, так и пол. На русской почве именно Соловьев начал рассуждения о взаимосвязи любви и смерти, которым предстоит долгое развитие как в психоанализе, у С. Шпильрейн и потом у позднего Фрейда, так и в философии, у Н. Бердяева и других религиозных мыслителей русской эмиграции (см. гл. II и V). Соловьев с пониманием цитировал Гераклита: «Дионис и Гадес – одно и то же», – и благодаря ему туманное это изречение войдет в русскую и европейскую мысль нового века, превратившись в конце концов во фрейдовское учение об Эросе и Танатосе. «Пока человек размножается, как животное, он и умирает, как животное». Половой акт и даже само разделение людей на мужчин и женщин есть путь к смерти. Те извращения, которыми занимаются психиатры, «суть лишь диковинные разновидности общего и всепроникающего извращения», коим является секс. «Простое отношение к любви завершается тем окончательным и крайним упрощением, которое называется смертью»56.
Абсолютная норма человеческого бытия есть восстановление предсказанной еще Платоном целостности, в которой сливаются все противоположности. Это существо будущего является андрогинным, духовно-телесным и Богочеловечным; понятно, что ему/ей не нужен будет половой акт. Все это в полной мере достижимо лишь в мистическом строительстве будущего Всечеловека, метафорическим образом которого для Соловьева неожиданно оказывается половая любовь. Божественная всеобщность тоже реализуется здесь в слиянии мужского и женского, физического и духовного, индивидуального и бесконечного. Впрочем, философ Богочеловечества всерьез уверен в реальности его буквального, а вовсе не поэтического осуществления на этой земле.
Соловьев, вероятно, казался Андреас-Саломе архаичным. Лу характеризовала его как «одного из самых характерных представителей византийской России»57. В отличие от западных ученых ее круга – психоаналитиков, социологов, психологов – русские философы не беспокоились технической, рецептурной стороной достижения своих высоких целей. И все же эротическая психология Лу Андреас-Саломе, совмещая в себе столь различные духовные влияния, как романтизм Ницше, религиозная философия Соловьева и психоанализ Фрейда, оставалась связанной с основным руслом современной ей русской культуры.
Анализ, синтез и благодарность
Лу много работала как психоаналитик, хотя сама она, как и некоторые из самых близких учеников Фрейда, никогда не проходила анализа. Известно, что Фрейд уговаривал ее принимать меньше пациентов, говоря, что 10–11 часов анализа в день все же слишком много. По-видимому, она выполняла и некоторые ответственные поручения Фрейда. Полгода она провела в Кенигсберге с местными психиатрами и их пациентами. Один из кенигсбергских врачей, ставший, в свою очередь, ее пациентом, вспоминал: «Признаюсь, что способ, каким Лу проводила мой анализ, оставил глубокое впечатление и действительно помог мне в жизни… В целом у меня было впечатление, что Лу больше интересовали психологические, чем медицинские, аспекты психоанализа. В конце концов каждая жизнь – это новелла. Для писателя, каким была Лу, нет ничего интереснее, чем окунуться в жизнь других… Я думаю, что Лу занялась психоанализом, чтобы проникнуть в глубочайшие секреты жизни других людей… У нее была очень спокойная манера разговора и великий дар внушать доверие. Я до сих пор удивляюсь тому, как много ей тогда рассказал. Но у меня всегда было чувство, что она не только все поймет, но и все простит. Я ни в ком больше не испытывал такой умиротворяющей доброты или, если хотите, сострадания. Мы обычно сидели друг против друга в полутьме. Большей частью говорил я, а Лу слушала. Она была великим слушателем. Иногда она сама рассказывала истории из своей жизни»58.
Ее преданность психоанализу не мешала ее позднему расцвету в делах любви. В 1911–1913 годах она, помимо своих периодических встреч с Пинельсом и романа с Тауском, была в таких же отношениях с Полом Бьером, введшим ее в психоанализ, и, видимо, еще с одним молодым последователем Фрейда, Эмилем фон Гебсаттелем. Кроме того, она по-прежнему постоянно переписывалась и иногда виделась с Рильке. До нас дошли воспоминания его подруги, молодой художницы по имени Лулу Альберт-Лазар, с которой Рильке жил в Мюнхене, когда их посетили Лу Андреас-Саломе с бароном Гебсаттелем: «С момента ее приезда наши дни были заполнены ее программой… Взятое порознь, каждое из этих собраний могло быть интересным, но вместе это сумасшедшее попурри вызывало у меня головную боль»59. Лулу воспринимала Лу как «русскую женщину», отмечая в ней сочетание «сильной чувственности с чем-то чересчур умственным». Она удивлялась тому, что Рильке, столь отличный от Лу, мог так долго выдерживать ее дружбу.
Дружба Фрейда и Андреас-Саломе продолжалась 25 лет. О ней говорят более двухсот их писем друг другу, наполненных взаимным интеллектуальным интересом и стабильными дружескими чувствами. Взаимное восхищение и такая же обоюдная благодарность – самый частый мотив этой переписки. Она, кажется, вовсе лишена той страстной и иногда эгоцентричной требовательности, которая характерна для переписки Фрейда с его учениками-мужчинами. Напротив, Фрейд особо подчеркивал и ценил в Лу именно ее своеобразие, которое он именовал словом «синтез», тем более значительным в этом контексте, что оно антонимично любимому слову самого Фрейда, его «анализу»: «Каждый раз, как я читаю Ваши замечательные письма, я удивляюсь Вашему искусству выходить за пределы сказанного. Естественно, я не всегда иду здесь за Вами. Я редко испытываю такую потребность в синтезе. Единство этого мира кажется мне столь самоочевидным, что не нуждается в обосновании. Меня интересует другое – вычленение и разделение того, что иначе останется перемешанным в единой первичной массе… Короче говоря, я аналитик и не считаю, что синтез представляет собой проблему для того, кто сумел произвести анализ»60.
С годами Фрейд признает оправданность и взаимную необходимость обеих этих ориентаций: «Я отмечаю с удовольствием, что ничто не изменилось в наших подходах. Я начинаю мелодию, обычно очень простую, Вы добавляете к ней более высокие октавы; я отделяю одну вещь от другой, Вы соединяете в высшее единство то, что было разделено; я молчаливо принимаю за данность пределы нашего понимания, Вы обращаете на них наше внимание. В целом мы понимаем друг друга и придерживаемся одного мнения. Только я пытаюсь исключить все мнения, кроме одного, а Вы стремитесь включить все мнения, взяв их вместе»61. Как ни странно, в этом дружелюбном фрейдовском противопоставлении оживают и сбываются давние надежды Лу на сотрудничество противоположных по своей природе типов духовности, еврейского и русского.
Для переписки Фрейда и Лу Андреас-Саломе, сосредоточенной на психоанализе и психоаналитиках, обмен политическими новостями не характерен. Все же в июне 1917 года Лу пишет Фрейду о «глубоких эмоциях», которые вызвали у нее события в России62; она погружена в них, несмотря на «запоздалое и чудесно сияющее начало лета». Характер своих переживаний Лу, вопреки обыкновению, не раскрывает, но письмо дышит беспокойством. По-видимому, русская революция лишила ее состояния, и, начиная с 20-х годов, психоанализ становится для нее главным источником дохода. Известно, что Фрейд несколько раз оказывал ей финансовую помощь, что он не раз делал по отношению к своим нуждающимся ученикам.
Но несмотря на приближающуюся старость и трагические события на ее родине, она была счастлива. Счастье психоанализа представляет ключевую тему ее книги «Благодарность Фрейду»63. Никакие другие отношения, писала она, не приближаются по своему качеству к отношениям аналитика и пациента; ничто другое не дает столь глубокого понимания человечности и не утверждает достоинство человека. Фрейд высоко оценивал эту книгу, хотя и не смог добиться того, чтобы Лу сменила ее название на безличное: «Благодарность психоанализу».
Последние годы жизни Лу прошли в уединении. Элизабет Ферстер-Ницше, не забывавшая ее до смерти, натравливала на нее нацистов, обвиняя ее в извращении идей Ницше и еще в том, что она якобы «финская еврейка». В обстановке того варварского культа, который нацисты сделали из Ницше, и их ненависти к психоанализу, который они именовали еврейской наукой, это могло быть опасным. Лу не выезжала из Геттингена. Кажется, она старалась не замечать, как страшно менялась на ее глазах Европа. Коллега, посетивший ее на пороге ее семидесятилетия, рассказывал, что она «тихо вела в Геттингене свою практику и жила загадочной жизнью Сивиллы нашего интеллектуального мира»64. До последнего часа она была окружена друзьями, которые одновременно были ее пациентами, учениками и поклонниками.
Она умерла 5 февраля 1937 года. Последними ее словами были: «На самом деле всю свою жизнь я работала и только работала. Зачем?»
Глава II
Русская культура модерна между Эдипом и Дионисом
Наука обыденной жизни
Кончался девятнадцатый век, начинался двадцатый. Элементарные представления человека о любви и смерти, о реальности и душе переставали действовать автоматически, когда менялись глубинные основы жизни. Традиционные регуляторы обыденного существования – религия, мораль, право – более не справлялись со своими функциями. Пришло время практических приложений гуманитарных наук, которые пытались взять на себя роль недостающих норм и механизмов регуляции жизни. Социология и экономика, политэкономия и социальная психология, психотерапия и психоанализ, педагогика и евгеника – самые разнообразные области прикладной науки получали легитимность, которую в старой культуре имели только идеи, освященные тысячелетиями.
В такое время естественные и очевидные проявления человека начинают казаться мнимыми и вторичными, скрывающими за собой более глубокую реальность, которая одна имеет подлинное значение. Отсюда главной задачей представляется разгадка этой реальности, которая скрывается за обыденной жизнью и которая неведома обычному человеку; но именно от постижения этой реальности зависит его счастье и здоровье.
Характер второй реальности, механизм ее влияния на обыденную жизнь и способы ее обнаружения разными мыслителями виделись по-разному; но сама идея второй реальности и ее скрытого присутствия в человеческих делах содержалась во всех великих или просто популярных духовных системах начала века. «Слишком много есть в каждом из нас Неизвестных, играющих сил», – писал Александр Блок в 1913 году. Человечество овладеет ими. «А пока – в неизвестном живем…»
Обыденная жизнь всегда кажется проблематичной маргинальным группам, но в начале двадцатого века эти сомнения стали определять атмосферу целых обществ. Творческий импульс к расшифровке иной реальности с целью улучшения обыденной жизни объединял усилия таких разных людей, как Фрейд и Хайдеггер, Вячеслав Иванов и Рудольф Штейнер. Они ни в чем не согласились бы между собой, кроме как в оценке самого значения этой проблемы, в признании острой и срочной необходимости нового обоснования обыденной жизни, которую нужно изменить в корне.
Век модерна начинался по-разному в разных странах и в разных областях жизни. Но если искать первого и главного его выразителя, то им, несомненно, был Ницше. По крайней мере, так было в России. «Ницше – настоящий бог молодежи того десятилетия», – писал Александр Бенуа. «В эту зиму все читали „Так говорил Заратустра“», – вспоминала Л. Д. Менделеева-Блок в 1901 году. «Фридрих Ницше, ниспровергатель кумиров, стоит в дверях нового века», – писал другой свидетель эпохи. «Недавние тоскливые декаденты превращаются в ницшеанцев, анархистов, революционеров духа. Мыслителям и деятелям модерна приходилось работать в тени Ницше, замечали они это или нет. Именно Ницше раньше и острее других сформулировал новую для человечества и отныне главную для него проблему – проблему обоснования обыденной жизни.
Ницше же наметил и главное направление в поисках ответа: человеком движет то в нем, чего он не может осознать, и это больше и сильнее его. Индивидуальное или коллективное бессознательное занимает в новом мире место старого Бога. Только сверхчеловек может овладеть этой сверхстихией.
Но недостаточно придумать сверхчеловека, его надо создать. Создать нового человека, переделав природу людей живущих. Философия, социология и психология модерна становятся областями практической деятельности, стремящимися непосредственно влиять на жизнь человека. Именно на этой основе возникают новые социальные теории, воплощающиеся в революциях, и новое искусство – искусство жизни. На этой же общей культурной основе, преодолевая ее, формировался психоанализ.
«Психология есть путь ко всем основным проблемам», – писал Ницше. Русская традиция, славящаяся своей «психологичностью», издавна была склонна подозревать «психологию» в подобного рода излишних притязаниях. Еще Пушкин вложил убийственную насмешку «Я психолог. О, вот наука…» в монолог не чей-нибудь, а Мефистофеля. Достоевский писал: «Меня зовут психологом: неправда, я лишь реалист», а его герой Ставрогин прямо говорил: «…не люблю шпионов и психологов!» Бахтин повторял от себя: «…психолог как шпион» – и говорил о Достоевском, что тот видел в психологии лишь «унижающее человека овеществление его души». Пастернак в «Детстве Люверс», приступая к описанию первых менструаций своей героини, говорит о психологии как о самом ярком, самом развлекающем из всех человеческих предрассудков, имеющих природное свое предназначение в том, чтобы отвлекать людей от жизни, которая делает свое дело сама по себе. Вячеслав Иванов впервые, кажется, в большой русской литературе свободно и охотно оперировавший психологическими терминами, видел в пушкинской фразе предсказание известных ему «новейших заслуг» психологии, этой «двусмысленной и опасной дисциплины», перед Мефистофелем, ее «дальновидным ценителем».
