Читать онлайн Правый ангел бесплатно
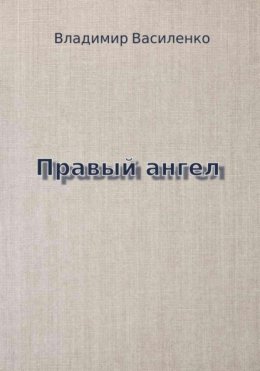
Не удивляйся тому, что Я сказал тебе:
должно вам родиться свыше.
Ин. 3:7
I
Бесконечный день
(Лето 1995-го и 1987-го)
Вспорхнувший кулик, поныряв над водой, в очередной раз бросив вниз легкое тельце, казалось, всего только вытянул ножки – тут же песок откликнулся – оп!.. На мгновение куличок замер. Тишина. Голос воды: еле слышное захлебывание ветки, притопленной у противоположного берега. Впереди – голое место с вечными рыбаками… Куличок завертел клювом по сторонам.
Выбегавшая из-за поворота река, заворачивая, терлась левым боком о возвышавшийся берег, по правую руку образуя небрежно оттененную осокой заводь, обоюдно привлекательную для плотвички и сельской пацанвы. Кроме плотвички – красноперка. Повезет – окунек с подлещиком… Дальше, за заводью, на речной стремнине – идеальное место для щуки, развернувшейся против течения, поджидающей обманутую легкостью хода добычу. Эх, забросить бы с противоположного берега!.. Спиннинг… Несбыточная мечта…
Издеваясь, в десятке метров от разомлевших над парой удочек подростков, на границе течения и осоки вылетел из воды ерш с разинутым ртом!..
– В…в…видал!.. – вскочив, соскользнув ногой в черный прибрежный ил, едва не шлепнулся в воду Ника. – Видал?.. Я ж г…г…говорил: левей надо, между к…к…камышом и ямой ходят. Х…х…хотел же!..
Поведя удочкой влево, он оглянулся на брата.
– Робот не будет думать, – сообщил тот.
– Ага, н…н…не будет… Очень даже будет, – больше из чувства противоречия возразил Ника. – Робот на рефлексах? А м…м…мысли – те же рефлексы: ерша увидел – удочку п…п…повернул. Что, н…н…не так? Никуда не денется! – рубанул он рукой по воздуху. – Будет думать. Как м…м…миленький.
Блестевшая у берега вода не просматривалась, тогда как ближе к осоке, в тени, чудились Нике поднимавшиеся к поверхности рыбьи морды, шевелящиеся рты.
– Почему это «н…н…не будет»?.. – в конце концов не выдержал он.
– Его сделают из этого, – обвел брат рукой вокруг себя, – а сами из большего.
– Кто «сами»? Из какого «б…б…большего»?..
– Мошка летит над водой, как будто это не вода, а земля.
– Поэтому робот не будет д…д…думать?.. – насмешливо и одновременно опасливо оглянулся Ника на брата.
– На нас с тобой из земли может что-то выскочить?.. А на мошку – выскакивает. Вода – мир, о котором мошка не догадывается. А оттуда на нее – смерть. Ерш… Может, и на нас, тоже. Оттуда. Из какой-нибудь воды. Может, смерть – когда забирают главное. То, чем мы были и о чем не догадывались…
– К…к…куда забирают?
– Туда… – кивнул брат на заходивший ходуном поплавок.
Глядя на поплавок, на леску, гнущую к воде хвост удилища, шевеля губами и отчего-то краснея, Ника лихорадочно пытался соединить в одно целое только что прозвучавшее, сходу стараясь все увязать, понять…
До семи лет, думать не думая о том, кто из них старший, кто младший (на все вопросы знакомых мама, смеясь, отвечала: «Наперегонки»), Ника с Левкой ни минутки не могли просуществовать друг без дружки! Что родня – мама, впуская в дом с улицы, обхватив обоих с порога, приблизив лицо, замирала напротив на растягивающуюся, такую сладкую для всех троих секундочку, выдыхая наконец: «Ника…». Или: «Лева…» (чаще: «Лева…»).
Первое лето здесь, в Хрипотино («Когда-то река была так широка, что, прося переправы, с другого берега кричали до хрипоты», – баба Люся… сказочница…), первые школьные каникулы. Их и раньше привозили сюда, два-три раза в год, на выходные, и оба еще за неделю начинали ждать, как праздника, этой поездки на дизеле в «глушь» (как выражалась мама), всегда кончавшейся чудесным мгновением: звякал засов, простонавшая дверь открывала вход в волшебное царство, и можно было, бросив замешкавшихся у дверей взрослых, на бегу скинув сандалии, наперегонки пролетев через комнату за занавеску, утонуть с разбегу в прохладе и невесомости бабы-Люсиной перины, дыша уже не городским воздухом, а «хатой».
Два-три раза в год на выходные – одно. На целое лето – другое. Два-три раза на выходные теперь – мама. А все остальное время – баба Люся, Люся и Милан (Люся – папина сестра).
Лежа на перине за занавеской, братья изредка поочередно толкают друг дружку, прикладывая палец к губам. Первая ночь бесконечных летних каникул. Первое надолго расставание с мамой, ожидающее назавтра. Уснешь тут…
– Совершенно разные… – слышен тихий мамин голос. – Ника домашний до мозга костей. Через дорогу идем – одна забота: Левку за руку вовремя ухватить (Ника уже сам вцепился). Слава богу, в деревне – какие дороги… Так что это только с виду, первые пару дней…
Занавеска оживает, братья, схлопнув веки, старательно тянут носами…
– Как они?..
– Без задних ног.
– Еще по одной, и убираем. За мальчиков. Мама… Ляля…
Тишина. Слышен шорох в углу. Мышь?.. Или показалось?
– Георгий загадал, рассчитал, – снова мама. – Вот Левка отцову волю в точности и исполнил: родился двадцать девятого февраля, тютелька в тютельку, еле за полночь, три минутки каких-нибудь, но – двадцать девятого… Ника – на восемь минут раньше Левки. Записала обоих на двадцать девятое. Я иногда думаю: может, в этом все дело? Что такие разные. Високосный год. Восьмидесятый. Глупости, конечно… Так и будете различать: во дворе – Ника, за калиткой – Левка.
– Езжай, Ляля, ни о чем не думай. Своих уследила, твоих, что ли, не услежу?..
Тихий плач.
– Чего они?.. Лёв, а Лёв, как ты думаешь: чего они?.. Лёв, а Лёв, ты что, спишь?.. – придвигаясь, шепчет Ника брату в самое ухо, догадываясь, «чего»: отец, ни одним глазком не увиденный, таинственный, непостижимый. – Не спишь. Я знаю. Раз я не сплю, ты тоже…
Опять – мышь в углу.
– Это уже потом, – бабы-Люсин голос, – тетка Марья (еще жива была) то ли вспомнила, то ли сказать решилась про Гавриила прадеда, которого еще до первой мировой два раза во дворе тушили…
Напрягшему слух Нике дальше – не разобрать.
– Лёв, а Лёв?.. Спишь?..
Занавеска оживает: Ника, схлопывая веки, старательно тянет носом…
– Я, Людмила Прокофьевна, – голос матери не то что возрос, но зазвенел, – хотела б, чтоб в нашей семье… если мы семья… так вот, чтоб мы с вами раз навсегда в покое оставили тетку Марью с Гавриилом и прадедом! Чтобы мы все, включая спящих за занавеской, знали про семилетней давности несчастный случай на станции «Хрипотино» только одно, одно-единственное: первый снег и скользкая платформа! Согласно протокола. Я не шучу. Или я их сейчас забираю и…
– …Ляля, сядь! И ты, мам, тоже! Дура твоя Марья (господи прости, о покойнице), завистница – весь сказ.
– Да я разве против. Как подумаю только, что…
– Вот и не думай! Права Ляля. Дурь это. Выбрось из головы. А, не дай бог, еще кто памятливый найдется, я этому памятливому такое про них самих навспоминаю – мало не покажется! А ты, мама, подтвердишь. Вот, я тоже не шучу.
Как уезжала мама, не видели – как раз в это время, осторожно приближая лица к длинным узким стеблям, то ли спускавшимся откуда-то сверху, то ли поднимавшимся снизу, с замирающим сердцем следили за выскакивающим из воды зверьком (зверем!), вбегающим почти сюда, к ним на холм и, плюхаясь на спину – съезжавшим по накатанной после дождя, скользкой дорожке обратно в речку!..
– А вы не верили, – когда выдра наконец уплыла, встав в полный рост, насмешливо улыбнулась Баклажана. – Ну, как?..
– Цимус…
– Вы и говорите хором? Не знала, не знала. Оказывается, есть зеркальные люди, – выбираясь на ведущую к хатам тропинку, разговаривала с кем-то невидимым Баклажана (жавшиеся друг к дружке близнецы – за ней). – Это новость! Интересно, что будет, если украсть у них зеркало? Кошмар!.. – она покачала головой, обернувшись на державшихся за руки, старавшихся не отставать братьев. – Что, коротышки, ноги не идут?
Полчаса назад после нескольких неудачных попыток уже на улице за калиткой оторвать близнецов от начинавшейся биться в истерике матери, баба Люся, вздохнув, сказала дочке Люсе:
– Зови Жанну.
– Тю-ю… – минуту спустя услышали близнецы, отрываясь от мамкиной юбки. – А чё-то я не пойму…
Братья уже знали от мамы это выражение: «чудо в перьях».
– …куда это вы подевались? Ждешь их ждешь! Ну, не хотите – как хотите. Смотрите потом не пожалейте.
Близнецы сами не заметили, как уже топали куда-то рядом с рыжей, на голову выше их, девицей с перьями в волосах.
– Вы кто? – не сбавляя шага, спросила «новая мамка».
– Лодыгины.
– Я… – остановилась она, ткнув в себя пальцем, – Баклажана, а вы… коротышки. Ясно?
– Почему? – подняли головы близнецы.
– Жанна – Баклажана. Лодыжки – коротышки. Идет?
Шло.
Не пошло теперь, на обратном после выдры пути: потерявший где-то у речки одну сандалину, уже в виду огорода и хаты Ника разревелся в рев, поняв, как жестоко их с Левкою обманули, на ровном месте вспомнив это, им в спину, мамино, последнее: «Ноги не промочите…»
– Не дергай, не д…д…дергай… – волновался Ника, руками колдуя над руками брата, вцепившимися в удилище.
Во взбаламученной воде уже видна была, в темных полосках, спина силача, водившего леску.
– Уйдет. Н…н…не вытянем…
– На корочку надо!
Обернувшись на голос, Ника ожегся о наглую улыбочку Хорька, оседлавшего поросший травой бугорок на высоком сухом месте, в десятке шагов позади них. Гроза городских Хорько всегда появлялся тихо, как из-под земли.
– Верняк, – щурил Хорек глаз. – Старый дедовский способ. Заходишь по колено, спускаешь штаны. Суешь в зад корочку хлеба, присаживаешься в воду. Клюет – оп! – штаны до горы – рыбка твоя…
Хорек заржал, оглядываясь на спутницу, стоявшую позади и застившую Нике солнце.
Не обращая внимания на гадкие всхлипы развеселившегося Хорька, братья в четыре руки боролись с обессиливающей добычей… Минуту спустя величиной с доброе полено неизвестная рыбина, то расправляя, то складывая веер светлого спинного плавника, тяжело изгибалась в траве у ног онемевших рыбаков.
– Ну, что там у вас… – отряхнувшись, направился к ним Хорек. – Это ж щеглавль! С Красной книги. Всё, Жанка! Оформляем браконьерство.
– К…к…какое брак…к…коньерство!..
– Как…к…кое?! Так…к…кое! Еще раз щеглавля поймаете – по двести тринадцатой пойдете! Как злостное! Вот кы…кы…кы…какое!
Холодея, Ника услышал донесшийся с высокого сухого места сдавленный девичий смешок.
– Рецидивисты Коротышкины… – воодушевленный, прибавил Хорек, радостно глянув по направлению смешка. – Скажите спасибо, что на меня нарвались. Пользуйтесь моей добротой…
Наклонившись, подняв рыбу на руки, Хорек шагнул к воде и тут же, зацепившись за подставленную Левкой ногу, грохнулся вместе с рыбой в траву. Ника побелел и оглянулся на зрительницу, стоявшую выше… Хорек поднялся и, вывернув физиономию наизнанку – так, что и глаза и рот смотрели теперь не наружу, а внутрь, пошел на спокойно стоявшего Левку… но не дойдя, отчего-то встал как вкопанный.
– По двести тринадцатой так по двести тринадцатой… – из-за спины Хорька услыхал Ника голос брата. – И два свидетеля налицо…
– Ладно… – сплюнул Хорек Левке под ноги… – Ладно… Разберемся…
– Р…р…р… – Ника помотал опущенной головой, стараясь успокоиться. – Р…р…разобрались уже…
Не удержавшаяся, теперь уже в голос рассмеявшаяся свидетельница, не отвечая на Никин болезненный взор, неотрывно смотрела на Левку…
– А ты чего не ревешь? – спросила Баклажана второго коротышку. – Что ли, зеркало отключили?.. Ладно. Пойдем вперед, а то он нам всю дорогу слезами зальет.
Взявшись за руки, они устремились к дому под веселый Баклажанин щебет. Хлюпая носом, Ника провожал их взглядом… Стоя в одиночестве на тропе, сквозь невыразимую жалость к самому себе, оставшемуся без мамы, он чувствовал теперь двойную беду: так, словно он без мамы остался, а Левка – нет.
Прошедшая ночь пошатнула уютный мир, в котором они с Левкой существовали как две равноправные половинки целого, принадлежащего другому целому – маме. Как относиться к узаконенному этой ночью его, Никиному, старшинству в дуэте с братом? И что такое это (заставляющее взрослых плакать) пространство с существующими в нем, так и не известно что в нем делающими, – теткой Марьей, прадедом Гавриила, отцом? Все это, оказывается, вплотную, бок о бок с их детским мирком располагавшееся большое и смутное, не связанное с домом, начавшейся школой, детворой в городском дворе – что оно? Чего от него ждать?.. Глядя на засыпающего рядом братца, Ника вдруг понял… не понял – почувствовал скрытую, страшную опасность, таящуюся в этих словах, вновь, теперь для него одного, зазвучавших посреди уснувшей хаты: «тетка Марья еще жива была…», «Гавриила прадеда во дворе тушили…», «несчастный случай… первый снег и скользкая платформа…» Проснувшийся Левка, наткнувшись на блеснувший рядом в темноте глаз, придвинулся и, обхватив брата руками, прижался к нему, согревая: Ника дрожал…
Берег опустел, они с Левкой остались одни, не считая отвоеванной рыбины, теперь укрытой крапивой, заранее на всякий случай заготовленной братьями.
– Это п…п…противоречит з…з…дравому смыслу, – возразил Ника на предположение глядящего рядом с ним на воду Левки о том, что река может течь не оттого что толкают сзади, а оттого что тянут спереди.
– «Здравый смысл – залежи предубеждений, отложившихся в мозгу до достижения восемнадцатилетнего возраста», – Альберт Эйнштейн. До восемнадцати еще три года. Подождем?..
– Ты – Эль Штейн, но я – Ис…с…сидора Ков…в…варубио, и не смей с…с…становиться на моем п…п…пути!.. – воображаемой саблей рубанув вправо-влево, сказал Ника.
– Во-во… – кивая, подтвердил брат. – Не Эльштейн, а Эйнштейн.
Река – продолжение дождя. Тоже – сверху вниз. В море. Хорошо Левке, объявив здравый смысл пустым звуком, взять и сделать море магнитом. Все реки: тетка Марья, прадед Гавриила, отец, мама, баба Люся, Люся, Жанна, они вдвоем с братом и даже Хорек – все жизни, согласно Левке, втекают туда, где становятся чем-то одним, безбрежным и неиссякаемым. Причем, опять же по Левке, из жизней этих забирают главное – то, чем они, жизни, и были и о чем живущие не догадывались. Туда забирают, откуда полчаса назад вылетел за мошкой ерш…
…и откуда, размазывая последние слезы по щекам восемь лет назад вышел из леса к дому пацан в одном сандалии. Справившись с первой калиткой, миновав огород, справившись со второй калиткой, Ника оказался рядом с будкой Милана. Точней, между будкой и самим Миланом, неподвижно стоявшим к огороду задом, к дому передом. Раздавленный двойным предательством мамы и брата, не сознавая хорошенько, что делает, Ника встал бок о бок с цепным беспородным кобелем, экстерьером схожим с немецкой овчаркой, а седовато-пегим окрасом, туповатой мордой и ростом – с овчаркой кавказской. Запах псины, наравне с ароматом бабы-Люсиной перины принадлежавший «хате», деревне и никогда прежде не бывавший таким близким (прямо в нос), сливался с волнующейся под Никиной ладошкой собачьей шерсткой в одно целостное, успокаивающее ощущение, понемногу вытеснявшее пережитую обиду. Собачья спина, казалось, сама уговаривала Никину руку не останавливаться… Забыть обо всем. Да, забыть. Отдаться лишь этому осознанию какой-то новой, окончательной безопасности, допущенности в большое и сильное, звериное, бессловесное, но все понимающее… Гладя Милана, Ника облегченно вздохнул. Ничто не огорчало и не настораживало. Даже полная неподвижность пса…
– Надо бы р…р…рыбу домой с…с…снести, – глянув на тяжело примявшую траву добычу, перевел Ника взгляд на стоявшее в зените жаркое солнце.
– Снеси, – отозвался брат.
– Интересно, что за она… К…к…как называется, не з…з…знаешь?..
– Помнишь наш разговор об информации? – глядя на воду с отраженной в ней парой удочек, спросил Левка.
– Ты к…к…к чему? – пряча рыбу в холщовый мешок, поднял голову Ника.
– К тому, существует ли информация без информируемого. Давай, спроси у нее, что за она, – кивнул Левка на рыбу.
– Ш…ш…шуточки, да?..
– Почему шуточки… Информация передается чем? Словом. Слово, обозначающее предмет, что? Название. Ерш. Сом. Язь… Спроси-спроси. «Рыба-рыба, ты кто?»… Ты же – информируемый.
– Ид…д…ди ты!.. Умник! – разозлившись, схватив за ручки мешок с тяжело изогнувшимся в нем… этим… без названия… Ника, не оглядываясь, выбрался на тропу, полого поднимавшуюся к видневшимся вдалеке хатам.
В тени одинокого посреди луга зеленого дуба с длинной сухой рукой, вывернутой в небо, Ника остановился, с удовольствием, носом и грудью, втягивая прохладу.
– Ну, что, щ…щ…щеглавль… – сев и вытянув ноги, обратился он к светлохвостой добыче, вывалившейся наполовину из мешка в траву. – Выб…б…бирай, как т…т…тебя готовить: з…з…запекать, варить или ж…ж…жарить… (Так Жанна, Баклажана их детства, допрашивала выловленных из варенья ос: «Выбирайте, как вас казнить: утоплением или отрыванием головы?!»)
Залитый солнцем, плавно спускавшийся к реке луг с крохотной фигуркой Левки на берегу, безмолвствовал. Кузнечики, заливавшие эфир с середины лета, сейчас, посреди июня, молчали… Ни облачка – убедился Ника, оглянувшись на такое же чистое вдалеке-вверху, над хрипотинскими хатами, небо, как и здесь, над лугом: стоявшая над головой глубокая синь, с непостижимой неуловимостью бледневшая, стекая к горизонту, дразнила откровенностью – на секунду Нике представилось: бледность – это оттого, что там, ближе к земле, синь, как с мели, уходит прочь… оставалось понять, отчего здесь, над головой, глубоко.
– Да, с…с…словом! Да! Чем же еще!.. – ни с того, ни с сего, озлился Ника. – Нету с…с…слова – нету никакой ин…н…нформации! Только б…б…будешь м…м…мычать, как п…п…питекантроп, да п…п…пальцем в…в…вокруг т…т…тыкать… лежать в м…м…мешке с к…к…крапивой и х…х…хвостом м…м…мотать… или т…т…торчать вон, к…к…как этот… – недоговорив, разволновавшийся, раззаикавшийся Ника воздел глаза к синеве с уходившим в нее одним из двух стволов, иссохшим, в отличие от второго…
На ужин (первый же, без мамы, ужин первого хрипотинского лета) была черемша. Или спаржа?.. Что-то зеленое, уже не вспомнить – ни как выглядело, ни как называлось. Но называлось… В отличие от щеглавля… Посреди ночи братья одновременно открыли глаза: непривычные к деревенской еде желудки сигналили о приближавшейся катастрофе… Две пары босых ножек, простучав по полу, въехали в три разбросанные у порога сандалины… с бабы-Люсиной кровати понеслось вслед: «Ведро – в сенях»… проскрипели поочередно – дверь в сени, дверь во двор… и над головами перепуганных беглецов распахнулась щедро посоленная, от крыльца до сараев, черная бездна. Не соображая, Левка в обоих сандалиях и Ника в одном, галопом полетели через залитый невидимым фонарем двор! Левкины руки первыми вцепились в железную ручку заведения, и Ника остался один на один с этим пугающим – за спиной – пространством. Извиваясь, переминаясь с ноги на ногу перед закрытой деревянной дверью с глазками от спиленных сучков, Ника сперва повторял вслух, а потом как бы уже со стороны слушал этот звучавший в голове голос кого-то, забравшегося туда, в голову: «Скорее!.. скорее!.. скорее-скорее…», сменившийся вдруг тишиной… Тишиной, в центре – с ним, Никой… позабывшим, переставшим понимать, где он… что он тут делает… он ли это вообще… Кто-то вместо него, Ники, беззвучно забарабанившего, заколотившего кулачками в запертую перед носом дверь… какой-то отделившийся от него мальчик… осторожно обернулся, боясь вскрикнуть и разбудить раскинувшуюся за спиной, на расстоянии вытянутой руки, бездну с собачьей, в половину черного неба, головой… Морда отвязанной на ночь собаки, оставаясь на месте, необъяснимо медленно приближалась.
– М…м…м… м…м…м… м…м…м… («Милан… Милан… миленький»), – вместо него, Ники, сказал тот, другой, отделившийся, мальчик, обернувшись всем тельцем к неподвижно стоявшему перед ним, растущему на глазах, псу.
Враждебно-нездешний, с запрыгнувшей в оба глаза бездной – взгляд притворившегося собакой существа, наплывая, парализуя, разрастаясь, давя безвоздушностью… дернувшись, ухнул куда-то вверх!..
– Ну наконец-то, – тетя Люся, отерев руки о фартук, развернула крапиву. – Краса-а-авец!.. Ну! Не зря всю неделю с пустым мешком шлёндали. Кормильцы вы наши. А Левка где?
– На б…б…берегу… – цокая зубами о край железной кружки, Ника, допив, проливая на грудь, воду, прикрыл фанеркой ведро, стоявшее в летней кухне у входа. – С…с…следующую тянет…
– Ну-у, заживем! – улыбаясь, тетушка заводила кухонным ножом о камешек. – Ты мне только его убей, вон у сарайки топорик – обухом. Займу на рядах место на станции, стану такой красотой торговать! За глаза три кило затянет. О!.. (Прикинув рыбину на руках.) Хлопчики мои, племяннички дорогие, ни свет ни заря, натяга-а-ают, Жанка на мопеде доста-а-авит, а тетя Люся… это самое, значит… Возьмем Жанку в долю, а? На холодильнике там – полендвички отрезала, огурчики – только помыла. Как знала…
Полендвичка, огурчики… После развала огромной страны, в городском их семейном меню, год от году ужимавшемся, что-либо сверх макарон-вермишели-картошки появлялось все реже… Рыбина же, ожидавшаяся уже сегодня на ужин, а после – и на завтрак, превращала «отощавших за зиму» братьев, эту парочку «скелетов ходячих», присланную «отъедаться на деревенском», практически в гурманов. Вот бы мама порадовалась!.. Поела бы рыбки!.. Ничего, к выходным, к ее приезду они обязательно натягают. Нельзя не натягать, теперь, после этого для них, но не для мамы, праздника живота. Пускай тетушка подкалывает сколько захочет, – обязательно выловят, еще и побольше, чем на три кило. Лиха беда начало. Вот так…
Неужели сейчас он, Ника, ее убьет?.. Рыбину…
Поосторожничав с первым ударом, Ника переборщил со вторым: «щеглавль» замер с размозженной головой…
– А где б…б…бабушка? – морщась и отмывая под рукомойником клейкие руки, спросил Ника.
– Легла. Косточки ломит. Видать, к дождю.
– К дождю… – хмыкнул Ника. – На н…н…небе – н…н…ни облачка.
Вернув топорик на место, распихав по карманам Левкин бутерброд с полендвицей и огурцы, Ника остановился во дворе перед пустой будкой: пара вылезших на свет звеньев цепи, утоптанной в землю… «Вилами закололи… Зимой. Возле станции…»
Чем заколоть заикание?.. Какими вилами?.. Там, на берегу: солнечный ореол вокруг головы свидетельницы… Если б не Левка – прощай рыбина! Как он: «По двести тринадцатой так по двести тринадцатой… И два свидетеля…» Остановить Хорька!.. Чем бы он, Ника, мог остановить Хорька? Этим своим: «Брак…к…коньерством»?.. «Р…р…разобрались»?.. Мысленно Ника видит раскручивающийся для удара кулак Хорька… болтнувшуюся из-под кулака Левкину голову… его, Ники, бросок на вражью спину, заломленные Хорьковы руки… поверженного, припечатанного к земле врага… мотающего головой, стоя на коленках, Левку… встречающиеся с его, Никиными, – сияющие глаза свидетельницы… И ничего больше. Только они вдвоем… будут знать. То, что не касается даже брата. В первую очередь. В первую очередь… Умник. Все-то ему насквозь ясно, все очевидно. Робот не будет думать… выпрыгивающая из воды смерть… сила, тянущая реку вперед… «Рыба-рыба, ты кто?..» Когда и где началась эта Левкина без него, Ники, отдельная жизнь… это его отстранение только в свое, куда вместо входа ему, Нике, – эта Левкина снисходительность? Когда и где все это началось?..
Здесь! В этом месте!.. Оглядевшись, Ника осознал, что, подавшись к собачьей будке, вышел со двора не в ту калитку, и топает сейчас к речке не по прямой, через луг с дубом, а по огромной дуге, ведущей сквозь лес к «выдриной горке», когда-то открытой братьям Жанной… Здесь и началось – на этой самой, усеянной сосновыми иголками, тропе, по какой он сейчас шагает. С этого Жанниного «он нам всю дорогу слезами зальет» началось (вот эту дорогу – «зальет», эту самую и даже, кажется, в этом самом месте: в этом хилом малиннике, обступившем тропу, он тогда хлюпал носом)… С этого началось: с беззаботной физиономии уводимого Левки, так легко бросившего брата одного среди леса, пусть уже и в виду огорода и хаты, маячивших за деревьями. В первый раз бросившего, чтобы тою же ночью бросить и во второй: его, Никины, кулачки, барабанящие в запертую дверь сортира… Она не открылась, дверь… И черная бездна в собачьих глазах – теперь только его, Ники, бездна… Дверь нужника, отделившая героя-всезнайку от… заики.
Последнее – уже не мысли, а общее, не закованное в слова, ощущение, возвращавшее все на круги своя… на один и тот же круг: берег… рыбина… Хорек… солнечный ореол вокруг головы свидетельницы…
Сквозь заросли потянуло свежестью. В Никиных ушах плеснуло – то ли от речки, то ли – сквозь годы – от первой, незабвенной Жанниной выдры… Вот. Еще… Еще раз… Неужели… Понемногу обрастающее новыми дворами Хрипотино несколько лет назад вынудило выдр уйти. Неужели вернулись?.. Почему бы и нет: село́ все ж таки далеко, лес нехожен, тропа заросла…
Пробравшись сквозь стену зелени, осторожно раздвинув руками последние перед рекой, длинные, узкие, то ли спускавшиеся откуда-то сверху, то ли поднимавшиеся снизу, стебли, Ника черпанул глазом блеснувшую воду… «Выдрина горка» (обычный холм), горбившаяся чуть левее, была пуста… Выпрямляясь, вышагивая из зарослей, он замер на месте: тот же звук, тот же всплеск прозвучал близко и явственно… Вслед за волночками, пущенными руками невидимого пловца, – там, внизу – рыжеватая копенка волос с полунамокшими, наполовину темными, свисавшими в воду прядями выплыла на открытое место в пяти шагах от берега. Здесь, под бережком, была мель. Одновременно, синхронно: пловец и соглядатай, один – вырастая над водой, другой – приседая и уходя в гущу зелени, поменялись ролями: один возник, другой исчез из виду… «Дура-а-ак…» – прозвучало в Никиной голове относившееся то ли к его метнувшемуся прочь, то ли к тут же (сквозь стебли) вернувшемуся на место, потерявшему управляемость взгляду. «Выдрина горка…» – мелькнуло среди разбегающихся мыслей.
– С утра маялось, – отворачиваясь, указывая в небо за речкой, негромко, но так отчетливо, как бывает только над водой, произнесла выдра. – Гроза идет.
Поверивший на слово, не глянувший на небо Ника был занят одним… раз уж он рассекречен… – лихорадочным поиском выхода из положения, какое речная его визави посчитала возможным, начав этот с ним диалог, в этом своем виде…
– Ох, и влупит!.. Хорошо – мопед, а то б – самое время тикать…
…переворачивающем Никино сердце, разделяющем жизнь на до и после. До этой улыбающейся в его сторону, и… и…
– Погоди, «Ижа» из района пригоню, – раздалось из-под горки в двух шагах от Ники, и без того раздавленного происходящим, теперь и вовсе окаменевшего…
– С меня и «Верховины» вполне хватает.
– Не-е. Пора тебе на «Ижа».
– Это почему?
– Седло ширше.
– Дурак.
Глубоко дыша ртом, Ника медленно возвращался в реальность… Не рассекречен…
– Дурак-дурак, а дело знаю.
– Точно смываться надо. Глянь.
– Но не гремит?.. А, Жанка? Не гремит?
– Загремит – будет поздно.
Медленно разгоняя ногами воду, рассеянно оглядывая берег, наяда проследовала под горку, скрывшись из виду.
– Не ссы, Маруся, я Дубровский, – разнеслось над водой.
– Я Леву люблю. В-витя…
– И я Леву люблю… По стенке мог размазать? Мог… Мог?..
– М-мог…
– То-то… Ленин сказал делиться. Поделись улыбкою своей, и с тобою тоже… случись, кто поделится… Поделится?..
– Он – т-такой… Особый…
– А я-то, по простоте, думал: особый – заика… Не в службу, а в дружбу, Жанка: как ты их различаешь, когда не болбочат? Какой особый – какой нет, а? По мне так – два сапога пара: судака от мудака не отличат. Точно, Жанка. Выбрала из двоих которого – не мычит, и вся любовь. И ворота́ чтоб – в ворота́, далеко не бегать. О! Я понимаю!
– Заику – жалко. Дерганый, пуганый… А Лева никого не боится.
– Да? А хошь, кто из нас завтра вот тут, на этом месте, кого отмудохает, тот дальше с тобой и будет. Голыми руками, без балды…
На полпути от горки к лугу соскочив с тропы, по пояс ввалившись в прибрежную зелень, Ника продрался к воде!.. Огибающая песчаный бережок река, мирно серебрясь у ног, с середины водной глади и дальше – на глазах наливалась темно-сизым… В ту самую минуту, когда полные теплой влаги Никины очи… казалось, навсегда потерявшиеся где-то за речкой, на том берегу… пересохнув, ожили нехорошим блеском – какая-то сила, всосав барабанные перепонки и выждав мгновение, всадила в образовавшийся вакуум торжественно-грозный разряд!.. Сильнейший порыв ветра, толкнув в грудь, отбросил от воды не устоявшего на месте Нику! Забыв, зачем он здесь, испуганно озирая черное, в последней стадии помрачения, небо, разгребая руками заросли, вырвался он на тропу и сломя голову понесся к лугу!..
Солнце, уже не сиявшее над их насиженным рыбацким местом, вызолотило край неба за лугом. Гигантскую тучу, наклонившуюся к реке махрившимся краем, несло в сторону – туда, где недавно стоял над рекой он, Ника…
По частям вытащив из карманов Левкин перекус, испытующе глянув на брата, протянул бутерброд и огурцы:
– Это вм…м…место воды.
– Спасибо, – невозмутимо ответил Левка. – Как рыба?
– Убил.
Жуя, Левка едва заметно кивал. Мыслитель.
– Н…н…ну, так что? – позади брата опустившись на траву, сказал Ника. – Р…р…робот не будет думать?.. Смерть выск…к…какивает из воды?…
– Суть вещей и наша способность ее узреть…
– …Только не надо н…н…нотаций! – перебивая, рубанул рукой воздух Ника. – В…в…выскакивает или н…н…нет?
Взгляд обернувшегося Левки задержался на Никином лице…
– Наш мир, все, что мы видим вокруг… – каким-то другим, но опять не тем, не из их прежней жизни, тоном сказал Левка и замолчал.
– Н…н…ну!..
– Мир – куда больше того, что мы видим. И видим мы вовсе не мир, а ту его часть, на которую настроено наше зрение.
– Отк…к…куда ты это з…з…знаешь?! К…к…какими особыми г…г…глазами, которых нет у др…р…ругих, а только у тебя, ты это в…в…видишь?!
– И мы с тобой тоже, – игнорируя Никин натиск, продолжал Левка, – куда больше. Вопрос в подстройке зрения. «Зрения» – условно: всех органов чувств и сил мозга, способных воспринимать информацию. Для жизнедеятельности – того, что мы знаем о мире, достаточно.
– А для чего не д…д…достаточно?!
– Для информации.
– Что ты м…м…мелешь…
– Ты же спрашиваешь. Выскакивает или нет?.. Информация – ответы, а не наши с тобой вопросы. Мы думаем – вот: умирая, люди исчезают… телепат видит мысли… граница поверхности – линия. На самом деле, мы спрашиваем.
– То есть, линия – не г…г…граница п…п…поверхности?!
– Любая линия под микроскопом – шпала; какая из граней шпалы – граница поверхности? – как само собой разумеющимся поделился с братом Левка («Не может быть…» – вдруг прозвучало у Ники в голове). – Самое любопытное: эти наши вопросы, они – наши? Суть вещей, забирающаяся к нам сюда (ткнул пальцем Левка в свой лоб), спит и видит, чтоб мы прозрели. Информация хочет жить. Как Жаннины осы. Помнишь твое: «Она же тоже жить хочет»? Робот не будет думать на том простом основании, что при его изготовлении используют длину-ширину-высоту. И время. А мы с тобой мыслим потому, что сделаны во всех измерениях: и в этих четырех, и в остальных. Во всех сразу. А чтобы робота сделать во всех измерениях, надо в них проникнуть. А проникнешь – зачем тогда робот? Смерть не выскакивает из воды потому, что, глядя из других измерений, смерть и рождение условны. Потому что время и события – не везде. Время – у нас, здесь. На побегушках у длины-ширины-высоты. Откуда я это знаю? Какие у меня особенные глаза? Пара книг у нас дома с моего края стола. Не замечал? Хороший шрифт. Масса пояснений. Картинки. Пытаясь ощутить Вселенную сразу во всех ее направлениях, мы ведь не движемся, это не движение в его классическом понимании с его предельной скоростью. Но это движение. Вот, со временем – не так все и сложно. Так что, почему река может двигаться не оттого, что толкают сзади, а оттого, что тянут спереди, надеюсь, ясно…
«Не может быть…» – на мгновение упуская Левкину речь (но не самого Левку, нет), слышал Ника все тот же голос. Да, свой собственный, но…
Раскат грома заставил обоих вскинуть головы: ушедшая, было, туча, совершенно выпущенная ими из вида, успев развернуться, широким фронтом стояла за речкой, вытягивающимся сюда, к лугу, передовым краем ясно демонстрируя свои намерения… На глазах застывших, растерявшихся подростков несколько молний через равные промежутки времени ожесточенно вонзились в землю…
– Они идут прямо н…н…на нас! – вскочил на ноги Ника. – Удочки! С…с…сматываем!.. Р…р…рыба где?!
– Ты же ее отнес, – Левка тоже был уже на ногах. – Убил…
– Д…д…да?.. – Ника смотрел на брата… смотрел и не видел.
– Или не убил?..
Через минуту косой ливень накрыл берег с бегущей по тоненькой тропке парой подростков.
– Бросай! – кричал Левке в спину Ника, то и дело перепрыгивая с одного берега заливаемой водой тропы на другой. – Бросай уд…д…дилище, новых н…н…наломаем!
– А снасть?! – не оборачиваясь, огрызался Левка.
– Давай к д…д…дубу!
– Ага! В него и долбанет! Согласно законам!
– Говно твои з…з…законы! И мозги твои! Н…н…не помнишь ты н…н…ни хрена!
– А что?!
– Ж…ж…жанна рассказывала! Прадеда ее м…м…молнией убило! Тоже, как ты, з…з…знатока корчил! Народ под дуб р…р…рванул – цел остался! А п…п…прадед – куда подальше, в поле, и б…б…бабку за собой потащил, жену! Обоих – н…н…насмерть! Молнией! А н…н…народ – цел!
– Какой дуб?! Что ты сочиняешь?!
– Вот этот! Этот с…с…самый! Дуб! Сто лет с…с…стоит! Ни одной м…м…молнии!
– Что, Жанна точно рассказывала?! – оглянулся на бегу Левка.
– С тех п…п…пор только под ним в грозу и п…п…прячутся. Больше н…н…негде. Здесь.
Замедляя ход, понемногу отставая, Ника смотрел вслед брату, свернувшему с тропы и припустившему прямиком к дереву… Мамино: «Через дорогу идем – главное Левку за руку ухватить…» – перекрывая шум дождя, прозвучало как наяву. Левка уже подбегал к дубу… Что-то почти против воли, насильно взяв за подбородок, заставило Нику поднять к небу лицо.
Оказавшаяся не более чем дымовой завесой, клубившаяся над головой чернота, исчезая, обнажила мраморные небеса: покрытая паутиной светлых и темных разводов, стояла над лугом живая бездонная твердь… Не над, не над лугом (земля ушла из-под ног): вокруг и везде… и внутри… начиналась молния: идиосинкразия, непереносимость пространством самого себя – вот чем на деле были эти смертельные огненные проколы застывшего водопада, мириадами капель повисшего в воздухе. Как просто! Понятно и ясно: мраморные небеса! Ничто не происходит! Не происходило! Не произойдет! Ничего не было и быть не могло: ни чернильно-сизого мрака над головой под громовые раскаты, ни нового, самого яркого короткого замыкания – между небом и вытянутой навстречу, высоко взметнувшейся над землей огромной сухой рукой, просившей огня, ни этого, на весь луг, отчаянного, без малейших признаков заикания, Никиного крика: «Стой! Левка, стой! Не подходи к нему!», ни Левки (или уже не Левки…), обернувшегося на крик из вспыхнувшего гигантского ветвистого пламени, с треском рванувшего в небо.
Новый Каин
(2013, март, с воспоминаниями о 1995-2012)
Этот, всегда прямо от порога ожидавший, не дневной – не искусственный, свет, освобождавший от мыслей и дня, овладевавший глазами по пути из прихожей в комнату с окном, но совершенно с тем же, не уличным, светом… Эти, там, в комнате: круглый обеденный стол, диван, пара стульев, шкаф в полстены с витриной и платяным отделением…
Ника вспомнил, как поначалу, давным-давно, каждый раз машинально ощупывая себя руками – словно собирался войти не туда, в комнату, а в себя самого… Тогда как в себя – не через прореху в «здесь и сейчас», наоборот. Овладение собой – мгновенная, как у пловца, прыгнувшего с обрыва и проглоченного водой, секунда растерянности, в отличие от реального пространства-времени, заполняемая уже виртуальностью – одновременно им, Николаем… страницей, покрытой буквами («ш» – ша, да?..)… и как бы читателем… Внутри «всегда» нет никакого «впервые» или «в настоящий момент»: просто из «здесь и сейчас» во «всегда» вход только один – через то, как это было.
Через этот же, совершенно не уличный, свет:
– Ерша увидел – удочку повернул?.. А судака не увидел.
– Хочешь сказать: удочкой управлял судак?
Через этот же взгляд:
– Тот, кто его направил… То, что его направило. Понимаешь?
– Нет.
Через этот же голос:
– Ты живешь не потому, что родился.
– Потому что умру?
Через все то же, что и сейчас. Только – тогда:
– Река течет не потому, что толкают сзади, а потому, что тянут спереди.
– Причина и следствие меняются местами?
– Причина и следствие никогда не меняются местами. Просто причина не в прошлом, а в будущем. Во всем сразу.
– Я родился потому, что живу?
– Ты родился и живешь потому, что совершённое действие содержит несовершённые.
– Есть какое-то действие… В котором все совершено…
– И все, что ты делаешь, ты делаешь не потому, что «увидел ерша».
– А потому, что на меня идет судак… Но я ведь его не вижу.
– Теперь видишь.
Да, видел… Странное ощущение. В поле зрения – ничего нового, но вот именно: в поле зрения.
Когда-то давно, еще до ерша с судаком, до его пятнадцатилетия, какой-то бог весть откуда (уж не из его ли любимого «Всадника без головы»?) идущий на свет призрак повести завладел его сознанием, несколько недель подряд заставляя втайне от брата буквально бороться с безъязыкостью и бессодержательностью, о которых он прежде понятия не имел. Этот полезный, нужный как бы не ему самому, а кому-то другому, опыт кончился тем, что однажды по пробуждении в его распоряжении оказался явленный во сне небывалый, великолепный, глаз не отвести, сюжет, именно в силу этого: «глаз не отвести» – совершенно неподвластный переносу пером на бумагу. На годы задержалось в нем, Нике, живое ощущение бесконечно удачного, развернувшегося во всей художественной полноте, действия, вспомнить не то что отдельные эпизоды, но фабулу которого, чем дальше – тем более не представлялось возможным. Повесть существовала самим своим выходом на свет, от первой до последней страницы, от первого до последнего слова, самим процессом своего появления: процесс и был результатом. Результат в виде текста отсутствовал.
Вполне вероятно, именно из этого невротического состояния выросла впоследствии неопределенность всего, что не находится в данный момент прямо перед глазами, – ощущение, понемногу переросшее в странное представление о том, что, подобно содержимому вещей и предметов, спрятанному под их видимой внешностью, – подобно этому точно так же в недоступной внутреннему зрению области мозга (в темени и затылке) за нашими поверхностными мыслями и представлениями о мире содержится полное понимание нами любого, вплоть до всего мироздания, предмета. Как если бы все вещи вокруг и мы сами были бы изделиями, изготовленными там, в этой области мозга.
Теперь, когда он видел «идущего на него судака», это само по себе не поражало. Странным было не то, что совершающимся в каждый конкретный момент теперь управляло будущее, то есть что происходящее уже не вытекало из определенных намерений и планов, – странным было то, что оно не вытекало не из чего. Свобода, появившаяся в действиях, в мыслях, в словах – во всем, была сродни наваждению, из которого совершенно не хочется выходить.
На всякий случай он теперь, задним числом, пересмотрел – где пробежав глазами, где с головой проваливаясь в то, что за текстом, – Левкины книги, почти всегда наперед зная, что́ в них найдет. Первое время не без удовольствия новизны погружался он Левкиными глазами в еще свежие хрипотинские события – осознание масштаба происходящих изменений в зрении пока только подступало… И с каждым днем все больше тянуло к такому вещественному и конкретному, так явно существовавшему (дотронуться можно) рядом с ним, Никой, такому своему кровному – будущему. К «судаку»…
Но если в так называемом прошлом – Левкиными ли, своими ли глазами – с разных сторон видно, в принципе, было одно и то же, то, исчезая в комнате рядом с братом… вживаясь в собственное небытие до степени принятия бытия Левкиным зрением и умом… он каждый раз чувствовал, как будущее приобретает холодновато-отстраненный оттенок… как без какого-либо посредника опосредуется то, впереди, свое кровное. Понимание происходившего вслед за тем с ним, «Никой в Левкиной шкуре», всегда наступало задним числом – когда Левкино сознание наконец покидало его, Нику, и полностью возвращалось свое. А то, не спеша покидать, накапливаясь, каждый раз после «комнаты» увеличивало интервал пребывания «в шкуре» (кардинально проблему впервые решила лишь первая «чистка» в клинике «Заболоть», едва не через десяток лет после молнии).
Выходя на свет из тоннеля Левкиного сознания, он принимал произошедшее там, в тоннеле, за то, чего сам желал и что, исходя из этого желания, совершал, при том, что совершаемое им там не вытекало из его намерений: в тоннеле он ощущал себя актером без роли в пьесе со строго заданной сценарием его ролью – все происходило единственно возможным способом, каким он уверенно говорил и действовал, не зная заранее ни слов, ни действий, отведенных ему в сценарии, и только по выходу из шкуры проступало осознание игры: наличие там пьесы и роли. Но и осознавая уже, он видел лишь только то, что совершено, что уже позади, а не целиком весь сюжет; к тому же, движимый в пьесе снаружи волей чужой, осознавал все задним числом – изнутри, умом – своим. Отсюда – накапливавшееся подозрение, что и выйдя на свет, и даже после чистки – произошедшее в шкуре он осознаёт как одно, тогда как в целом происходит нечто другое. К другому ведущее. А верно ли подозрение или оно – следствие перелицовки сознания – уже не узнать.
Будущее ближе всего подходило к Нике через это: всё сразу! – то есть не только свое будущее, и даже не отделенное, как прежде, отчетливо от прошлого и настоящего: случившееся – так же подвижно, как ожидающее, в свою очередь, неизбежное настолько же, что и прошедшее. Почти. Потому что можно что-то поменять сразу и в том, и в другом, и в третьем – открывается доступ к целиком иной версии. Чувствуешь это иное. То, что случилось с тобой, – не абсолютно, можешь увидеть другое там, позади. «Не призрел Господь» не то что теряет свой негатив, но – существует, оказывается, позитив этого словосочетания, этих стоящих за ним событий и своих собственных ощущений (почему «не призрел»?.. почему-то же «не призрел»… что-то за этим стоит… что-то во всем этом есть, что можно, до́лжно, следует ухватить, понять, осознать, чтобы… все изменить). И он, позитив, – осуществим. Иная версия. Общая картина перевода сюжета на другие рельсы. А сами события, сам перевод – в шкуре, в тоннеле. И на то, что целиком и полностью меняет общую версию картины, – там, в тоннеле уходит секунда.
Их было не много, этих секунд, стоящих особняком в памяти или в том, чем теперь была память – это прозрачное по всем направлениям пространство с участками в нем, живыми картинами, попади в них – разворачивающимися словно в новом, небывалом измерении, разоблачающем время…
И в самой яркой из этих секунд, из этих живых картин – появившаяся в их доме с отъездом матери.
Произнесшая, ставя перед ним тарелку:
– Ешь…
Вычерпывая со дна последнее, он глядел на руки, ставившие перед ним второе.
– А мама надолго уехала?.. Я к тому: вы…
– На полгода… На год, – выдержав его взгляд… – Надо же как-то вас поднимать. Сейчас последняя возможность – следующим летом у вас выпускные, поступление… Монголия не на другой планете.
– А вы в курсе, что дальше прихожей и кухни…
– …В курсе.
– А почему? – вы в курсе?.. Что?.. Не знаете?..
Помотав головой, улыбнулась.
– А с мамой. Вы давно… дружите?
– Посуду вымоешь. Брату все – на плите…
Звон вилок.
Перезвон тарелок.
Сквозь зиму…
Полегчавшие к весне прическа и платье.
– Что ты хочешь на День рождения?.. Что испечь? – уточнение.
– Левку спрошу… – уставился Ника в кухонное окно.
– И сам потом выдумаешь.
– Вы знаете: не сам.
Внимательный на него взгляд:
– Мы с тобой схожи, – провела рукой по его голове.
– Это точно, – вздохнул Ника.
– Правда? Ты тоже так считаешь?
– Обслуга. Вы и я. Вы нас двоих обслуживаете. Я вас. Двоих.
– Двоих?
– Ну, а как бы вы туда вошли? С наполеоном. В шестнадцать свечей.
– Ты ведь меня сейчас не хочешь обидеть… – заглянув ему в глаза.
– Какой дурак без обеда хотел бы остаться. Когда уже все на плите.
– И сейчас тоже… не хочешь…
– Вам этого мало?! – двумя пальцами дернул Ника рубашку у себя на груди. – «Схожи»!.. «Выдумаешь»!.. – сверкнул глазами.
– Совершенно обычный. Нормальный. Умный. В меру упитанный мальчик… Ну, хорошо: не в меру… Ну, хорошо: ужасно недопитанный… Злой с голодухи… Сейчас… Уже почти все готово… Паспорта когда пойдешь получать? Мама в письме волнуется…
…– Ого!.. Четыре свечи!.. Почему?..
– Ну, а сколько? Двадцать девятое февраля.
– Я двадцать восьмого родился… – боязливо покосился Ника из кухни в коридорчик, в дальнем конце которого прямо напротив прихожей чернел занавешенный проем: он сам оставил дверь в комнату открытой.
– И ты на двенадцать лет старше брата… Понимаю. Ну, что ж… Сейчас добавим… – в шкафчик за свечками… расслышав за спиной шепот: «Не надо…» – обратно к столу:
– Правда? Не надо?.. Ты понимаешь, что это значит?
– А это можно понять?
– Главное – согласие. Войти.
– Вы же не входите, – кивнул Ника в сторону коридорчика.
– Почем ты знаешь?
– А то б я не заметил… – усмехнулся Ника… – Что вы хотите сказать? – испугался он. – Он не выходит! Когда вы здесь, не выходит! Ни через меня, ни…
– Я просто хотела знать, что означает твое «не надо».
Никогда в жизни не решился бы Ника так откровенно принять этот ее взгляд…
Значит, не в жизни… А где?.. Где-то, где… рисуют картины… пишут… а они не картины… они – происходящее на глазах…
После Дня рождения взбрыки его исчезли. Ничто теперь не мешало их взглядам скользить друг по дружке, и это скольжение оказалось тем единственным, что должно происходить со всеми и с каждым, но что непостижимым образом никогда ни с кем не происходит: у птиц, беспомощных на земле, дошло до того, что смотрящий на тебя птичий глаз может быть совершенно невидим.
Как же близка, как всегда была вероятна эта невероятность – посреди недоверия и подозрений обнаружить себя заговорщиками отсутствующего заговора. Воспоминание о занавешенном, черневшем напротив прихожей проеме, наведшем в день шестнадцатилетия столько страха неожиданным сквозняком, погасившим на пироге свечи, вызывало теперь улыбку. Страх теперь был смешон: теперь – после Дня смеха, когда смехом был наполнен, что называется, дом.
Порой Нике чудилось: она ждала этой произошедшей в их отношениях перемены как вести, как некоего сообщения. С нею рядом было теперь настолько легко, что эта легкость казалась следствием ее изменившейся природы. Ощущение ожившей рядом с ним картины или книги при взгляде на нее возникало пока еще – в нем, да… но одной ногою уже картинном и книжном.
Последний весенний день застал их, впервые вместе покинувших дом, на городском озере, многочисленными заливами и изгибами уходящем в разбросанный по центру города парк. Воспользоваться новеньким паспортом – было его идеей. Первое совершеннолетнее нарушение – исчезновение в окошке кассы документа, ни при каких обстоятельствах не подлежащего передаче в чужие руки. Документ-залог – его, нужная сумма – ее – сконвертированы в пару гремящих уключинами весел. Под затянутым светлою тучкой небом меряя босыми ногами причал, они высматривают номера лодок…
Обувь летит на дно, уключины ныряют в петли, цепь, гремя, сброшена внутрь, рубашка сложена на корме, сарафан расправлен на коленях, мускулы налиты силой.
Ниже, ниже их проносить… задерживать после гребка… ага… ага… аккуратненько… аккуратненько… ни одного шанса брызгам!..
Лодка пошла споро и плавно.
– Если, как ты говоришь, никогда раньше в ялике не сидел, значит среди твоих предков – рабы на галерах…
Смеется. Он. Улыбаясь, отворачивается. Она. Пробившийся сквозь тучку солнечный свет заливает берег по правому борту. Для Ники – по левому.
– Куда? Туда?..
– Устал?
С новыми силами навалившись на весла, берет он курс «в открытое море» стоящих в сознании секунд, разворачивающихся в измерении, разоблачающем время…
Убаюкивающий плеск весел… проплывающий мимо извилистый берег… Схватывающая и отпускающая лодку тень зависших над водою дерев. За сужением озера – новый простор. За которым – очередной глухой берег…
Без объяснений бросив весла, выскользнув из брючин, разгоряченный Ника переваливается через борт. И в ту же секунду водное пространство покрывается рябью.
– Ой-ёй-ёй… – доносится из лодки.
Держась за корму… толкая… воткнув нос лодки в песок под ивами… выбравшись из воды, обмотав цепью протянувшуюся над водой ветку… дрожа и чертыхаясь над железным узлом… прыгает к ней под зеленый навес:
– Сейчас-с-с пройдет… – успокаивает, стуча зубами.
– Катастрофа… – щурясь в разверзшиеся небеса, улыбается успевшая промокнуть в своем сарафане. – Ты прикидываешься или… – косится на него, все громче клацающего зубами. – Ой, я боюсь…
Расползшаяся тучка оборачивается сплошной светлой дымкой. Отдельные крупные капли еще с минуту бомбят у берега воду. Под посветлевшим небом успокоившуюся озерную гладь накрывает мелкой сеткой дождя.
– Не бойся… не бойся…
Это такая сушка. Такой способ. Из одной книги. Из этой самой. Все персонажи которой друг с другом на «ты». Включая тех, кто сохнет и тех, кто недавно стучал зубами… И никакого «пусти»… Потому что: куда?.. Любая пара двойственна: человек с человеком и… двое других… Загадки без разгадок создаются переплетением этих вторых с первыми вследствие человеческого желания высмотреть, выглядеть те, вторые глаза в глазах земного спутника. Разгадывают же – вторые. Самое невероятное, что может случиться при этом с «разгаданным», – перемещение его в воображение, в которое он стремился, уже вместе с ним проникающее в воображение его, «разгаданного», двойника, этого его собственного второго: человек попадает в свое начало, одно на двоих с собою противоположного пола, и начало это оказывается чувством. Чувством со всей условностью тех двоих земных, что в нем оказались (предполагается: со вторым произошло то же самое) – условностью их не в данный момент, а – вообще: ощущение выдуманности их судьбы, их земного пути медленно уступает растворению в выдумщике, в этом больше чем существующем, за гранью «да или нет».
Возвратившийся оттуда воспринимает свои намерения, действия и ожидания уже не как выражение свойств своей натуры (силы ума, верности, искренности, лживости, трусости, подлости…), а как единственное позволяющее сохранять растворенность в больше чем существующем.
Чувствовать иное…
То, что случилось, – не абсолютно, можно увидеть другое там, позади. Позитив словосочетания «не призрел Господь». Осуществимость. Перевод сюжета на другие рельсы.
Особенно когда так помогают, исчезая на ровном месте. Когда растворенность в больше чем существующем теряет источник. Сама остается. А источник исчезает навсегда.
«Появившаяся в их доме с отъездом матери» оставила после себя… впрочем, это неважно.
«Каждого – из его беды…» – слова, которыми заканчивались теперь любые попытки слов…
Вне слов все было ясно: произошло естественное настолько, что могло и не происходить. И неважно, с кем. С ним, Никой, произошло или… – главное, произошло с ней… и, вероятно, с кем-то еще, раз «каждого».
В этом «каждом» угадывался и кто-то отдельный, и… – все. Все сразу. Угадывались. Включая «их» самих – «братьев», которыми так органично, так объяснимо без объяснений и так надолго теперь мог оставаться он, Ника. Последствия пребывания одного человека в другом еще не пугали. Зачатки страха целиком растворялись в этом «каждом», в этом необъяснимом миссионерстве там, в глубине сознания, окончательно перевернутого за несколько месяцев до возвращения мамы, проведенных в полной бесконтрольности. На сухомятке…
Пять лет спустя… (157 миллионов секунд или мгновение?)… двадцатиоднолетний старшекурсник физфака приоткрыл дверь лаборатории Академического НИИ.
– Практикант? – гривастый, безбородо-безусый обитатель помещения, скакнув к двери, захлопнув ее и скакнув обратно, прижал рукой к столу толстенную стопку бумаги: – Я вот так же минуту назад вошел – Вселенную по комнате собирать пришлось.
– А окно́ закрыть?
– Тут или окно, или Вселенная. Алекс… Александр… – протянул хозяин комнаты руку. – Белоядов.
– Лев… – оценил силу рукопожатия практикант. – Лодыгин.
Белоядов рассмеялся:
– Слава богу, настоящий! А то меня уже тут за глаза львом окрестили (он встряхнул гривой). Имел счастье лицезреть аннотацию твоего диплома.
– И что?.. Аннотация…
– Лабораторию можно закрывать. Вместе со всем НИИ. Шучу… Какой от практиканта толк, если он с ходу Эйнштейна не херит? Девяносто процентов научных публикаций – белый шум: результаты экспериментов совпадают с теорией.
– Ну, если вспомнить: теорию относительности признали только после того как экспериментально зафиксировали отклонение звездного света солнечной гравитацией.
– Прибежали санитары… и зафиксировали нас. Кофеман?.. Все дело, какая теория. Достаточной ли разрушительной силы. Или из совершенно рассыпавшихся кирпичиков строить целиком новое… или, знаешь: полстены обвалилось, остальное – торчит… старым зубом во рту. Я не о том, чтобы «весь мир разрушить до основанья, а затем». А о том, что новый пейзаж возникает только под новою чистотой уже освоившего все что до него, все в себя вобравшего взгляда: новый белый лист. Все неровности, все уже до тебя извлеченные на свет знания – черновик! Весь этот рельеф – только для того, чтоб по нему, рельефу, взойти на новый уровень голой равнины, наготы горизонта. Почему? Потому что, чувствуешь (а… ты ж не кофеман)… чувствуешь? – ничего нет…– закрыв глаза, осторожно вдохнув из чашки, замер Белоядов… – ни тебя, ни – вообще… всё – сначала… ни теорий… ни экспериментов…
Каждого. «Каждого – из его беды…» Каким образом миссионерство реализуется через него, Нику, – не его дело. Совсем не его: озером стоящее в нем главное, кровное, принадлежащее кому-то глубоко живущему внутри него – не мысль, не план, не объяснение. А – ощущение. Общей беды. Каждый, кого подводят к нему лицом к лицу слишком близко для «просто случайности» или «это судьба!» – каждый под его взглядом снимает свое собственное проклятие, приближая выход из главного, общего, одного на всех тупика. Все решается изначально. Перводвижением. Совершенно новым первотолчком. То, о чем же и Белоядов: «нагота горизонта». «Каждого – из беды» – весь воз сразу… и не с того места, где он застрял, а с того, где возник. По мере мысленного приближения к которому – усиливающееся чувство полета…
– Женщины бывают трех типов: кокетка, кокотка и как утка… – новое «слишком близко подведенное к нему» лицо, потягивая пивко, под хохот Белоядова наблюдает за его, Ники, реакцией… – Есть, правда, четвертый. Тип. Вряд ли вам, львам, известный. В Красной книге в наших широтах. Не встречается. А встретишь – словно во сне, словно ту, с какой прожил годы и теперь готовишься отпустить во сне к кому бы то ни было, чтоб не мешать, и тут вдруг доходит: нет, не мешаешь («мешаешь» – это другая), и значит – та самая! Не надо никуда отпускать! И такая радость…
Белоядов с Лодыгиным переглянулись.
– Не уверен… – ничего не видя, не замечая, продолжал Вульф… – что это вообще какой-то тип. Не женщина, а сквозь женщину. Все эти обонятельно-вкусовые изыски (целомудрие… гастрономия…) – сквозь. Приблизительно. Не окончательно. Как неокончателен сон, в котором ты уже навсегда… – Вульф говорил, говорил…
Этот, в первый же день знакомства, монолог не Вульфа, а «сквозь Вульфа», эта словесная ткань, разворачивающаяся в измерении, разоблачающем время, – как не принять это за продолжение сквозняка из занавешенного напротив прихожей проема, в ночь шестнадцатилетия погасившего свечи на праздничном пироге в виду сидящей прямо напротив тебя, живей всех живых, картины не то книги…
Последовавшие за знакомством с Вульфом и Белоядовым два сплавных сезона, проведенных в одной туристской лодке с бородатым и гривастым спутниками… Перманентный встречный наплыв: по колено стоящих в воде голых апрельских берез… бесконечных «амазонских» июньских джунглей… июльских хвойных чащоб… августовского камышового рая… октябрьской сосновой прозрачности… убаюкивающий плеск воды по бортам… проплывающий извилистый берег… тень зависших над водою дерев, схватывающая и отпускающая взятый под гарантию паспорта ялик… озерная гладь под мелкою сеткой дождя… перемещение в воображение, в которое так стремился… в одно на двоих начало… в больше чем существующее…
– То есть, как это не можешь?.. – искренно удивился Вульф, во-первых, привыкший созерцать в байдарке «львиную» спину, а во-вторых, бывший свидетелем восторгов Льва уже во время их первого, двухлетней давности, сплава по местным речным джунглям.
– Не то что не могу… – замялся Лодыгин…
И Белоядов с Вульфом узнали о существовании еще одного Георгиевича – Левкиного близнеца-брата, долгие годы по состоянию здоровья не покидавшего своей комнаты, окончившего школу экстерном, а теперь «бомбившего» частным таксистом.
– Ну!.. – оглянувшись на молчавшего Вульфа, подтолкнул Белоядов Лодыгина к объяснению.
– В том-то и дело, – «объяснил» Лодыгин, – с походом.
Не выходивший из комнаты брат около года назад в одно прекрасное утро, когда все ушли, встал, принял душ, съел самостоятельно приготовленную яичницу, оделся и покинул дом, оставив в квартире следы своих действий. Вернувшись вечером, отдав им с матерью квитанцию на оплату курсов автовождения, попросил у Льва «Введение в современную космологию» – «почитать перед сном»… Каким образом беспросветно больной моментально выздоровел, врачи уже выясняют, но, похоже, тут материала – не на одну кандидатскую… Сам брат помогать им в этом вопросе не собирается, и разговоров с ним на эту тему лучше не вести.
– Ну, вы понимаете?.. «Введение в космологию» – одно, а живое общение на свежем воздухе – совершенно другое.
– То есть, вы с ним на тему космоса не общаетесь… – растерялся Вульф… – И потом, как его на эти-то взяли… как их…
– Лезандр, тут другое, – перебил Белоядов. – Он говорит: в первый же день – и вождение, и «Космология». Человек фактически воскрес, и куда его теперь двинет – ни врачам, ни ему самому неясно. Представь: вот так бы твой годами лежачий брат встал перед тобой… как лист перед травой…
– Ну да… – помял бороду Вульф.
– Так что? Покатаете вместо меня «дублера»… – вопросительно посмотрел на друзей Лодыгин… – на втором номере?.. Тем более, внешне мы с ним – один в один, не отличишь. И он нормальный. И в этом проблема.
– Хочешь, чтоб мы прояснили, до какой степени нормальный… – покивал самому себе Вульф.
– Всё вместе: и прояснили, и покатали… Окунули, так сказать, в естественно-мыслительную среду… Можно, конечно, и в лабораторию привести, но…
– Да все понятно! – констатировал Белоядов. – Что рассусоливать. Была бы байда четырехместной…
– Н-н!.. – перебил Лодыгин. – Как раз трехместная нужна. Пора переключать его с зеркального спутника, то бишь с меня, на… товарищей по космосу. Так сказать: практические занятия по Млечному Пути…
– Красиво излагает, – указал на Льва физик поэту…
Не вникая в разгоревшийся на ровном месте между физиком и поэтом спор, Левка… Ника… во внезапно накатившем на него недавнем прошлом, «работая» ногами, снова мысленно «выкручивает» баранку, выделывая восьмерки на площадке-полигоне автошколы: «долгие годы лежачий, воскресший» брат (то есть, он сам) должен же был как-то легализоваться, две судьбы не могут стать одной. Левка в академическом НИИ, Ника за баранкой – система уравнений. Получившему права, разжившемуся подержанным «фольксвером» Нике нравилось, когда после НИИ оставались силы, таксуя по вечерне-ночному безлюдью, представлять себя Бэтменом…
– Слышишь? – возвращает Бэтмена на землю Вульф…
Не на землю. Не на землю. На воду… Как странно: по одной и той же реке плыть другим человеком. Оказывается, дважды войти в одну реку – не открутить жизнь назад, а сменить своего арендуемого. Арендуемого?.. Ну, это неважно…
Харон
(2003: события одного дня в конце апреля)
Тишина. Сосны, оживающие над головой. Позвякивание весел о фальшборта там, у воды. Кто б мог подумать: конец апреля, и так и не выбравшаяся из-под снега земля. На склонах – голо, кое-где уже зелено. В тени же, под деревьями – сплошная рыхлая снежная корка. Палатку для ночевки поставили вчера без проблем: проплешин хватает и в хвое (под днище) нет недостатка. Но поутру нос из спальника высунуть – удовольствие ниже среднего. И умываться из озера… собраться с духом: руки красные, лоб и щеки горят…
Белоядов с утра пораньше предложил байду собрать и – вперед, а там уж, по ходу, колбаской с чайком побаловаться, а то и вовсе водой обойтись. Вульф даже спорить не стал – молча достал горелку на газу, включил и, не обращая внимания на забегавшего со зверским лицом Белоядова, принялся кашеварить. Всего делов-то – не более получаса, зато в путь теперь – с теплым нутром.
Мягко, с неподвижными, параллельно воде, веслами, под опускающийся, как в замедленном фильме, снежок уходили от берега.
Нервно оглядывавшийся Белоядов вынудил Вульфа взяться за дело: резкими толчками, пошедшими с кормы, подхваченными с носа, байда, раз за разом подаваясь вперед, вскоре заскользила ровно и плавно, а быстро и широко разошедшиеся по обеим сторонам берега́, проступавшие в ды́мке, вызвали иллюзию неподвижности лодки, несмотря на размеренное волнение, поднимаемое по обоим бортам. Потихоньку, стараясь не задевать своим средним веслом о переднее или заднее и ежась от скрежета, когда это все же происходило, сидевший в лодке по центру набирался «первого» своего туристско-гребного опыта… Весло понемногу легчало, приноравливаясь к воде, слушаясь. Число брызг уменьшалось. Скрежет дюраля о дюраль вскоре и вовсе стих…
– Егорыч, – не прекращая работы, обернулся через плечо Белоядов, – а, Егорыч? Признавайся: сбрехал, что в байде ни разу не сидел?
Не сразу осознавший, что комплимент обращен к нему, вопрошаемый наконец отозвался:
– Не сидел… (чуть не продолжив: – Только – в ялике на городских прудах…)
Значит, вот как: быть ему «Егорычем» до конца путешествия… Когда вчера там, под соснами, на берегу, к ватнику и ватным же штанам на нем добавилась извлеченная из рюкзака видавшая виды шапка-ушанка с отвисшим некстати ухом, обернувшийся, ни на секунду не задумавшийся Белоядов, раскрывая навстречу объятия, пропел: «Егорыч, а Егорыч, етит твою клентит, рассупонился: нешто озимые всходют?..» (Вульф тоже только руками развел: «Ну где-то так…»)
Расползающаяся дымка… редко сыплющийся из-под пальцев кого-то задумавшегося, не долетающий до воды снежок… сросшиеся в одно целое, скользящее посреди холодного марева – гребцы и лодка…
Желая запечатлеть покинутый берег, обернувшись, «Егорыч» с минуту не мог оторваться от стоявшей за его спиной картины: с кормы из-под капюшона штормовки на него… сквозь него… смотрели ничего не выражавшие, черные, совершенно пустые глаза улыбавшегося приоткрытым (казалось, беззубым) ртом бородача, окаменевшего – с лицом и телом, неподвижными до того, что продолжавшие свое дело руки лётали над бортами уже как бы сами по себе, отдельно, выступая прямо из воздуха… Ухватив весло, несколько раз скрежетнувшее о соседние, пару раз заглубив лопасти чуть не под самый борт, Егорыч понемногу вернулся в реальность…
В какие-то полчаса окончательно слизанный солнцем туман обнажил далекие низкие берега. Снег прекратился, истаивая, видно, высоко в полете…
– Сизенький голубчик,
Что ты вьешься надо мной? –
в такт веслам опробовал легкие Белоядов.
– Сизенький голубчик,
Что ты вьешься надо мной? –
понеслось с кормы вторым, на октаву ниже, голосом, слившимся с первым.
– Надо мною, мною,
Да над горьким сиротой…
Песня, подгоняя лодку, сама выводила гребцов на нужные ей, песне, частоту и силу движений, а выведя – вобрала в себя лодку, гребцов и весь простор, стоящий меж берегами, водою и небом…
– Куда я ни выйду,
Все трава да мурава, –
высоко начинал Белоядов;
– Куда я ни выйду,
Все трава да мурава! –
окатывало двухголосьем: верхами – подступавшее ближе небо, низами – мрачновато поднимавшуюся толщу вод.
– Куда я ни гляну,
Все чужая сторона.
Пара белых точек впереди по ходу лодки, быстро вырастая, оказалась невесть откуда в этой глуши взявшейся парой ослепительно белых на солнце, топчущих красноватыми лапками собственные ослепительно белые отражения в воде, лебедей. Прибавляя ходу, байда двинулась прямо на них.
– Девушки-подружки,
Какой нонеча стал свет.
Девушки-подружки,
Какой нонеча стал свет!..
Приподнявшись, парой белоснежных, длинношеих тел, вытянутых за парой красно-черных клювов, пеня ластами воду, стонущая чета понеслась прочь, не в силах взлететь… Сбросив ход, позволяя беглецам сделать то же, лодка плавно проскользила мимо.
– Кого ни полюбишь,
А ни в ком же правды нет…
Оглянувшись, Егорыч столкнулся с нечитаемым взором остановившейся, глянувшей прямо на него и куда-то сквозь него, птицы, от чего снова, как в начале пути (когда обернулся), ощущение нереальности происходящего охватило его… Какая, вроде бы, могла быть связь: бородач на корме в штормовке и горка белоснежного пуха на воде?.. Что общего?..
Стараясь избавиться от странного ощущения, врабатываясь, вливаясь руками и телом в общий трехвесельный ритм, Егорыч понемногу освободил голову для главного, желанного – мыслей, готовых, он чувствовал, овладеть им. Широко и почти без усилий орудуя веслом, он вгляделся в бегущую (стоя на месте), ускользавшую от, казалось, уже ухватившего ее гла́за – воду. Переросшие себя миллиарды капель, преображенные в волнующееся, животворное полотно… Как понимаешь, что жив? Скажем, лес в окне… Да, верхушка ели, высящейся в окне – выше твоего этажа… Да, вершина ели со стоящей прямо под ней, подтягивающейся снизу, запорошенной снегом бесконечной дубовой грядой. На еловых же лапах снег тяжелый, слоями – они еле держат его. Долго смотришь в окно, проникаясь, напитываясь неподвижной картиной, – и вдруг ель со всем своим снегом, оживая под ветром, идет вправо… влево… Непередаваемое ощущение. Непередаваемо жив.
Счастлив оттого, что не одинок. Когда одинок? Когда Богом оставлен? Когда не оставлен – как понять? Чем? Глазами. Не одинок глазами. Вот и все сказки о любви.
Где: всё сразу и ничего? Нет времени? В нашем сознании.
Полмиллиона лет влево.
«Главный порок – трусость», – не без удовольствия отдался Егорыч потоку мыслей, свободно несущему его. Главный порок. Трусость. Заданная, так же, как и храбрость… чем там?.. генетически обусловленным химическим статусом организма (эта книжица, из последних). Определенный градус алкоголя в крови – и совершенно не переносящий высоты, сидя на перилах, спокойно смотрит на пенящееся в сорока метрах прямо под ним море (прошлым летом).
Как рассуждают обычно?.. Что за доблесть – храбрость? В чем вина труса (проклинающего свою трусость, не имея сил совладать с ней)? В чем личный вклад в судьбу? Велико ли пространство, оставляемое личному выбору человека? Насколько личному? Что следует: углубляясь в понимание себя, потакать своей природе или же восстать на свою слабость? Будет ли от восстания прок? Может ли трус от природы дорасти до мессианства (в самой абсурдности вопроса – ответ)? Как отделить заслугу человека от его изначальной, генетической основы (если всё так близко к химии, если так легко сделать идиотом и невозможно гением)? Чья заслуга – «твоя» гениальность? Что такое порок? Злоба? Зависть? Предательство? Переход неких границ. Вызванный трусостью. Заданной химией. Генетически предопределенной…
Есть какая-то непреходящая… непроходимая тупость во всех подобных рассуждениях. В самой постановке вопросов… В этих ответах: дело не в трусости, дело не в пороке, дело в самих границах. В «духовном зрении», исчезающем в случае победы дьявола, – границы исчезают, оставляя человека за гранью добра и зла, на стороне зла. Мы всё валим на трусость, а она ни при чем. На одной чаше весов – эта наша природная слабость, на другой – «духовное зрение», удивительней всего – тоже генетическое. Добру или злу мы принадлежим от рождения. Вот оно: порок вне нас. До нас. Пилат рожден Пилатом. Где выход? Иисус? Все что дано – момент выбора? Моление о чаше? Ради момента выбора затеян мир? «…Каждому достается по его вере». А вера-то у человека – откуда? Его ли выбор – вера? Момент выбора… Если и здесь его нет?..
Непреодолимая, отупляющая глухота этих вопросов. Ответов. Вот уж действительно: лбом о стену… Значит, что?.. Проникать в свою природу? Все больше мрачнея от собственной не-гениальности?.. Нет. Нет. Не в свою. Не в свою природу – в природу вещей. В мироздание. Единственное, что примиряет с самим собой. На что не жаль этой безделицы, этой…
– …Даст барыня водки –
Веселей будем гулять.
Даст барыня водки –
Ве-е-еселей будем гуля-я-ять!.. –
уходя над водой во все стороны сразу, замерла бесконечная песня…
Секунду назад заполнявшее эфир двухголосье сменилось мерным весельным плеском.
– Что за песня? – спросил Белоядову в спину Егорыч. – Никогда не слышал.
– Лирические вопросы – на корму… – махнул головой через плечо Белоядов.
– Что эта песня? – аккуратно положив весло на фальшборта, обернулся Егорыч к рулевому. – И почему лирические вопросы – вам?
В шерстяном тельнике, уже без штормовки, пышущий жаром Вульф хмыкнул:
– Тонуть будем – тоже на «вы»?.. «Не были б вы столь любезны протянуть соломинку»…
– Чего это мы будем тонуть… – усмехнулся Егорыч, на всякий случай оценивая на глазок расстояние до ближнего берега. – Я хорошо пла… (Наступи себе на язык!..)
– В ватничке? При плюс четырех?
– Ну, так уж и при плюс четырех… – на секунду опустив пальцы в воду, тут же выдернул их Егорыч… – Так все-таки: откуда песня?
– Песня?.. Вероятно, оттуда, откуда и мы с тобой… Предки наши, кричавшие: «Го! Мель!» – они ж не только кричали. Случалось, и пели… Лет полтораста назад в тех краях такими песнями народ себя тешил. Теперь вот мы с твоим братцем и Алексом… А что до лирики, кто чем – а я хлеб насущный стишатами добываю.
– Что?.. Не физик? – удивился Егорыч. – А как же ты… а когда же вы все…
– Вместе сошлись? С братцем твоим Алекс свел, а с самим Алексом полтора курса на одной лавке в бурсе штаны протирали. Пока не прорезался. Мой дар Божий… В школе – так, баловство. Рассказики. «На одной лестничной клетке жили кошка Грелка и Тузик»… А в бурсе – осенять стало. Снисходить. Как тебе, например, это: «Как-то еще маленьким, давно / я вступил в собачее говно. / – Ты слепой, – сказал отец, – я, сынка, / пьяный, а собаке все равно»…
Отвернувшись, Егорыч взялся за весло.
– Ревность, гордость, гнев, обида – до свидания, либидо, – прозвучало за спиной.
– С чего мне обижаться? – улыбнувшись, пожал плечами Егорыч.
…И все же единственное – мироздание… Устройство мира. Только это и остается… Мироустройство и мы – одно и то же. Мы – не исполнители, и не вне нас истоки. Река, вода – море взбрело в голову, полную полной солнца воды. «Звездное небо над головой и нравственный закон внутри нас». Поменять «над головой» и «внутри» местами.
– Э, э, э-э-э!.. – понеслось вдруг с кормы. – Жопу в дно вдавил! Моментально!!!
Испугавшись, приподнявшийся в лодке Егорыч плюхнулся вниз!..
– Штаны, это… стеганые… – обернувшись к злому, как черт, Вульфу, попытался оправдаться Егорыч… – жарко…
– Хорошо еще – байда гружёная! – никак не мог прийти в себя Вульф. – С-сука…
– Лезандр, ты чего?.. – укорил с носа загребной.
– Отглагольное междометие… – отозвался рулевой, остывая… – Что, сопрел, Маугли?.. Ватничек скинул – и харэ… А портки – еще семь раз замерзнешь… Ноги, они не шибко в нашем деле нагружены…
– Жо… ха-ха-ха… в дно!.. – раздалось с первого номера… – и мо… ха-ха… ментально!..
– Если кому искупаться охота… – оправдывался Вульф… – лично я – пас… Не сегодня.
– Сами виноваты, – отсмеявшись, заключил Белоядов. – Инструктаж не провели. На тебя, Егорыч, смотришь – братца твоего видишь. А с братцем мы – полстраны на веслах, за два последних года… Вот и упустили… Ты, короче, пока две вещи запомни. Первое: в лодке с сиденья – только вниз. Она, родимая, хоть на воде и устойчива, вроде, до беспредела, но чуть что – куляется на раз-два. И второе: ногу внизу ставить только на металл. На резину – ни-ни…
Неужели и вправду могли навернуться?..
Возможность…
Продолжавшему махать веслом, Егорычу стало легко и просторно от этого слова: возможность. Как-то совсем уже не по-озерному свежо… Так, словно проснулся в тенистой комнате с открытым балконом, а за окном – тенистый же крымский кедр, солнце и море за домом (тень) и в голове… Дрожь, будто по голым, в шортах, ногам, прошла волной…
– Что такое лиловое, горькое и фа бемоль, – со своего второго номера подал голос Егорыч, – но не длина, не частота волн, не химия, а что они такое как ощущения, их неповторимый окрас?
– Это, слышь, – с первого номера бросил через плечо Белоядов, обращаясь сразу и ко второму, и к третьему, – у нас в школе физик был, по совместительству звездочет. Любимое выражение: я вас научу́ Млечный Путь любить!
– И что? – подключился Вульф.
– На ровном месте посреди урока выдвигал картину апокалипсиса. Ну, столкновения Земли с кометой, с хренетой, со всем подряд… Интересно подытоживал. Молча так обведет взором притихший класс, а потом резюмирует: всего этого, говорит, может и не быть… Если будете хорошо учиться.
– Как там? – прозвучало у Егорыча за спиной. – Розовое и… кислое?
– Да, соленое и голубое. Огуречная соль, селедочная…
– Ну, так биология же… – раздалось с носа. – Нервный импульс, рецептор.
– Нервный импульс голубой? Или розовый?
– Воссоздается все, в голове, – снизошел голос с носа.
– Вкус селедки?..
– Взаимодействие соли с рецептором, – пояснил голос с кормы.
– А вкус – в рецепторе? Или в соли?
– В рецепторе сигнал, – отозвалась корма.
– Соленый?
– Нервный… Ты куда?..
– Да сижу я, сижу, не встаю, – обернулся Егорыч к Вульфу. – «Ничто не имеет конца» (Леонардо да Винчи). Начала. Ничто не имеет начала. Метафизика «Черного квадрата».
Какое-то время весла меланхолично топали по воде.
– «Он над нами издевался», – подал наконец голос Вульф.
– «Сумасшедший, что возьмешь», – легко согласился Егорыч. – «Диагноз товарища Саахова явно подтверждается».
– Единственное, что мы от твоего братца услышали: «Не пожалеете».
– Нет, Лезандр, это он не про брата. Это он про нас с тобой. Это мы – сумасшедший дом. А он как раз нормальный.
– Ничего, на свежем воздухе – можно… А насчет квадрата – поясни, – пробухтело Егорычу в спину. – Перевернемся – хоть знать будем: спасать тебя – не спасать.
– Ну, что пояснять… Дело не в черноте, а в квадрате. В неодушевленной природе углов нет. Отсутствуют как таковые. Изображение мыслящей Вселенной. Только и всего.
– Замнем для ясности… – резюмировал Вульф. – А голубое-соленое – это чего?
– Голубое-соленое?.. – перестав вкладывать силу в гребки, Егорыч поначалу лишь оглаживал слегка воду (а вскоре и вовсе положил весло перед собой). – Трогаешь рукой пушистый плед, так?..
– Так, – «подтвердил» Вульф.
– Материя сама себя трогает… Не было подобных ощущений? На кончиках пальцев? Никогда?.. Происхождение сознания – простые контакты материи с самой собой вырастают до понимания самой себя и управления собой… Не вырастают. Это есть изначально. Не замечаем. Мы. Не отдаем себе отчета в том, что наша чувствительность – объективна. Сама общепринятая идея человеческой жизни неверна. Добро и зло в тебе – принадлежность к восходящему либо устремленному в бездну потоку. И весь вопрос: является ли сумма твоих душевных движений чем-то интересным для, если так можно выразиться, высшего измерения или же все эти движения – всего лишь растущее в тебе понимание твоей принадлежности к одному из двух потоков – несущемуся в бездну или уходящему ввысь. На самом же деле нет никакого «или-или», не существует…
Подняв голову, Егорыч увидел: никто его не слушает – и впереди, и сзади активно работали, загребая слева по борту, и притормаживая справа… Высокие, голые, на ярком солнышке казалось – сухие, деревья поплыли прямо в глаза: за разговором Егорыч упустил приближение берега. Озеро кончилось. Маневрируя, лодка быстро входила в русло реки. Речушки. Вращавшаяся теперь по обоим берегам, наваливавшаяся и отстранявшаяся лесистость то и дело заставляла тормозить, огибать (основная нагрузка – на Вульфа) и в три весла подрабатывать.
Отступая, голый ольшаник открыл неширокую равнинку, тянущуюся по левому борту, кончавшуюся впереди новым, уже настоящим, высоким и хвойным, лесом, быстро приближавшимся (на ровном месте с удовольствием разогнали лодку).
– Гляди, гляди!.. – резко выбросив руку вправо, вскрикнул впередсмотрящий!
Вслед за застонавшим в экстазе Вульфом узрел и Егорыч: гнедой бок с идущими по нему солнечными зайчиками… широченные, плывущие по кустам рога!.. В каких-то двух десятках метров перед несущейся по инерции лодкой матерый лосина, соскочив длиннющими ногами в воду, в три гигантских, замедленных прыжка одолев речку, не обращая, казалось, внимания на байду, выбравшись на поляну, черпанул по гребцам угольно-черным глазом… У Егорыча, проносившегося мимо, засосало под ложечкой… В третий раз за день он становился псевдо-объектом, прозрачной завесой на пути устремленного из ниоткуда в никуда взора. И кто! Чьи взоры-то! Бородач, горка пуха и эти… рога…
Не выдержав, обернувшись на пустую, безжизненную, как и не было никакого зверя, равнину, Егорыч наткнулся на воспаленно горевшие глаза рулевого.
– На дороге – сплошь и рядом, – проговорил Вульф. – И со смертельным исходом, кстати сказать, – не редкость. Сам однажды попал: копытами через капот – и в лес… Но чтобы байду завалить! Не припомню.
– Проскочили же… – не мог оторвать Егорыч взгляда от возбужденного лица рулевого.
– Ты, когда двое на ревере, тоже впрягайся с полоборота. В следующий раз можем не проскочить.
– «На ревере» – это что: задний ход?
– Под загребного моментом подстроился и… В шесть лопастей – оно сподручней. Кто его знает, что там нас впереди ждет.
– Что может ждать? – пожал плечами Егорыч. – Речка как речка.
Въехавших по дуге в настоящий лес, их ждало чудо: поднявшиеся по обеим сторонам реки склоны, эти две огромные гряды со светящимися на солнце высоченными елями, были совершенно синими: один, без разрывов и складок, переливчато-синий (от фиолетового до голубого) ковер из тысяч и тысяч невысоко, казалось только чтоб покрыть землю, кучками выбившихся на свет цветов завораживал глаз.
– Действительно из-под снега… – первым из переставших грести путешественников очнулся Егорыч. – Только снега что-то не видать. На этих горах.
– Угол наклона, – отозвался Белоядов. – Поднимающая под перпендикуляр поверхность. Полдня на один склон светит, полдня на другой.
Егорыч представил, как выглядят они в этом глубоком каньоне, вид сверху: маленькая, «вырезанная из коры» лодочка, бегущая по извилистому, теряющемуся под лесистыми кручами ручейку.
– Заметь, – негромко (в ущелье все стало слышнее) сказал Белоядов, – так речку зажало, а течение спокойное.
– Откуда ж в наших краях неспокойному быть, – отозвался Вульф. – Кажись, уже всё вдоль-поперек исходили – одно и то же.
– А вот и при́стань. Специально для нас. А, Лезандр? Разомнем чресла?
Руля веслом, Вульф направил лодку к вырисовавшемуся слева, между водой и косогором, пятачку суши, заключив:
– Заодно и супчику похлебаем.
– Супчику, ага! – выпрыгивая на берег, возмутился Белоядов. – Супчику, да!.. Кольцо краковской – натрое, и вперед!
– Ты… – подтянув с берега корму, Вульф воткнул в землю палаточный колышек, привязанный веревкой к корме… – за десять лет на «Таймене» куда-нибудь опоздал?.. Не суетись, Алекс.
Смирившийся с остановкой Белоядов, не терпевший бездействия, принялся обследовать близлежащий склон.
– Знаешь, чем такой первый в году сплав особенно замечателен? – подставив лицо солнцу, обратился к Егорычу Вульф. – Нет?.. Подумай… Послушай, как тихо… Можно вот так, в одном тельнике, сколь угодно долго стоять, замерев… И ни одного звука…
– А в следующий сплав вот так стоять, замерев, нельзя… – теряясь в догадках, недоверчиво поглядел Егорыч на Вульфа, наслаждавшегося солнышком.
– Не-а… Ну… Соображения?.. – нагнувшись к грузовому отсеку, рулевой извлек на свет баллончик с газовой горелкой и сам же ответил на свой вопрос: – Комаров нет.
– …Ты, кстати, Егорыч, не прав, – сидя на коврике, глядя на поднимающийся из-под крышки кастрюльки дымок, произнес угомонившийся, в кои-то веки совершенно бездеятельный Белоядов. – Относительно соленого-голубого. Энергия раздражителя в рецепторе преобразуется в электричество (как звук в микрофоне), в голове из электричества возникает образ – коротко говоря, сигнал, символизирующий исходный раздражитель, но (в отличие от звука, возвращаемого в динамике) никак не окрашенный. Окрас – условен.
– И робот будет думать, – завершил цепочку рассуждений Егорыч.
– Чего?..
– Изучая всю эту механику… то есть хрумкая капусту, как гусеницы, – начал Егорыч, – мы… то есть, кормовое растение… мир – не кормовое растение.
Белоядов помотал головой: объяснение Егорыча ничего не объясняло.
– То есть капустой может быть все, кроме… – Егорыч остановился, собираясь с духом. – Я не понимаю, что такое ощущение. Если бы оно было только определенным да/нет, заставляющим меня действовать, тогда понятно. А что такое бледно-лиловое и голубое, как вот эти склоны? Или ре-бемоль? Как я должен действовать? Сам окрас ощущения, слухового, зрительного – или это не механика, поскольку ни на что не направлено, или это, как любая механика в живом, сигнал, но чего? Я о природе внутреннего, идеального: что оно такое?..
– Развитость все тех же да/нет, – оглянувшись на синий склон, сказал Белоядов. – Эволюционное развитие градаций: цветовых, слуховых, вкусовых. Пространственное разведение в нервных структурах тонко различающихся внешних сигналов. В результате – иллюзия окраса, эмоциональная составляющая, не более того.
– То есть, все-таки капуста? – уточнил Егорыч.
– М-м-м… – промычал Белоядов, принимая от Вульфа миску с вермишелью в бульоне. – Да.
– «Кто был тот ювелир, / что, бровь не хмуря, / нанес в миниатюре / на них тот мир, / что сводит нас с ума, / берет нас в клещи, / где ты, как мысль о вещи, / мы – вещь сама?» – декламируя, Егорыч принял из рук кашевара и быстро опустил на землю свою горячую миску.
– Ну, вот, все сразу ясно… – подув в ложку, усмехнулся Белоядов.
– Это Бродский, – подал голос кашевар. – Речь о бабочке, о ее крыльях. Обращение к бабочке. «Ты лучше, чем Ничто. / Верней: ты ближе / и зримее. Внутри же / на все на сто / ты родственна ему. / В твоем полете / оно достигло плоти; / и потому / ты в сутолке дневной / достойна взгляда / как легкая преграда / меж ним и мной»…
– Количество не переходит в качество, – обжигаясь и дуя в ложку, не отступал Белоядов от цели: половина его миски уже была пуста. – Я имею в виду: то, что вас двое, дела не меняет… Есть какие-то данные о сходстве живой клетки и всех ее микротубул… микротрубочек – с квантовым компьютером, связанным… ну, как это выразиться, чтоб не скатиться до… со всей Вселенной, в общем, – махнул он рукой, не найдя подходящего слова. – Но все это – белый шум. Фантазии.
– Наши души – из само́й ткани Вселенной… – заявление Егорыча повисло в воздухе… – Но что́ эта ткань? Какова ее суть? Ее основа?
– Во-во! – согласился физик, звучно всасывая вермишель. – Хорошо бы – с основ и с азов. Для начала – хотя бы с основных характеристик. С пространства, времени…
– Ну, и что время?
– Время? Будете в час по чайной ложке хлебать – здесь и заночуем.
– Серьезно.
– Серьезно! Сытый голодного не разумеет… Что-нибудь об уравнении Шрёдингера слышал?.. Ну, ладно. Что электрон – и волна, и частица, надеюсь, помнишь со школы? Ну, вот. Волна – когда регистрирующая аппаратура настроена на «волновое». Частица – когда аппаратура регистрирует «частичное». Отсутствие и того и другого одновременно – там что-то происходит со временем.
– Что?
– Время – нечто, идущее в одном направлении. Так?.. А теперь представь, что на условной плоскости одно время идет сверху вниз, а второе – слева направо. Мы же видим только одно из них, потому и частицу видим в одной точке.
– Как это?
– Как сверху и сбоку смотреть: сбоку – частица в такой-то точке, а сверху глянул – точка, оказывается, не точка, а линия. Что же? В какой из точек линии частица? Или во всех точках сразу?.. Но, заметим: для наглядности, по аналогии с длиной и высотой, мы допустили второе временное измерение, существование которого – всего лишь гипотеза. Есть ли второе (третье, пятое, десятое) временное измерение, нет ли – факт в том, что каким-то образом электрон, частица может быть более чем в одной точке одновременно. А в одной точке может быть более чем одна частица. И из этого самого факта, если вдуматься, может вытекать время. То, что объект размыт в пространстве, может рождать последовательность событий…
– …для наблюдателя, в восприятии, – подхватил Егорыч. – То есть не последовательность событий, а впечатление последовательности. И субъектом, воспринимающим движение и время… там, где их, с другой точки зрения, нет… может быть весь мир…
– …тел, – уточнил Белоядов. – Наш пространственно-трехмерный мир лучше называть не всем миром, а миром тел. Предметов.
– Вам… тебе видней. Согласен. Таким образом, воспринимать многомерность времени и пространства как движение – может быть способом существования нашего мира… тел.
– Не увлекайся. Да, кое-кто и впрямь считает, что уравнение Шрёдингера применимо не только к микромиру, но и…
– …ко всему. К человеку. Думаешь, ты здесь и сейчас. А ты – во всех точках твоего «я» сразу. Видишь: здесь и сейчас. Глазами. А на деле – нет ни тебя, ни времени, а есть… взаимодействие… – тем же взором, что лебедь и лось, «просветил насквозь» Егорыч Белоядова. – Взаимодействие. Со-знание. Обнимающее сразу все, а не здесь и сейчас… Любовь – больше любовников. Любовь уже все о них знает.
– Ту же мысль я встречал в одном собрании сочинений, – оторвался от миски Вульф.
– Ту, да не ту, – парировал Егорыч.
– Неадекватное восприятие – искажение проекций… – пропустив мимо ушей дискуссию, задумался Белоядов… – Это как проекции одной и той же киносцены на плоскость, шар… именно: шар… информация искажается… В мире тел…
– …вместо всего сразу – возникает последовательность событий, – «подсказал» Егорыч. – Как искажение информации обо всем сразу. На деле же, то, что мы называем движущимся на наших глазах «всем и вся», – всего лишь возможность, версия пребывания объектов в этой точке – здесь и сейчас. Всё сразу везде и всегда, а объекты, тела, мы – здесь и сейчас. Сознание – ви́дение, что объекты – лишь версия. Всё сразу везде и всегда – Слово. А все слова, что я сейчас произнес, – версия.
– Уйди. Только с мысли сбил.
– Сознание и его исходник, истинный мир, – одно и то же: всё сразу везде и всегда.
– Лезандр, убери его.
– Куда ж я его уберу… – улыбаясь, огляделся вокруг Вульф.
– Комаров нет… – поддержал его улыбку Егорыч… – а возможность есть. Так и слышится их рой. Над головой. И никакого момента выбора. В этой точке нет комаров. В той – там… когда, недельки через три?.. в конце мая?.. все гудит. Уравнение Шрёдингера.
– Я тебе покажу Шрёдингера… – скорчил злую рожу Белоядов, стягивая сапог… – Надо ж, какую мысль перебил…
– Никакого момента выбора… – отставив миску, в притворном страхе отбежав на пару шагов, не унимался Егорыч. – Возможность. Всё сразу всегда везде. Вся правда, вся тайна – как на ладони. «Солнце ясное…» – увернулся он от пролетевшего мимо сапога, – «…всю правду откроет». Все наши действия и помыслы – как на ладони. Все времена. Бесполезность и бессмысленность утаивания, лжи. Ложь, утаивание – самообман, самоунижение.
– Вот на этой радостной ноте… – встал рулевой, отряхиваясь…
– Сейчас, сейчас, минуточку, – подобрав сапог, вернул его хозяину Егорыч. – Не конфликт оттого, что существуют добро и зло, а добро и зло оттого, что существует конфликт. Между целостностью, неразъятостью мира и разнимающим его восприятием, между стремлением воссоздать эту целостность или возобладать над ней, между созиданием и разрушением. Враги – одного поля ягоды. Враги не важны. Важна вражда. Как жизнь и смерть не важны. Важна возможность.
– М-да… – поднялся вслед за Вульфом вновь обутый на обе ноги Белоядов. – Братцу твоему не позавидуешь…
Часом позже обескураженные путешественники, сидя в байде, у самого берега прижатой к стволу упавшего в воду дерева, крепко держась за ветки, смотрели на несущийся мимо, бурлящий и пенящийся водный поток, разбиваемый на рукава ветвями поверженных, выступающих из воды деревьев…
– Говоришь: откуда в наших краях такому быть?! – отворачиваясь от брызг, старался перекричать шумевшую реку Белоядов со своего первого, ближнего к потоку, номера. – Говоришь: все вдоль-поперек исходили?! А, Лезандр?! Как действовать будем?!
– Ну, как?! Мое дело – корму держать! Любой ценой! А ты, Алекс, во-первых, командуешь, во-вторых, проводишь!
– Есть еще вариант: если вылезти невозможно – подрубать!
– А я?! – опробовал голосовые связки Егорыч. – Моя задача?!
Перебирая руками по веткам, за которые держались, высунули в поток нос байды, тут же прижатой течением к стволу.
– Ну, что! Отпускай, Лезандр!
– Ху!.. Два раза не родятся!
Столкнутая на открытую воду, лодка, крупно дрожа, понеслась… Не сразу, Егорыч понял: их правильная ориентация в потоке – работа Вульфа, изо всех сил, руля веслом, удерживавшего корму. Белоядов, как мог, подрабатывал веслом слева и справа, уводя нос от очередной преграды, летевшей навстречу.
Со всего размаху наехав на толстую притопленную ветвь, стали в бурлившем потоке!
– Я держу! – крикнул Вульф.
На секунду отвлекшийся, засмотревшийся на мощный «ревер» рулевого, Егорыч обнаружил загребного уже в воде, рядом с лодкой. Балансируя на толстой притопленной ветке, Белоядов, аккуратно протащив нос по преграде, уставился на Егорыча… Сообразив, тот осторожно выбрался на ветку с другой стороны, притопив ее еще больше. Под сапогом – шатко и скользко. Вокруг сапога – бурлило… Вдвоем они провели байду вперед чуть не до середины грузового отсека.
– Держишь?..
По-обезьяньи взобравшись на фальшборта руками и ногами, Белоядов покарабкался к своему первому номеру. Добравшись, плюхнулся на сиденье. Вульфу держать корму теперь было куда легче. Насколько смог, Егорыч провел лодку дальше. Вдвоем с перебравшимся на ветку Вульфом они завершили дело: байда теперь сидела на ветке одной кормой.
– Ползи… – кивнул Вульф вперед.
Егорыч пополз…
Убедившись, что все сидят на своих местах наготове, Вульф мягко столкнул веслом корму с ветки.
Такой акробатики впереди их ожидало – море.
И еще и не такой… В нескольких местах перегородившие реку деревья, едва поднимавшиеся на водой, не оставляли никакого другого выбора, кроме проводки под деревом – сидя на стволе, с обеих сторон максимально притапливали ногами лодку, по шажку перемещая вперед… Два-три раза Белоядову и впрямь пришлось, стоя в лодке, топором «рубить сук, на котором сидишь» – пока, облегченно вздыхая, освобожденная байда ни срывалась с места… Неожиданно опасным препятствием стал единственный встреченный за день мост: полуразвалившуюся шеренгу бревен, совсем низко нависших на водой, взяли сходу, разогнав на течении байду и в последний момент дружно повалившись на сиденьях вперед, вдавив себя внутрь вровень с бортами, закрыв глаза и молясь, чтоб пронесло…
Полегчало лишь в первых сумерках.
Река успокаивалась вместе с медленным угасанием дня. Работы в лодке поубавилось. Ежась в сгущавшейся над водой прохладе, Егорыч подумывал о ватничке, покоившемся в мешке-серебрянке прямо под ним, смягчая жесткость и увеличивая высоту сиденья. В животе нещадно урчало, особенно после каждого заявления Белоядова о том, что «еще вон до того поворота, и на сегодня все!..». Тех поворотов пройдено было уже с десяток.
У новых друзей Егорыча сил оставалось тоже не много: весла все реже уходили в воду, во все еще неспокойном, но теперь свободном от деревьев потоке байда плыла сама.
– Все, Алекс! – подал с кормы голос Вульф. – Смотри: слева пристаем, разгружаемся, перетаскиваем все направо. Там явно стоянка приличная. Не зря ж люди мосток сооружали…
Сужавшаяся впереди река была перегорожена парой толстенных елей, посредством надстроенных перил превращенных в мостик, соединявший голый левый берег с высоким старым ельником, стоявшим справа по борту.
– Да ты что! – возмутился Белоядов. – В этой чащобе ночевать?! На дороге?! Мост – это ж явно местных работа! Сейчас как на салазках под мостиком проскользнем (помните, как мы лихо тот широкий сделали?), и – в первом же светлом березнячке… как белые люди…
– Ты хоть один березнячок за весь день видел?.. – сдавшийся Вульф уже высматривал проход под приближавшейся преградой.
Понимая, что вмешиваться бесполезно, Егорыч помалкивал.
«Как на салазках» не получалось: ни справа, ни по центру прохода не было. Даже у самого левого берега мосток нависал над водой слишком низко… Сужение реки резко ускорило водный поток. Почувствовав, что лодку вот-вот подхватит, как перышко, изо всех сил заработав веслом, Вульф успел подогнать байду под левый берег: он и Егорыч сходу ухватились за корни одинокой ольхи, на их счастье торчавшей над самой водой. Справа по борту мощно катила вода. Прямо перед носом лодки шлагбаумом перегораживал путь еловый ствол. Ровный шум переката (правая часть русла была загромождена выступавшими из воды валунами) перекрывал голоса.
– Ну, что, Алекс! – напряг голосовые связки Вульф, запарившийся за день в борьбе с течением. – Выгружаемся!
– Подайте нос вперед, сколько можете! – скрючившись, Белоядов примерялся к оставленному мостом зазору.
Егорыч с Вульфом перехватились по корням руками. У Егорыча корни кончались. Он держался теперь за последние. Лодка уже глубоко вошла под ель носом – спина скрюченного Белоядова, проявлявшего чудеса гуттаперчевости, терлась о зажимавший ее ствол.
– Ну, что, Алекс?! – услышал Егорыч, завороженно смотревший в летевший справа водный поток. – Кончаем фигней заниматься! Еще, худо-бедно, можем назад сдать!..
– Отпускай!.. – просипело оттуда, из-под ели.
Не поняв, решился ли скомандовавший Белоядов на проход или его зажало и почему тогда «отпускай», мало что уже соображавший Егорыч выпустил корни из рук.
– Да ты что, Алекс! Тут течение такое – никаким веслом… – начал Вульф…
– От-пус-кай!!! – надрывно понеслось из-под мостка.
Оживший вместе с лодкой Егорыч с каким-то «предсмертным удовольствием идиота» наблюдал быстро закружившийся пейзаж – отгоняя от берега освобожденную корму, поток стремительно разворачивал лодку поперек течения! Боком, на манер карусели, прокатив до еловой преграды, ударившей и завалившей Егорыча, байда легко ушла из-под ног! Секундная невесомость в голове: «Не может быть!..» – обернулась ледяной, по грудки, водой, летейским холодом окатившей сердце. Правее, почти по центру реки, вынырнул с перекошенной рожей Вульф! Не чувствуя тела, не понимая, идет он или стоит, стоит или несется сквозь него водный поток, Егорыч перебирал по дну ногами. Бегавший по пояс в воде Белоядов, выскочив на берег, устремился за мост – встречать выползавшую полузатопленную байду.
Ошеломленный, цепенеющий на берегу Егорыч в полных воды сапогах переводил взгляд то на Вульфа, несущегося вдали по склону за уплывавшим по реке веслом, то на Белоядова, быстро таскающего из воды мешки и вещи…
– …Чего?
– Корму, говорю, бери!
Поочередно приподнимая корму и нос перевернутой байды, ворочая с борта на борт, выливали последнюю воду.
По мостику бегом перетаскивали вещи в ельник.
Бережно переносили лодку.
– Ты еще в мокром, Егорыч?! – возмутился Белоядов. – Ну-ка, быстренько! Сейчас такой костерок разведем – мигом кальсоны твои ватные высушим! На, на! Держи!..
В телогрейке на голое тело, в тонких синих подштанниках, извлеченных из сухого мешка-серебрянки, стоя босиком на «седухе» – полипропиленовом подспиннике, ворочая кадыком и выкатив из орбит глаза, Егорыч приканчивал (или она его) синюю эмалированную кружечку спирта…
– «Отпускай»… – прикрываясь точно такой же кружечкой, давился тихим смешком Вульф.
Белоядов с топором хаотично, как в опыте, демонстрирующем броуновское движение, бегал под елками.
В сгустившейся темноте укрытая рыжей хвоей гора веток затрещала, задымила и, словно сдаваясь, выбросила кверху пару огненных рук!..
С одной стороны костра на кольях, расставленных полукругом, сушились шмотки. С другой возлежали-воссиживали на туристских ковриках путешественники с краковской в руках. На расстеленной газете возникла извлеченная Егорычем из «пакета-ссобойки» пара бройлеров, ужаренных до размеров рябчика.
– Настреляли мы ворон / к Дню благодаренья… – прокомментировал Вульф.
Располовинив птицу ножом, поставив на попа обе задние части, он ткнул рукой, обращаясь к спутникам:
– Подпись: «Найди десять различий».
В другой раз подавившийся бы от смеха, Белоядов сосредоточенно наполнял кружки из заветной фляги.
– «Ну, Лара, ты даешь!» – сказал Живаго и упал… – заглянув в кружечку, восхитился Вульф…
…выпил и, с масляными глазками повернувшись к Егорычу, притянув, занюхал его волосами.
– А как можно поэзией заработать? – высвобождаясь, спросил Егорыч.
– Из всех искусств для нас безусловно важнейшим являются деньги, – отерев усы и бороду, произнес Вульф.
– Он поэт-песенник, – пояснил Белоядов.
– Самое страшное – аванс, – уставился в темноту слабо закусывающий песенник с синей кружечкой в руке. – Самое страшное – на заказ. Я и так – на заказ. Жизнь – заказ. Сочинительство – процесс. В отличие от жизни, не должно быть результата («все мы хорошо знаем, чем все это кончается», да?). Сочинительство – растущее ощущение сопричастности к бесконечному процессу, и пойманная в сети фраза, стих, строфа – не результат, нет. Здесь что-то общее со струнами, «чувствующими» (в кавычках) бра́ну. «Война и мир» не могла не появиться, существовала (как ты говоришь: возможность), потому не могла быть сочинена – только изложена, увидена, описана. Не сочинена! Текст «Войны и мира» – материя. Тексты – то, что напрямую, без посредников, и это – главное. «А я так думаю: надо два (Лолита – Гумберту в фильме)… Я сказала: два доллара… – Хорошо, два». Напрямую. Это нельзя не почувствовать. То, что сделано напрямую. Что делали Пушкин, Пруст, Пастернак? Подключались к внутреннему каналу. Минуя знания человеческие. Последние важны и непременны, но не дают ничего кроме самих себя. Заемность – смерть. Высмотри свое. В себе. Мы – земное воплощение своего идеала, версия, верно ты сказал. Потому даже самое глубокое понимание – не выбор. «Я всегда шел против течения…» Да не против, а по. По течению ты шел. Твое течение – в генах. Нет выбора. Но версия – есть. Главное, чем мы, версия, занимаемся – стремимся слиться со своим, как там у тебя?.. исходником… идеалом, включая вторую свою, прекрасную половину. Отсюда – красота, идеал красоты. Красота – путь к самому себе, целому, исчезновение, растворение. Возвращение. Через глубоко личный канал. Главное – внутренний канал. Все перед ним меркнет. Это – главное. Всё – изнутри, из тебя самого, мир реализуется через твой разум. Твой, не чей-то. Не оглядывайся, слушай себя. То, во что вслушиваешься по-настоящему, – черная дыра, за которой мир. Без тебя, но ты его часть. Парадокс. Сознание – черная дыра между «сейчас» и «всегда». Там что-нибудь осталось? Во фляге?..
– Струны, чувствующие, как?.. брану?.. Это что-то из гитары? – подал голос Егорыч, отказавшийся от спирта в пользу Вульфа.
– Долгая песня, – отозвался Белоядов, завинчивая полегчавшую флягу.
– Ты куда-нибудь за десять лет на «Таймене» опоздал? – услышал Егорыч уже знакомую фразу.
– Вот к этому мостику, – вытянул Белоядов руку в сторону реки (хотя точно сказать, где река, Егорыч сейчас бы не смог).
– Ра́зве что… – поднес кружку ко рту Вульф. – Ху-у-у… Поведал бы нашему юному другу. Заодно бы и я… амбары проветрил.
– Ночь, оно конечно, долгая… Голяком на морозе дремать – не вариант. Спальники подтекли. От костра на полметра – холод стеной… – снова вытянул руку в сторону Белоядов. – А фляге – амбец… Исходя из «гитары», начинать, полагаю, придется с самого начала? «Есть ли жизнь на Марсе?»
– И чем запивать? – вставил, покачнувшись, Вульф.
– Сметайте-ка всё со стола. Чтоб пусто было. И эту, к Дню Благодаренья, тоже… Егорыч… Лезандр… По кусочку – и дело с концом… Ну, куда руки об фуфайку, салфетки ж есть!..
В наступившей тишине за деревьями ожил голос реки, звучавший на перекате… Еловая глушь, расступившись над полуночниками, открыла украшенную редкими блестками черноту, кажущуюся еще чернее и неподвижнее на фоне обступивших поляну стволов, здесь, внизу, освещенных светом костра. Тихо горевшие на немыслимой высоте звезды почему-то наводили на мысль об ожидавшем назавтра по-настоящему теплом дне.
– Инфляционная теория… – осторожно начал Белоядов.
– Теория Большого взрыва… – бросив на Егорыча нетвердый взгляд, пояснил изрядно захмелевший поэт-песенник.
– …постулирует что? Что взорвалось? Взорвался бесконечно малый, условно говоря, супер-кристалл из четырех сил: электромагнетизм, гравитация и два ядерных взаимодействия – сильное и слабое. Резерфордовский атом представляешь? – ну, вот, в ядре – взаимодействия. Идея Эйнштейна в чем? Связав все эти силы одной формулой, описать этой формулой все мироздание, практически вывести мир из одной геометрии. В чем проблема? Гравитация, представляющая собой искривление пространства, никак не соединялась с тремя остальными силами, описываемыми квантовой механикой. В одну формулу. Не хотела. Это запев. Теперь дальше.
Лет эдак тридцать с гаком назад стало ясно, что теория поля не объясняет сильного взаимодействия – силы, соединяющей частицы в одно атомное ядро. В теории поля элементарные частицы – бесконечно малые величины, практически ноль, в формулах есть деление, на ноль делить нельзя. Доступно трактую?.. Вместо ноля (то есть вместо элементарных частиц) подставили в формулы коротенькие такие отрезки, назвали струнами, полевая теория стала струнной. Струны же – это нечто вибрирующее и издающее элементарную частицу. Ну, как струна, вибрируя, издает ноту, так и тут: нечто, чего просто так не ощутишь и не увидишь, – издает доступную нашему «уху и глазу» элементарную частицу. Ну, как, как?! Частицу прибором ловишь, а струну нет. В формуле наоборот – никаких частиц, одни струны… Не пытайся понять больше чем следует. Мы привыкли работать с воображением, представлять себе всё как винтик и гаечку, петельку и крючочек, а струны на этот зуб (я имею в виду воображение) не попробуешь. То есть, они, скорее всего, реальны, да вот у мозгов ничего посильнее воображения на сегодня нет. То есть, есть, но это – та самая математика, о которой я толкую. Дальше рассказывать?..
Во-о-от. Подставить струны в формулы подставили, да только, чтобы струна могла воспроизвести ноту (то есть элементарную частицу), она должна была вибрировать в страшно многомерном мире: одно время и двадцать пять этих… длина, ширина, высота и так далее… Так из формул вытекало. Вторая реальность, въезжай: одна реальность – в ощущениях, вторая – в формулах. И они идут навстречу друг другу.
Потом стало ясно: изо всех вариантов реально работают только пять. Потом дошло: все пять – один и тот же. Короче, родилась М-теория: в основе мироздания – мембраноподобные объекты, существующие в одиннадцати измерениях (одно время, одно всеохватывающее пространственное измерение и в нем – девять пространств: длина, ширина, высота и так далее…). Название такому мембраноподобному объекту – брана. Ноль-брана – точка, один-брана – линия, два-брана – плоскость, три-брана – трехмерное пространство (граница тела есть поверхность, да?), дальше пока – теория.
Среди бран самая интересная – так называемая D-брана, взаимодействующая со струнами. Пять лет назад, в девяносто восьмом, один очень… ну, очень уважаемый в нашем деле товарищ посредством D-браны математически соединил обычную четырехмерную квантовую теорию поля с супер-струнной теорией. Чувствуешь?.. Да, я не сказал: супер-струнные построения корректно включают в себя гравитацию, поскольку предполагают существование гравитона – невесомой частицы со спином, равным два. Спин? Аналог вращения в квантовой механике. Ну, это уже детали, после фляжки этого… То есть, что произошло? Возвращаясь к тому, с чего я начал: гравитация и три остальные силы исходного супер-кристалла, взорвавшегося в Большом взрыве, вписались наконец в одно уравнение. Я, конечно, утрирую, говоря об одном уравнении, но главное – суть: мы сильно приблизились к формуле, описывающей мироздание, выводящей все из единого начала. Практически, из самого себя. Выводящей. Мир…
– Ты сказал, – не дождавшись продолжения, подал голос Егорыч, – что струны реальны. И что только математически…
Приложив палец к губам, Белоядов указал на Вульфа, давно уже спавшего у Егорыча за спиной.
– С одной стороны, струны реальны… – перешел на шепот Егорыч… – а с другой, их увидеть нельзя. Но представить не глаз, а какой-нибудь супер-глаз будущего, который их увидит, представить-то можно?
– Хороший такой вопрос обывателя о реальности формул… Значит, о реальности. Кое-кто всерьез занимается струнами как реальными дополнительными измерениями, пронизывающими мир. Полагают, что струны в триллионы раз меньше атома, а чем меньше предмет, тем большая нужна энергия, чтоб его увидеть. Возможно, чтоб узреть струны, не хватит всей энергии Млечного Пути. Другая реальность – браны. Струны липнут к D-бране, как насекомые к паутине. Наша Вселенная может быть трехмерной браной, к которой прилипла материя. Почему гравитация, в сравнении с тремя другими силами, такая слабая?
– Почему?
– Возможно, она свободно переходит с нашей трехмерной браны в четвертое измерение четырехмерно-пространственной браны, теряя силу в нашей трехмерности.
– Ты сказал: наша Вселенная – трехмерная брана, к которой липнет материя. А потом, что гравитация уходит в четырехмерную брану. А эта четырехмерная – не наша Вселенная?
– Четырех… – сладко зевнул Белоядов… – …мерная… Четырехмерная…
– Ты ложись, я за костром присмотрю.
– На плоскости наши тела – фигуры, во времени – их вообще нет, одна хронология… – растянувшись на коврике, бормотал Белоядов. – А информация?.. Чем не проекция пятого измерения в наш мир? Ты в нее здесь зарываешься, как в подушку, – глазами, ушами, а она… она сидит и посмеивается… там, наверху… кто она́?.. нет… не информация… я же сказал: информация – проекция… она – твоя прекрасная половина… идеал, исходник… когда-нибудь сядешь там с ней в обнимочку – и все обо всем до последнего винтика ясно…
– По внутреннему виду, – задумчиво сказал Егорыч.
– Именно. И никакой информации.
– А выше?
– Что?..
– Выше пятого измерения?
– А вы-ы-ыше… а вы-ы-ыше… это когда… куда бы ни… куда бы ни… всё – вниз…
Какое-то время в полной уже тишине Егорыч смотрел в огонь. «Как, интересно, выглядит из космоса наш бивуак?.. этот наш костерок в лесу… огонечек…» – подняв голову, думал Егорыч…
Искры, пролетавшие в опасной близости от спальника, вывернутого к огню клетчато-розовой изнанкой, заставили встать, заняться сложной конструкцией из кольев и поперечин, не очень-то рассчитанной на перемещения.
– А собаке, сынка, все равно… – подал голос заворочавшийся Вульф, и во сне не выпускавший из рук синюю кружку…
Худо-бедно отодвинув спальник от огня, подкинув дров, Егорыч вернулся на место.
Трескотня разгоревшегося костра заглушила шум, доносившийся с речного переката. От поднявшегося жара несколько раз пришлось отодвигаться.
– Значимость стихотворения… – вздрогнувший, обернувшийся на голос Егорыч увидел перед собой сидящего с поднятым указательным пальцем Вульфа, продолжившего: – определяется тем… сколь многое в сколь малое… удалось вместить. Любишь Бродского. Связи, сынка, связи…
– Меня Егорыч зовут, – подсказал Егорыч, предусмотрительно назвав походное, а не настоящее имя, возможно, собеседнику и не известное.
– Одно дело – связи очевидные: оттуда – сюда, отсюда – туда… Средний умишко только тем и занимается – связывает все, что под рукой, на виду. И совсем другое – связи то-о-онкие, дли-и-инные. С головокружительной высоты… во-о-он оттуда… прямо под ноги, под которыми, выясняется, – тоже далеко не твердая, к слову сказать, поверхность… На чем же все держится? На них, этих связях. Проступающих под рукой гения. В гениальной строфе важны не слова. А эти дошедшие до предела зримого, соединяющие всё со всем, связи. Слова исчезают. Уступая сути. Как ты говоришь? Получается, когда любишь, а не наоборот?..
– Любовь – больше любовников.
– Прелесть в том, чтобы не жить этой жизнью. Не иметь этих целей: «Я должен заработать», «Я сделал себе имя»… Что ты заработал, ну что, покажи, вот это?.. Какое имя ты себе сделал, в каких святцах?.. «Быть знаменитым некрасиво…» Но почему?!
– «Позорно, ничего не знача…»
– Но почему?! Почему знаменитым – некрасиво? Не знача? Догадываешься?
– Нет.
– Не расстраивайся. Когда сейчас узнаешь, ты будешь всего лишь вторым. Кто зна́ет… Нет метафоры. Знаменитым, богатым – и всё. Только это. Обращенное к самому себе, к ближним, к толпе. Продемонстрировал, покрасовался, исчез… вместе с толпой и самолюбием. Тогда как человек – метафора. Не сам по себе живет. Не очень-то исчезает… Не иметь этих целей. Не жить этой жизнью. Не ловить себя на ощущении: «начальник – подчиненный»… И – уступать. Во-о-от. Давать любить. Любить – в ответ. У нас вода есть?
– Кончилась.
– Страх. Безденежья. Краем ума понимая, что, появись средства, позволившие бы навсегда забыть об этой самой нужде, страх никуда не денется, перекинется на здоровье – родных и близких… свое собственное. И так далее… Горько наше горе, / горше нет беды: / мы живем у моря, / у нас нет воды, – констатировал Вульф.
– Ты куда?
– Прогуляюсь, – бережно держа в руках синюю кружечку, Вульф потянулся, разминая затекшую спину…
– В чем отличие гениальной строфы? Те же буквы, слова, сентенции. Какова механика?.. Любой самый жалкий стишок – повышенная зависимость слова от других слов. Поначалу наивная: «мишка-шишка». Почти что фонетическое эхо… Но чем больше погружаешься во все это, чем податливее материал, тем больше подключается связей каждого слова со всем твоим опытом, миро-знанием. У гения строфа – Вселенная, уникальная, которая и есть стихи… Механика художественного слова…
Осторожно спустившийся под обрыв к реке, ступивший на камешки Вульф, заглянув в кружку, присел над быстро (здесь, у самой воды, почти неслышно) катившей рекой.
– Ты, наверное, член Союза? – спросил сверху Егорыч. – И курсы какие-нибудь кончал. При Литинституте.
– Союз – он теперь, как наш с тобой электрон: размыт в пространстве. Один говорит: вот Союз! Другой: «Врешь, не возьмешь!.. Вот Союз!» Лично я вижу один выход: ежегодные гонки на яликах на городских прудах. Как Оксфорд и Кембридж. Кто выиграл – тот на целый год и Союз. Или большой осенний сбор грибов. На результат.
С полной кружечкой Вульф вырос перед Егорычем.
– Все приходит… – приблизившись вплотную, обдав потянувшим из кружечки спиртовым духом (мысль о спиртовой реке промелькнула в голове Егорыча), затяжным глотком разделавшись с содержимым, закрыв глаза и задержав дыхание, Вульф замер под открытым над рекой небом… – Все приходит из оригинальных источников, все извлекается гениями из самих себя. Остальное – копирование и повторение. Сопротивляемость внутреннему каналу, именуемому гениальностью, снижается под влиянием страшно растущей в ходе работы над текстом высшей нейропсихической сети. Истина идет порами, каналами в сознании гениев. И несет с собой новую материю. Крайний случай – Большой взрыв. Девяносто людей… девяносто процентов людей не понимают, что означает их День рождения. Каков единственный смысл этого радостного события.
– И что означает? – спросил Егорыч, вместе с Вульфом оглядывая звездные поля, раскинувшиеся над головой. – Каков смысл?
– Земля оказывается в той же точке орбиты своего движения вокруг солнца, что и в день твоего появления на свет… – усмехнулся Вульф… – Небо становится на место. Почти. Поскольку солнце само летит в пространстве… Последний шанс гибнущего человечества – отправить нашу ДНК сквозь черную дыру в параллельную Вселенную посредством сконцентрированной лазерной энергии… Достучаться можно только текстами. ДНК – текст. И «ты ведь знаешь, как скучно хоть кем-нибудь стать» – тоже текст. Практически тот же. Эта фраза лучше нас с тобой знает, куда ей стучать… И это знание – объективно. Помнишь главное, чему научил Бродского Рейн?
– Писать существительными. Глаголов – меньше. Прилагательных – по возможности, избегать.
– А почему, знаешь?
– Нет.
– Не расстраивайся. Когда сейчас узнаешь, ты будешь всего лишь вторым. Кто зна́ет… Потому что стихотворение объективно. Именно поэтому. Существительное называет объект. Не зависящий от нас предмет. Он такой, какой есть, можно его обойти со всех сторон. В глаголе уже есть налет субъективности: каждый по-своему обходит предмет со всех сторон, по-своему воспринимает действие, видя происходящее со своей точки зрения, основанной на личном опыте. Прилагательное же – субъективность во плоти. Даже «большой» или «сильный» целиком вытекают из нашего опыта: большой в сравнении с чем, сильный – сильнее чего?.. Не говоря уже о «розовый» и «кислый», «соленый» и «голубой»… Вот так. Стихотворение – объект. Чудом извлеченный из небытия. «Вот это и зовется “мастерство”». Это и есть ощущение «кисточки, оставшейся от картины». Больше того, стихотворение – не просто объект, оно объект, с которым ничего нельзя поделать. Стихотворение неоспоримо. То, что невозможно оспорить. Сама попытка уничтожает. Пытающегося. Можно обижаться на него, сражаться с ним, не замечать его – оно неоспоримо. Как Земля. Как звезды. Как белеющий парус. Доходит до того, что оно, стихотворение, неоспоримее нас с тобой… до вопроса: кто смертнее?.. Человечество и стихотворение – на одних и тех же весах. Физическую формулу, е равно эм цэ квадрат, можно оспорить. Стихотворение – нет. Это означает, что наша, человеческая, цель – не физическая формула… Время – нечто конкретное: плывущие облака, волнующееся море, полощущееся белье… Есть сильное время, есть слабое… Нет более сильного времени, чем идущие на свет стихи…
Ребенком, просыпаясь среди ночи, на обратном пути из туалета в кровать каждый раз полусонным задерживался у своего отражения в окне, переживая всю абсурдность положения жалкого, крохотного существа в трусах в темном комнатном аквариуме, окруженном океаном звездной ночи, в котором любое настоящее, не-аквариумное существование казалось практически невероятным; подозрение: все не так, как видится и представляется, так быть не может, – провожало до самой постели… Несколько раз пережив момент перехода от яви ко сну и обратно, лежащий на коврике у костра Егорыч перестал удивляться осознанию этого перехода. Реальность наполняла чувствительностью и эмоцией, будившей мысль; сновидение – действием, бесчувственным, сдобренным одной совершенно непролазной «логикой» (последнее из подступивших к Егорычу сновидений являло собой диалог как бы Белоядова с как бы Вульфом: «На то, чтоб поставить “Морозко”, вам нужно четыре года?! – Все должно быть хорошенько подогнано»). Во сне – говорилось и делалось, ставились и достигались цели. Наяву все было пронизано запахом хвои, благодатным гудом тела, оставленного наконец в покое, и тишиной, усиливаемой редким потрескиванием дров в костре, – ничто из этих ощущений в сновидение не проникало: понимание своего бодрствующего состояния переходило в понимание засыпания, отступая – выводящего прямиком на очевидную абсурдность четырехлетнего срока репетиционного периода спектакля «Морозко».
Речи и действия там, во сне, представляли собой плод ума, лишенного чувства, не нуждавшегося в наслаждении покоем, запахом и головокружительной тишиной, ума, перешедшего на нелегальное положение, начинавшего плести бесконечную, неуловимую нить подпольной интриги. Тогда как чувствительность, рождавшая мысль наяву, была плоть от плоти стоявшего над головой, лежавшего под ногами мира. Обе вещи – осознанная реальность и виртуальность сна – возникали в одном и том же «трехмерном» (по Белоядову) сознании, при «отключении» мира способном лишь на своевольную заумь.
«Робот не будет думать потому, что при его изготовлении используют длину-ширину-высоту и время, а мы с тобой мыслим потому, что сделаны во всех измерениях: и в этих четырех, и в остальных – во всех сразу…»
Вот оно что… Часть не только мира тел, но всего мира, со всеми его, согласно М-теории, измерениями – чувства, эмоции и вытекающая из них мысль – десятимерны… Сновидения – трехмерны… Менделеев увидел свою таблицу не во сне, а уже на чудесной границе между сном и явью…
Чем так поразительны сегодняшние синие склоны? Что вызвало эту невесомость в груди при одном на них первом взгляде?.. Узнавание. Возвращение. К себе. В безопасность. В безвременье. Каждый фрагмент которого неуязвим. Воображение и зрение – равноценные органы чувств: зрением охватываешь эту сторону, воображением – ту. Можно видеть (осознавать) себя. Можно терять себя из виду (мысленно, во сне или когда-нибудь насовсем). Но чего-то нельзя. Никогда, как ни старайся. Чего?.. Исчезнуть. Бесповоротно. Внутренняя среда и внешняя, мир и ты – сообщающиеся сосуды, наполненные существованием. «Аквариумный мальчик» – своего рода шутка Вселенной, принявшей эту позу: нога за ногу, ручки к груди, рот и глаза – настежь. Кувырок в невесомости. Чтобы спасти мир, надо погибнуть… Откуда это? Очень знакомо…
Смысл «уравнения»: одна часть, формула, уравнена с другой, реальностью. Уравнены. В правах. Главное, что можно сказать о реальном мире, мире предметов: точно сформулированный, он возникает.
Вот формула сливается с веществом… Не на нашем уровне, не в нашей трехмерности, а там, где они уже – не формула и не вещество, не эти проекции в наш телесный мир, работая с которыми, математика лишь моделирует их слияние в виртуальности, пытаясь стать изображением и оставаясь все той же приспособленной к нашему зрению и воображению математикой… Формула и то, что она выражает, – друг в друге: часть, член уравнения уже не формула… и наоборот, часть реальности – член уравнения… (мечта Эйнштейна о происхождении мира из чистой геометрии)… реальный мир столь же существует, сколь и нет… Ощущение, единственно ведущее прямиком к ответу на вопрос, почему он, мир, вечен, почему он не возникает и не исчезает. Может быть, именно потому, что его в какой-то мере нет. То есть существует он не в той степени, в какой это представляется нам. Тогда наша способность к выдумке – подражание ему, миру. А не наоборот (дрожь по спине)… Формула, способная к воображению (дрожь по спине… перевернуться на другой бок, подставив спину теплу)…
«Я прямо как верующий, – в очередной раз переставая понимать, спит он или бодрствует, думал Егорыч. – Так спокоен насчет того, что называют концом. Там, впереди. Больше нет страха. Ни перед чем…»
Блестевшая река, перекатываясь по камням, напевая, убегала за мосток. В двух шагах от воды, на длинном, ядовито-салатового колера, коврике, лицом к лесу, спиной к разгоравшемуся солнцу, возлежал новообращенный водный турист в телогрейке на голое тело. Рядом с рукой сладко спавшего валялся на земле карандаш. Прямо за спиной, наполовину придавленная, волновалась на ветерке, так же как убегавшая и не способная убежать река, – перелистываемая и остававшаяся все на одном развороте тетрадка… Стихший ветер отпустил волновавшийся тетрадный лист, медленно изогнувшийся, приземлившийся… В неподвижной целостности отдельных частей при скрытом от глаз общем движении отсюда «куда-то туда», в будущее, – все составляющие были схвачены наконец виртуальной рамой в пейзаж, сфотографированы: солнце, лужок на противоположном берегу, лес, река и эта исчерканная страница, на которой, худо-бедно, можно было разобрать:
Душе в ее беспредельности – «здесь» –
как бабочке в темноте – свет:
шуршит на свету, думая, что она есть,
потом будет думать, что ее нет…
Дневник новообращенного водного туриста
(2003-2008)
Декабрь. Тихо, «перебирая пальцами», за окном шевелились снежинки, и мне казалось: они плавают в моем сердце – настолько было там, за окном, сладко…
Элементарные частицы – ноты, воспроизводимые струнами. Мир поет. Переполнен Музыкой любой водоем. Любые мозги. И самое интимное – все это настолько же есть, насколько и нет: и мир и мозги – Формула, ставшая явью, оставаясь Формулой. Сознание – реальность предполагаемая, чаемая миром больше себя самого. Все это – поэзия, интерпретация Музыки на отдельно взятом инструменте в замкнутом помещении. Но даже этот камерный вариант проявляет однажды, до потопа и радуги, сказанное: «…всякая плоть извратила путь свой на земле».
Отчасти то, что в голове, перевешивает Вселенную. Для этого «отчасти» оно и существует. Как это просто и элегантно – вывести существование мира и себя из не-исчезновения и не-возникновения. Мир существует вечно, то есть не возникает и не исчезает, только в одном случае: если его в какой-то степени нет. В той же, в какой он есть. То есть, если существует он не в той мере, в какой представляется нашему воображению. А наполовину. Само наше воображение – наполовину. Наполовину наше.
«Путь плоти на земле» – этот путь Ньютона, Эйнштейна, Человека М-теории. Путь, соединяющий время с воображением, оживляющий воображаемую реальность. Но воображение не имеет границ и запретов. Ничем не отгороженное от вещества, оно отдается ему с тем же рвением, что и решению Уравнения: «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время». Язык живота и язык математики. Из двух остается один. Все языки возвращаются. Воображение кончается математикой, через которую – путь к слиянию с миром, с сутью вещей. М-теория оперирует не двумя-тремя, а десятком измерений. Чем ближе к Формуле – тем дальше от нашего уютного воображения. Въезжающий в многомерность на языке математики перерождается сам, вплоть до утраты голосовых связок. За ненадобностью. Впереди – не русский язык и не английский. Не живот и не голова в ее сегодняшнем трехмерном виде. Вот что такое разум, что такое со-знание, идущее к Знанию.
***
Октябрь. Будет ли в конце концов на пере у гения Формула, это Уравнение, где-то там, в высших сферах напрямую сливающееся с тем, что оно выражает, или не будет – не так уж важно. Важно само наше движение к нему, наш вклад в это движение, сопричастность. Важно наше чувство Формулы, которое и есть – смысл. Которое – красота и любовь (в какой все – приблизительны и всегда).
Отсутствие этого чувства – пустота, наполняемая разрушением, войной, рефлексией – ничего в принципе не меняя (нельзя разрушить то, что есть лишь наполовину), выражает бессилие. «Призрел» или «не призрел» Господь – наградил глубоким истинным чувством, способностью любить (как у Толстого – Наташу Ростову) или же бесчувствие-бессилие-пустота стоит в тебе (как в Анатоле Курагине) поднесенным к лику Творца (кем?) зеркалом: смотри что за уродца Ты сделал по образу и подобию Своему.
***
Ноябрь. Что делают свет, звук с миром? Меняют ли они его суть, ткань? Можно видеть, слышать. А можно видеть мир освещенным как не-освещенным, видеть нечто столь же большее, как свет больше тьмы. Математикой здесь, как и пятью чувствами, не обходится.
Как весь единый огромный мир – сумма частностей, звезд и бездн, так и стоящий перед этим миром его двойник – сознание – сумма множеств. Твой мир и твое сознание, то есть видимое сознающему и осознающее видимость – две частности, два малых фрагмента глядящих друг в друга бездн. Слияние ваших взглядов – пространство-время, движение, жизнь, версия. «Рождение» – появление версии, «смерть» – исчезновение: Формула соединяется и разлучается с миром способом «твоей» жизни. Выход внутреннего из личности – не телепортация, а перемещение с одинаковой вероятностью – сознания в реальном мире и реального мира в сознании. Мир внутри и мир снаружи перестают быть фиксированными – первый шаг к их слиянию. Одно дело – сознание, перерождающееся, погружаясь в математику, и другое – взгляд неперерожденного сегодняшнего сознания на все это со стороны, когда ясно: Формула, невидимая, существует. «Ничто» невозможно в той же степени, что и мир. То же самое – с жизнью и смертью. Или ты движешься, и тогда ты есть, или останавливаешься, и тогда тебя нет. Но в обоих случаях это – ты.
***
Декабрь. Извивающаяся лента тепла, видимая в тепловизоре, – что это: горячая вода в шланге или живая змея? Все, что мы видим, – мы видим снаружи. Наши ощущения и мысли – снаружи. А изнутри – и есть мир на уровне объяснения (смысла).
Что если смысл разделения мира на внешний и внутренний – возникновение в их слиянии ощущения в виде его уникальной модальности, не принадлежащей ни внешнему, ни внутреннему. То есть больно не мне и не миру – больно вообще. И из-за этого вообще все и существует; из развития этого вообще – Формула. Тогда взаимодействие двух половин целого (реальности и сознания, мира и его образа) – это не взаимодействие, это источник всего, самих этих двух половин. Чувство боли – источник нервных структур и непереносимости внутренним внешнего.
***
Февраль. Если цель сновидений – «высвободить из глубины подсознания истинные стремления человека», стоит подумать о том, кто их туда вложил.
***
Март. Устройство реальности и виртуальности схоже: реальным объектам в реальной бесконечности соответствуют локусы сознаний в бесконечном воображаемом мире – результат прорастания реальных живых существ в виртуальность. Реальность течет от условного начала, виртуальность – от условного конца (эти начало и конец – одно и то же). Как течет от начала реальность (инфляция, рост энтропии, «ничто»), мы усвоили. Виртуальностью же движет противоположная сила, ведущая к росту информации, обретению Формулы виртуальными локусами сознаний и, через это, – к проникновению сознания во все пространство-время сразу, то есть к выходу из «ничего» во «всё» – в более глубокое, надвременно-надпространственное измерение. В рамках отдельно взятого локуса виртуальности эта движущая сила – личное желание, истинное стремление человека, таящееся в глубине его подсознания. Не бесконечно нарастающий хаос трехмерной Вселенной толкает нас «сзади», из прошлого в настоящее, а возможность преодоления этой мировой тюрьмы (от Взрыва до вселенского небытия) тянет наше сознание «спереди», из настоящего в будущее, формируя главное личное желание отдельно взятого человека, его тайное подсознательное стремление. Это стремление проявляется уже в виде тяги малыша к чему-то определенному, малопонятному родителям. Виртуальность через взаимодействие с генами формирует главный побудительный мотив, главную движущую силу зарождающейся личности: тебе надо вот это! Кому-то – не много, кому-то – всё (здесь проявляется «величина» человека, широта души, «величие замысла»). Всё и не меньше! Великие, ничтожные – определяются не столько генами, сколько взаимодействием генетической программы с основным виртуальным запросом личности, сформированным в подсознании. Это нелегко осознать, с этим трудно согласиться. Но это так. Жизнь по закону шедевра. «Человек радуется, когда его память подсказывает то, что уже было ему когда-то известно», – дошедшее до нас из древности толкование познания как узнавания. С младенчества идеальный мир зовет нас. Не слабее, чем разрешают гены откликнуться на этот зов. Когда этот генный отклик «сбоит», возникает невроз с подменой реальности болезненной фантазией. Когда не гены, а суровая реальность противодействует идеалу – вы или ломаетесь, или становитесь персонажем романа – Гамлетом, Анной Карениной, Настасьей Филипповной: главные литературные герои – души, рожденные не в том месте не в то время. Отдельные «персонажи романа» дорастают до способности художественного освоения этого своего опыта, то есть до авторства: литературные шедевры, шедевры вообще – кратчайший путь к Формуле, средство тяги «спереди».
Генный отклик «сбоит» – это идеал выбрал не те гены. Если гены совсем плохи, действие на них идеала только усиливает это «плохо», превращая человека в носителя зла. Зло в человеке – выражение генетической недостаточности, ненаделенности рецепторами к идеальному запросу («жить по закону шедевра»). Человек – реально-виртуальный, генетически заданный сгусток, движимый тягой к постижению «всего». Это постижение нисходит через любовь в виде чувства над-реальности, испытываемого на пару, или через метафизику – то же, в одиночку. Носитель зла – бесчувственный комок вместо сгустка проходящих друг сквозь друга «световых» полусфер реальности и виртуальности.
Что за полусферы?
Возможно представить наш мир как картину двух идущих одно сквозь другое морей – реального и воображаемого, неравномерности ткани которых создают области повышенного трения, выражающие себя в поиске ощущения, в предощущении, в конце концов – в самом ощущении, дорастающем до понимания. Реальность отвечает на искомое ощущение рождением живого тела, виртуальность – рождением образа реальности в этом теле. В более глубоком измерении этого прохождения двух морей (как бы полусфер неких светящихся лучей) друг сквозь друга – не существует, там всё и вся сразу: морей не два, оно одно, спокойное и неподвижное. Здесь же, в реально-виртуальном мире предметов, рождаемый локусами трения двух морей поиск ощущения, дорастающего до понимания, приводит к тому, что отдельно сознающему виртуальному сгустку реальность его самого видится как последовательность событий: небытие – рождение – существование – смерть – небытие. Этот же цикл применяется им и к его сознанию. На деле, и реальный, и виртуальный материал сгустка – трение, взаимодействие неподвижных светящихся морей, выражающееся в ощущении, из которого вырастают: по одну сторону – мир, по другую – его образ, а вместе – сознающий субъект в объективном меняющемся мире. Что такое этот рождаемый трением морей поиск ощущения, из которого все и возникает, практически равный одной лишь возможности нашей четырехмерной Вселенной и нашей собственной жизни? Проще всего сравнить этот поиск с возможностью раскрыть закрытую книгу и начать читать. Весь наш мир, эта изменяющаяся во времени пространственная трехмерность – книга. В начале было Слово. Наше собственное существование – книга. Мы рождаемся, когда «открывают» книгу. Умираем, когда «закрывают». Нас читают. Даже когда мы читаем сами себя – вспоминаем события нашей жизни – читают на́с. Все, что с нами происходит – чтение. Кто же читатель? Не кто, а что. Нас «читает», то есть целиком от начала до конца содержит, более глубокое измерение – суть вещей. Наше существование в виде готовой, законченной книги и есть чтение. Воланд в «Мастер и Маргарита», взяв роман, моментально его прочел. Что при этом происходило? Герои книги жили, события совершались. То есть, кто они, герои книги? Кто мы со всеми нашими генами и что он – наш мир со всеми его бозонами? Всего лишь четырехмерная (длина-ширина-высота и время) проекция многомерной (десятимерной) сути. Практически, текст на плоскости.
***
Декабрь. Реальность и виртуальность стремятся соединиться в стихах, музыке, любви, научной теории. Сами по себе живописные полотна, сонаты и сонеты ничего не значат. Их художественные достоинства – достоинства средства, открывающего цель, а цель – то, что за, то, что за ними, реально-виртуальная десятимерность, единое и не делимое на зрителя и пейзаж: красота. Нобелевский лауреат Поль Дирак: «Гораздо важнее добиться того, чтобы в уравнениях присутствовала красота, чем добиться их соответствия экспериментам… так как несоответствие (экспериментам) может проистекать из-за того, что не были учтены (при составлении уравнения) те или иные незначительные детали, которые так или иначе будут выявлены в процессе дальнейшего развития теории… Представляется, что именно тот, кто работает, исходя из стремления добиться красоты в составленных им уравнениях и кто руководствуется внутренним импульсом, выбрал линию, которая действительно является направлением прогресса».
***
Январь. Разница между реальностью и виртуальностью сводится к не-выдуманности первой и выдуманности второй. Выдумано – не выдумано. И там, и там – реальность. Но что такое выдумывание? Скольжение по версиям, проявляющимся на глазах, и выбор одной, в ущерб остальным. Вот почему мир предметов в принципе может быть выдуман из квантового неопределенного мира. Стабилизация объектов, начиная с атомов, вследствие потери элементарными частицами версий при столкновении с версиями других элементарных частиц – выдумывание.
Само ли по себе происходит выдумывание или есть «выдумщик»? Сквозь кротовую нору можно попасть в другую Вселенную – в реальность, не знающую соседней. Но кто будет попадать? Кто этот теоретический «попадальщик», осознающий обе реальности – исходную и искомую? Существование его означало бы единую и неделимую мировую виртуальность, связующую реальные измерения.
Человек – сознающий объект – объективен, то есть реален, и сознает, то есть виртуален. Он – связь реальности с виртуальностью, он все глубже погружается и в то, и в другое. На определенной глубине этого погружения становится неважно, где виртуальность, где реальность. Эта глубина и есть Формула.
Виртуальность, воображаемый мир, побуждающий нас слиться с ним целиком, тянущий в себя «спереди» наше сознание, – это десятимерность в четырехмерном, таком же выдуманном, мире тел, десятимерность нашего сознания в нашем четырехмерном теле.
Доктор виноделия
(2008: события одной недели с флешбэком в 1991)
– Бред! – дослушав «Дневник туриста», откинулся на спинку дивана Белоядов. – Художественной ценности не содержит.
Профессионально декламировавший Вульф, охрипший к концу поочередного, на пару с Белоядовым, чтения вслух «Харона» и «Дневника», по завершении читки наполнил доверху свой пивной бокал…
– Художественную ценность, Алекс… несут в редакцию… или, на худой конец, литературному бонзе «на посмотреть», – оглаживая бороду в после-пивном блаженстве, отозвался Вульф. – А он прислал это мне. Нам.
– Ага. Через пять лет. За это время десять редакций и двадцать бонз обегать – не вопрос.
– С нашими фамилиями в тексте? С доморощенной метафизикой?.. Нет, Алекс, это не для редакций.
– Что это вообще такое? – потряс Белоядов рукописью.
– Приложение к путешествию. Я бы даже сказал: приглашение. К путешествию. Помнишь: «Предложение неожиданных путешествий есть урок танцев, преподанных богом»?.. Ну, еще по одной?
– Я – пас, Лезандр.
Отбросив рукопись, Белоядов уставился на нее. Вульф – на Белоядова:
– Ты когда-нибудь прежде, Алекс, сталкивался с развернутым изложением одного дня твоей собственной биографии?.. Человек конспектирует свое пребывание рядом с тобой, а после – тебе же все это предъявляет. С какой целью?.. Бесцельно – это действительно бред. А цель… – потянулся Вульф через стол к товарищу… – По сути, там что? Если отбросить гребной антураж… слоняться по воде – не может быть целью по определению… если это отбросить, тогда остается…
– …поэзия… М-теория… бред, – загнул пальцы Белоядов.
– То есть, разговоры. Ваши разговоры о физике. Наши разговоры о лирике. И его разговоры с самим собой. Чувствуешь?
– Что я должен чувствовать?
– Что цель… и есть разговоры.
– И… что?
– Ты свободно разглагольствовал о мироздании, я так же непринужденно – об изящной словесности. А сейчас у меня ощущение, что – нет, не свободно, что именно – по принуждению. Что все это из нас с тобой извлекали…
– Так оно так и было.
– …а теперь возвращают. На место. Подредактировав. Я не прав?
– Под-редактировав? Вот это вот – под-редактировав?.. Документалистика! Хроника! Что там под-редактировано?
– Да вот не там, понимаешь. Здесь и сейчас, – постучал себе пальцем по лбу Вульф, – все редактируется. Происходит. Как тебе объяснить…
– Да знаю я, о чем ты сейчас начнешь! Мы ему – М-теорию, он нам – эту… десятимерность сознания! У меня, Лезандр, на десятимерность сознания иммунитет, как на «советскую власть плюс электрификацию всей страны»! В аспирантуре еще: полез один на трибуну. Я, говорит, изобрел метод наблюдения, абсолютно не влияющий на объект. Я встал и вышел.
– Да?.. – наморщил лоб Вульф, наполняя бокал. – А мне показалось…
– Ну, хочешь, я все, что тебе показалось, разъясню? Как сову Шарик! Оставь мне эти «Записки охотника» на недельку, я посмотрю. Со Львом пообщаюсь… В следующую пятницу вот на этом же месте я тебе на пальцах разложу все, что тебе показалось.
– Да бог с ним… – огладив бороду, Вульф выжидательно посмотрел на товарища: – Как насчет «Сизенького голубчика»?..
– Лезандр! В следующую! Пятницу!
– Ну, в следующую так в следующую.
Хорошо зная это внезапно овладевавшее Белоядовым, прорывавшееся во взгляде беспокойство, Вульф потихоньку стал собираться.
Не успела закрыться за ушедшим дверь – хозяин квартиры, плюхнувшись в кресло-каталку, с рукописью в руках подъехал к столу.
В какие-нибудь полчаса разбор текста был завершен.
Скользнув взглядом по истертым корешкам книг на полке, Белоядов подкатил на кресле к шкафу. В заднем ряду по худобе и глянцевому переплету нашарил искомое. Да! То что нужно! Рабочая, над столом, полка – не тот случай. Имея дело с не замутненным формулами сознанием, правильнее пытаться взглянуть на предмет тем же девственным взором.
Прежде всего: отношения мира тел с квантовым миром… Листая, проглядывая по диагонали популярное издание, дошел до кота Шрёдингера, пытаясь «взглянуть тем же взором» – как впервые…
Итак. В закрытом ящике – живой кот и механизм: счетчик Гейгера с радиоактивным веществом, молоток и колба смертельного яда. Колба может быть разбита механизмом, приводимым в действие радиоактивным распадом. Распад носит вероятностный характер: 50/50. Если распад произойдет, молоток разобьет колбу и яд убьет кота; если не произойдет, механизм не сработает и кот будет жив. В квантовой теории не существует «или», этого «распадется или не распадется». Существует «распадется/не распадется» – сразу, слитно, вместе, одновременно («волновая функция распавшегося атома складывается с волновой функцией целого атома»). Таким образом, кот в ящике – сумма живого и мертвого кота. (Ньютон послал бы на хрен). Та-а-ак… Вот: любое тело – сумма всех возможных его состояний… женщина – беременна, не беременна, девочка, старуха, мать – одновременно. Волновая функция женщины. Постановка вопроса ясна. Или не ясна? Кому-то может быть не ясна?.. Да не-е-ет, ну что тут…
Та-а-ак… Копенгагенская интерпретация (Нильс Бор): открываем ящик – или: «Мяу!..», или: мертвая тишина – волновая функция зафиксировалась в одном из двух состояний. То есть, имеется невидимый барьер, разделяющий мир атомов и мир котов: в мире «кошачьего» здравого смысла, в отличие от мира атомов, волновые функции уже зафиксированы.
Но как раз именно «кошачий» смысл, замешанный на сегодняшней, пост-нильс-боровской, физике, стремится преодолеть любые невидимые барьеры.
Значит, что?.. Или всем на свете, включая распад «нашего» атома урана, управляет космическое сознание (бред!). Или все вероятности всего реализованы во множественности Вселенных: при любом квантовом событии Вселенные множатся, и в одной из них кот жив, а в другой – нет. При этом волновые функции множащихся Вселенных теряют когерентность друг с другом, и, например, живого кота, открывая ящик, видим именно мы, а дохлого в параллельной Вселенной – уже другие мы: мы-не мы – так же, как и мы, считающие себя единственными в своей единственной Вселенной.
«Не уплыли мы куда-то туда?.. – оторвавшись от книжки, огляделся вокруг Белоядов… – Не страшно далеки от народа?..»
