Читать онлайн Наши разногласия. К вопросу о роли личности в истории. Основные вопросы марксизма бесплатно
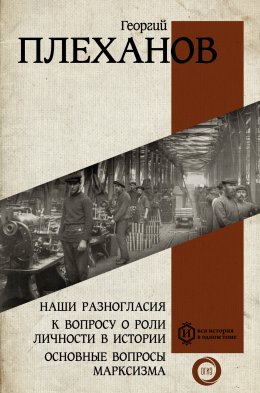
© ООО «Издательство АСТ», 2023
* * *
Г.В. Плеханов и его время
Георгий Валентинович Плеханов (1856–1918) – совершенно новое явление в культурной и политической жизни России конца XIX века. Он стал первым российским распространителем идей марксизма. По существу, он был пионером, пропагандистом новых нравственных ценностей, быстро овладевавших умами многих совестливых россиян.
Это был человек редчайшего интеллекта, обладавший потребностью постоянного совершенствования своих знаний. Окончив с золотой медалью Михайловскую Воронежскую военную гимназию, он поначалу последовал примеру отца – отставного штабс-капитана – и начал учебу в юнкерском училище в Петербурге. Служба не задалась, и молодой человек, расставшись навсегда с армией, поступил в столичный Горный институт, старейший вуз России. Там он был на хорошем счету, получал именную стипендию, которой, правда, не хватало на оплату обучения. В результате в 1876 году он был отчислен из института за неуплату.
Вероятно, на формировании взглядов юного Г.В. Плеханова сказалась и семейная атмосфера. Его отец, Валентин Петрович, был человеком образованным и слыл вольтерьянцем. Мама также отличалась высокой образованностью: обучала детей русскому и французскому языкам, а также географии и математике. Не ускользнуло от биографов и то обстоятельство, что она была внучатой племянницей великого В.Г. Белинского. В юности Георгий надолго был увлечен примером и теоретической деятельностью Н.Г. Чернышевского, что в значительной мере сформировало его последующие революционные убеждения.
Успев окунуться в студенческую среду, Георгий Валентинович проникся революционными идеями, творчески перерабатывая их применительно к общественной динамике. Это позволило ему оценить перспективы марксистских идей, с которыми российские революционеры почти не были знакомы. Эмигрировав в 1880 году в Швейцарию, он получил возможность непосредственного изучения трудов К. Маркса и Ф. Энгельса.
Как и большая часть современников-единомышленников, Г.В. Плеханов компенсировал нехватку формального образования колоссальной самостоятельной работой. Сфера его интеллектуальных интересов была огромна: философия, экономика, социология, этика, эстетика, искусствоведение, журналистика, история общественной мысли, литературное творчество. Во всех этих областях знания он достиг высоких результатов, став, вероятно, крупнейшим теоретиком-марксистом России на многие десятилетия.
Организовав в 1883 году первую в Российской империи марксистскую организацию – группу «Освобождение труда», – он, несмотря на эмиграцию, на практике возглавил в России процесс изучения новейшей общественной мысли – самого передового для своего времени научного взгляда на процесс формирования и развития общества. Вскоре эта марксистская организация выпустила основательный труд – брошюру «Социализм и политическая борьба», совершенно по-новому представившую суть противоборства трудящихся со своими угнетателями. Вслед за ней летом 1884 года была написана крупная работа «Наши разногласия», которая справедливо считается программным документом.
Вероятно, толчком к написанию этой работы стала небольшая публикация известного революционера П.Л. Лаврова в «Вестнике Народной Воли», где Петр Лаврович критиковал программу группы «Освобождение труда». Смелый и искусный полемист Г.В. Плеханов предварил книгу «Наши разногласия» очень корректным, но крайне беспощадным письмом П.Л. Лаврову. В нем Георгий Валентинович образно заявил о том, что потенциал народничества как общественной мысли исчерпан: «Вместе с Александром II динамит убил и эти теории». По мнению первого российского марксиста, прежние революционные идеи «не живут, не развиваются, но они еще продолжают разлагаться, и своим разложением заражают всю Россию, от самых консервативных до самых революционных ее слоев».
«Наши разногласия» – это не только труд, в котором четко очерчены качественные различия между народовольческими и марксистскими идеями. В нем безапелляционно утверждается, что «Народная воля» исчерпала свои теоретические и практические возможности, став историческим фундаментом для марксизма – самого передового идейного течения своего времени.
Но Г.В. Плеханов никогда не забывал об исторических корнях марксизма в России. Хотя опубликованная в 1898 году статья «К вопросу о роли личности в истории» подтверждала этот факт, Георгий Валентинович оставался бескомпромиссен: он решительно выступал против идеалистического субъективизма русского народничества, считая, что дни его сочтены, а будущее – за марксизмом. Практика показала, что он в своем утверждении не ошибался: в ближайшие десятилетия это идейное направление было очень конкурентоспособным, сформировав предпосылки к пересмотру взглядов на процесс дальнейшего развития человечества, что повлекло за собой череду революций в разных странах мира как пролог несостоявшейся мировой революции.
В конце 1907 года Г.В. Плеханов написал статью «Основные вопросы марксизма», которую В.И. Ленин считал лучшим изложением философии марксистской теории. Хотя работа была приурочена к 25-летию со дня смерти К. Маркса, она, как представляется, во многом впитала в себя и опыт Русской революции 1905–1907 годов. Вероятно, в результате у Георгия Валентиновича еще более укрепилась в сознании мысль о том, что марксизм – это не только выдающийся результат работы интеллекта, но и единственно верное практическое учение для людей, стремящихся к преобразованию мира.
Оценивая деятельность Г.В. Плеханова, нельзя не заметить, что его творческие интересы были очень разнообразны. Он умел оценивать события и явления сразу в нескольких плоскостях: с точки зрения философии, экономики, культуры, видя в марксизме универсальный метод преобразования общества в планетарном масштабе.
Г.В. Плеханов был первым российским марксистом, целенаправленно предпринимавшим практические шаги по утверждению этого идейного течения в Российской империи. Об этом говорит его эмигрантская деятельность, в частности создание в 1894–1895 годах «Союза русских социал-демократов за границей», активное участие в 1900–1903 годах в зарождении газеты «Искра». Огромна и его роль в подготовке и проведении II съезда РСДРП в 1903 году. Именно тот год стал точкой отсчета крупных разногласий во взглядах и практических действиях между Г.В. Плехановым и В.И. Лениным. Но если Георгий Валентинович был человеком крайне несговорчивым, вспыльчивым и бескомпромиссным, что существенно дистанцировало его от большевистского лидера, то Владимир Ильич относился к своему старшему товарищу и во многом оппоненту с огромным пиететом, считая его непревзойденным теоретиком и знатоком марксизма. Недаром в 1921 году он написал о том, что труды Г.В. Плеханова о марксизме – «это лучшее во всей международной литературе марксизма».
Публикуемые в этом сборнике труды Г.В. Плеханова – лишь небольшая часть его произведений, часть выпущенного в Советском Союзе в 1923–1928 годах 24-томного издания. Именно публикуемые три работы автора дают возможность проследить динамику его взглядов и уверенность в том, что марксизм будет актуален всегда.
С.Н. Полторак, доктор исторических наук, профессор, член Союза писателей Санкт-Петербурга, главный научный сотрудник научно-исследовательского центра Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина
Наши разногласия
Письмо к П.Л. Лаврову (вместо предисловия)
Многоуважаемый Петр Лаврович!
Вы недовольны группой «Освобождение труда». В № 2 «Вестника Народной Воли» Вы посвятили ее изданиям особую заметку, и хотя заметка эта очень невелика, но заключающихся в ней двух с половиной страниц было достаточно для выражения Вашего несогласия с ее программой и Вашего неудовольствия по поводу ее отношения к партии Народной Воли.
Привыкши издавна уважать Ваши мнения, зная, кроме того, с каким вниманием прислушивается к ним наша революционная молодежь всех оттенков и направлений, я позволю себе сказать несколько слов в защиту группы, к которой Вы отнеслись, как мне кажется, не совсем справедливо.
Я тем более считаю себя в праве сделать это, что в своей заметке Вы говорите, главным образом, о моей брошюре «Социализм и политическая борьба». Ею вызваны Ваши упреки, ее автору удобнее всего и отвечать на них.
Вы находите, что эта брошюра может быть разделена на две части, «к которым», по Вашему мнению, «Вам приходится отнестись различно». Одна часть этой брошюры, «именно вторая глава, заслуживает такое же внимание, как все серьезные труды по вопросам социализма». Другая, значительная доля ее, – говорите Вы, – посвящена полемике против прежней и настоящей деятельности партии Народной Воли, заграничным органом которой имеет в виду быть Ваш журнал. И Вы не только не согласны с мнениями, высказанными мною в этой части моей брошюры, но самый факт «полемики против Народной Воли» кажется Вам заслуживающим строгого порицания. Вы думаете, что «не особенно трудно было бы доказать г-ну Плеханову, что его нападения могут быть встречены весьма вескими возражениями, тем более что, – может быть, вследствие поспешности – он цитирует неточно». Вы убеждены также, что моя «собственная программа действия заключает в себе, может быть, гораздо большие недостатки и непрактичности, чем те, в которых я обвиняю партию Народной Воли». Но для указания этих недостатков и непрактичностей Вы, к величайшему моему сожалению, не имеете свободного времени. По Вашим словам, «орган партии Народной Воли» посвящен борьбе против политических и социальных врагов русского народа; эта борьба так сложна, что требует от Вас «всего Вашего времени, всех Ваших трудов». Вам «нет ни досуга, ни охоты» посвящать долю Вашего издания «на полемику против фракций русского революционного социализма, считающих, что для них полемика с Народной Волей более своевременна, чем борьба с русским правительством и с другими эксплуататорами русского народа». Надеясь, что само время разрешит спорные вопросы в Вашу пользу, Вы не считаете полезным «подчеркивать не особенно значительное разногласие» Ваше с «Освободителями труда» – как Вам угодно называть нас[1] – прямыми ударами, направленными на фракцию, большинство членов которой может быть не сегодня-завтра в рядах Народной Воли. Это превращение «Освободителей труда» в народовольцев кажется Вам тем более вероятным, что, по Вашим словам, «сам г-н Плеханов, как он указал в предисловии к своей брошюре, совершил уже достаточно значительную эволюцию в своих политико-социальных убеждениях», и Вы «имеете основание надеяться – на новые шаги» с моей стороны «в том же направлении». Дойдя до этого пункта в своей «эволюции», пункта, который кажется Вам, по-видимому, апогеем возможного в настоящее время развития русского социализма, я сознаю, быть может, – надеетесь Вы, – и еще одну сторону практической задачи всякой группы общественной армии, действующей против общего врага: именно, что расстраивать организацию этой армии – даже если в ней видишь или предполагаешь некоторые недостатки – дозволительно только или врагам дела этой армии (из числа которых Вы меня исключаете), или группе, которая сама своею деятельностью, своею силою и организациею способна стать общественною армией в данную историческую минуту». Но такая роль «находится, по Вашему мнению, в далеком, да, пожалуй, и несколько сомнительном будущем» для «Освободителей труда» как таковых, т. е. не завершивших еще цикла своих превращений и изображающих собою в настоящее время нечто вроде народовольческих личинок или куколок.
Таково, многоуважаемый Петр Лаврович, содержание всего сказанного Вами о моей брошюре, переданное почти дословно. Я, быть может, утомил Вас обилием цитат из Вашей собственной заметки, но, с одной стороны, я боялся нового обвинения в том, что я – «не точно цитирую», а кроме того, я считал нелишним напомнить читателю Ваши слова во всей их полноте, чтобы таким образом облегчить ему произнесение окончательного приговора по нашему делу. Вы знаете, что читающая публика есть главный, верховный судья во всех спорах, возникающих в свободной «республике слова». Неудивительно поэтому, что каждая из сторон должна принимать все меры для выяснения этой публике истинного характера спорного вопроса.
Изложивши Ваши замечания на мою брошюру и Ваши соображения о принятой группою «Освобождение труда» тактике по отношению к партии Народной Воли, я перехожу теперь, многоуважаемый Петр Лаврович, к тем объяснениям, без которых невозможно правильное понимание мотивов, побудивших меня и моих товарищей поступать именно так, а не иначе.
Собственно говоря, я мог бы признать всякий разговор о таких мотивах совершенно излишним, а читатель может найти его очень малоинтересным. Как? Разве вопрос о ближайших задачах, тактике и научном обосновании всей деятельности наших революционеров не составляет для нас самого важного, самого насущного вопроса русской общественной жизни? Разве вопрос этот может уже считаться решенным окончательно и безапелляционно? И разве не обязан всякий революционный писатель способствовать выяснению его всеми силами, какими он только обладает, со всем вниманием, на какое он только способен? Или выяснение это может быть признано полезным лишь в том случае, когда в результате получается то убеждение, что, не обладая непогрешимостью папы, русские революционеры не сделали, однако, ни одной ошибки в своей практической деятельности, ни одного промаха в своих теоретических рассуждениях, что «все обстоит благополучно» как в том, так и в другом отношении. Или люди, не разделяющие этой приятной уверенности, должны быть осуждены на молчание, и чистота их намерений может быть заподозрена всякий раз, когда они берутся за перо, чтобы обратить внимание революционеров на то, как ведется и как должно быть ведено, по их крайнему разумению, революционное дело? Если Спиноза еще в XVII столетии говорил, что в свободном государстве каждому должно быть предоставлено право думать, что он хочет, и говорить, что он думает, то возможно ли, чтобы это право могло быть подвергнуто сомнению в конце XIX века, в среде социалистической партии хотя бы и самого отсталого государства Европы? Признавая право свободной речи в принципе, занося требование его в свои программы, русские социалисты не могут предоставить пользование этим правом лишь той фракции или партии, которая претендует на гегемонию в данный период революционного движения. Я думаю, что теперь, когда наша легальная литература подвергается самому беспощадному гонению, когда в нашем отечестве, в области мысли, как и во всех других сферах деятельности, «все живое, все честное косится», – я думаю, что в такое время от революционного писателя можно скорее потребовать объяснения его молчания, чем факта появления того или другого из его произведений. И если Вы согласитесь с этим, – а не согласиться едва ли возможно, – то Вы согласитесь также и с тем, что нельзя же осуждать на лицемерие писателя-революционера, который очень и очень многим должен пожертвовать, по прекрасному выражению Герцена, «человеческому достоинству свободной речи». А если это так, то можно ли винить его, если он прямо, без обиняков и недомолвок, высказывает то, что думает о тех или других программах революционной деятельности. Я уверен, уважаемый Петр Лаврович, что Вы ответите на этот вопрос отрицательно. За это мне ручается, помимо всего другого, Ваша подпись под «Объявлением об издании Вестника Народной Воли», где на странице VIII мы читаем следующее: «Социализм, как всякая жизненная историческая идея, вызывает многочисленные, хотя не особенно существенные, разногласия между своими приверженцами, и много как теоретических, так и практических вопросов в нем остаются спорными. Вследствие большей сложности, больших затруднений и меньшей давности в развитии русского социализма, более или менее заметные расхождения во взглядах между русскими социалистами могут быть еще многочисленнее. Но это, повторяем, доказывает, что русская социалистическая партия есть партия живая, вызывающая энергическую работу мысли, энергические убеждения среди своих сторонников, партия, не успокоившаяся на догматическом веровании в заученные формулы».
Я не понимаю, каким образом редактор, подписавший это объявление, может встречать с неудовольствием литературные произведения группы, разногласия которой с Народной Волей он считает «не особенно значительными» («В.Н.В.» № 2, отд. II, стр. 65, строка 10 снизу); я не могу допустить, чтобы журнал, напечатавший это объявление, мог относиться враждебно к людям, «не успокоившимся на догматическом веровании в заученные формулы». Ведь нельзя же думать, что вышеприведенные строки были написаны лишь для того, чтобы объяснить читателю, почему «программа, поставленная «Вестником Народной Воли», охватывает взгляды, в некоторой мере нетожественные между собою» («Объявл. об изд. В.Н.В.», стр. VII). Нельзя также предполагать, что, поставив себе такую «определенную программу», «В.Н.В.» признает жизненное значение «более или менее заметных расхождений между русскими социалистами» лишь в том случае, когда они «не выходят из пределов» этой программы, «охватывающей взгляды, в некоторой мере нетождественные между собою». Это значило бы быть терпимым лишь по отношению к членам своей собственной церкви, признавать с героями Щедрина, что оппозиция не вредна лишь в том случае, если она не вредит. Такой либерализм, такая терпимость немного отрадного заключали бы в себе для всех русских социалистов-«нонконформистов», которых теперь, по-видимому, не мало, так как Вы в своей заметке говорите о «фракциях, считающих, что для них полемика против Народной Воли своевременнее» и т. д. Из этих слов явствует, что таких фракций, по крайней мере, две и что «В.Н.В.», «имеющий в виду быть органом объединения всех русских социалистов-революционеров», до сих пор далеко не достиг еще своей цели. Я думаю, что такая неудача должна была бы расширить, а не суживать пределы свойственной его редакции терпимости.
Вы советуете мне не «расстраивать организацию» нашей революционной армии. Но, прежде всего, позвольте мне спросить Вас, о какой «общественной армии» говорите Вы? Если под этой метафорой Вы понимаете организацию «партии Народной Воли», – то я никогда не думал, что моя брошюра окажет на нее разрушительное действие, и убежден, что первый спрошенный Вами народоволец успокоит Вас на этот счет. Если же под «расстраиванием организации общественной армии» Вы понимаете привлечение к нашей группе людей, по тем или другим причинам стоявших вне «партии Народной Воли», то от такого привлечения «организация общественной армии» может только выиграть, так как в ее среде появится новая группа, составленная, так сказать, из новобранцев. Кроме того, с каких это пор обсуждение пути, по которому идет та или другая армия, выражение уверенности в том, что существует другой путь, который вернее и скорее приведет ее к победе – стало считаться «расстраиванием организации этой армии»? Я думаю, что такое смешение понятий возможно только в диких полчищах азиатских деспотий, а никак не в армиях современных цивилизованных государств. Кому же не известно, что критика тактики, принятой той или другой армией, может повредить разве лишь военной репутации генералов этой армии, которые, пожалуй, не прочь будут «наложить палец молчания» на нескромные уста. Но при чем же здесь «организация армии», да и кто ее предводители? Вы знаете, что такие предводители могут быть или выбранными самими рядовыми, или назначенными сверху. Допустим на минуту, что Исполнительный комитет играет роль предводителя нашей революционной армии. Спрашивается, обязаны ли повиноваться ему даже те, которые не участвовали в его избрании, а если он назначен сверху, то кто и какую имел власть для этого назначения?
Вы относите нашу группу к «фракциям русского революционного социализма, считающим, что для них полемика с Народной Волей более своевременна, чем борьба с русским правительством и с другими эксплуататорами русского народа». Позвольте мне спросить Вас, думаете ли Вы, что к числу особенностей русского народа и «данной исторической минуты» относится и то обстоятельство, что борьба «против его эксплуататоров» может быть ведена без распространения идей, в которых выражались бы смысл и тенденция этой борьбы. Мне ли, бывшему бунтарю, доказывать Вам, бывшему редактору журнала «Вперед», что рост революционного движения не мыслим без распространения наиболее передовых, наиболее здравых, словом, наиболее революционных идей и понятий в соответствующем слое общества? Ваше ли внимание нужно обращать на то обстоятельство, что социализм – как он выразился в сочинениях Маркса и Энгельса – представляет собою самое могучее духовное оружие в борьбе со всевозможными эксплуататорами народа? В распространении же учений названных писателей и заключается цель моих товарищей, как это ясно высказано в объявлении об издании «Библиотеки современного социализма». Что социализм школы Маркса во многом расходится с «русским социализмом, как он выразился» в нашем революционном движении вообще и в партии «Народная Воля» в частности – это не подлежит ни малейшему сомнению, так как «русский социализм» до сих пор еще носит очень длинную бакунистскую косу за своей спиною. Так что русским марксистам нередко приходится поэтому становиться в отрицательное отношение к некоторым «заученным формулам» русского социализма – это также вполне понятно и естественно; но отсюда еще никоим образом не следует, что они борьбу против революционеров предпочитают борьбе против правительства. В «Вестнике Народной Воли» некто г-н Тарасов усиливается опровергнуть одно из основных положений исторической теории Маркса[2]. Статья г-на Тарасова занимает первое место, так сказать, передний угол в № 2 «В.Н.В.». Значит ли это обстоятельство, что г-н Тарасов находит, что для него полемика против Маркса «своевременнее, чем борьба с русским правительством и с другими эксплуататорами русского народа»? Или полемика, уместная и «своевременная» под пером дюрингианцев, бакунистов и бланкистов, становится оскорблением величества русской революции, как только возвышают свой голос марксисты? Справедливо ли, скажу больше, объяснимо ли такое отношение со стороны писателя, столько раз заявлявшего о своем согласии с теориями Маркса?
Я хорошо знаю, что решение вопроса о задачах нашей революционной партии, с точки зрения названных теорий, представляет собою далеко не легкую задачу. Основные положения этих теорий составляют, собственно говоря, лишь «большую посылку» силлогизма, так что люди, одинаково признающие правильность и великое научное значение этой первой посылки, могут соглашаться или расходиться между собою в выводе, смотря по тому, как понимают они вторую, «малую», посылку, роль которой должна играть та или иная оценка современной русской действительности. Я нисколько не удивляюсь поэтому Вашему несогласию с нашей программой, хотя и думаю, что, оставаясь марксистом, Вы не в состоянии были бы «доказать» мне, что «моя» программа заключает в себе «гораздо большие недостатки и непрактичности», чем те, в которых я «обвиняю партию Народной Воли». Но никакие разногласия в оценке современной русской действительности не объяснят мне и моим товарищам того несправедливого отношения, в какое Вы стали к нам в своей заметке.
Я обращаюсь к беспристрастию читателя. На письменном столе редактора Вестника Народной Воли лежат две брошюры, изданные группой «Освобождение труда». Одна из этих брошюр представляет собою перевод того сочинения Энгельса, которое уважаемый редактор называет «самым замечательным произведением социалистической литературы за последние годы».
Вторая из этих брошюр, по словам того же редактора, одною своею частью заслуживает «такое же внимание, как и все серьезные труды по вопросам социализма». Другая часть этой брошюры заключает в себе «полемику против прежней и настоящей деятельности Народной Воли, полемику, которая имеет целью доказать этой партии, что, «нанеся своею практическою деятельностью смертельный удар всем традициям правоверного народничества и сделав так много для развития революционного движения в России, партия Народной Воли не может найти оправдания, да и не должна искать его, помимо современного научного социализма»[3]. И эта-то одна часть одной части изданий группы «Освобождение труда» доказывает, по мнению нашего редактора, что названная группа задается чуть ли не исключительною целью «полемики против Народной Воли» и ради этой цели готова отказаться от борьбы с правительством. При самой незначительной доле беспристрастия, читатель согласится, что такое умозаключение от части к целому не оправдывается характером других частей этого целого.
Я не отрицаю полемического или, вернее, критического характера «одной части» своей брошюры. Но что полемика против Народной Воли не являлась исключительной целью даже этой, инкриминированной, ее части, – видно уже из того, упущенного Вами, Петр Лаврович, из виду обстоятельства, что моя критика не ограничивалась одним народовольческим периодом русского движения. Я критиковал там и другие его формации. И если уже из факта печатного и притом мотивированного выражения моего несогласия с той или другой революционной программой следует, что полемика против этой программы составляет главную цель моей литературной деятельности, то в интересах истины нужно было бы значительно расширить выдвинутое против меня обвинение. Следовало сказать, что главною целью моей литературной деятельности является полемика против анархистов, бакунистов, народников старого толка, народовольцев и, наконец, марксистов, не понимающих значения политической борьбы в деле эмансипации пролетариата». Кроме того, нужно было бы принять в соображение еще и то обстоятельство, что «другая доля брошюры г-на Плеханова посвящена изложению и подтверждению философско-исторической стороны учения Маркса и Энгельса». Тогда было бы ясно, что я виновен в распространении тех революционных взглядов, которые я разделяю, и в полемике против тех, которые кажутся мне ошибочными. Но и это не все. При внимательном рассмотрении всех обстоятельств дела из него явствовало бы, что мое преступление совершено «по заранее обдуманному намерению», так как еще в «Объявлении об издании Библиотеки современного социализма» я и П. Аксельрод прямо заявляем, что задача наших изданий сводится:
1) к распространению идей научного социализма, путем перевода на русский язык важнейших произведений школы Маркса и Энгельса и оригинальных сочинений, имеющих в виду читателей различных степеней подготовки;
2) к критике господствующих в среде наших революционеров учений и разработке важнейших вопросов русской общественной жизни с точки зрения научного социализма и интересов трудящегося населения России.
Таков истинный характер вызвавшего Ваше неудовольствие «деяния». Чтобы сделать хоть один упрек человеку, его совершившему, нужно прежде всего доказать, что теперь не представляется никакой надобности в критике господствующих в нашей революционной среде программ и учений, или что эта критика должна превратиться, как выражался когда-то Белинский по другому, конечно, поводу, в «скромную служительницу авторитета, льстивую повторялыцицу избитых общих мест». Но я уже говорил, что едва ли найдется писатель, который решился бы поддерживать такое неслыханное положение, и уж ни в каком случае не Вы, многоуважаемый Петр Лаврович, станете утверждать, что нашей революционной партии пора «успокоиться на догматическом веровании в заученные формулы». А если это так, то Wozu der Larm?[4]
Впрочем, не решаясь вполне отрицать значение критики в нашей революционной литературе, многие думают, по-видимому, что не всякая отдельная личность и не всякая группа личностей имеет право критиковать учение и тактику «действующей партии».
После выхода в свет моей брошюры мне не раз приходилось слышать замечания в этом смысле. «Партия действия», «традиция Народной Воли», «героическая борьба» – вот фразы, которыми прикрывалась боязнь самомалейшего прикосновения к «заученным формулам» нашего революционного катехизиса. Мое право на выражение моих несогласий с «партией Народной Воли», или, вернее, с ее литературными произведениями, подвергалось оспариванию совершенно независимо от вопроса о том, кто прав, – я или публицисты нашей «партии действия». Прислушиваясь к этим нападкам на мою брошюру, я невольно вспоминал аргументацию «Саламанкского бакалавра» дона Иниго-и-Медрозо-и-Комо-диос-и-Папаламиендо в знаменитой controverse des mais. «Mais, monsieur, malgre toutes les belles choses que vous venez de me dire, – говорил этот диалектик, – vous m’avouerez que votre eglise anglicane, si respectable, n’existait pas avant dom Luther et avant dom Eccolampade; vous etes tout nouveaux: donc vous n’etes pas de la maison!»[5]
И я спрашивал себя: неужели аргументация, подсказанная великим сатириком своим злейшим врагам, может быть серьезно употреблена в дело русскими революционерами, и карикатура католического «бакалавра» станет точным изображением русских диалектиков из революционной среды? Согласитесь, многоуважаемый Петр Лаврович, что нет ничего печальнее такого рода перспективы и что никакие опасения за целость «организации» ровно ничего не значат в сравнении с опасением такого ужасного умственного упадка.
В интересах Народной Воли лежит самое решительное противодействие вырождению нашей революционной литературы в революционную схоластику. А между тем Ваша заметка, многоуважаемый Петр Лаврович, может скорее поддержать, чем ослабить рвение наших революционных «бакалавров». Высказанное Вами убеждение в том, что «расстраивать организацию революционной армии» дозволительно или врагам» дела этой армии, или группе, которая сама, своею деятельностью, своею силою и организацией способна стать общественною армией в данную историческую минуту». Ваше указание на то обстоятельство, что для нашей группы «эта роль находится еще в далеком, да, пожалуй, и несколько сомнительном будущем», – все это может подать повод к тому выводу, будто, по Вашему мнению, наша группа «в свои лета» хотя и может «сметь свое суждение иметь», но должна старательно припрятывать его каждый раз, когда оно противоречит мнениям редакции того или другого из периодических изданий «партии Народной Воли». Разумеется, такой вывод из сказанного Вами был бы неправильным; но не нужно забывать того обстоятельства, что люди не всегда рассуждают по всем правилам строгой логики.
Самый принцип, высказанный Вами в только что цитированных строках, может вызвать много печальных недоразумений. Эти строки могут послужить совершенно «несвоевременным» avis для читателей-нонконформистов. Они могут навести их на приблизительно такие размышления. Группе, способной стать «общественной армией в данную историческую минуту», дозволительно «расстраивать организацию» нашей революционной армии. Тем более «дозволительно» этой последней, в качестве заслуженного и испытанного войска, «расстраивать организацию» тех «несогласномыслящих» групп, гегемония которых кажется ей делом очень далеким, «да, пожалуй, и несколько сомнительным». Какую же революционную фракцию считает «общественной армией» редакция «Вестника Народной Воли»? Вероятно – «партию Народной Воли». Значит… но вывод ясен, и вывод в высшей степени печальный для групп, которые, подобно нам, полагали до сих пор, что можно критиковать чужие воззрения, но нельзя «расстраивать» чужие организации, а лучше идти с ними «рядом», поддерживая и пополняя друг друга»[6]. Будущее нашей группы кажется Вам сомнительным. Я сам готов сомневаться в нем, поскольку речь идет о нашей группе, как таковой, а не о тех воззрениях, которые она представляет[7].
Дело вот в чем.
Ни для кого не тайна, что наше революционное движение находится теперь в критическом периоде. Террористическая тактика Народной Воли поставила перед нашей партией целый ряд в высшей степени жизненных и важных вопросов. Но, к сожалению, они до сих пор остаются неразрешенными. Находившийся у нас в обращении запас бакунистских и прудонистских теорий оказался недостаточным даже для правильной постановки этих вопросов. Выгнутая прежде в одну сторону палка перегнулась теперь в другую. Прежнее, лишенное всякого основания, отрицание «политики» уступило место столь же мало основательной уверенности во всемогуществе конспираторского «политиканства». Программа петербургской Народной Воли была поставленным на голову бакунизмом с его славянофильским противопоставлением России Западу, с его идеализацией первобытных форм народной жизни, с его верой в социальное чудотворство революционных организаций нашей интеллигенции. Исходные теоретические положения программы остались неизмененными, и только практические выводы оказались диаметрально-противоположными прежним. Отрекшийся от политического воздержания бакунизм описал дугу в 180 градусов и возродился в виде русской разновидности бланкизма, основывающей свои революционные надежды на экономической отсталости России.
Этот бланкизм пытается теперь создать свою особую теорию и в последнее время нашел довольно полное выражение в статье г-на Тихомирова «Чего нам ждать от революции»? В этой статье употреблен в дело весь арсенал, каким только располагают русские бланкисты для защиты своей программы. Г-ну Тихомирову нельзя отказать в умении владеть оружием: он ловко группирует говорящие в его пользу факты, осторожно обходит явления противоположного характера и не без успеха апеллирует к чувствам читателя там, где не надеется подействовать на его логику. Оружие его подновлено, подчищено, подточено. Но присмотритесь к нему внимательнее, и вы увидите, что оружие – это есть не что иное, как старомодная шпага бакунизма, ткачевизма, украшенная новым клеймом: «реакционных теорий мастер В.В. в Петербурге». Ниже я сделаю некоторые выписки из «Открытого письма к Фр. Энгельсу» П.Н. Ткачева, и Вы сами увидите, многоуважаемый Петр Лаврович, что товарищ Ваш повторяет лишь то, что десять лет тому назад было высказано редактором «Набата» и что вызвало резкий ответ Энгельса в небезызвестной Вам брошюре «Soziales aus Kussland». Неужели же десять лет движения не научили ничему лучшему наших писателей? Неужели партия Народной Воли не хочет понять исторический смысл понесенных ею жертв, политического значения своей, поистине, геройской борьбы с абсолютизмом? Находясь вне России, ни я, ни вы не можем сказать ничего определенного о настроении, господствующем в настоящее время среди народовольцев. Но насколько можно судить по явлениям, происходящим вне организации «Народной Воли», несомненно, что не под ткачевским знаменем суждено возродиться революционному движению. Наша революционная молодежь находится в нерешительном, колеблющемся состоянии, она изверилась в старые способы действия, а множество возникающих в ее среде новых программ и теорий показывает, что ни одна из них, в частности, не в состоянии охватить всех действительных интересов и всех насущных задач нашего движения. Скептицизм вступает в свои права, Народная Воля утрачивает свое прежнее обаяние. Три с лишним года, протекшие со времени дела 1 марта, характеризуются упадком революционной энергии в России. Нельзя оспаривать это печальное явление. Но многие и многие объясняют его, как мне кажется, слишком поверхностным образом. Говорят, что наше движение ослабело под влиянием правительственных преследований. Я слишком верю в «своевременность» русской революции, чтобы удовольствоваться таким шаблонным объяснением. Я думаю, что потенциальная энергия русской революции огромна, непобедима, и что если реакция и поднимает голову, то лишь потому, что мы не умеем перевести эту потенциальную энергию в кинетическую. Общественные задачи современной России не могут найти удовлетворительное решение в традиционной, заговорщицкой программе бланкизма. Мало-помалу эта избитая программа превратится в Прокрустово ложе русской революции. Ее призрачным, фантастическим целям будут один за другим принесены в жертву все те способы действия, все те элементы движения, которые составляли его силу, обусловливали его влияние. Террористическая борьба, агитация в народе и в обществе, возбуждение и развитие народной самодеятельности, – все это имеет для бланкиста лишь второстепенное, подчиненное значение. Его внимание сосредоточено прежде всего на заговоре с целью захвата власти. Он не заботится о развитии общественных сил, о создании таких учреждений, в результате которых явилась бы невозможность возврата к старому режиму. Он старается лишь скомбинировать готовые уже общественные силы. Он не считается с историей, не стремится понять ее законы и направить сообразно с ними свою революционную деятельность; он просто заменяет историческое развитие своей конспираторской сноровкой[8]. А так как рост революционных сил России еще далеко не закончен, так как они находятся еще в процессе des Werdens, то это насильственное прекращение их развития должно иметь очень вредные последствия, упрочивать существование реакции, вместо того чтобы служить делу прогресса. В этом случае может произойти одно из двух. Или будущее русской революции окажется поставленным на карту самого несбыточного из всех – «социально-революционного» – заговора, или из недр оппозиционной и революционной России выдвинется новая сила, которая, отодвинув на задний план партию Народной Воли, возьмет в свои руки дело нашего движения.
Для социалистов было бы очень невыгодно, если бы руководство борьбой перешло в руки наших либералов. Это сразу лишило бы их всего прежнего влияния и на долгие годы отсрочило бы создание социалистической партии в передовых слоях народа. Вот почему мы и указываем нашей социалистической молодежи на марксизм, эту алгебру революции, как я назвал его в своей брошюре, эту «программу», научающую своих приверженцев пользоваться каждым шагом общественного развития в интересах революционного воспитания рабочего класса. И я уверен, что рано или поздно наша молодежь и наши рабочие кружки усвоят эту единственно революционную программу. В этом смысле будущее нашей группы вовсе не «сомнительно», и я не понимаю, откуда берется в этом случае скептицизм у Вас, у писателя, не далее, как в том же втором номере «Вестника», называющего Маркса «великим учителем, который ввел социализм в его научный фазис, доказал его историческую правомерность и в то же время положил начало организационному единству рабочей революционной партии». Ведь нельзя же признавать теоретические положения «великого учителя» и умозаключать от них к бакунизму или бланкизму на практике.
Повторяю, между самыми последовательными марксистами возможно разногласие по вопросу об оценке современной русской действительности. Поэтому мы ни в каком случае не хотим прикрывать свою программу авторитетом великого имени[9]. К тому же мы наперед готовы признать, что она заключает в себе многие «недостатки и непрактичности», как всякий первый опыт применения данной научной теории к анализу весьма сложных и запутанных общественных отношений. Но дело в том, что ни я, ни мои товарищи не имеем пока окончательно выработанной и законченной от первого до последнего параграфа программы. Мы только указываем нашим товарищам направление, в котором нужно искать решения интересных им революционных вопросов; мы только отстаиваем верный и безошибочный критерий, с помощью которого они смогут, наконец, сорвать с себя лохмотья революционной метафизики, почти безраздельно господствовавшей до сих пор над нашими умами; мы только доказываем, что «наше революционное движение не только ничего не потеряет, но, напротив, очень много выиграет, если русские народники и русские народовольцы сделаются, наконец, русскими марксистами, и новая, высшая точка зрения примирит все существующие у нас фракции»[10]. Наша программа еще должна быть закончена и закончена там, на месте, теми самыми кружками рабочих и революционной молодежи, которые станут бороться за ее осуществление. Поправки, дополнения, улучшения этой программы совершенно естественны, неизбежны, необходимы. Мы не боимся критики, а ожидаем ее с нетерпением, и уж, конечно, не станем, как Фамусов, затыкать перед нею уши. Представляя действующим в России товарищам этот первый опыт программы русских марксистов, мы не только не желаем соперничать с Народной Волей, но ничего не желаем так сильно, как полного и окончательного соглашения с этой партией. Мы думаем, что партия Народной Воли обязана стать марксистской, если только хочет остаться верной своим революционным традициям и желает вывести русское движение из того застоя, в котором оно находится в настоящее время.
Говоря о революционных традициях Народной Воли, я имею в виду не одну только террористическую борьбу, не одни аттентаты и политические убийства. Я говорю о том расширении русла русского движения, которое было необходимым следствием этой борьбы и которое показало нам, до какой степени узки, абстрактны и односторонни были исповедуемые нами в то время теории. Вместе с Александром II динамит убил и эти теории. Но как русский абсолютизм, так и бакунизм, во всех его разновидностях, только убиты, а не похоронены. Они уже не живут, не развиваются, но они еще продолжают разлагаться, и своим разложением заражают всю Россию, от самых консервативных до самых революционных ее слоев. Только здоровая атмосфера марксизма может помочь Народной Воле закончить так блистательно начатое ею дело, потому что, как говорил Лассаль, «с высоких вершин науки можно раньше увидеть зарю рассвета, чем среди обыденной сумятицы». Марксизм укажет нашим народовольцам, каким образом, привлекая к движению новые, почти еще не затронутые им слои, они могут вместе с тем обойти подводные камни гибельных односторонностей, каким образом, утилизируя прогрессивные стороны назревающей либеральной революции, они могут, тем не менее, до конца остаться верными делу рабочего класса и социализма. Совершенно чуждые узкого духа сектантства, мы желаем Народной Воле не неудач, а дальнейших успехов, и если мы протягиваем ей только одну руку для примирения, то это происходит потому, что другою рукою мы указываем ей на теории современного научного социализма со словами – «сим победишь».
К сожалению, Спенсер совершенно верно замечает, что консерватизм всякой организации прямо пропорционален ее совершенству. Суровая практика борьбы с абсолютизмом выработала крепкую и сильную организацию Народной Воли. Совершенно необходимая и в высшей степени полезная организация эта не составляет исключения из общего правила и препятствует теоретическим успехам партии Народной Воли, стремясь возвести в догмат и увековечить ту программу и те учения, которые могли иметь лишь временное, переходное значение. В конце своей брошюры «Социализм и политическая борьба» я выражал надежду, что Вестник Народной Воли сумеет критически отнестись к теоретическим промахам в программе и практическим пробелам в деятельности Народной Воли. «Нам хочется думать, говорил я, что новый орган трезво взглянет на те задачи нашей революционной партии, от решения которых зависит ее будущее». Я ожидал, что женевский «Вестник» пойдет дальше петербургской Народной Воли. Но если вы, многоуважаемый Петр Лаврович, прочтете внимательно статью г-на Тихомирова, то Вы сами убедитесь, что высказанные в ней взгляды представляют собою огромный шаг назад даже по отношению к Народной Воле. И это совершенно естественно. Теоретические посылки старой программы Народной Воли так шатки и противоречивы, что идти вперед, опираясь на них, – значит опускаться вниз. Остается ожидать, что другие прогрессивные элементы партии Народной Воли возвысят, наконец, свой голос и что революционное движение внутри этой партии пойдет, как шло оно всегда и везде, то есть – снизу.
А до тех пор, пока этого не случится, мы не перестанем будить общественное мнение наших революционеров, сколько бы ни вызывала наша литературная деятельность нападок, упреков и обвинений, как бы ни было нам тяжело то обстоятельство, что даже Вы, многоуважаемый Петр Лаврович, встречаете эту деятельность с неудовольствием; Вы, на одобрение и сочувствие которого мы еще так недавно могли, казалось нам, рассчитывать. Мы спорим с народовольцами в интересах их собственного дела и надеемся, что они согласятся с нами рано или поздно. Если же искренность наша будет заподозрена, если в нас увидят врагов, а не друзей, – мы утешимся сознанием правоты своего дела. Убежденные марксисты, мы останемся верны девизу нашего учителя и пойдем своей дорогой, предоставив людям говорить, что им вздумается.
Крепко жму Вашу руку. Искренно уважающий Вас Г. Плеханов.
Женева, 22 июля 1884 года.
Введение
1. В чем нас упрекают
Сказанное мною выше о нападках, упреках и обвинениях – не пустая фраза. Группа «Освобождение труда» существует еще очень недавно, а между тем как много пришлось нам услышать возражений, порожденных лишь упорным нежеланием вдуматься в сущность нашей программы; как много недоразумений вызвано было одним желанием подсказать нам мысли и намерения, никогда не приходившие нам в голову! Одни прямо, другие косвенно, намеками и полунамеками, избегая наносить нам «прямые удары», не называя наших имен, но употребляя наши выражения и истолковывая вкривь и вкось наши мысли, – изображали нас сухими книжниками, доктринерами, готовыми пожертвовать счастьем и благосостоянием народа в интересах стройности и гармоничности своих, высиженных в кабинете, теорий. Сами теории эти объявлялись каким-то заморским товаром, распространение которого в России было бы так же вредно для нее, как ввоз английского опия вреден для Китая. Давно уже пора положить конец этой путанице понятий, давно пора выяснить эти, более или менее искренние, недоразумения.
Я начинаю с самого важного.
В первой главе своей брошюры «Социализм и политическая борьба» я сказал несколько насмешливых слов по адресу революционеров, боящихся «буржуазного» экономического прогресса и неизбежно приходящих «к тому поразительному выводу, что экономическая отсталость России является надежнейшим союзником революции, а застой должен красоваться в качестве первого и единственного параграфа нашей программы-минимум». Я говорил там, что русские анархисты, народники и бланкисты могут сделаться «революционерами по существу, а не по названию», лишь «революционизируя свои собственные головы, учась понимать ход исторического развития и становясь в его главе, а не упрашивая старуху-историю потоптаться на одном месте, пока они проложат для нее новые, более прямые и торные пути»[11]).
В конце третьей главы той же брошюры я старался убедить своих читателей в том, что «связывать в одно два таких существенно различных момента, как низвержение абсолютизма и социалистическая революция, вести революционную борьбу с расчетом на то, что эти два момента совпадут в истории нашего отечества – значит отдалять наступление и того, и другого»[12]). Я выражал далее ту мысль, что «современное сельское население, живущее при отсталых социальных условиях, не только менее промышленных рабочих способно к сознательной политической инициативе, но и менее их восприимчиво к движению, начатому нашей революционной интеллигенцией…». «К тому же, – продолжал я, – крестьянство переживает теперь тяжелый критический период. Прежние «стародедовские устои» его хозяйства рушатся, сама несчастная община дискредитируется в его глазах, по признанию даже таких «стародедовски»-народнических органов, как «Неделя». Новые же формы труда и жизни еще только складываются, и этот созидательный процесс обнаруживает наибольшую интенсивность именно в промышленных центрах».
Эти и другие, подобные им, места подали повод к тому умозаключению, будто я и мои товарищи, убедившись, что ближайшее будущее принадлежит у нас капитализму, готовы толкать трудящееся население России в железные объятия капитала, и считаем «несвоевременной» всякую борьбу народа за свое экономическое освобождение.
В статье «Чего нам ждать от революции?» г-н Тихомиров, описывая «курьезную роль» тех общественных деятелей, программы которых «лишены связи с жизнью», особенно подробно изображает «трагическое положение» социалистов, думающих, «что для выработки материальных условий, необходимых для возможности социалистического строя, Россия обязательно должна пройти через стадию капитализма». В изображении г-на Тихомирова положение это оказывается просто отчаянным, в нем
Что ни шаг, то – ужас!
Нашим социалистам приходится «хлопотать о создании класса, во имя которого они хотят действовать, а для этого приходится желать скорейшей раскассировки тех миллионов рабочего люда, которые существуют в действительности, но, не будучи по несчастью пролетариями, не имеют роли в научной схеме социального прогресса». Но грехопадение этих педантов социализма не может ограничиться сферой «хлопот» и «желаний». Wer A sagt, muss auch В sagen![13] «Будучи последовательным и ставя интересы революции выше своей личной нравственной чистоплотности, социалист тут должен был бы прямо вступить в союз с рыцарями первоначального накопления, у которых не дрогнет сердце и рука развивать разные «прибавочные стоимости» и объединять рабочих в единоспасающем положении нищего пролетария». Революционер превращается, таким образом, в сторонника эксплуатации труда, и г-н Тихомиров вполне «своевременно» спрашивает – «где же тогда различие между социалистом и буржуа?».
Я не знаю, каких именно «социалистов» имел в виду, в данном случае, почтенный автор. Он вообще, как заметно, не любит «прямых ударов» и, не указывая своих противников, просто сообщает читателям, что, дескать, «прочие-другие» думают так-то и так-то. Читатель остается в полной неизвестности относительно того, кто же эти прочие-другие и точно ли они думают то, что говорит за них г-н Тихомиров? Я не знаю также, разделяют ли читатели его ужас перед положением критикуемых им социалистов. Но затронутый им предмет так интересен, обвинения, выставленные им против некоторых социалистов, так сходны с обвинениями, не раз выдвигавшимися против нас самих, отрицательное решение вопроса о капитализме до такой степени определяет собою всю программу г-на Тихомирова, все его «ожидания от революции», – что именно его статья должна послужить поводом для возможно более полного и всестороннего выяснения этого вопроса.
Итак, «должна» или не «должна» Россия пройти через «школу» капитализма?
Решение этого вопроса имеет огромную важность для правильной постановки задач нашей социалистической партии. Неудивительно поэтому, что на него давно уже было обращено внимание русских революционеров. До самого последнего времени огромное большинство их склонно было категорически решать его в отрицательном смысле. Я также отдал дань общему увлечению, и в передовой статье № 3 «Земли и Воли» я старался доказать, что «история вовсе не есть однообразный механический процесс», что капитализм был необходимым предшественником социализма лишь «на Западе, где поземельная община разрушилась еще в борьбе с средневековым феодализмом»; что у нас, – где эта община «составляет самую характерную черту в отношениях нашего крестьянства к земле», – торжество социализма может быть достигнуто совсем другим путем; коллективное владение землею может послужить исходным пунктом для организации всех сторон экономической жизни народа на социалистических началах. «Поэтому, – умозаключал я, – главная задача наша заключается в создании боевой народно-революционной организации для осуществления народно-революционного переворота в возможно более близком будущем».
Я поддерживал, таким образом, еще в январе 1879 года то же положение, которое отстаивает г-н Тихомиров, правда
Mit ein bischen anderen Worten[14],
теперь, в 1884 году, говоря, что за той «таинственной чертой, где бурлят и пенятся волны исторического потока», т. е., выражаясь проще, за падением современного социально-политического строя, «нас ждет» не царство капитализма, как утверждают «некоторые», а «начало социалистической организации России». Необходимость создания «боевой народно-революционной организации» отходит у г-на Тихомирова на второй план и уступает место конспираторской организации нашей интеллигенции, которая должна захватить власть и тем дать сигнал народной революции. В этом случае его взгляды расходятся с моими прежними взглядами ровно настолько, насколько программа «Народной Воли» отличается от программы «Земли и Воли». Но ошибки, сделанные г-ном Тихомировым, по отношению к экономической стороне вопроса, почти «тождественны» с ошибками, сделанными мною в названной статье. Вследствие этого, возражая г-ну Тихомирову, я должен буду часто делать поправки в той аргументации, которая казалась мне когда-то совершенно убедительной и безапелляционной.
Уже по одному тому, что точка зрения г-на Тихомирова не отличается свежестью и новизною, я не могу ограничиться критикой его доводов, а должен рассмотреть по возможности полно все, что говорилось ранее в пользу отрицательного решения интересующего нас вопроса. Русская литература предшествующих десятилетий дает нам гораздо более ценный критический материал, чем статья «Чего нам ждать от революции?».
2. Постановка вопроса
В самом деле, г-н Тихомиров не сумел даже правильно поставить этот вопрос.
Вместо того чтобы сказать все, что мог он сказать в пользу возможности положить «начало социалистической организации» на развалинах современного социально-политического строя России, г-н Тихомиров посвящает в своей статье чуть не целую главу на критику того «утешения», которое остается у людей, верящих в «историческую неизбежность русского капитализма». Он вообще как-то слишком быстро и неожиданно, даже не перешел, а соскочил с той объективной точки зрения, на которой стоял в начале первой главы, где он доказывал, что «логика истории, исторический ход событий и так далее» есть «сила стихийная, своротить которую с выбранного ею пути не может никто, именно потому, что самый путь выбирается ею не произвольно, а выражает равнодействующую линию, слагающуюся из комбинации тех сил, вне которых общество не заключает в себе ничего реального, способного производить какое-нибудь действие». Спрашивается, остановится ли эта «сила стихийная» перед соображением о безутешности русских социалистов? Очевидно, нет. Значит, прежде чем толковать о том, что было бы с русскими социалистами в случае торжества капитализма, нужно было постараться составить себе «правильное представление об этой силе и ее направлении», представление, «обязательное для каждого общественного деятеля, потому что без соответствия с нею, политическая программа не может иметь никакого значения», как в этом нас убеждает тот же г-н Тихомиров. Но он предпочитает обратный метод. Он старается прежде всего запугать своих читателей, а потом уже, в «последующих главах», намечает «в общих чертах» те «цели и средства нашей революции», которые позволяют нам верить в возможность отклонить от уст России чашу капитализма. Не говоря пока ничего о том, насколько удачна была его попытка запугивания своих читателей-социалистов, я замечу только, что такой прием аргументации не должен был бы употребляться при решении серьезных общественных вопросов.
По причинам, в рассмотрение которых здесь неуместно было бы вдаваться, русскому интеллигентному человеку пришлось сильно интересоваться «ролью личности в истории». Много писали об этом «проклятом» вопросе, еще больше толковали о нем в разных кружках, а между тем и до сих пор русские общественные деятели часто не умеют даже ограничить сферу необходимого от сферы желательного, и готовы, по временам, спорить с историей почти так же, как спорил Хлестаков с трактирным слугой. «Ведь нужно же мне что-нибудь есть, ведь этак я могу совсем отощать!» – говорил бессмертный Иван Александрович. – «Ведь какой же я после этого буду социалист? Ведь этак мне придется прямо вступить в союз с рыцарями первоначального накопления!» – воскликнет, пожалуй, иной читатель под влиянием тихомировских запугиваний. Но нужно надеяться, что рассуждение г-на Тихомирова о непреодолимой силе «логики истории» будет значительно способствовать устранению этого крупного «промаха незрелой мысли».
Точка зрения группы «Освобождение труда» с своей стороны ведет, как мне кажется, к устранению такого рода злоупотреблений «субъективным методом в социологии». Для нас желательное вырастает из необходимого и ни в каком случае не заменяет его в наших рассуждениях. Для нас свобода личности заключается в знании законов природы, – т. е., между прочим, и истории, – и в умении подчиняться этим законам, т. е., между прочим, и комбинировать их наивыгоднейшим образом. Мы убеждены, что, когда «общество ступило на след естественного закона своего движения, оно не может ни перескочить естественные фазы своего развития, ни устранить их декретами». «Но оно может сократить и облегчить мучения родов». В этом «сокращении и облегчении мучений родов» и состоит, по нашему мнению, одна из важнейших задач социалистов, убедившихся в «исторической неизбежности капитализма в России». В возможности облегчения этих мучений и должно заключаться их утешение. Последовательность, навязываемая им г-ном Тихомировым, есть, как мы увидим ниже, последовательность метафизика, не имеющего ни малейшего понятия о диалектике общественного развития.
Но не будем уклоняться от нашего предмета.
3. А.И. Герцен
Еще в начале пятидесятых годов А.И. Герцен, доказывая неизбежность социалистической революции на Западе, уже ставил перед нарождающейся русской демократией тот
- Вечно тревожный и новый вопрос,
- который с тех пор
- Столько голов беспокойных томил…
- Столько им муки принес…
и который послужил поводом, между прочим, и для нашей «полемики против партии Народной Воли».
«Должна ли Россия пройти всеми фазами европейского развития, или ее жизнь пойдет по иным законам?»[15], – спрашивал он в своих «Письмах к Линтону».
«Я совершенно отрицаю необходимость этих повторений, – спешил ответить знаменитый писатель. – Мы, пожалуй, должны пройти трудными и скорбными испытаниями исторического развития наших предшественников: но так, как зародыш проходит до рождения все низшие ступени зоологического существования. Оконченный труд и добытый результат входят в общее достояние всех понимающих – это круговая порука прогресса, майорат человечества… Всякий школьник должен сам найти решение Евклидовых предложений – но какая огромная разница между трудом Евклида, открывшего их, и трудом ученика нашего времени!»… «Россия проделала свою эмбриогению в европейском классе. Дворянство с правительством представляют у нас европейское государство в славянском. Мы прошли все фазисы политического воспитания, начиная от немецкого конституционализма, от английского канцелярского монархизма до поклонения 93 году… Народу русскому не нужно начинать снова этот тяжкий труд… Зачем ему проливать кровь свою для достижения тех полурешений, до которых мы дошли и которых вся важность состояла только в том, что мы через них дошли до иных вопросов, до новых стремлений. Мы за народ отбыли эту тяжелую работу – мы поплатились за нее виселицами, казематами, ссылкой, разорением и нестерпимою жизнью, в которой живем!»
Связующее звено, мост, по которому русский народ может перейти к социализму, Герцен видел, конечно, в общине и связанных с нею особенностях народного быта. «Русский народ, собственно, стали узнавать, – говорит он, – только после революции 1830 года. С удивлением увидели, что русский человек, равнодушный, неспособный ко всем политическим вопросам – бытом своим ближе всех европейских народов подходит к новому социальному устройству»… «Сохранить общину и дать свободу лицу, распространить сельское и волостное self-governement по городам и всему государству, сохраняя народное единство – вот в чем состоит вопрос о будущем России, т. е. вопрос той же социальной антиномии, которой решение занимает и волнует умы Запада»[16].
В его уме по временам возникало, правда, сомнение относительно этой исключительной близости русского народа «к новому социальному устройству». В том же «Письме» он спрашивает Линтона: «Может вы скажете на это, что в этом русский народ походит на некоторые азиатские народы, и укажете на сельские общины у индусов, довольно схожие с нашими?». Но, не отвергая нелестного сходства русского народа с «некоторыми азиатскими», он усматривал, однако, между ними весьма, казалось ему, существенные различия. «Не общинное устройство держит азиатские народы в неподвижности, а их исключительная народность, их невозможность выйти из патриархализма, освободиться от рода. Мы не в таком положении. Славянские народы… имеют большую удобовпечатляемость; они легко усваивают себе языки, нравы, обычаи, искусство и технику других народов. Они равно обживаются у Ледовитого океана и на берегах Черного моря». Эта «большая удобовпечатляемость», дающая славянам возможность «выйти из патриархализма, освободиться от рода», и решала весь вопрос, по мнению Герцена. Авторитет его был так велик, предлагаемое им сокращение пути к социализму было так соблазнительно, что русская интеллигенция начала шестидесятых годов мало была склонна скептически относиться к найденному им решению «социальной антиномии» и вовсе, по-видимому, не задумывалась над вопросом о том, – через какие именно местности пролегает этот исторический проселок и кто же именно поведет им русский народ, «равнодушный, не способный ко всем политическим вопросам»? Для нее важно было прежде всего найти хоть какую-нибудь философскую санкцию своим радикальным стремлениям, и она довольствовалась на первый раз тем отвлеченным соображением, что никакая философия в мире не может заставить ее примириться с буржуазными «полурешениями».
Но этого отвлеченного соображения было, конечно, недостаточно для начертания практического способа действия, для выработки сколько-нибудь целесообразных приемов борьбы с окружающею обстановкой. Данных для решения этой новой задачи нужно было искать вне философии истории, хотя бы и более строгой и научной, чем философия Герцена. Между ее абстрактными формулами и конкретными нуждами общественной жизни лежала целая пропасть, которую можно было заполнить лишь целым рядом новых, все более и более частных формул, требовавших знакомства опять-таки с целым рядом все более и более сложных явлений. Впрочем, философия оказала в этом случае русской мысли косвенную услугу, познакомив ее с диалектическим методом и научив ее той, столько раз забытой потом истине, что в общественной жизни «все течет», «все изменяется», и что явления этой жизни могут быть поняты лишь в движении, в процессе своего возникновения, развития и исчезновения.
4. Н.Г. Чернышевский
«Критика философских предубеждений против общинного землевладения» была и остается самым блестящим в нашей литературе опытом приложения диалектики к анализу общественных явлений. Известно, какое огромное влияние имела статья эта на развитие нашей революционной интеллигенции. Она укрепила ее веру в общину, доказав, что этот вид землевладения может, при известных условиях, прямо перейти в коммунистическую форму развития. Но, строго говоря, как сам Н.Г. Чернышевский, так и его последователи делали из «критики философских предубеждений» выводы более широкие, чем это допускалось характером посылок. Найденное Чернышевским решение вопроса о судьбе общины было, в сущности, чисто алгебраическим, да и не могло быть иным, так как он противопоставлял его чисто алгебраическим формулам своих противников. Русские манчестерцы доказывали, что общинное землевладение необходимо и везде должно уступить мало-помалу место частной поземельной собственности. Такова была выставленная ими схема развития имущественных отношений. Н.Г. Чернышевский доказал, во-первых, что схема эта не охватывает всего процесса развития, т. к. на известной его стадии общественная собственность снова должна стать господствующей формой; кроме того, он совершенно основательно указывал на то обстоятельство, что нет никаких оснований приписывать неизменную, раз и навсегда определенную продолжительность тому историческому промежутку, который отделяет эпоху первобытного коммунизма от времени сознательного переустройства общества на коммунистических началах. Говоря вообще, этот промежуток есть х, который в каждой отдельной стране приобретает особое арифметическое значение в зависимости от комбинации внешних и внутренних сил, определяющих ее историческое развитие. Поскольку эта комбинация сил должна быть очень разнообразна, то неудивительно, что интересующий нас х, – т. е. продолжительность господства частной собственности, – становится в известных случаях бесконечно малой величиной, т. е. может без большой ошибки быть приравнен нулю. Таким образом, была доказана абстрактная возможность непосредственного перехода первобытной общины в «высшую, коммунистическую форму». Но именно благодаря абстрактному характеру аргументации, этот общий результат философско-исторической диалектики был одинаково применим ко всем странам и народам, сохранившим общинное землевладение, – от России до Новой Зеландии, от сербской задруги до того или другого племени краснокожих индийцев[17]. Поэтому он оказывался недостаточным для приблизительного хотя бы предсказания будущей судьбы общины в каждой из этих стран, взятой в отдельности. Абстрактная возможность еще не есть конкретная вероятность; тем менее можно считать ее окончательным доводом там, где речь идет об исторической необходимости. Чтобы сколько-нибудь серьезно говорить об этой последней, нужно было бы перейти от алгебры к арифметике и доказать, что в интересующем нас случае все равно – в России или в государстве ашантиев, в Сербии или на Ванкуверовом острове, – х действительно будет равняться нулю, т. е. частная собственность должна погибнуть еще в зародыше. Для этого необходимо было бы обратиться к статистике, к оценке внутреннего хода развития данной страны или данного племени и внешних влияний на них, иметь дело уже не с родом, а с видом или даже с разновидностью, не с первобытно-коллективной недвижимой собственностью вообще, а с русской, или сербской, или новозеландской поземельной общиной в частности, принимая в соображение как все враждебные или благоприятные ей влияния, так и то состояние, в которое она пришла в данное время, благодаря этим влияниям.
Но на такое исследование мы не находим даже намека в «Критике философских предубеждений против общинного землевладения», в которой Н.Г. Чернышевский имел дело с «философствующими мудрецами». В других же случаях, в которых ему пришлось спорить с «экономизирующими мудрецами», разрушать предубеждения, которые «вытекают из непонимания, забвения или незнания общих истин, относящихся к материальной деятельности человека, к производству, труду и общим его законам», – в этих статьях он также говорил лишь о выгодах коллективного землевладения вообще и получал, таким образом, в результате опять-таки лишь алгебраические формулы, лишь общие экономические теоремы[18].
Впрочем, с его стороны это нисколько не удивительно. Критик Милля мог иметь в виду лишь дореформенную общину, еще не вышедшую из условий натурального хозяйства и приведенную к одному знаменателю нивеллирующим влиянием крепостного права. Это влияние не устраняло, конечно, свойственных сельской общине «экономических противоречий», но оно держало их в скрытом состоянии, и тем доводило их практическое значение до ничтожного минимума. Поэтому Н.Г. Чернышевский мог довольствоваться тем соображением, что у нас «масса народа до сих пор понимает землю, как общинное достояние», что «каждый русский имеет и родную землю, и право на участок ее. И если он сам откажется от этого участка или потеряет его, то за детьми его остается право, в качестве членов общины, самостоятельно требовать себе участка». Хорошо понимая, что освобождение крестьян поставит их в совершенно новые экономические условия, что «Россия, доселе мало участвовавшая в экономическом движении, быстро вовлекается в него, и наш быт, доселе остававшийся почти чуждым влиянию тех экономических законов, которые обнаруживают свое могущество только при усилении экономической и торговой деятельности, начинает быстро подчиняться их силе», что «скоро и мы, может быть, вовлечемся в сферу полного действия закона конкуренции», он заботился лишь о сохранении той формы землевладения, которая помогла бы крестьянину начать новую экономическую жизнь при наиболее выгодных условиях. «Каковы бы ни были ожидающие Россию преобразования, – писал он еще в апреле 1857 года, – да не дерзнем мы коснуться священного, спасительного обычая, оставленного нам нашею прошедшею жизнью, бедность которой с избытком искупается одним этим драгоценным наследием, – да не дерзнем мы посягнуть на общинное пользование землею, – на это благо, от приобретения которого теперь зависит благоденствие земледельческих классов Западной Европы. Их пример да будет нам уроком».
Мы не пишем здесь разбора всех взглядов Н. Г. Чернышевского на общинное землевладение, а только стараемся оттенить их наиболее характерные черты. Не вступая в неуместные здесь детали, мы скажем только, что выгоды, ожидаемые им от общинного землевладения, могут быть сведены к двум главным пунктам, из которых один относится к области права, а другой – к области сельскохозяйственной техники.
ad. I. «Русское общинное устройство, – говорит он словами Гакстгаузена, – бесконечно важно для России, особенно в настоящее время, в государственном отношении. Все западноевропейские государства страдают одною болезнью, исцеление которой доселе остается неразрешенной задачей[19], – они страдают пауперизмом, пролетариатством. Россия не знает этого бедствия; она предохранена от него своим общинным устройством. Каждый русский имеет и родную землю, и право на участок ее. И если он сам лично откажется от этого участка, или потеряет его, то за детьми его остается право, в качестве членов общины, самостоятельно требовать себе участка»[20].
ad. II. Описав, по тому же Гакстгаузену, быт уральских казаков, «вся область которых составляет одну общину и в хозяйственном, и в военном, и в гражданском отношениях», Н.Г. Чернышевский замечает: «Если уральцы доживут в нынешнем своем устройстве до того времени, когда введены будут в хлебопашество машины, то уральцы будут тогда очень рады, что сохранилось у них устройство, допускающее потребление таких машин, требующих хозяйства в огромных размерах, на сотнях десятин». При этом он замечает, впрочем, что рассуждает только для примера о том, «как будут думать уральские казаки в будущее время, которое еще неизвестно когда придет (хотя успехи механики и технологии несомненно доказывают, что такое время придет). До слишком отдаленного будущего времени нам нет дела: наши пра-праправнуки, вероятно, сумеют прожить на свете и своим умом, без наших забот, – довольно будет того, если мы станем заботиться о себе и своих детях».
Читатель, знакомый с сочинениями Чернышевского, знает, конечно, что такого рода оговорки не мешали ему очень много думать и «заботиться» о будущем времени. Один из снов Веры Павловны наглядно показывает нам, в каком виде рисовались в его воображении социальные отношения «очень отдаленного будущего», так же как практическая деятельность его героини дает нам некоторое понятие о тех способах, которыми можно было содействовать приближению этой счастливой эпохи. Странно было бы поэтому, если бы автор «Что делать?» не поставил дорогой ему формы современного крестьянского землевладения в связь с идеалами будущего, хотя и далекого, но желательного и, главное, неизбежного. И действительно, он не один раз возвращается к этому предмету в своих статьях об общинном землевладении, рассматривая влияние этой формы имущественных отношений на характер и привычки крестьян. Он не согласен, разумеется, с тем мнением, что «община убивает энергию в человеке». Мысль эта «решительно противоречит всем известным фактам истории и психологии», доказывающим, напротив, что «в союзе укрепляется ум и воля человека». Но главное преимущество общинного землевладения заключается в поддержании и воспитании того духа ассоциации, без которого немыслима рациональная экономия будущего. «Введение лучшего порядка дел чрезвычайно затрудняется в Западной Европе безграничным расширением прав отдельной личности… не легко отказываться хотя бы от незначительной части того, чем привык уже пользоваться, а на Западе отдельная личность привыкла уже к безграничности частных прав. Пользе и необходимости взаимных уступок может научить только горький опыт и продолжительное размышление. На Западе лучший порядок экономических отношений соединен с пожертвованиями, и потому его учреждение очень затруднено. Он противен привычкам английского и французского поселянина». Но «то, что представляется утопией в одной стране, существует в другой, как факт… те привычки, проведение которых в народную жизнь кажется делом неизмеримой трудности англичанину и французу, существуют у русского, как факт его народной жизни… Порядок дел, к которому столь трудным и долгим путем стремится теперь Запад, еще существует у нас в могущественном народном обычае нашего сельского быта… Мы видим, какие печальные последствия породила на Западе утрата общинной поземельной собственности и как тяжело возвратить западным народам свою утрату. Пример Запада не должен быть потерян для нас»[21].
Такова сделанная Чернышевским оценка значения общинного землевладения в настоящей и будущей экономической жизни русского народа. При всем нашем уважении к великому писателю, мы не можем не видеть в ней некоторых промахов и односторонностей. Так, например, «исцеление» западноевропейских государств от «язвы пролетариатства» едва ли можно было признать «неразрешенной задачей» в конце пятидесятых годов, через много лет после появления «Манифеста Коммунистической партии», «Нищеты философии» и «Положения рабочего класса в Англии». Не только «исцеление», но все историческое значение пугавшей Н.Г. Чернышевского «болезни» было указано в трудах Карла Маркса и Фридриха Энгельса с полнотой и доказательностью, остающимися до сих пор образцовыми. Но русский экономист, как это видно по всему, не был знаком с названными сочинениями, а социалистические утопии предшествующего им периода, конечно, оставляли очень много теоретических и практических вопросов без сколько-нибудь удовлетворительного ответа. Главный же пробел в миросозерцании утопистов обусловливался тем обстоятельством, что «они не видели в пролетариате никакой исторической самодеятельности, никакого свойственного ему политического движения», что они не становились еще на точку зрения борьбы классов, и что пролетариат существовал для них «лишь в качестве более других страдающего класса»[22]. Заменяя «постепенно подвигающуюся вперед классовую организацию пролетариата – общественной организацией своего собственного изобретения», и в то же время расходясь между собою по вопросу об основах и характере этой организации будущего, они, естественно, приводили своих русских читателей к той мысли, что самые передовые умы Запада не справились еще с социальным вопросом. К тому же, «сводя дальнейшую историю мира к пропаганде и практическому выполнению своих реформаторских планов», они не могли удовлетворить своими учениями человека такого сильного критического ума, как Чернышевский. Он должен был самостоятельно искать реальных «исторических условий» освобождения западноевропейского рабочего класса и нашел их, по-видимому, в возврате к общинному землевладению. Мы знаем уже, что, по его мнению, «от приобретения этого блага теперь зависит благоденствие земледельческих классов Западной Европы». Но как бы кто ни смотрел на историческое значение русской общины, едва ли не для всех социалистов очевидно, что на Западе ее роль безвозвратно покончена и что для западных народов путь к социализму лежал и лежит от общины через частную собственность, а не наоборот, не от частной собственности через общину. Мне кажется, что если бы Н.Г. Чернышевский лучше выяснил себе тот «трудный и долгий путь», по которому идет Запад к «лучшему порядку экономических отношений», если бы он, кроме того, точнее определил экономические условия этого «лучшего порядка», то он увидел бы, во-первых, что «Запад» стремится к обращению средств производства в государственную, а не в общинную собственность, а, во-вторых, понял бы, что «язва пролетариатства» сама из себя создает свое лекарство. Он лучше оценил бы тогда историческую роль пролетариата, а это, в свою очередь, дало бы ему возможность шире взглянуть на социально-политическое значение русской общины. Объяснимся.
Известно, что всякую форму общественных отношений можно рассматривать с весьма различных точек зрения. Можно рассматривать ее с позиции тех выгод, которые она приносит данному поколению; можно, не довольствуясь этими выгодами, заинтересоваться способностью ее к переходу в другую, высшую форму, более благоприятную экономическому благосостоянию, умственному и нравственному развитию людей; можно, наконец, в самой этой способности к переходу в высшие формы различать две стороны: пассивную и активную, отсутствие препятствий для перехода и присутствие живой, внутренней силы, не только могущей совершить этот переход, но и вызывающей его, как необходимое следствие своего существования. В первом из этих случаев мы рассматриваем данную общественную форму с точки зрения сопротивления приносимому извне прогрессу, во втором – с точки зрения полезной исторической работы. Для философии истории, равно как и для практического деятеля-революционера, имеют значение лишь те формы, которые способны к бóльшему или меньшему количеству этой полезной работы. Каждая ступень исторического развития человечества интересна именно постольку, поскольку стоящие на ней общества сами из себя, путем внутренней своей самодеятельности, вырабатывают силу, способную разрушить старые формы социальных отношений и построить на их развалинах новое, лучшее общественное здание. Говоря вообще, самое количество препятствий для перехода на высшую ступень развития находится в тесной связи с величиной этой живой силы, потому что она есть не что иное, как результат разложения старых форм общежития. Чем энергичнее процесс разложения, тем бóльшее количество силы им освобождается, тем менее устойчивости сохраняют отжившие социальные отношения. Другими словами, как историка, так и практического революционера интересуют не статика, а динамика, не консервативная, а революционная сторона, не гармония, а противоречия общественных отношений, потому что дух этих противоречий есть именно тот дух, который
Stets das Böse will und stets das Gute schafft[23].
Так было до сих пор! Само собою понятно, что так не должно быть всегда и что весь смысл социалистической революции заключается в устранении того «железного и жестокого» закона, по которому противоречия общественных отношений находили лишь временное разрешение, в свою очередь, становившееся источником новой безурядицы и новых противоречий. Но совершение этого величайшего из переворотов, этой революции, которая должна сделать, наконец, людей «господами их общественных отношений» – немыслимо без «наличности», необходимой и достаточной для него исторической силы, порождаемой противоречиями нынешнего буржуазного строя. В передовых странах современного цивилизованного мира сила эта не только находится в наличности, но возрастает ежечасно и ежеминутно. История является, следовательно, в этих странах союзницей социалистов и с постоянно возрастающей быстротой приближает их к преследуемой ими цели. Таким образом, еще один – будем надеяться, последний – раз мы видим, что «сладкое» могло выйти лишь из «горького», что для совершения хорошего «дела» история должна была, если можно так выразиться, обнаружить злую «волю». Экономия буржуазных обществ, совершенно «ненормальная и несправедливая» в области распределения, оказывается гораздо более «нормальной» в сфере развития производительных сил, и еще более «нормальной» в сфере производства людей, желающих и способных, говоря словами поэта, «здесь на земле основать царство небесное». Буржуазия «не только выковала оружие, которое нанесет ей смертельный удар», т. е. не только довела производительные силы передовых стран до такой степени развития, на которой они не могут уже примириться с капиталистической формой производства, «она породила также людей, которые направят это оружие – современных работников, пролетариев».
Из этого следует, что для полной оценки политического значения данной общественной формы необходимо принимать в соображение не только те экономические выгоды, которые она может принести одному или нескольким поколениям, не только пассивную способность ее к усовершенствованию под влиянием какой-нибудь благодетельной внешней силы, но и, главным образом, ее внутреннюю способность к дальнейшему самостоятельному развитию в желательном направлении. Без такой всесторонней оценки анализ общественных отношений всегда останется неполным и потому ошибочным; данная социальная форма может оказаться вполне рациональной с одной из этих точек зрения, будучи в то же время совершенно неудовлетворительной с другой. И это будет каждый раз, когда нам придется иметь дело с неразвитым населением, не ставшим еще «господином своих общественных отношений». Только объективная революционность самих этих отношений может вывести отсталых субъектов на путь прогресса. Если же данная форма общежития не обнаруживает этой революционности, если, более или менее «справедливая» с точки зрения права и распределения продуктов, она отличается в то же время большою косностью, отсутствием внутреннего стремления к самоусовершенствованию в данном направлении, то социальному реформатору приходится или проститься со своими планами, или апеллировать к иной, внешней силе, которая могла бы пополнить недостаток внутренней самодеятельности в данном обществе и реформировать его, хотя и не против воли его членов, но во всяком случае без их активного и сознательного участия.
Что касается Н.Г. Чернышевского, то он, как кажется, упустил из виду революционное значение западноевропейской «болезни» – пауперизма. Ни мало не удивительно, что, например, Гакстгаузен, о котором так часто приходилось говорить ему в статьях об общинном землевладении, видел в «пауперизме-пролетариатстве» одну только отрицательную сторону. Политические его взгляды были таковы, что революционное значение пролетариата в истории западноевропейских обществ никак не могло быть отнесено им к положительным, выгодным сторонам этой «язвы». Понятно поэтому, что он с восторгом описывал те учреждения, которые могут «предупредить пролетариатство». Но взгляды, вполне понятные и последовательные в сочинениях одного писателя, часто ставят читателя в затруднение, встречаясь в статьях другого. Признаемся, мы не понимаем, какой смысл должны мы вложить в следующие слова Чернышевского о Гакстгаузене. «Как человек практический, он очень верно предугадывал в 1847 году близость страшного взрыва со стороны пролетариев Западной Европы; и нельзя не согласиться с ним, что благодетелен принцип общинного землевладения, который ограждает нас от страшной язвы пролетариатства в сельском населении»[24]. Здесь речь идет уже не об экономических бедствиях пролетариата, которым, впрочем, ни в чем не уступают бедствия русского крестьянства; не говорится также ничего и о социальных привычках русского крестьянина, с которыми во всяком случае еще поспорит западноевропейский промышленный рабочий своей привычкой к коллективному труду и всевозможным ассоциациям. Нет, здесь речь идет о «страшном взрыве со стороны пролетариев», и Н.Г. Чернышевский даже в этом отношении считает «благодетельным» принцип общинного землевладения, «который ограждает нас от страшной язвы пролетариатства». Нельзя допустить, что отец русского социализма с таким же ужасом относился к политическим движениям рабочего класса, как барон фон Гакстгаузен. Нельзя думать, что его мог испугать самый факт восстания пролетариата. Остается предположить, что его смущало поражение, понесенное в 1848 году рабочим классом, что его сочувствие к политическим движениям этого класса отравлялось мыслью о безрезультатности политических революций, о бесплодности буржуазного режима. Такое объяснение кажется, если не достоверным, то, по крайней мере, вероятным, при чтении некоторых страниц из его статьи «Борьба партий во Франции при Людовике XVIII и Карле X», именно тех страниц, на которых он выясняет различие демократических стремлений от либеральных. «У либералов и демократов существенно различны коренные желания, основные побуждения, – говорит он. – Демократы имеют в виду по возможности уничтожить преобладание высших классов над низшими в государственном устройстве, с одной стороны, уменьшить силу и богатство высших сословий, с другой – дать более веса и благосостояния низшим сословиям, каким путем изменить в этом смысле законы и поддержать новое устройство общества, для них почти все равно[25]. Напротив того, либералы никак не согласятся предоставить перевес в обществе низшим сословиям, потому что эти сословия, по своей необразованности и материальной скудости, равнодушны к интересам, которые выше всего для либеральной партии, именно к праву свободной речи и конституционному устройству. Для демократа – наша Сибирь, в которой простонародье пользуется благосостоянием, гораздо выше Англии, в которой большинство народа терпит сильную нужду. Демократ из всех политических учреждений непримиримо враждебен только одному – аристократии; либерал почти всегда находит, что только при известной степени аристократизма общество может достичь либерального устройства. Потому либералы питают к демократам смертельную неприязнь… либерализм понимает свободу очень узким, чисто формальным образом. Она для него состоит в отвлеченном праве, в разрешении на бумаге, в отсутствии юридического запрещения. Он не хочет понять, что юридическое разрешение для человека имеет цену только тогда, когда у человека есть материальные средства пользоваться этим разрешением. Ни мне, ни вам, читатель, не запрещено обедать на золотом сервизе; к сожалению, ни у вас, ни у меня нет и, вероятно, никогда не будет средств для удовлетворения этой изящной идеи, потому я откровенно говорю, что ни мало не дорожу своим правом иметь золотой сервиз, и готов продать это право за один рубль серебром или даже дешевле. Точно таковы для народа все те права, о которых хлопочут либералы. Народ невежествен, и почти во всех странах большинство его безграмотно; не имея денег, чтобы получить образование, не имея денег, чтобы дать образование своим детям, каким образом станет он дорожить правом свободной речи? Нужда и невежество отнимают у народа всякую возможность понимать государственные дела и заниматься ими – скажите, будет ли дорожить, может ли он пользоваться правом парламентских прений?.. Нет такой европейской страны, в которой огромное большинство народа не было бы совершенно равнодушно к правам, составляющим предмет желаний и хлопот либерализма. Поэтому либерализм обречен повсюду на бессилие: как ни рассуждать, а сильны только те стремления, прочны только те учреждения, которые поддерживаются массою народа»[26].
Не прошло и десяти лет после появления только что цитированной статьи Н.Г. Чернышевского, как европейский пролетариат, в лице передовых своих представителей объявил, что средство достижения своей великой экономической цели он видит в своих политических движениях и что «социальное освобождение рабочего класса немыслимо без политического его освобождения». Необходимость постоянного расширения политических прав рабочего класса и окончательного завоевания им политического господства признана была Международным товариществом рабочих. «Первый долг рабочего класса заключается в завоевании себе политического могущества», – говорит первый Манифест этого Товарищества. Само собою понятно, что рабочее население Англии ближе и способнее к политическому могуществу, чем сибирское «простонародье», и поэтому никто, кроме прудонистов, не сказал бы в шестидесятых годах, что «Сибирь выше Англии». Но и в то время, когда Н.Г. Чернышевский писал свою статью, т. е. в конце пятидесятых годов, можно было заметить, что в среде «невежественного и безграмотного народа» «почти всех» западноевропейских стран был целый слой, – т. е. опять-таки тот же пролетариат, – который не пользовался «правом свободной речи и правом парламентских прений» вовсе не по равнодушию своему к ним, а лишь благодаря реакции, воцарившейся после 1848 года во всей Европе и озаботившейся прежде всего устранением народа от обладания этими «отвлеченными правами». Разбитый, так сказать, по всей линии, оглушенный ударами реакции, разочаровавшийся в своих радикальных и «демократических» союзниках из среды буржуазных партий, он действительно впал как бы во временную летаргию и мало интересовался общественными вопросами. Но поскольку он интересовался ими, он не переставал видеть в приобретении политических прав и в рациональном пользовании ими могучего средства своего освобождения. Даже многие из тех социалистических сект, которые прежде были совершенно равнодушны к политике, стали обнаруживать большой интерес к ней именно в начале пятидесятых годов. Так, например, во Франции фурьеристы сошлись с Риттинггаузеном и весьма энергично проповедовали принцип прямого народного законодательства. Что касается Германии, то ни «демократ» Иоганн Якоби со своими приверженцами, ни коммунисты школы Маркса и Энгельса не сказали бы, что для них «почти все равно, каким бы путем ни изменить законы» в смысле уменьшения силы и богатства высших сословий и обеспечения благосостояния низших классов. У них была вполне определенная политическая программа, «непримиримо враждебная» далеко не «одной аристократии.
Западноевропейское крестьянство действительно оставалось часто равнодушным ко всяким «отвлеченным правам» и готово было, пожалуй, по временам предпочесть сибирские порядки английским. Но в том-то и дело, что истинные, не буржуазные демократы, т. е. демократы-социалисты, обращаются не к крестьянству, а к пролетариату. Западноевропейский крестьянин, как собственник, относится ими к «средним слоям» населения, слоям, которые «имеют революционное значение лишь постольку, поскольку им предстоит переход в ряды пролетариата, поскольку они защищают не современные, а будущие свои интересы, поскольку они покидают свою точку зрения и становятся на точку зрения пролетариата»[27]. Это различие очень существенно. Западноевропейские «демократы» только тогда и вышли из бесплодной области политической метафизики, когда научились анализировать понятие о «народе», и стали отличать революционные его слои от консервативных.
Для полноты исследования вопроса об общинном землевладении Н.Г. Чернышевскому нужно было бы взглянуть на дело именно с этой последней, социально-политической, точки зрения. Ему нужно было показать, что общинное землевладение не только способно предохранить нас от «язвы пролетариатства», не только представляет много выгодных условий для развития сельскохозяйственной техники (т. е. для машинной обработки больших пространств земли), но и способно создать в России такое же подвижное, такое же восприимчивое и впечатлительное, такое же энергичное и революционное население, как западноевропейские пролетарии. Но этому-то и мешал его взгляд на «народ» «почти всех стран» Западной Европы, как на «невежественную» и в большинстве случаев «безграмотную» массу, равнодушную к «отвлеченным» политическим правам. Недостаточно оттененная в его представлении, политическая роль западноевропейского пролетариата не могла напрашиваться на сравнение с политическим будущим русских крестьян-общинников. Пассивность и политический индифферентизм русского крестьянства не могли смущать того, кто не ожидал большой политической самодеятельности от рабочего класса Запада. В этом обстоятельстве лежит одна из причин того, что Н.Г. Чернышевский ограничил свое исследование об общинном землевладении соображениями, относящимися к области права, распределения продуктов, агрономии, но не задался вопросом о политическом влиянии общины на государство и государства на общину.
Этот вопрос так и остался невыясненным. А вследствие этого остался невыясненным и вопрос о способах перехода от общинного землевладения к общинной обработке и – главное – к окончательному торжеству социализма. Каким образом современная сельская община перейдет в коммунистическую общину или растворится в коммунистическом государстве? Как может содействовать этому революционная интеллигенция? «Что делать» этой интеллигенции? Отстаивать общинное землевладение и вести коммунистическую пропаганду, заводить производительные ассоциации, вроде швейных мастерских Веры Павловны надеясь, что со временем как эти мастерские, так и сельские общины поймут выгоды социалистического строя и возьмутся за его осуществление? Допустим, что так; но путь этот долог, можно ли поручиться, что он на всем своем протяжении будет прям и гладок, что на нем не встретится непредвиденных препятствий и неожиданных поворотов? А что если правительство будет преследовать социалистическую пропаганду, запрещать ассоциации, отдавать под полицейский надзор и ссылать их членов? Бороться с правительством, завоевать свободу речи, сходок и ассоциаций? Но тогда нужно будет признать, что Сибирь не выше Англии, что «отвлеченные права», о которых «хлопочут либералы», составляют необходимое условие народного развития, нужно, словом, начать политическую борьбу. Но можно ли рассчитывать на ее благоприятный исход, можно ли завоевать сколько-нибудь прочную политическую свободу? Ведь «как ни рассуждать, а сильны только те стремления, прочны только те учреждения, которые поддерживаются массою народа», а эта масса, если не в других странах, то в России не придает никакого значения «праву свободной речи» и ровно ничего не понимает в вопросе о «праве парламентских прений». Если либерализм именно «поэтому обречен на бессилие», то откуда возьмутся силы у социалистов, которые станут бороться за «права, составляющие предмет желаний и хлопот либерализма»? Как выйти из этого затруднения? Занести в свою программу вместе с «отвлеченными правами» политической свободы конкретные требования экономических реформ? Но нужно ознакомить народ с этой программой, т. е. нужно опять вести пропаганду, а, ведя пропаганду, мы опять встречаемся с правительственными преследованиями, а правительственные преследования опять толкают нас на путь политической борьбы, безнадежной вследствие равнодушия народа и т. д., и т. д. С другой стороны, очень вероятно, что «уральцы, если доживут в нынешнем своем устройстве до того времени, когда будут введены очень сильные машины для хлебопашества, будут очень рады, что сохранилось у них устройство, допускающее употребление таких машин, требующих хозяйства в огромных размерах, на сотнях десятин». Очень вероятно также, что «будут рады» и те крестьянские общества, которые «доживут в нынешнем своем устройстве» до введения земледельческих машин. Ну, а чему могут быть рады те земледельцы, которые не доживут до этого времени «в нынешнем своем устройстве»? Чему будут рады сельские пролетарии, попавшие в батраки к общинникам? Эти последние сумеют довести эксплуатацию рабочей силы до той же степени интенсивности, на какой она будет стоять в частных хозяйствах. Русский «народ» разделится, таким образом, на два класса: эксплуататоров – общин и эксплуатируемых – личностей. Какая судьба ожидает эту новую касту париев? Западноевропейский пролетарий, ряды которого постоянно возрастают, благодаря концентрации капиталов, может льстить себя тою надеждою, что раб – сегодня, он станет независимым и счастливым работником – завтра; может ли утешать себя такою перспективой русский пролетарий, возрастание численности которого будет замедлено существованием общинного землевладения? Не ожидает ли его рабство без надежды, суровая борьба
без торжества, без примиренья?
Чью сторону должна будет принять в этой борьбе наша социалистическая интеллигенция? Если она будет отстаивать пролетариат, то не придется ли ей сжечь все, чему она поклонялась, и отталкивать общину, как оплот мелкобуржуазной эксплуатации?
Если такие вопросы не возникали в уме Н.Г. Чернышевского, который писал об общинном землевладении до уничтожения крепостного права и мог надеяться, что развитие сельского пролетариата будет сделано невозможным – путем тех или других законодательных постановлений, то неизбежно все или почти все они должны были явиться перед нашими революционерами семидесятых годов, которые знали характер пресловутой реформы 19 февраля. Как ни трудно придумать такие законы, которые ограждали бы общину от разложения, не налагая вместе с тем самого нестерпимого гнета на весь ход нашей промышленной жизни, как ни трудно сочетать коллективизм крестьянского землевладения с денежным хозяйством и с товарным производством всех продуктов, не исключая и земледельческих продуктов самих общин, но обо всем этом еще можно было говорить и спорить до 1861 года. Крестьянская же реформа должна была придать такого рода спорам и разговорам вполне определенную подкладку. В своих экскурсиях в область более или менее сомнительного будущего наши революционеры должны были исходить из бесспорных фактов настоящего. А это настоящее имело уже очень мало общего со старой, знакомой Гакстгаузену и Чернышевскому картиной дореформенной крестьянской жизни. «Положение 19 февраля» выбило общину из устойчивого равновесия натурального хозяйства и предало ее во власть всех законов товарного производства и капиталистического накопления. Выкуп крестьянских земель должен был, как мы это увидим ниже, совершаться на основаниях, враждебных принципу общинного землевладения. Кроме того, сохранивши общину в интересах фиска, наше законодательство предоставило, однако, двум третям домохозяев право окончательного раздела общинных земель на подворные участки. Переделы были также затруднены и, в довершение всего, на «свободных земледельцев» был наложен совершенно несообразный с их платежными силами гнет податей и повинностей. Все протесты крестьян против «нового крепостного права» были подавлены силою розг и штыков, и «новую» Россию охватила горячка денежных спекуляций. Железные дороги, банки, акционерные компании росли, как грибы. Приведенное выше предсказание Н.Г. Чернышевского относительно предстоящих России «значительных экономических преобразований» – исполнилось раньше, чем великий учитель молодежи дошел до места своей ссылки. Александр II был царем буржуазии так же точно, как Николай был солдатским и дворянским царем.
С этими неопровержимыми фактами необходимо было считаться нашей революционной молодежи, отправлявшейся в начале семидесятых годов «в народ», с целью социально-революционной пропаганды и агитации. Теперь имелось в виду уже не освобождение помещичьих крестьян от крепостной зависимости, а освобождение всего трудящегося населения России от ига эксплуатации всякого рода; теперь речь шла уже не о крестьянской «реформе», а об «установлении крестьянского братства, где не будет ни моего, ни твоего, ни барыша, ни угнетения, а будет работа на общую пользу и братская помощь между всеми»[28]. Чтобы основать такое «крестьянское братство», нужно было обращаться уже не к правительству, не к Редакционной Комиссии и даже не к «обществу», а к самому крестьянству. Предпринимая такое освобождение трудящихся, которое должно быть делом «самих трудящихся», необходимо было с бóльшею точностью исследовать, определить и указать революционные факторы народной жизни, а для этого нужно было перенести на арифметический язык абстрактные, алгебраические формулы, выработанные передовой литературой предшествующих десятилетий, подвести итог всем тем положительным и отрицательным влияниям русской жизни, от совокупности которых зависел ход и исход начинаемого дела. А так как наша молодежь еще из статей Чернышевского знала, что «масса народа до сих пор понимает землю, как общинное достояние, и количество земли, находящейся в общинном владении… так велико, что масса участников, совершенно выделившихся из него в полновластную собственность отдельных лиц, по сравнению с ним незначительна», то именно с общинного землевладения и должно было начаться изучение революционных факторов русской жизни.
Как отразились на общине противоречивые постановления «Положения 19 февраля»? Обладает ли она достаточною устойчивостью для борьбы с неблагоприятными для нее условиями денежного хозяйства? Не ступило ли уже развитие нашей крестьянской жизни на тот путь «естественного закона своего движения», с которого уже не в состоянии будут совратить ее ни строгость законов, ни пропаганда интеллигенции? А если нет, если наш крестьянин-общинник до сих пор может без большого труда усвоить социалистические идеалы, то ведь это пассивное дело усвоения должно сопровождаться энергичным актом осуществления, требующим борьбы с многочисленными препятствиями; способствуют ли условия жизни нашего крестьянства выработке в нем активной энергии, без которой остались бы бесполезными все его «социалистические» предрасположения?
Различные фракции нашего движения различным образом решали эти вопросы. Большая часть революционеров готова была согласиться с Герценом в том, что русский народ «равнодушен, неспособен» к политике. Но склонность к идеализации народа была так велика, взаимная связь различных сторон общественной жизни была так плохо выяснена в умах наших социалистов, что в этой неспособности «ко всем политическим вопросам» видели как бы гарантию против буржуазных «полурешений», как бы доказательство большой способности народа к правильному решению вопросов экономических. Интерес и способность к политике считались необходимыми лишь для политических революций, которые во всей нашей социалистической литературе того времени противополагались «социальным» революциям, как злое начало – доброму, как буржуазный обман – полному эквиваленту за пролитую народом кровь, за понесенные им потери. «Социальной» революции соответствовал, по нашим тогдашним понятиям, интерес к социальным же вопросам, который и усматривался в жалобах крестьянства на малоземелье и податные тягости. От сознания народом своих ближайших нужд до понимания «задач рабочего социализма», от горьких сетований на эти нужды до социалистической революции – путь, казалось, был не долог и лежал опять-таки через общину, казавшуюся нам прочной скалой, о которую разбились все волны экономического движения.
Но как одна точка не определяет положение линии на плоскости, так и поземельная община, на идеализации которой сходились все наши социалисты, не обусловливала собою сходства их программ. Все чувствовали, что и в самой общине, и в миросозерцании, и привычках общинников есть много – частью недоделанного и недоконченного, а частью и прямо противоречащего социалистическим идеалам. Способ устранения этих недостатков и служил яблоком раздора для наших фракций.
Впрочем, и в этом отношении была черта, которую можно признать общею всем нашим революционным направлениям.
Этой общей им всем чертой была вера в возможность могущественного, решающего влияния нашей революционной интеллигенции на народ. Интеллигенция играла в наших революционных расчетах роль благодетельного провидения русского народа, провидения, от воли которого зависит повернуть историческое колесо в ту или иную сторону. Как бы кто из революционеров ни объяснял современное порабощение русского народа – недостатком ли в нем понимания, отсутствием ли сплоченности и революционной энергии, или, наконец, полною неспособностью его к политической инициативе – каждый думал, однако, что вмешательство интеллигенции устранит указываемую им причину народного порабощения. Пропагандисты были уверены, что они без большого труда научат крестьянство истинам научного социализма. Бунтари требовали немедленного создания «боевых» организаций в народе, не воображая, что оно может встретить какие-либо существенные препятствия. Наконец, сторонники «Набата» полагали, что нашим революционерам стоит только «захватить власть», – и народ немедленно усвоит социалистические формы общежития. Эта самоуверенность интеллигенции уживалась рядом с самой беззаветной идеализацией народа и с убеждением – по крайней мере большинства наших революционеров – в том, что «освобождение трудящихся должно быть делом самих трудящихся». Предполагалось, что формула эта получит совершенно правильное применение, раз только наша интеллигенция примет народ за объект своего революционного воздействия. О том, что это основное положение устава Международного товарищества рабочих имеет другой, так сказать, философско-исторический смысл, что освобождение данного класса может быть его собственным делом лишь в том случае, когда в нем самом является самостоятельное движение во имя своей эмансипации, – обо всем этом наша интеллигенция частью не задумывалась вовсе, а частью имела довольно странное представление. Так, например, в доказательство того, что народ наш сам, без помощи интеллигенции, начал уже понимать условия своего истинного освобождения – приводилось недовольство его реформой 1861 года. В доказательство же его способности к самостоятельному революционному движению – ссылались обыкновенно на наши «крестьянские войны», на бунты Разина и Пугачева.
Тяжелый опыт скоро показал нашим революционерам, что от жалоб на малоземелье бесконечно далеко до выработки определенного классового сознания и что от бунтов, происходивших 100 и 200 лет тому назад, нельзя умозаключать к готовности народа восстать в настоящее время. История нашего революционного движения семидесятых годов была историей разочарований в «программах», казавшихся самыми практичными и безошибочными.
Но нас интересует в настоящее время история революционных идей, а не история революционных попыток. Для нашей цели необходимо подвести итог всем тем социально-политическим воззрениям, которые достались нам в наследство от предшествующих десятилетий.
Посмотрим же, что завещала нам, в этом случае, каждая из главных фракций семидесятых годов.
Поучительнее всего будут для нас теории М.А. Бакунина и П.Н. Ткачева. Программа так называемых пропагандистов, сводившая к распространению социалистических идей всю дальнейшую историю России, вплоть до революции, страдала слишком заметным идеализмом. Они рекомендовали русским социалистам пропаганду так же точно, как рекомендовали бы они ее при случае социалистам польским, сербским, турецким, персидским, словом, социалистам любой страны, лишенной возможности организовать рабочих в открытую политическую партию. Вышеприведенное герценовское сравнение судьбы «Евклидовых положений» с вероятной историей социалистических идей могло бы служить типическим примером их аргументации в пользу своей программы. Они понимали это сравнение, само по себе довольно рискованное, в том абстрактном и одностороннем смысле, что для усвоения раз выработанных социально-политических понятий достаточно субъективной логики людей, не поддерживаемой объективной логикой общественных отношений. Они сделали мало ошибок в анализе общественных отношений России по той простой причине, что совсем почти не брались за такой анализ.
5. М.А. Бакунин
Не так рассуждал Бакунин. Он понимал, что воздействие революционной интеллигенции на народ возможно лишь при наличии известных исторических условий, лишь при существовании в самом народе более или менее сознательного стремления к социалистическому перевороту. Поэтому он исходил из сравнения «народных идеалов» с идеалами нашей интеллигенции, конечно, анархического направления.
По его мнению, в русском народе существуют в самых широких размерах те два элемента, на которые мы можем указать, как на необходимые условия социальной революции. «Он может похвастаться чрезмерной нищетой, а также рабством примерным (sic). Страданиям его нет числа, и переносит он их не терпеливо, а с глубоким и страстным отчаянием, выразившимся уже два раза исторически, двумя страшными взрывами: бунтом Стеньки Разина и пугачевским бунтом, и не перестающим поныне проявляться в беспрерывном ряде частных крестьянских бунтов»[29]. Совершить победоносную революцию ему мешает не «недостаток в общем идеале, который был бы способен осмыслить народную революцию, дать ей определенную цель». Если бы такого идеала не было, «если бы он не выработался в сознании народном, по крайней мере в своих главных чертах, то надо было бы отказаться от всякой надежды на русскую революцию, потому что такой идеал выдвигается из самой глубины народной жизни, есть непременным образом результат народных исторических испытаний, его стремлений, страданий, протестов, борьбы и вместе с тем есть как бы образное и общепонятное, всегда простое, выражение его настоящих требований и надежд… если народ не выработает сам из себя этого идеала, то никто не будет в состоянии ему его дать». Но «нет сомнения», что такой идеал существует в представлении русского крестьянства, «и нет даже необходимости слишком далеко углубляться в историческое сознание нашего народа, чтобы определить его главные черты».
Автор «Государственности и анархии» насчитывает шесть «главных черт» русского народного идеала: три хороших и три дурных. Присмотримся к этой классификации повнимательнее, так как миросозерцание М.А. Бакунина наложило свой отпечаток на взгляды многих из тех наших социалистов, которые никогда не были его последователями или даже выступали в качестве его противников.
«Первая и главная черта – это всенародное убеждение, что земля, вся земля принадлежит народу, орошающему ее своим потом и оплодотворяющему ее своим трудом. Вторая столь же крупная черта, что право на пользование ею принадлежит не лицу, а целой общине, миру, разделяющему ее временно между лицами; третья черта одинаковой важности с двумя предыдущими, это – квазиабсолютная автономия, общинное самоуправление, и вследствие того решительно враждебное отношение общины к государству».
«Вот три главные черты, которые лежат в основании русского народного идеала. По существу своему, они вполне соответствуют идеалу, вырабатывающемуся за последнее время в сознании пролетариата латинских стран, несравненно ближе ныне стоящих к социальной революции, чем страны германские. Однако русский народный идеал омрачен тремя другими чертами, которые искажают его характер и чрезвычайно (Nota bene) затрудняют и замедляют осуществление его… Эти три затемняющие черты; 1) патриархальность; 2) поглощение лица миром; 3) вера в царя… Можно было бы прибавить, в виде четвертой черты, христианскую веру, официально-православную или сектаторскую, но… у нас в России этот вопрос далеко не представляет той важности, какую он представляет в Западной Европе»[30].
Против этих-то отрицательных черт народного идеала и должны бороться «всеми силами» русские революционеры, и такая борьба «тем возможнее, что она уже существует в самом народе».
Уверенность в том, что сам народ начал уже борьбу против отрицательных «черт» своего идеала, представляла собою очень характерную «черту» всей программы русских бакунистов. Она являлась соломинкой, за которую хватались они, чтобы спастись от логических выводов из их собственных посылок и от результатов сделанного М.А. Бакуниным анализа народного идеала. «Ни лицу, ни обществу, ни народу нельзя дать того, чего в нем уже не существует не только в зародыше, но даже в некоторой степени развития», – читаем мы в «примечании А», столько раз уже цитированном нами. Оставаясь последовательным, русский бакунист должен был бы «отказаться от всякой надежды на русскую революцию», если бы народ сам не заметил «затемняющих черт» своего идеала и если бы его недовольство этими чертами не достигло уже «некоторой степени развития». Понятно поэтому, что в эту сторону должна была направиться вся диалектическая сила родоначальника русского «бунтарства».
Нужно заметить, кроме того, что в этом пункте М.А. Бакунин был очень недалек от вполне правильной постановки вопроса о шансах социально-революционного движения в России и от серьезного, критического отношения к характеру и «идеалам» нашего народа. Такого критического отношения именно и недоставало русским общественным деятелям. Еще А.И. Герцен поражался отсутствием сколько-нибудь определенной и общепринятой характеристики русского народа. «Иные говорят только о всемогуществе царя, о правительственном произволе, о рабском духе подданных; другие утверждают, напротив, что петербургский империализм не народен, что народ, раздавленный двойным деспотизмом правительства и помещиков, несет ярмо, но не мирится с ним, что он не уничтожен, а только несчастен и в то же время говорят, что этот самый народ придает единство и силу колоссальному царству, которое давит его. Иные прибавляют, что русский народ – презренный сброд пьяниц и плутов; другие же уверяют, что Россия населена способною и богато одаренною породою людей»[31].
С тех пор, как были впервые написаны цитированные мною строки, прошло уже тридцать лет, а между тем не только иностранцы, которых имел в виду Герцен, но и русские общественные деятели придерживаются диаметрально противоположных взглядов на характер и «идеалы» русского народа. Нет ничего удивительного, конечно, в том, что всякая партия склонна преувеличивать сочувствие народа к ее собственным стремлениям. Но ни во Франции, ни в Германии, ни в какой-либо другой западной стране нельзя встретить того противоречия во взглядах на крестьянство, какое нас поражает в России. Это противоречие ведет подчас к весьма забавным недоразумениям. Различие в социально-политическом миросозерцании людей самых противоположных направлений определяется часто одним только различием в понимании «народных идеалов». Так, например, г-н Катков и г-н Аксаков согласились бы с г-ном Тихомировым в том, что «политическая программа… должна брать народ, каков он есть, и только в этом случае будет способна производить воздействие на его жизнь». Затем, редактор «Руси» мог бы принять, что «на 100 миллионов жителей» у нас «приходится 800 000 рабочих, объединенных капиталом», как уверяет г-н Тихомиров в своей статье «Чего нам ждать от революции?»; редактор же «Московских Ведомостей» счел бы, может быть, эту оценку слишком низкой и указал бы на многие неточности в статистических выкладках г-на Тихомирова. Тем не менее и тот, и другой подписались бы обеими руками под тем мнением, что Россия – страна земледельческая, что к ней не приложимы результаты «анализа общественных отношений, сделанного… в капиталистических странах Европы», что толковать о политическом и экономическом значении русской буржуазии смешно и нелепо, что русские социал-демократы осуждены на «положение поистине трагическое», и что, наконец, говоря о том, «каков есть» народ, нужно иметь в виду именно наше крестьянство. Несмотря, однако, на то, что миросозерцание литературных представителей наших крайних (в различные стороны) партий «охватывает взгляды, в некоторой мере» тождественные между собою, выводы, делаемые ими из своих посылок, оказываются диаметрально противоположными. Пишет о народе г-н Тихомиров, – и мы с удовольствием узнаем, что, «разочаровываясь в самодержавии царей», народ наш может перейти «только к самодержавию народа», что «в революционный момент наш народ в политическом отношении не может оказаться раздробленным, когда речь зайдет об основном принципе государственной власти. Точно так же он окажется совершенно единодушным в экономическом отношении по вопросу о земле, т. е. по вопросу основному для современного русского производства» (sic). Веселое настроение духа окончательно овладевает нами, когда мы читаем, что «ни по нравственной силе, ни по ясности общественного самосознания, ни по вытекающей отсюда исторической устойчивости – мы ни один из наших общественных слоев не можем поставить рядом с крестьянско-рабочим классом», что «впечатление интеллигенции не обманывает ее, и в момент окончательной развязки современной путаницы политических отношений народ, конечно, выступит более сплоченным, чем хотя бы прославленная (кем?) буржуазия».
Мы видим, что народ «хочет хорошо», как уверял когда-то французов один русский писатель, и, преисполненные радостью, готовимся уже грянуть – «гром победы раздавайся, веселись, храбрый росс!», как вдруг нам попадается на глаза «Русь» – и мы опускаемся с неба на землю. Оказывается, что народ «хочет» совсем скверно. Он боготворит царя, отстаивает телесные наказания, не помышляет ни о каких революциях и готов немедленно разносить в прах народолюбцев, как только относительно их получится «строгая телеграмма». В ссылках на современную действительность, и даже на историю, здесь, как и в статьях г-на Тихомирова, нет недостатка. Что за странность! Обращаемся к известным своим беспристрастием исследователям народной жизни, вроде г-на Успенского, и наше разочарование только усиливается. Мы узнаем, что народ наш находится под «властью земли», которая заставляет его довольно логически умозаключать к абсолютизму, не делая даже намека на переход к «самодержавию народа». Тот же г-н Успенский убеждает нас, что не только у таких крайних полюсов, как г-да Аксаков и Тихомиров, но и у людей одинаковых приблизительно воззрений существуют диаметрально противоположные взгляды на народ.
Чем же обусловливается все это вавилонское столпотворение, вся эта путаница понятий?
Бакунинская классификация различных сторон «народного идеала» дает нам довольно вероятное объяснение. Все дело в том, что г-н Тихомиров кладет в основу своих социально-политических рассуждений некоторые положительные «черты» этого идеала (те самые, которые «по существу своему вполне соответствуют идеалу, вырабатывающемуся в сознании пролетариата латинских стран»): «всенародное убеждение, что земля, вся земля, принадлежит народу, и что право на пользование ею принадлежит не лицу, а целой общине, миру, разделяющему ее временно между лицами». И хотя автора статьи «Чего нам ждать от революции?» не особенно обрадовала бы третья черта, «одинаковой важности с двумя предыдущими», т. е. «решительно враждебное отношение к государству», но эта вражда в самой бакунинской классификации является лишь следствием «квазиабсолютной автономии общинного самоуправления», на которое опираются многие надежды г-на Тихомирова[32]. О «затемняющих» чертах народного идеала (патриархальность, поглощение лица миром, «суеверие народа, естественным образом сопряженное в нем с невежеством», нищетой и т. д.) наш автор или ничего не знает, или ничего не хочет сообщить своим читателям. Г-н Аксаков поступает наоборот. Он строит свою аргументацию именно на этих последних «чертах», забывая или умалчивая о противоположных. Статьи г-на Успенского также перестают приводить нас в изумление. Он сопоставил Ормузда с Ариманом, дурные стороны идеала с хорошими, и пришел в тупой переулок «власти земли», из которого нет, по-видимому, выхода ни крестьянину, ни всей России, которая стоит на крестьянине, как земля «на трех китах»; изображенные же им народолюбцы опять-таки видели – кто светлые, а кто «несчастные» черты народного характера и идеала, а потому и не могли прийти ни к какому соглашению. Все это совершенно понятно, и нельзя не поблагодарить покойного Бакунина за тот ключ, который он дал нам для понимания односторонности как его собственных последователей, так и бóльшей части наших народников вообще.
Но Бакунин недаром изучал когда-то немецкую философию. Он понимал, что предложенная им классификация «черт народного идеала» – берем ли мы одни хорошие, или одни «несчастные», или, наконец, и счастливые и «несчастные черты» – объясняет только китайскую сторону вопроса. Он понимал, что народ нужно «брать» не «каков он есть», а каким он стремится стать и становится под влиянием данного исторического движения. В этом случае Бакунин был гораздо ближе к Гегелю, чем к Тихомирову. Он не удовольствовался тем убеждением, что именно «таков есть» народный идеал, но озаботился изучением «черт» этого идеала в их развитии, в их взаимном соотношении. Именно в этом пункте он был, как я сказал выше, очень недалек от правильной постановки вопроса. Если бы он надлежащим образом применил диалектический метод к объяснению народной жизни и народного миросозерцания, если бы он лучше усвоил ту «доказанную Марксом несомненную истину, подтверждаемую всей прошлой и настоящей историей человеческого общества, народов и государств, что экономический факт всегда предшествовал и предшествует… политическому праву», а следовательно, и социально-политическим идеалам «народов», если бы он своевременно вспомнил, что «в доказательстве этой истины состоит именно одна из главных научных заслуг г-на Маркса»[33], то мне не пришлось бы, вероятно, спорить с г-ном Тихомировым, так как от «бакунизма» не осталось бы и следа.
Но Бакунину изменила диалектика или, вернее, он изменил ей.
Вместо того, чтобы исходить из «экономических фактов» в своем анализе социально-политического идеала русского народа, вместо того чтобы ожидать переработки этого старого «идеала» от влияния новых тенденций в экономической жизни народа, автор «Государственности и анархии» устанавливает совершенно произвольную иерархию «недостатков» народного идеала, стараясь найти такую комбинацию «несчастных» его «черт», при которой одна из них нейтрализируется или даже совершенно уничтожается другою. Это превращает всю его аргументацию в совершенно произвольную игру совершенно произвольными определениями. Автор, бывший, казалось, так недалеко от истины, вдруг удалился от нее на бесконечное расстояние по той простой причине, что он лишь чувствовал необходимость диалектической оценки народного миросозерцания, но не сумел или не захотел сделать ее. Вместо ожидаемой диалектики явилась на сцену софистика. «Бакунизм» был спасен, но выяснение задач русской революционной интеллигенции не подвинулось ни на один шаг вперед.
Иерархия различных недостатков народного идеала установляется таким образом. «Поглощение лица миром и богопочитание царя собственно вытекают, как естественные результаты… из патриархальности». Сама община оказывается «ничем иным, как естественным расширением семьи, рода»[34], а царь – «всеобщим патриархом и родоначальником, отцом всей России». Именно «поэтому власть его безгранична». Отсюда понятно, что патриархальность оказывается «главным, историческим злом», против которого мы обязаны «бороться всеми силами». Но как бороться «против исторического зла» анархисту, не имеющему «намерения и ни малейшей охоты навязывать нашему или чужому народу какой бы то ни было идеал общественного устройства, вычитанного из книжек или выдуманного им самим»? Не иначе, как опираясь на историческое развитие народного идеала. Но способствует ли развитие русского народного идеала устранению из него затемняющей черты патриархальности? Несомненно, и именно вот каким образом: «война против патриархальности ведется ныне чуть ли не в каждой деревне и в каждом семействе, и община, мир до такой степени обратились теперь в орудие ненавистной народу государственной власти и чиновнического произвола, что бунт против последних становится вместе с тем и бунтом против общинного и мирского деспотизма[35]. Не смущаясь тем, что борьба против общинного деспотизма не может не пошатнуть самого принципа общинного землевладения, автор считает вопрос окончательно решенным и уверяет, что «остается богопочитание царя», которое «чрезвычайно поприелось и ослабло в самом сознании народном за последние десять или двенадцать лет», даже не потому, что пошатнулась «патриархальность», а «благодаря мудрой и народолюбивой политике Александра II благодушного». После многих испытаний русский народ «начал понимать, что у него нет врага пуще царя». Интеллигенции приходится только поддерживать и усиливать это антицарское направление в народной мысли. В заключение, той же интеллигенции рекомендуется бороться против еще одного «главного недостатка», не упомянутого при выше цитированном перечислении черт народного идеала. Недостаток этот, «парализирующий и делающий до сих пор невозможным всеобщее народное восстание в России, это – замкнутость общин, уединение и разъединение крестьянских миров»… Если принять во внимание, что «разъединение крестьянских миров» есть результат того обстоятельства, что «каждая община составляет в себе замкнутое целое, вследствие чего ни одна из общин не имеет, да и не чувствует[36] надобности иметь с другими общинами никакой самостоятельной органической связи», что «соединяются они между собою только посредством батюшки-царя, только с его верховной, отеческой власти», то приходится сознаться, что на интеллигенцию возлагается нелегкая задача. «Связать лучших крестьян всех деревень, волостей и по возможности областей… между собою, и там, где это возможно, провести такую же живую связь между фабричными работниками и крестьянством»… сделать так, «чтобы лучшие или передовые крестьяне каждой деревни, каждой волости и каждой области знали таких же крестьян всех других деревень, волостей, областей»… «убедить их в том, что в народе живет несокрушимая сила, которая могуча только, когда она собрана и действует одновременно… и что до сих пор она не была собрана»; связать и организовать «села, волости, области по одному общему плану и с единою целью всенародного освобождения», – словом, прибавить несколько новых, очень хороших «черт» к народному характеру и идеалу и устранить из них несколько коренных недостатков, это – работа, достойная титанов! И за это-то гигантское предприятие приходится браться в том убеждении, что «нужно быть олухом царя небесного или неизлечимым доктринером для того, чтобы вообразить себе, что можно что-нибудь дать народу, подарить ему какое бы то ни было материальное благо или новое умственное или нравственное содержание, новую истину и произвольно дать его жизни новое направление или, как утверждал… покойный Чаадаев, писать на нем, как на белом листе, что угодно»[37]… Можно ли вообразить более вопиющее противоречие между теоретическими положениями «программы» и намеченными ею практическими задачами?
Людям, не желавшим окончательно разрывать с логикой, оставалось или отказаться от практической части этой программы, удерживая основные ее положения, или преследовать указанные ею практические задачи, стараясь подыскать для них новое теоретическое обоснование. Так оно и вышло впоследствии.
6. П.Н. Ткачев
Но рядом с бакунизмом, носившим в своих собственных недрах элементы своего разложения, существовало другое течение в русской революционной партии. Крайне враждебное анархической философии М.А. Бакунина, оно сходилось с ним, – как я говорил уже в брошюре «Социализм и политическая борьба», – в оценке современной русской действительности. В то же время от многих промахов автора «Государственности и анархии» направление это было застраховано. Так сказать, меньшею претенциозностью, низшим логическим типом своей аргументации.
М.А. Бакунин пытался найти оправдание для рекомендуемого им способа действий в самом ходе развития народного миросозерцания, но, употребивши в дело неподходящий критерий, он вынужден был подставить на место исторического развития русской общественной жизни логические скачки своей собственной мысли. П.Н. Ткачев, родоначальник того направления, к которому мы переходим теперь, совсем не задумывался о диалектическом анализе наших общественных отношений. Он умозаключал к своей программе непосредственно от статики этих отношений. Современный склад русской жизни казался ему как бы нарочно придуманным для социальной (что, по его терминологии, значило – социалистической) революции. Толковать о прогрессе, развитии – значило для него изменять народному делу. «Теперь, или очень не скоро, быть может, никогда!» – таков был девиз его органа «Набат». Ту же мысль высказывает он в своей брошюре «Задачи революционной пропаганды в России», она же проходит через каждую строку его «Открытого письма к Энгельсу». Не пускаясь в трудный путь диалектики, он не делал свойственных Бакунину неверных логических шагов, над которыми он так едко смеялся в своей «Анархии мысли». Он был последовательнее Бакунина в том смысле, что тверже держался своих посылок и делал из них более логические выводы. Вся беда заключалась лишь в том, что не только эти посылки, но и та точка зрения, на которую он становился при их выработке, были ниже бакунинских, по той простой причине, что они были ни чем иным, как упрощенным бакунизмом, бакунизмом, отказавшимся от всякой попытки создать свою философию русской истории и предавшим такого рода попытки революционной анафеме. Немногих выписок из сочинений Ткачева будет достаточно, чтобы подтвердить все сказанное.
Начнем с «Открытого письма к г-ну Фридриху Энгельсу».
Письмо это имеет целью «помочь невежеству» Энгельса, доказать ему, что «осуществление социальной революции не встречает в России никаких препятствий», и что «в каждую данную минуту возможно возбудить русский народ к единодушному революционному протесту»[38]. Способ доказательства этого тезиса так своеобразен, так характерен для истории развития «бедной русской мысли», так важен для понимания и правильной оценки программы «партии Народной Воли», до такой степени предвосхищает всю аргументацию г-на Тихомирова, что заслуживает самого серьезного внимания читателей.
По мнению П.Н. Ткачева, было бы ребячеством мечтать о пересаждении на русскую почву «Международной ассоциации рабочих». Этому препятствуют социально-политические условия России. «Да будет Вам известно, – говорит он Энгельсу, – что мы в России не располагаем ни одним из тех средств революционной борьбы, которые находятся к Вашим услугам на Западе вообще и в Германии в частности. У нас нет городского пролетариата, нет свободы прессы, нет представительного собрания, нет ничего, что давало бы нам надежду соединить (при современном экономическом положении) в один хорошо организованный, дисциплинированный рабочий союз… забитую, невежественную массу трудящегося люда»… «У нас немыслима рабочая литература, но если бы создание ее и было возможно, то она оказалась бы бесполезной, так как большинство нашего народа не умеет читать». Личное влияние на народ также невозможно, благодаря полицейским постановлениям, преследующим всякое сближение интеллигенции с черным народом. Но все эти неблагоприятные условия, – уверяет Энгельса автор письма, – «не должны приводить Вас к той мысли, что победа социальной революции более проблематична, менее обеспечена в России, чем на Западе. Ни в каком случае!.. Если у нас нет некоторых из тех шансов, которые есть у Вас, то мы можем указать много таких, которых не хватает у Вас».
В чем же заключаются эти шансы? Почему мы можем ждать революции и чего должны ожидать от нее?
«У нас нет городского пролетариата, это, конечно, верно; но зато у нас совсем нет буржуазии. Между страдающим народом и угнетающим его деспотизмом государства у нас нет никакого среднего сословия; наши рабочие должны будут бороться лишь с политической силой – сила капитала находится у нас еще в зародыше»…
«Наш народ невежествен – это также факт. Но зато он в огромном большинстве случаев проникнут принципами общинного владения; он, если можно так выразиться, коммунист по инстинкту, по традиции»…
«Отсюда ясно, что, несмотря на свое невежество, народ наш стоит гораздо ближе к социализму, чем народы Запада, хотя они и образованнее его».
«Народ наш привык к рабству и повиновению – этого также нельзя оспаривать. Но Вы не должны заключать отсюда, что он доволен своим положением. Он протестует, непрерывно протестует против него. В какой бы форме «и проявлялись эти протесты, в форме ли религиозных сект, называемых расколом, в отказе ли от уплаты податей или в форме восстаний и открытого сопротивления власти – во всяком случае он протестует, и по временам очень энергично»…
«Правда, эти протесты узки и разрозненны. Но, несмотря на это, они в достаточной мере доказывают, что народу невыносимо его положение, что он пользуется каждым случаем, чтобы дать волю накопившемуся в его груди чувству озлобления и ненависти. И поэтому русский народ можно назвать инстинктивным революционером, несмотря на его кажущееся отупение, несмотря на отсутствие у него ясного сознания своих прав»…
«Наша интеллигентная революционная партия немногочисленна, – это также верно. Но зато она не преследует никаких других идеалов, кроме социалистических, а враги ее почти еще бессильнее ее, и это их бессилие идет ей на пользу. Наши высшие сословия не представляют собою никакой силы, – ни экономической (они для этого слишком бедны), ни политической (они слишком тупы и слишком привыкли во всем полагаться на мудрость полиции). Наше духовенство не имеет никакого значения… Наше государство только издали представляется силой. В действительности его сила – кажущаяся, воображаемая. Оно не имеет корней в экономической жизни народа. Оно не воплощает в себе интересов какого-либо сословия. Оно равномерно давит все классы общества и пользуется равномерною ненавистью со стороны их всех. Они терпят государство, переносят его варварский деспотизм с полным равнодушием. Но это терпение, это равнодушие… является продуктом ошибки: общество создало себе иллюзию о силе русского государства и находится под волшебным ее влиянием». Но немного нужно, чтобы рассеять эту иллюзию. «Два-три военных поражения, одновременное восстание крестьян во многих губерниях, открытое восстание в резиденции в мирное время – и ее влияние мгновенно рассеется, и правительство увидит себя одиноким и всеми покинутым»
«Таким образом мы и в этом отношении имеем более шансов, чем Вы (т. е. Запад вообще и Германия в частности). У Вас государство отнюдь не мнимая сила. Оно опирается обеими ногами на капитал; оно воплощает в себе известные экономические интересы. Его поддерживает не только солдатчина и полиция (как у нас), его укрепляет весь строй буржуазных отношений… У нас… наоборот – наша общественная форма обязана своим существованием государству, государству, так сказать, висящему в воздухе, государству, которое не имеет ничего общего с существующим социальным порядком, корни которого кроются в прошедшем, но не в настоящем»[39].
Такова социально-политическая философия П.Н. Ткачева.
Если бы как-нибудь по ошибке наборщика под вышеприведенными выписками была поставлена ссылка на статью «Чего нам ждать от революции?», то едва ли сам г-н Тихомиров заметил бы эту погрешность: до такой степени копия, появившаяся в свет в апреле 1884 года, похожа на оригинал, вышедший десять лет тому назад. Но, увы, что значит слава первого открытия?! Г. Тихомиров ни единым словом не упоминает о своем учителе! Со своей стороны, автор «Открытого письма г-ну Ф. Энгельсу» не счел нужным сослаться на «Государственность и анархию», вышедшую еще в 1873 году и содержащую ту же самую характеристику русских общественных отношений и те же уверения в том, что русский крестьянин – «коммунист по инстинкту, по традиции». Фр. Энгельс был совершенно прав, говоря в своем ответе Ткачеву, что аргументация этого последнего построена на обычных «бакунистских фразах».
Но к чему же приводит бакунизм, потерявший веру в возможность устранить путем непосредственного влияния «несчастные черты» народного идеала и сосредоточивший свое внимание на том счастливом обстоятельстве, что наше государство «висит в воздухе» и «не имеет ничего общего с существующим социальным порядком», а «осуществление социальной революции не представляет никаких трудностей»? Понятно – к чему. «Если капитал у нас еще в зародыше», и «рабочим приходится бороться лишь с политическою силою» царизма, если народ со своей стороны, «всегда готов» к восстанию, как пушкинский Онегин – к дуэли, то революционная борьба приобретает исключительно «политический» характер. А так как, кроме того, у нас нет возможности «соединить в хорошо организованный, дисциплинированный союз забитую, невежественную массу трудящегося люда»; нет возможности создать рабочую литературу и не было бы даже пользы в ее создании, то выходит, что эту политическую борьбу должны вести вовсе не рабочие. Об этом должна позаботиться та самая «немногочисленная интеллигентская революционная партия», сила которой заключается в ее социалистических идеалах и в бессилии ее врагов. Но этому сильному чужим бессилием меньшинству, как по современным русским условиям, так и по самой сущности ее отношений ко всем прочим общественным силам, – не остается ничего другого, как создавать тайную организацию и подготовлять coup d’état[40] в ожидании благоприятных для решительного удара обстоятельств «военных поражений» России, «одновременных бунтов в нескольких губерниях» или «восстания в резиденции». Другими словами, изверившийся в «прогресс» бакунизм самым прямым путем приводит нас к заговору с целью ниспровержения существующего правительства, захвата власти и организации социалистического общества с помощью этой власти и «прирожденных, традиционных» склонностей русского крестьянства к коммунизму. Все это мы и видели в произведениях П.Н. Ткачева гораздо раньше, чем узрели в статье г-на Тихомирова.
Но для полного знакомства с программой Ткачева, или, как говорил он, той «фракции, к которой принадлежит все, что есть в нашей революционной интеллигентной молодежи смелого, умного и энергичного», – нужно обратиться к другим произведениям редактора «Набата», так как «Открытое письмо» заключает в себе лишь уверения в том, что «современный период (русской) истории самый удобный для совершения социальной революции», да указание на такие «общие черты» программы, как «прямое воззвание к народу», создание крепкой революционной организации и строгой дисциплины. Из брошюры же «Задачи революционной пропаганды в России» мы почерпаем ту оригинальную мысль, что «насильственная революция тогда только и может иметь место, когда меньшинство не хочет ждать, чтобы большинство сознало свои потребности, но когда оно решается, так сказать, навязать ему это сознание». Наконец, в сборнике «критических очерков П.Н. Ткачева», изданных под одним общим заглавием «Анархия мысли», мы, в главе, направленной против программы журнала «Вперед» и брошюры «Русской социально-революционной молодежи», уже прямо встречаемся со следующей альтернативой. «Необходимо выбрать одно из двух: или интеллигенция должна захватить после революции власть в свои руки, или она должна противодействовать, задерживать революцию до той блаженной минуты, когда «народный взрыв» не будет более представлять опасностей, т. е. когда народ усвоит результаты мировой мысли, приобретет недоступные ему знания». Уже из того обстоятельства, что знания признаются «недоступными народу», ясно, куда склоняются симпатии П.Н. Ткачева.
Организация заговора с целью захвата власти становится главною практическою задачею пропаганды газеты, а потом журнала «Набат». Параллельно с этим идет пропаганда террора и возвеличение «так называемого нечаевского заговора» на счет кружков пропагандистов. «Для нас, революционеров, не желающих долее сносить несчастий народа, не могущих долее терпеть своего позорного рабского состояния, для нас, не затуманенных метафизическими бреднями и глубоко убежденных, что русская революция, как и всякая другая революция, не может обойтись без вешания и расстрела жандармов, прокуроров, министров, купцов, попов, словом, не может обойтись без «насильственного переворота», для нас, материалистов-революционеров, весь вопрос сводится к приобретению силы власти, которая теперь направлена против нас». Эти строки, напечатанные в 1878 году[41], когда никто не думал еще о создании партии Народной Воли, с достаточною ясностью показывают, где нужно искать источника тех практических идей, пропаганду которых приняла на себя эта партия. Мы думаем поэтому, что редакция «Набата» была по своему права, когда, констатируя в 1879 году «полнейшее фиаско» хождения в народ, она с гордостью прибавляла: «Мы первые указали на неизбежность этого фиаско, мы первые… заклинали молодежь сойти с этого гибельного антиреволюционного пути и снова вернуться к традициям непосредственно революционной деятельности и боевой, централистической революционной организации (т. е. традициям нечаевщины). И наш голос не был голосом вопиющего в пустыне»… «Боевая организация революционных сил, дезорганизации и терроризация правительственной власти – таковы были с самого начала основные требования нашей программы. И в настоящее время эти требования стали, наконец, осуществляться на практике». Увлекшись террористической деятельностью, редакция заявляет даже, что «в настоящее время наша единственная задача – терроризировать и дезорганизовать правительственную власть»[42].
7. Результаты
Ниже мы увидим, какое значение имеют сделанные мною выписки в «опросе о «наших разногласиях». Теперь же взглянем на изложенные нами программы с чисто исторической точки зрения и спросим себя – насколько удовлетворительно был ими поставлен и решен вопрос о состоянии русской общины и о способности русского народа к сознательной борьбе за свое экономическое освобождение?
Мы видели, что как М.А. Бакунин, так и П.Н. Ткачев очень много говорили о коммунистических инстинктах русского крестьянства. Ссылки на эти инстинкты составляют исходную точку их социально-политических рассуждений, главное основание их веры в возможность социалистической революции в России. Но ни автор «Государственности и анархии», ни редактор «Набата» нимало не задумывались, по-видимому, над вопросом о том, потому ли существует община, что народ наш «проникнут принципами общинного землевладения», или потому он «проникнут» этими «принципами», т. е. имеет привычку к общине, что живет в условиях коллективного владения землей? Если бы они внимательнее отнеслись к этому вопросу, ответ на который не может быть сомнительным, то им пришлось бы перенести центр тяжести своей аргументации из области рассуждений о народных «инстинктах» и идеалах в сферу исследований о народном хозяйстве. Тогда им пришлось бы обратить внимание на историю землевладения и вообще права собственности у первобытных народов, на возникновение и постепенный рост индивидуализма в общинах охотничьих, кочевых и земледельческих племен, на социально-политическое влияние этого нового «принципа», становящегося мало-помалу господствующим. Применяя результаты такого рода исследований к России, им пришлось бы сделать оценку тех разлагающих общину условий, значение которых в особенности возросло со времени уничтожения крепостного права. Эта оценка логически привела бы их к попытке определить силу и значение индивидуалистического принципа в хозяйстве современной сельской общины в России. Затем, так как значение этого принципа – под влиянием враждебных коллективизму условий, – постоянно возрастает, то им нужно было бы узнать величину ускорения, приобретаемого индивидуализмом в ходе его вторжения в право и хозяйство общинников. Определив, с возможною в таких случаях точностью, величину этого ускорения, они должны были бы перейти к изучению свойств и развития той силы, с помощью которой они думали не только предупредить торжество индивидуализма и не только восстановить сельскую общину в ее первобытном виде, но и придать ей новую, высшую форму. При этом возник бы очень важный, как мы видели, вопрос о том, явится ли эта сила продуктом внутренней жизни общины или результатом исторического развития высших сословий[43]. Во втором из предположенных случаев интересующая нас сила оказалась бы чисто внешнею силою по отношению к общине, и тогда им прежде всего нужно было бы спросить себя, достаточно ли одних внешних влияний для переустройства экономической и социально-политической жизни данного класса? Покончив с этим вопросом, пришлось бы немедленно считаться с другим, а именно – где должно искать точку приложения этой силы, в сфере ли условий жизни или в области привычек мысли нашего крестьянства? В заключение им нужно было бы доказать, что сила сторонников социализма увеличивается с большей быстротой, чем совершается рост индивидуализма в русской экономической жизни. Только сделав это обстоятельство по крайней мере вероятным, они могли бы доказать вероятность той социальной революции, которая, по их мнению, не могла встретить в России «никаких» затруднений.
В каждом из вышеперечисленных случаев им пришлось бы иметь дело не со статикой, а с динамикой наших общественных отношений, «брать» народ не таким, «каков он есть», а таким, каким он становится, рассматривать не неподвижную картину, а совершающийся по известным законам процесс русской жизни. Им пришлось бы употребить в дело то самое орудие диалектики, которое уже употреблялось Чернышевским для изучения вопроса об общине в самом абстрактном его виде.
К сожалению, ни Бакунин, ни Ткачев не сумели, как мы видели, подойти с этой, наиболее важной, стороны к вопросу о шансах социальной революции в России. Они довольствовались тем убеждением, что народ наш «коммунист по инстинкту, по традиции», и если Бакунин обращал должное внимание на слабые стороны народных «традиций» и народного инстинкта, если Ткачев видел, что устранить такого рода слабые стороны можно лишь путем учреждений, а не логических доводов, то все-таки ни тот, ни другой из названных писателей не довели дело анализа до конца. Взывая к нашей интеллигенции, они ожидали социальных чудес от ее деятельности и полагали, что ее преданность заменит народную инициативу, ее революционная энергия займет место внутреннего стремления русской общественной жизни к социалистической революции. Народное хозяйство, уклад жизни и привычки мысли нашего крестьянства рассматривались ими именно как неподвижная картина, как законченное целое, подлежащее лишь незначительным видоизменениям вплоть до самой социальной революции. В представлении тех самых писателей, которые, конечно, не отказались бы признать современные им формы народной жизни результатом исторического развития, – история как бы «останавливала свое течение». От времени выхода в свет «Государственности и анархии» или «Открытого письма к Фр. Энгельсу» вплоть до первого или «второго дня после революции», сельская община должна была, по их мнению, остаться в своем нынешнем виде, от которого так недалек будто бы переход к социализму. Весь вопрос был в том, чтобы поскорее приняться за дело и идти по надлежащей дороге. «Мы не допускаем никаких отсрочек, никакого промедления… Мы не можем и не хотим ждать… Пусть каждый соберет поскорее свои пожитки и спешит отправиться в путь!» – писал редактор «Набата». И хотя по вопросу о направлении этого пути между Бакуниным и Ткачевым были коренные разногласия, но, во всяком случае, каждый из них был уверен, что если молодежь пойдет по указанному им пути, то успеет еще застать общину в состоянии желательной прочности. Хотя «каждый день приносит нам новых врагов, создает новые враждебные нам общественные формы», но эти новые формы не изменяют взаимного отношения факторов русской общественной жизни. Буржуазия продолжает отсутствовать, государство продолжает «висеть в воздухе». Погромче ударивши «в набат», поэнергичнее взявшись за революционную работу, мы успеем еще спасти «коммунистические инстинкты» русского народа и, опираясь на его привязанность к «принципам общинного землевладения», сумеем совершить социалистическую революцию. Так рассуждал П.Н. Ткачев, так же или почти так же рассуждал и автор «Государственности и анархии».
Наша молодежь читала произведения обоих писателей и, поделившись на фракции, действительно спешила взяться за дело. С первого взгляда может показаться странным, каким образом ткачевская или бакунинская программа могла найти адептов в той самой интеллигентной среде, которая воспитывалась на сочинениях Н.Г. Чернышевского и уже по одному тому должна была выработать привычку к более строгому мышлению. Но дело – в сущности – просто и объясняется отчасти влиянием того же Чернышевского.
Гегель не даром отводил в своей философии такое важное место вопросу о методе, и не даром также те из западноевропейских социалистов, которые с гордостью «ведут свою родословную», между прочим, «от Гегеля и Канта», придают гораздо большее значение методу исследования общественных явлений, чем данным его результатам[44]. Ошибка в результатах непременно будет замечена и исправлена при дальнейшем применении правильного метода, между тем как ошибочный метод, наоборот, лишь в редких частных случаях может дать результаты, не противоречащие той или другой частной истине. Но серьезное отношение к методологическим вопросам возможно лишь в обществе, получившем серьезное философское образование. Русское же общество никогда не могло похвастаться таким образованием. Недостаток философского развития с особенною силою сказался у нас в шестидесятых годах, когда наши «мыслящие реалисты», создавши культ естественных наук, открыли жестокое гонение на философскую «метафизику». Под влиянием этой антифилософской пропаганды, последователи Н.Г. Чернышевского не могли усвоить себе приемы его диалектического мышления, а сосредоточивали свое внимание лишь на результатах его исследований. В результате же этих исследований являлась, как мы знаем, уверенность в возможности непосредственного перехода нашей общины в высшую, коммунистическую форму общежития. Это убеждение страдало односторонностью уже в силу своей абстрактности, и ученики, оставшиеся верными духу, а не букве сочинений Чернышевского, конечно, не замедлили бы перейти, как я выразился выше, от алгебры к арифметике, от общих отвлеченных рассуждений о возможных переходах одних социальных форм в другие к подробному изучению вопроса о современном состоянии и вероятной будущей судьбе русской общины в частности. Так называемый «русский» социализм был бы поставлен, таким образом, на совершенно твердую почву. К сожалению, наша революционная молодежь даже и не подозревала, что у ее учителя был какой-то особенный метод мышления. Успокоившись на результатах его исследований, она видела его единомышленников во всех писателях, отстаивавших принцип общинного землевладения, и между тем как сам автор «Критики философских предубеждений» никогда не мог сойтись, например, со Щаповым[45], наша молодежь видела в исторических трудах последнего лишь новую иллюстрацию и новые доводы в пользу мнений своего учителя. Тем менее могла она подвергать строгой критике новые революционные учения. П.Н. Ткачев и М.A. Бакунин казались ей людьми совершенно одного направления с Н.Г. Чернышевским. Ученики Гегеля не оставили камня на камне в его системе, строго держась того самого метода, который завещал им великий мыслитель. Они держались духа, а не буквы его системы. Последователи Н.Г. Чернышевского не решались даже подумать о критическом отношении к мнению своего учителя. Строго держась каждой буквы его писаний, они утратили всякое понятие об их духе. Вследствие этого они не сумели сохранить в чистом виде даже результаты исследований Чернышевского и в смеси их с славянофильскими тенденциями образовали ту своеобразную теоретическую амальгаму, в которой выросло потом наше народничество.
Таким образом, предшествующая социалистическая литература завещала нам несколько (не нашедших подражателей) попыток применения диалектического метода к решению важнейших вопросов русской общественной жизни и несколько социалистических программ, из которых одна рекомендовала социалистическую пропаганду, считая русское крестьянство столь же восприимчивым к ней, как и западноевропейский пролетариат; другая – настаивала на организации всенародного бунта, а третья, не считая возможной ни пропаганду, ни организацию, указывала на захват власти революционной партией, как на исходный пункт русской социалистической революции.
Теоретическая постановка революционного вопроса не только не подвинулась вперед со времени Чернышевского, но во многих отношениях отступила назад, к полуславянофильским воззрениям Герцена. Русская революционная интеллигенция начала семидесятых годов не прибавила ни одного серьезного аргумента в пользу отрицательного решения поставленного еще Герценом вопроса о том, «должна ли Россия пройти всеми фазами европейского развития?».
Глава I. Некоторые исторические справки
1. Русский бланкизм
Теперь прошло уже десять лет со времени появления важнейших из программ семидесятых годов. Десять лет усилий, борьбы и тяжелых, иногда, разочарований показали нашей молодежи, что организация революционного движения в крестьянстве невозможна при современных русских условиях. Бакунизм и народничество, как революционные учения, отжили свой век и находят теперь радушный прием лишь в консервативно-демократическом литературном лагере. Им предстоит или совершенно утратить свои отличительные черты и слиться с новыми, более плодотворными революционными течениями, или застыть в своем старом виде и служить опорой для политической и социальной реакции. Наши пропагандисты старой пробы также сошли теперь со сцены. Не то с теориями П.Н. Ткачева. Хотя в течение целых десяти лет «каждый день приносил нам новых врагов, создавал новые, враждебные нам общественные факторы», хотя социальная революция «встретила» за это время некоторые немаловажные «препятствия», русский бланкизм возвышает теперь свой голос с особенной силой, и, по-прежнему уверенный в том, что «современный исторический период особенно благоприятен для совершения социальной революции», он по-прежнему обвиняет всех «несогласномыслящих» в умеренности и аккуратности, повторяя на новый лад свою старую погудку: «теперь или очень не скоро, быть может, никогда! мы не имеем права ждать, пусть каждый соберет свои пожитки и спешит отправиться в путь», и так далее, и так далее. С этим-то окрепшим и, если можно так выразиться, помолодевшим ткачевизмом и приходится иметь дело всякому, кто хотел бы писать о «разногласиях», существующих в настоящее время в русской революционной среде. С ним тем более придется считаться при исследовании вопроса о «судьбе русского капитализма».
Я уже не один раз говорил, что статья г-на Тихомирова «Чего нам ждать от революции?» представляет собою лишь новое, дополненное, хотя в то же время во многих отношениях ухудшенное издание социально-политических воззрений П.Н. Ткачева. Если я не ошибся в распознавании характеристических черт русского бланкизма, то литературная деятельность партии Народной Воли сводится к повторению на разные лады ткачевских учений. Разница лишь в том, что для Ткачева «переживаемый нами момент» относился к началу семидесятых годов, а для публицистов партии Народной Воли он совпадает с концом того же и началом следующего десятилетия. При полном отсутствии того, что немцы называют «историческим смыслом», русский бланкизм с большою легкостью переносит и будет переносить это понятие об особенно благоприятном для социальной революции «моменте» с одного десятилетия на другое. Оказавшись лжепророком в восьмидесятых годах, он с достойным лучшей участи упорством возобновит свои пророчества через десять, через двадцать, через тридцать лет и будет возобновлять их вплоть до того времени, когда рабочий класс поймет, наконец, условия своего социального освобождения и будет встречать его проповедь самым гомерическим хохотам. Для пропаганды бланкизма благоприятен каждый исторический момент, кроме момента, действительно благоприятного для социалистической революции.
Но пора точнее определить употребляемые мною выражения. Что такое бланкизм вообще? Что такое русский бланкизм?
П.Л. Лавров надеется, как мы видели, что «большинство членов группы «Освобождение труда» – «может быть не сегодня-завтра в рядах «Народной Воли». Он утверждает, что «сам г-н Плеханов совершил уже достаточно значительную эволюцию в своих политико-социальных убеждениях, чтобы мы имели основание надеяться на новые шаги с его стороны в этом же направлении». Если партия Народной Воли стоит, поскольку можно судить об этом по ее литературным произведениям, на точке зрения бланкизма, то выходит, что и моя «эволюция» совершается «в этом же направлении». Проповедуемый мною в настоящее время марксизм представляет собою, следовательно, лишь чистилище, через которое должна пройти моя социалистическая душа для окончательного успокоения в лоне бланкизма. Так ли это? Будет ли такого рода «эволюция» прогрессивной? Как представляется этот вопрос с точки зрения современного научного социализма?
«Бланки – прежде всего политический революционер, – читаем мы в одной статье Энгельса, – социалист лишь по своим чувствам, симпатизирующий народу в его страданиях, но не имеющий своей особой социалистической теории и не предлагающий никаких определенных мер социального переустройства. В своей политической деятельности он был, главным образом, так называемым «человеком дела», убежденным в том, что небольшое число хорошо организованных людей, выбрав подходящий момент и произведя революционную попытку, может увлечь народную массу одним-двумя успехами и совершить таким образом победоносную революцию. В царствование Луи-Филиппа он мог организовать это ядро, конечно, лишь в виде тайного общества, и тогда произошло то, что всегда происходит при заговоре. Составляющие его люди, утомившись вечной сдержанностью и напрасными обещаниями, что дело скоро дойдет до решительного удара, потеряли, наконец, всякое терпение, перестали повиноваться, и тогда оставалось одно из двух: или дать распасться заговору, или начинать революционную попытку без всякого внешнего повода. Такая попытка и была сделана (12 мая 1839 г.), и была подавлена в самом начале. Впрочем этот заговор Бланки был единственный, который не был открыт полицией.
«Из того, что Бланки всякую революцию представлял себе в виде Handstreich[46] небольшого революционного меньшинства, сама собою следует необходимость революционной диктатуры после удачного переворота; конечно, диктатуры не целого революционного класса, пролетариата, но небольшого числа тех, которые совершили Handstreich и которые сами еще ранее того подчинялись диктатуре одного или немногих избранных.
«Читатель видит, – продолжает Энгельс, – что Бланки есть революционер старого поколения. Подобные представления о ходе революционных событий слишком уже устарели для немецкой рабочей партии, да и во Франции могут встретить сочувствие лишь со стороны наименее зрелых или наименее терпеливых рабочих».
Мы видим, таким образом, что социалисты новейшей, научной школы смотрят на бланкизм, как на устаревшую уже точку зрения. Переход из марксизма в бланкизм, конечно, не невозможен, – чего не бывает на свете? – но он ни в каком случае не будет признан ни одним из марксистов прогрессом в «политико-социальных убеждениях» кого-либо из их единомышленников. Только с точки зрения бланкиста такая «эволюция» может быть признана прогрессивной. И если почтенный редактор Вестника Народной Воли не изменил самым коренным образом своих воззрений на социализм школы Маркса, то его пророчество относительно группы «Освобождение труда» должно привести всякого беспристрастного читателя в совершенное недоумение.
Мы видим, кроме того, из приведенных слов Энгельса, что ткачевское понимание «насильственной революции», как чего-то «навязанного» меньшинством большинству, есть не что иное, как бланкизм, который можно было бы назвать самым чистопробным, если бы редактор «Набата» не вздумал доказывать, что в России социализм не нужно даже навязывать большинству, коммунистическому «по инстинкту, по традиции».
Отличительной чертою русской разновидности бланкизма является, таким образом, лишь заимствованная у Бакунина идеализация русского крестьянства. Перейдем теперь к воззрениям г-на Тихомирова и посмотрим, подходят ли они под это определение или представляют собою новую разновидность «русского социализма».
2. Л. Тихомиров
Я утверждаю, что в них нет решительно ничего нового, кроме нескольких исторических, логических и статистических ошибок.
Эти ошибки, действительно, представляют собою нечто новое, оригинальное, характеристичное лишь для миросозерцания г-на Тихомирова. Ни бланкизм вообще, ни русский бланкизм в частности не играли никакой роли в их возникновении и в их своеобразной «эволюции».
Появление их вызвано причиною чисто отрицательного свойства: незнанием, которое вообще играет довольно видную роль в генезисе социально-политических понятий нашей интеллигенции, а в статье г-на Тихомирова достигает совсем уже нескромных размеров.
Читателю нетрудно будет проверить справедливость нашего отзыва, если он потрудится вместе с нами над распутыванием скомканной и во многих местах оборванной нити «самобытных» рассуждений нашего автора.
Начнем с истории революционных идей в России и на Западе.
«Еще немного лет назад, – говорит г-н Тихомиров, – социалисты, исходя из анализа общественных отношений, сделанного их учителями в капиталистических странах Европы, признавали политическую деятельность скорее вредною в интересах собственно народной массы, так как полагали, что конституция будет у нас орудием организации буржуазии, каким является в Европе. На основании этих соображений в среде наших социалистов можно было даже встретить мнение, что из двух зол – самодержавный царь для народа все-таки лучше, «ежели царь конституционный. Другое направление, так называемое либеральное, имело противоположный характер» и т. д.[47]).
Русские социалисты «признавали политическую деятельность скорее вредною… исходя из анализа…, сделанного их учителями в капиталистических странах Запада». О каком «анализе» говорит г-н Тихомиров? Каких учителей имеет он в виду? С кого он «портреты пишет, где разговоры эти слышит»? Известно, что западноевропейская социалистическая мысль, «исходя из анализа…, сделанного в капиталистических странах Европы», представляла и до сих пор представляет «два типа отношений к вопросу о политической деятельности». Последователи Прудона проповедуют политическое воздержание и советуют следовать ему вплоть «до другого дня после революции». Для них «политическая революция – цель, экономическая революция – средство». Поэтому они хотят начинать с экономического переворота, полагая, что при современных условиях политическая деятельность «скорее вредна в интересах собственно народной массы», и что конституция является лишь «орудием организации буржуазии». Другое направление «имело противоположный характер». Уже «Deutsch-Französische Jahrbücher», вышедшие в Париже в 1844 году, наметили в общих чертах политическую задачу рабочего класса. В 1847 году Маркс писал в своей «Misère de la philosophie»: «Не говорите, что социальное движение исключает движение политическое. Никогда не бывает политического движения, которое не было бы в то же время и социальным. Только при таком порядке вещей, при котором не будет классов и антагонизма классов, социальные эволюции перестанут быть политическими революциями[48]. В «Манифесте Коммунистической партии» Маркс и Энгельс опять возвращаются к тому же вопросу, доказывают, что «всякая классовая борьба есть борьба политическая», и самым едким образом смеются над «теми истинными социалистами», по мнению которых – как и по мнению г. Тихомирова – конституция «является в Европе» лишь «орудием организации буржуазии». По мнению авторов «Манифеста», социализм, выступавший против освободительного движения буржуазии, «утрачивал свою педантическую невинность» и становился орудием политической и социальной реакции. Та же самая мысль повторялась затем много раз в других произведениях как самих авторов Манифеста, так и их последователей. Можно сказать, что почти каждый номер каждой социал-демократической газеты каждой европейской страны воспроизводит эту мысль в том или другом виде. Карл Маркс и марксисты сделали все, чтобы выяснить свои социально-политические взгляды и показать неосновательность прудонистской «программы».
И после такой-то блестящей литературной деятельности, деятельности, открывающей собою новую эпоху в истории социалистической мысли «Европы», мы слышим, что русские социалисты отрицали целесообразность политической борьбы лишь потому, что «исходили из анализа, сделанного их учителями в капиталистических странах Запада». Можно ли серьезно говорить теперь о каком-нибудь другом «анализе общественных отношений» Западной Европы, кроме анализа, заключающегося в сочинениях Маркса и Энгельса? Это уместно было бы лишь в историческом сочинении, трактующем об ошибках и односторонностях предшественников Маркса. Но г-н Тихомиров или совсем незнаком с литературой марксизма, или понял ее так же, как г-н Иванюков, «банкротство» которого было возвещено и отчасти доказано в первой книжке «Вестника». Русские социалисты говорили о вреде политической деятельности не потому, что они вообще «исходили из анализа общественных отношений» Западной Европы, а потому, что они исходили из ошибочного мелкобуржуазного «анализа» Прудона. Но все ли они были прудонистами? Все ли они придерживались учения Бакунина, этого, так сказать, реформатора прудонизма? Кому же не известно, что далеко не все! П.Н. Ткачев точно так же, как и решительно все западноевропейские бланкисты, исходя, впрочем, не из «анализа, сделанного в капиталистических странах Европы», а из традиций французского якобинства, жесточайшим образом нападали на принцип «политического воздержания». Разве П.Н. Ткачев не писал именно «еще много лет тому назад»? Разве его мнения не должны быть занесены в историю русской революционной мысли? Г-н Тихомиров сделал бы очень рискованный шаг, решившись ответить на последний вопрос утвердительно: а что если его собственная философия действительно окажется лишь новым изданием философии Ткачева? Ведь сравнение очень легко сделать каждому читателю.
Но одни ли бакунисты и бланкисты существовали «еще немного лет тому назад» в русском революционном движении? Не было ли других направлений? Не было ли писателей, которые знали, что конституция «является в Европе»… «орудием организации» не только буржуазии, но и еще другого класса, интересов которого социалисты не могут игнорировать, не изменяя своему знамени? Мне кажется, что – были, и были именно в лагере противников Ткачева, который, восставая против той мысли, что политическая деятельность «скорее вредна в интересах собственно народной массы», требовал, однако, или всего или ничего, или захвата власти социалистами или политического застоя России. Когда на этом основании он вздумал припугнуть русских социалистов призраком капитализма и буржуазной конституции, то вот что ответил ему один известный русский писатель, обращаясь к нашей «социально-революционной молодежи»: «Вам говорят, что революция необходима для России теперь или она не осуществится никогда. Вам рисуют картину развивающейся у нас буржуазии и говорят вам, что с ее развитием борьба станет труднее, что революция будет невозможна. Очень плохо думает автор о вашей сообразительности, если думает, что вы поддадитесь на его аргументы»… «Какое основание думать, что борьба народа с буржуазией в России была бы немыслима, если бы, действительно, в России установились формы общественной жизни, подобные формам заграничной? Разве не развитие буржуазии, именно, вызвало пролетариат к борьбе? Разве не во всех странах Европы раздаются громко призывы к близкой социальной революции? Разве не сознает буржуазия опасность, которая грозит ей от рабочих и все приближается?.. Наша молодежь вовсе не так отрезана от мира, чтобы вовсе не знать этого положения дел, и люди, желающие уверить ее, что господство буржуазии было бы непоколебимо у нас, чересчур рассчитывают на ее недостаток знания, рисуя ей фантастическую картину Европы».
Ясно, что автор этих строк никоим образом не считает конституцию «орудием организации» одной только «буржуазии», каким она «является в Европе» по словам г-на Тихомирова. Прав или неправ этот автор – пусть г-н Тихомиров судит, как хочет, но нельзя было не упомянуть о нем, говоря о «типах отношений» нашей интеллигентной мысли» к вопросу о политической деятельности. Если цитируемый нами автор – нынешний соредактор г-на Тихомирова, П.Л. Лавров[49] – и не признавал целесообразности политической борьбы в России, то уж ни в каком случае не потому, что «исходил» из бакунистского анализа «общественных отношений в капиталистических странах Европы». Со стороны г-на Тихомирова совершенно непростительно такое невнимание к литературной деятельности его уважаемого товарища.
Впрочем, будем беспристрастны, постараемся указать смягчающие его вину обстоятельства. Чем объясняется это невнимание? Почему г-н Тихомиров заносит всех русских социалистов недавнего прошлого в список бакунистов и умалчивает о литературной деятельности П.Л. Лаврова, забывает о Ткачеве уже теперь, когда «башмаков еще не износили» контрабандисты, доставлявшие «Набат» в Россию? По очень простой причине. «Ничто не ново под луною», – утверждают скептики. И если эту мысль нельзя признать безусловно верною, то несомненно все-таки, что во многих программах «русского социализма» решительно «ничто не ново». А между тем сторонникам этих программ очень приятно заявить, что их направление было первым «гласным проявлением» такого-то и такого-то «сознаниям. Чтобы доставить себе подобное удовольствие, остается лишь кое-что позабыть в истории русского революционного движения и кое-что прибавить к ней от себя. Тогда будет ясно, что «наша интеллигентная мысль» представляла собою какую-то заблудшую овцу, пока не появилась данная программа; но с тех пор как авторы этой программы произнесли свое «да будет свет» – начался «величественный восход солнца», как выражается Гегель об эпохе французской революции. Надлежащая точка зрения была найдена, заблуждения были рассеяны, истина – открыта. Удивительно ли, что люди, которым приятный самообман дороже «тьмы горьких истин», соблазняются такого рода перспективой и, забывая о своих предшественниках и современниках, приписывают своей «партии» открытие таких приемов борьбы, которые часто не были не только открыты, но даже поняты ею правильным образом?
Г-н Тихомиров увлекся именно такими шаблонными приемами исторического исследования. Ему хотелось показать, что хотя «в общей массе русская революционная интеллигенция», вопреки знаменитому «анализу», и «не могла отрешиться от борьбы против политического гнета», но все это, однако, «делалось только невольно и само собой. Идея действительной равноправности политического и экономического элементов в партионной программе – нашла себе ясное и громкое признание только с появлением Народовольства»[50] (которому наш автор бьет челом и большою буквой). Чтобы доказать свое положение, г-н Тихомиров и приписал всем русским социалистам взгляды, разделявшиеся только бакунистами. Так как эти последние считали политическую деятельность «скорее вредною», а народовольцы признали ее скорее полезною, то ясно, что честь первого открытия пользы политической деятельности принадлежит «народовольству». Упоминать о Ткачеве было неудобно, потому что тогда обнаружилось бы, что он проповедовал именно того рода «равноправность политического и экономического элементов в партионной программе», которая «нашла ясное и громкое признанье» будто бы «только с появлением народовольства». Упоминать о литературных произведениях своего соредактора г-н Тихомиров также не нашел «своевременным», так как для их критики и оценки пришлось бы стать на точку зрения, совершенно непривычную для человека, до сих пор воображающего, что нет другого «анализа общественных отношений» Западной Европы, кроме анализа, «сделанного» Прудоном и прудонистами, Бакуниным и бакунистами.
Г-н Тихомиров «сделал» для возвеличения своей партии все возможное и прихватил даже немножко невозможного. Он решился, например, утверждать, что «бывшие основатели Черного Передела» принадлежали когда-то к числу «самых ярых противников конституции». А между тем, если бы он руководствовался в своих исторических изысканиях стремлением к истине, а не интересами «партионной политики», то он не забыл бы, что в первом же номере «Черного Передела», в «Письме к бывшим товарищам», высказывается следующий взгляд на конституцию, далеко не соответствующий его представлению «о бывших основателях» названного органа: «Не подумайте, пожалуйста, товарищи, что я вообще против конституции, против политической свободы, – говорит автор этого письма. – Я слишком уважаю человеческую личность, чтобы быть против политической свободы… Говорить, что идея политической свободы для народа вещь непонятная, ненужная – не резон. Она (т. е. политическая свобода) для него такая же необходимая потребность, как и для интеллигентного. Разница в том, что эта потребность у народа срастается с другими, более насущными, основными потребностями экономического свойства. Эти-то последние должна принять в резон каждая социально-революционная партия, если она желает, чтобы политическая свобода была вполне обеспечена и гарантирована от узурпации и искажений враждебных ей элементов».
В этих строках есть кое-какие неточности в выражениях, неправильности в определении понятий. Но заключить из них, что «основатели Черного Передела» были «противниками конституции», да еще противниками «самыми ярыми» – может лишь человек, или окончательно распростившийся с логикой, или сознательно игнорирующий факты в интересах своей «партии», или, наконец, совсем не знающий этих фактов, т. е. не знающий той самой истории революционных идей в России, о которой он трактует «с ученым видом знатока».
Но, быть может, основатели «Черного Передела» изменили свои взгляды на конституцию впоследствии? Посмотрим. Под редакцией этих «основателей» вышло два номера названного органа. Мы знаем уже, какие взгляды на политическую свободу заключаются в первом номере; что же находим мы во втором?
«Конечно, не нам, отрицающим всякое подчинение человека человеку, оплакивать падение абсолютизма в России; не нам, которым борьба с существующим режимом стоила таких страшных усилий и стольких тяжелых потерь – желать его продолжения, – читаем мы в передовой статье этого номера. – Мы знаем цену политической свободы и можем пожалеть лишь о том, что и русская конституция отведет ей недостаточно широкое место. Мы приветствуем всякую борьбу за права человека, и чем энергичнее ведется эта борьба, тем более мы ей сочувствуем… Но, кроме выгод, которые, несомненно, принесет с собою политическая свобода, кроме задач ее завоевания, – есть другие выгоды и задачи; и забывать о них невозможно именно в настоящее время, когда общественные отношения так заострились и когда поэтому нужно быть готовым ко всему»[51].
Таким ли языком говорят «самые ярые противники конституции»?
В программе «Черного Передела» были, конечно, весьма существенные ошибки. Их было в ней не меньше, чем в программе партии Народной Воли. Но с успехом критиковать эти ошибки можно только с точки зрения научного социализма, а вовсе не с точки зрения «народовольских» публицистов. Эти последние страдают тем же самым недостатком, каким страдали когда-то «основатели Черного Передела» – именно неумением критически отнестись к социально-политическим формам нашей народной жизни. Люди, мирящиеся с идеализацией этих форм и строящие на ней свои практические планы, обнаруживают более последовательности, умозаключая к программе «Черного Передела», чем подписываясь под программой партии Народной Воли.
Пусть г-н Тихомиров попробует доказать противное.
Впрочем, у него едва ли хватит на это времени. Ему нужно будет раньше показать, чем отличается его революционное миросозерцание от миросозерцания П.Н. Ткачева, чем отличается социально-политическая философия статьи «Чего нам ждать от революции?» от социально-политической философии «Открытого письма к Фр. Энгельсу». Пока он не выполнит этой трудной задачи, рассуждения его об историческом значении народовольства будут лишены всякого значения. Читатель может признать, что действия народовольцев были героическими, а теории их были из рук вон плохими и, главное, совсем не новыми; другими словами, он может сказать, что народовольцы-террористы были героями, а народовольцы-писатели людьми… не стоявшими на высоте своей задачи. Этого вывода не пошатнет даже ссылка на тот факт, что «социалисты в народовольстве первый раз доросли до значения партии, и притом партии, быть может, наиболее сильной в стране». Если бы в этих словах не было и тени преувеличения, то и тогда из них можно было бы сделать лишь тот вывод, что бывают времена, когда, несмотря на ошибочные и незрелые теории, энергичные партии могут «дорасти» до преобладающего влияния в стране. Но и только. Умозаключать от влияния той или другой партии к безошибочности ее теорий могут лишь люди, совершенно незнакомые с историей. Народовольство не ново даже в том отношении, что ход его идей далеко отстал от «хода вещей», им самим «чинимых». Мало ли было партий, не понимавших исторического значения своей деятельности, мало ли было фикций, совершенно не соответствующих смыслу «партийных» действий? Из того, что индепенденты дорастали временно «до значения партии… быть может, наиболее сильной в стране», еще нельзя выводить, что в их религиозных учениях было более здравого смысла и логики, чем в учениях других партий. А ведь индепендентам удалось даже «захватить власть», что пока только обещают сделать русские бланкисты.
Пока наш автор станет собирать материалы для более прочного возвеличения политической философии «народовольства», мы будем иметь достаточно времени для обстоятельного изучения статьи «Чего нам ждать от революции?» и всестороннего определения миросозерцания г-на Тихомирова.
Мы знаем уже, что он или сам недостаточно хорошо знаком, или не хотел давать своим читателям случай хорошо познакомиться с новейшей историей социализма вообще и «русского социализма» в частности. Перейдем теперь к его рассуждениям об истории вообще и об истории капитализма в частности.
В эти поучительные рассуждения он вдается по следующему неожиданному поводу:
«Политическая борьба, – говорит он, – сделалась таким безапелляционным выводом русской жизни, которого отрицать никто не решается… Но, не решаясь на это, некоторая часть социалистов точно так же не может привести этот вывод в связь с привычными теоретическими взглядами, и в попытках отыскать ее приходит к искусственным построениям, совершенно искажающим смысл политической борьбы, предпринятой Народной Волей.
Какая же это «некоторая часть социалистов», и что это за «привычные» их взгляды? На предыдущих страницах статьи г-на Тихомирова мы прочли, что «еще немного лет назад социалисты… признавали политическую деятельность скорее вредною в интересах собственно народной массы». Мы решили тогда, что, по мнению г-на Тихомирова, все русские социалисты «еще немного лет назад» были бакунистами, так как он не упомянул ни единым словом о других направлениях. Мы узнали также, что народовольство заметило ошибку русских социалистов и помогло им «понять характер исторического развития России». Теперь оказывается, что «некоторая часть» русских социалистов не может разделаться со своими «привычными взглядами» и приходит к выводам «совершенно искажающим» смысл деятельности народовольцев. Очевидно, г-н Тихомиров имеет в виду русских бакунистов, не успевших «понять характер развития России»? Так говорила бы логика, но не совсем так говорит наш автор.
«Исходя из мысли, что Россия должна будто бы неизбежно пройти через фазис капиталистического развития, чтобы стать способной к восприятию и осуществлению идей социализма, они (т. е. социалисты, принадлежащие к упомянутой «некоторой части») стараются увлечь русских революционеров на путь борьбы чисто политической, исключительно за конституцию, оставив, как невозможную фантазию, всякую мысль одновременно с переворотом политическим достигнуть в бóльшей или меньшей степени переворота экономического».
«Какой, с божьей помощью, поворот!» – воскликнем мы словами Щедрина; но, к сожалению, этот лирический порыв не разрешит терзающих нас «проклятых вопросов». Откуда же взялась эта «некоторая часть» русских социалистов, и – что еще удивительнее – откуда взяла она свои «привычные взгляды», если «еще немного лет назад» все русские социалисты отрицали целесообразность политической борьбы? Каким образом люди, не придающие значения этой борьбе, могут «исходить из мысли, что Россия должна… неизбежно пройти через фазис капиталистического развития»? Эта мысль может быть верною, может быть ошибочною, но она, во всяком случае, мысль новая, и никаким образом не относится к «привычным» теоретическим взглядам никакой «части русских социалистов», за это ручается нам как история вопроса о капитализме в России вообще, так и историческая ссылка самого г-на Тихомирова. А если эта мысль новая, то основывается она, вероятно, на каких-нибудь новых «теоретических взглядах», бывших неизвестными или несимпатичными русским социалистам «еще немного лет назад». А если в русской социалистической мысли возникло новое направление, то его следовало назвать, определить, указать его генезис, а не отделываться полунамеками на какие-то «привычные теоретические взгляды», ровно ничего не объясняющие в данном случае.
Впрочем, мы уже заметили выше, что г-н Тихомиров не любит «прямых ударов» и нимало не походит на Святослава, который, ополчаясь на того или другого из своих врагов, говорил ему заранее: «Иду на тя». Г-н Тихомиров «идет» на своих противников без предварительного объявления войны. Это, конечно, дело его вкуса, а о вкусах, как известно, не спорят.
Недоумевая, однако, «зачем же так секретно» поступает наш автор, мы должны «своим умом» дойти до решения в высшей степени интересного для нас вопроса о новом течении в русском социализме. Мы сами отказались от многих старых, «привычных теоретических взглядов» русских социалистов, как знать, может быть, мы и сойдемся с разбираемыми г-ном Тихомировым новаторами. Правда, они непривлекательны в его изображении, ведь «сколько раз твердили миру», что нужно выслушивать и противную сторону!
3. Группа «Освобождение труда»
По мнению «социалистов этой формации», стремление к экономическому перевороту «только вредно, потому что пугает либералов «красным призраком» и лишает нас их содействия при борьбе за конституцию».
Эти слова о «красном призраке» звучат чем-то знакомым. В какой статье, в какой брошюре они встречаются! Ба! Да ведь я употребил это выражение в своей брошюре «Социализм и политическая борьба», где я говорил, что народовольцы пугают наше общество красным призраком.
Что если все сказанное г-ном Тихомировым есть не что иное, как притча, в которой под «некоторой частью социалистов» нужно понимать группу «Освобождение труда», а под «привычными теоретическими взглядами – взгляды членов этой группы? Но нет, это было бы слишком уже комично.
В самом деле, разве группа «Освобождение труда» отказывалась когда-нибудь от «всякой мысли одновременно с переворотом политическим достигнуть в большей или меньшей степени переворота экономического»? Какой вздор! Мы не верим только в ту своеобразную теорию, по которой дело известного класса может быть совершено – «в бóльшей или меньшей степени» – кружком. Мы говорим только, что если адвокат может представлять своего клиента на суде, то никакой Комитет – Исполнительный, Распорядительный, или как бы там его ни называли, – не может представлять рабочего класса в истории; что освобождение этого класса должно быть его собственным делом, и что для совершения этого дела ему нужно приобрести политическое воспитание, понять и усвоить идеи социализма. Мы думаем, что возможность экономического освобождения рабочего класса возрастает прямо пропорционально быстроте и интенсивности этого процесса воспитания и усвоения. Наша социалистическая интеллигенция, со стороны которой было бы ребячеством даже задумываться о совершении экономического переворота собственными силами, может, однако, оказать рабочим неоценимую услугу, подготовляя их к воплощению в жизнь «общей идеи рабочего сословия». Уже в первом литературном произведении группы «Освобождение труда», в брошюре «Социализм и политическая борьба», ясно сказано, что наша интеллигенция «должна стать руководительницей рабочего класса в предстоящем освободительном движении, выяснить ему его политические и экономические интересы, равно как и взаимную связь этих интересов. Она должна позаботиться о том, чтобы еще в доконституционный период изменить фактические отношения русских общественных сил в пользу рабочего класса… Она должна всеми силами стремиться к тому, чтобы в первый же период конституционной жизни России наш рабочий класс мог выступить в качестве особой партии с определенной социально-политической программой. Подробная выработка этой программы должна быть предоставлена самим рабочим, но интеллигенция должна выяснить им главнейшие ее пункты, как, например, радикальный пересмотр современных аграрных отношений, податной системы и фабричного законодательства, государственная помощь производительным ассоциациям и т. п.»[52].
Похоже ли все это на отказ от «всякой мысли одновременно с политическим переворотом достигнуть в бóльшей или меньшей степени экономического переворота»! Надеюсь, что – нет; а так как г-н Тихомиров слишком умный человек, чтобы не понять таких простых вещей, и слишком добросовестный писатель, чтобы сознательно извращать их значение, то, очевидно, под «некоторой частью социалистов» он разумел не группу «Освобождение труда», а под «привычными теоретическими взглядами» – не взгляды, изложенные в брошюре «Социализм и политическая борьба».
По всей вероятности, и упоминание о «красном призраке» заимствовано им не из моей брошюры. Если бы это было так, то я мог бы не без основания упрекнуть г-на Тихомирова в том, что он «неточно цитирует». Говоря о «красном призраке», я не рекомендовал нашим социалистам отказаться от стремления «достигнуть в бóльшей или меньшей степени переворота экономического». Я рекомендовал им отказаться от «стремления» болтать о близости экономического переворота в то время, когда ими не сделано ничего или сделано очень мало для действительного осуществления такого переворота и когда уверенность в его близости может основываться лишь на самой ребяческой идеализации народа. Я противопоставлял болтовню о красном призраке действительной работе на пользу экономической эмансипации рабочего класса, как в этом может убедиться всякий, кто прочтет 71 и следующие страницы моей брошюры, на которых встречается, между прочим, указание на пример немецких коммунистов 1848 года[53]. Или г-н Тихомиров обвинит самого Маркса в том, что он отказывался некогда от всякой мысли одновременно с политическим переворотом достигнуть в бóльшей или меньшей степени переворота экономического»? Положим, наш автор, как это видно по всему, очень плохо знаком с западноевропейской социалистической литературой, но такое вопиющее невежество было бы уже совершенно непростительно. Нет, очевидно, не мою брошюру и не мои слова о «красном призраке» имел в виду г-н Тихомиров.
Но раз зашла речь об этом призраке, не мешает объяснить подробнее, по какому случаю я упомянул о нем в своей брошюре.
В конце передовой статьи № 6 «Народной Воли» мы читаем следующее обращение к нашему так называемому обществу:
«Мы, действующие в интересах общества, убеждаем это общество выйти, наконец, из малодушной апатии; мы заклинаем его возвысить голос за свои интересы, за интересы народа, за жизнь своих детей и братьев, систематически преследуемых и убиваемых»[54].
В «Календаре Народной Воли» я прочел, что «в отношении к либералам следует, не скрывая своего радикализма, указывать на то, что при современной постановке партионных задач, интересы наши и их заставляют совместно действовать против правительства»[55].
В то же время, убеждение г. Тихомирова в том, что за падением абсолютизма нас ждет «начало социалистической организации России», было не первым «гласным» проявлением надежд партии Народной Воли. Под этим «началом социалистической организации России» разумелись не те успехи рабочей программы-минимум, которые Маркс называет первой победой экономии труда над экономией капитала, а – «социальная революция» во вкусе «Набата». Для убеждения читателей в возможности такой революции было придумано учение об особенно будто бы благоприятном для нее соотношении политического и экономического факторов на русской почве.
Наконец, агитационное влияние террористической борьбы, «предпринятой» партией Народной Воли, распространялось гораздо более на «общество», чем на «народ», в тесном смысле этого слова.
Ввиду всего этого я и спрашивал себя – кого же обманывает партия Народной Воли: самое себя или «общество»? Каким софистом нужно быть для того, чтобы убедить «либералов», что «современна» постановка партионных задач», т. е. социальная (не говорю социалистическая) революция во вкусе Ткачева, «заставляет их» (либералов) действовать «совместно» с народовольцами против правительства? Где водятся «либералы», до такой степени наивные, что они могли бы не заметить белых ниток этой софистики? Во всяком случае не в России. «Убеждая» наше общество «выйти, наконец, из малодушной апатии», «Народная Воля» уверяет его, вместе с тем, что, выходя из апатии и разрушая абсолютизм, оно непосредственно работает на пользу социальной революции. Пропаганда Народной Воли, рассуждал я, не может иметь успеха в нашем обществе.
С другой стороны, террористическая борьба, при всей своей бесспорной важности, не имеет решительно ничего общего с «началом социалистической организации России». Что же сделано Народной Волей для подготовления такой организации? Создавала ли она тайные революционные кружки в народной среде? Но почему же ничего не слышно о таких кружках? Вела ли она социалистическую пропаганду в народе? Но где же созданная ею народная литература? Кроме весьма плохо редижированной «Рабочей Газеты», мы не знаем ровно ничего. Это значит, что «начало социалистической организации» России ждет партию Народной Воли, так сказать, без всякого приглашения со стороны этой последней. А на такую любезность истории едва ли можно рассчитывать. Народная Воля собирается пожать то, чего не сеяла, отыскивает социальную революцию, так сказать, произрастающую в диком состоянии. Она направляет ружье в одного зайца и думает, что убивает другого. Ее ожидания «от революции» совсем не соответствуют тому, что сделано ею для этой революции. А если это так, то не пора ли согласовать выводы с посылками и понять, что террористическая борьба есть борьба за политическую свободу и ничего более? Не пора ли признать, что эта борьба велась, главным образом, «в интересах общества», как в этом признается № 6 «Народной Воли»? Не пора ли перестать пугать общество появлением «красного призрака» с той стороны, с которой никогда не может показаться красное знамя рабочего класса? Толки об этом логически невозможном появлении вредны не по одному тому, что «лишают нас содействия» либералов «при борьбе за конституцию». Они вселяют в нас ни на чем не основанную уверенность в том, что социалистическая революция «ждет нас помимо всяких усилий с нашей стороны, отвлекают наше внимание от самого важного пункта: организации рабочего класса для борьбы с его настоящими и будущими врагами. Таков и только таков был смысл сказанного мною о «красном призраке».
Во Франции, накануне войны 1870 года, были люди, которые кричали, что французские войска не «встретят препятствий» по дороге в Берлин, и очень мало думали о вооружении и продовольствии солдата. Были в ней и другие люди, которые говорили, что, не пугая никого призраком «дяди», следует заняться прежде всего организацией военных сил страны. Кто лучше понимал интересы своего отечества?
Но мое объяснение увлекло меня в сторону. Я хотел изучать тихомировскую философию истории, а перешел к объяснениям по поводу «красного призрака».
«Некоторая часть социалистов» своей либеральной программой и своими «привычными теоретическими взглядами» должна вывести нас на истинный путь и вернуть к интересующему нас «сюжету».
Что еще говорит эта «некоторая часть», и как побивает ее г-н Тихомиров?
По словам нашего автора, эта «часть» почти ограничивается в своей аргументации вышеприведенными рассуждениями о конституции и страшном призраке. Она даже не позаботилась объяснить свое «чрезмерное пристрастие к конституции». Это зловредное пристрастие «является несколько непонятным, как вообще все эти (какие это все?) программы – и в целом производят впечатление чего-то недоговоренного, не вполне определившегося. Они, однако, порождаются одной общей точкой зрения, уже вполне определенной». Хорошо хоть это; какая же точка порождает «все эти программы»? То есть, между прочим, и программу «некоторой части» социалистов? Очень плохая, потому что она «создает направление», имеющее «разлагающее влияние на революционную партию».
«Мы говорим о том направлении, которое считает историческою неизбежностью русский капитализм и, мирясь с этим, якобы, неизбежным фактом, утешает себя мыслью, что без прохождения через школу капитализма Россия не могла бы стать способной к осуществлению социалистического строя».
Это, положим, не ново, так как на предыдущей странице мы читали, что «некоторая часть социалистов» исходит из мысли, что «Россия должна будто бы неизбежно пройти через фазис капиталистического развития» и т. д. Общая точка зрения, «порождающая все эти программы», оказывается ни чем иным, как исходной точкой одной из этих программ. Но если это не ново и не совсем логично, то, несомненно, интересно. Теперь становится ясной причина «чрезмерного пристрастия к конституции» некоторой части наших социалистов. «В самом деле, для чего нам нужна конституция? – спрашивает г-н Тихомиров. – Ведь не для того же, чтобы дать буржуазии новые средства для организации и дисциплинирования рабочего класса посредством обезземеления, штрафов и зуботычин. Таким образом, броситься прямо в омут с головой может лишь человек, вполне преклонившийся перед неизбежностью и необходимостью капитализма в России». «Некоторая часть социалистов» преклонилась перед этой неизбежностью, и, раз согрешив в мыслях своих, она уже не может остановиться на наклонной плоскости греха и порока. Мало того, что она обнаруживает «пристрастие к конституции», позорное в глазах всякого правоверного бакуниста, она начинает или начнет в весьма непродолжительном времени снисходительно относиться к «обезземелению, штрафам и зуботычинам» в противоположность г-ну Тихомирову, который не хочет ни буржуазии, ни обезземеления, ни штрафов, ни зуботычин. Но зачем же нужны все эти ужасы «некоторой части социалистов»? Дело – ясное. «При настоящем положении России, русского капитализма, русского фабричного рабочего – пропаганда политической борьбы должна временно приводить человека, верующею в историческую необходимость капитализма, к полному отказу от социализма. Рабочего, способного к классовой диктатуре, почти не существует. Стало быть, политической власти ему не доставишь. Не гораздо ли выгоднее временно совершенно оставить социализм, как бесполезную и вредную помеху ближайшей и необходимой цели? Так рассудит человек последовательный и умеющий собой жертвовать». Теперь известно, откуда являются штрафы и зуботычины, хотя и не совсем еще очевидно – суждено ли им существовать лишь в напуганном воображении г-на Тихомирова, или действительно перейти в программу «некоторой части социалистов».
Ниже мы постараемся решить этот важный вопрос, а теперь поспешим вернуться к г-ну Тихомирову, который вступает теперь в генеральное сражение с социалистами, убежденными в исторической неизбежности русского капитализма.
4. Л. Тихомиров в борьбе с группой «Освобождение труда»
«Не основана ли аргументация его сторонников (т. е., по-видимому, сторонников капитализма) на целом ряде софизмов?» – спрашивает он читателя.
Нам указывают на Францию, на Германию (а на Англию не указывают? «Некоторая часть социалистов», очевидно, слона-то и не приметила), где капитализм объединил рабочих. Стало быть, он необходим и для объединения наших. Совершенно таким же способом аргументируют сторонники рабства. Они также указывают на роль рабства в первобытной истории, где оно приучило дикого к труду, дисциплинировало аффекты человека и усилило производительность труда. Все это совершенно справедливо. Но следует ли из этого, чтобы миссионер в центральной Африке (где рабство и без того уже существует, напомню я г-ну Тихомирову) занялся обращением негров в рабство или чтобы педагог применил систему рабского принуждения к воспитанию детей?».
Читатель поспешит согласиться, конечно, что не «следует», и г-н Тихомиров, заранее уверенный в его ответе, продолжает свою аргументацию. «История человечества идет подчас самыми невероятными путями. Мы уже не верим в десницу божию, направляющую каждый шаг человечества и указывающую ему наиболее скорые и верные пути к прогрессу. Напротив, эти пути в истории бывали иной раз слишком кривыми и наиболее рискованными изо всех, какие можно придумать. Случалось, конечно, что исторический факт, вредный и задерживающий развитие людей одними сторонами своими – другими, напротив, служил делу прогресса. Таково было и значение рабства. Но эта школа не лучшая и не единственная. Современная педагогия доказала, что рабское принуждение, это – самый худший изо всех способов приучения к труду… Точно так же по вопросу о развитии крупного производства – позволительно усомниться, чтобы пути истории были в этом отношении лучшими и навеки для всех народов единственно возможными… Совершенно верно, что в истории некоторых европейских народов капитализм, породив массу зла и несчастий, имел однако же одним из своих последствий нечто и хорошее, а именно создание крупного производства, посредством которого подготовил до некоторой степени (?!) почву для социализма. Но ниоткуда не следует, чтобы другие страны, например, Россия, не имели для развития крупного производства других путей… Все заставляет думать, что тот способ обобществления труда, к которому был способен капитализм – один из самых худших, потому что он, действительно подготовляя во многом возможность социалистического строя, в то же время другими своими сторонами, во многом отдаляет момент его наступления. Так, например, капитализм, наряду с механическим сплачиванием рабочих, развивает среди них конкуренцию, подрывающую их нравственное единство; точно так же он стремится держать рабочих на гораздо более низком уровне развития, чем это возможно по общему состоянию культуры; точно так же он прямо отучает рабочих от всякого контроля за общим ходом производства и т. д. Все эти вредные стороны капиталистического обобществления труда не подрывают окончательно значения хороших сторон, но во всяком случае бросают в колесо истории целый ряд толстых палок, без сомнения, замедляющих ее движение к социалистическому строю».
Я не без цели сделал эту огромную выписку из статьи г-на Тихомирова. Именно эти страницы и показывают нам оригинальную сторону философско-исторической теории нашего автора. П.Н. Ткачев, полемизируя с Энгельсом, так сказать, головою выдавал «Запад» своему западноевропейскому противнику. «Ваши теории основаны на западных отношениях, мои – на наших русских; вы правы по-западноевропейски, я прав по-русски», – говорила каждая строка его «Открытого письма». Г-н Тихомиров идет далее. С точки зрения своего «чистого» русского разума, он критикует ход западноевропейского развития, производит целое следствие о «ряде толстых палок», брошенных «в колесо истории» и «без сомнения замедляющих ее движение к социалистическому строю». Он держится, по-видимому, того убеждения, что истории свойственно самостоятельное движение в направлении «к социалистическому строю», совершенно независимое от отношений, созданных тем или другим ее периодом, в данном случае периодом капитализма. Роль последнего в этом «движении истории» – второстепенная и даже довольно сомнительная. «Действительно подготовляя во многом возможность социалистического строя», капитализм «в то же время другими своими сторонами отдаляет момент его наступления». Но что же сообщает истории это «движение»? Ведь г-н Тихомиров «не верит уже в десницу божию», которая с успехом могла бы разрешить роковой для его философии истории вопрос о «первом толчке». Как жаль, что эта оригинальная теория «производит впечатление чего-то недоговоренного, не вполне определившегося».
Ах, уж этот г-н Тихомиров! Любит же он, как видно, потолковать о материях важных! Шутка ли, в самом деле, это убеждение в том, что «история идет подчас самыми невероятными путями», эта уверенность в том, что эти «пути бывали иной раз слишком кривыми и наиболее рискованными из всех, какие можно придумать»! Он, наверное, скоро «придумает», если уже не «придумал», и для «Запада» другой путь к социализму, менее кривой и рискованный, чем путь, по которому шли эти страны, родившие Ньютона, Гегеля, Дарвина, Маркса, но, к сожалению, слишком легкомысленно удалившиеся от Святой Руси и ее самобытных теорий. Г-н Тихомиров не спроста, очевидно, заявляет, что «позволительно усомниться, чтобы пути истории были в этом отношении (т. е. в отношении перехода к социализму) лучшими» и т. д. Не смущайтесь скромностью этого сомнения! Г-н Тихомиров касается здесь знаменитого вопроса о том, лучший ли наш мир из всех, «какие можно придумать», или он страдает некоторою «рискованностью»? Нельзя не пожалеть о том, что наш автор ограничивает свои исследования de optimo mundo[56] одной областью истории. Он, наверное, привел бы своих читателей к благодетельному сомнению в том, что ход развития нашей планеты был самым лучшим из всех, «какие можно придумать». Интересно было бы знать – жив ли еще maître Pangloss, бывший преподаватель метафизико-теологико-космолонигологии в вестфальском замке Гундер-тен-Тронк? Почтенный доктор был, как известно, оптимистом и не без успеха доказывал, что «пути истории» были лучшими «из всех, какие можно придумать». На знаменитый вопрос о том, не могла ли история римской культуры обойтись без насилия, испытанного целомудренной Лукрецией, он ответил бы, конечно, отрицательно. Г-н Тихомиров – скептик и сочтет «позволительным усомниться» в правильности панглоссовского решения этого вопроса. Подвиг Секста, наверное, кажется ему «рискованным» и самым худшим из всех, «какие можно придумать». Такое разногласие могло бы подать повод к весьма назидательным для потомства философским прениям.
Для нас, очень мало интересующихся возможной историей возможного Запада, возможной Европы и совсем уже равнодушных к тем историческим «путям», какие «мог бы придумать» тот или другой досужий метафизик – для нас важно здесь то обстоятельство, что г-н Тихомиров не понял смысла» значения одного из важнейших периодов действительной истории действительного Запада действительной Европы. Сделанная им оценка капитализма не удовлетворила бы даже самых крайних славянофилов, давно уже предавших своей восточной анафеме всю западную историю. Эта оценка полна самых вопиющих логических противоречий. На одной странице статьи «Чего нам ждать от революции?» мы читаем о «могучей культуре Европы», культуре, которая «дает тысячи средств возбудить любознательность дикаря, развить его потребности, наэлектризовать его нравственно» и т. д., а на следующей – нас, русских дикарей, «наэлектризованных нравственно» этими строками, тотчас же погружают в холодную воду вышеупомянутого скептицизма. Оказывается, что «капитализм, породивши массу зла и несчастий, имел, однако же, одним: из своих следствий нечто и хорошее, а именно создание крупного производства, посредством которого подготовил до некоторой степени почву для социализма». Все «заставляет» г-на Тихомирова думать, что тот способ обобществления труда, к которому был способен капитализм – одни из самых худших и т. д. [Словом, г-н Тихомиров стоит перед вопросом об исторической роли капитализма в таком же недоумении, в каком стоял известный генерал перед вопросом о шарообразности земли:
- Говорят, земля шарообразна,
- Готов я это допустить,
- Хоть, признаюсь, что как-то безобразно,
- Что должен я на шаре жить…][57].
Под влиянием этой скептической философии: у нас возникает масса, «нерешенных вопросов». Мы спрашиваем себя, существовала ли «могучая культура Европы» в докапиталистический период, и если нет, то не капитализму ли она обязана своим возникновением, а если – да, то почему г-н Тихомиров мимоходом только упоминает о крупном производстве, приписывая ему лишь «механическое сплачивание рабочих»? Если египетский фараон Хеопс для постройки своей пирамиды «механически сплачивал» сотни тысяч рабочих, то похожа ли его роль в истории Египта на роль капитализма в истории Запада? Нам кажется, что разница лишь количественная: положим, Хеопсу удалось «механически сплотить» гораздо меньше рабочих, но зато он, наверное, «породил» меньшую «массу зла и несчастий». Как думает об этом г-н Тихомиров? Точно так же и римские латифундии, своим «механическим сплачиванием» закованных в цепи рабочих, породивши массу зла к несчастий», вероятно, «подготовили до некоторой степени почву» для перехода античного общества к социализму? Что скажет нам тот же г-н Тихомиров? В его статье мы не находим ответа на эти вопросы, и
- Die Brust voll Wehmut,
- Das Haupt voll Zweifel…[58]
мы поневоле обращаемся к западным писателям. Не разрешат ли они наших сомнений?
5. Историческая роль капитализма
«Буржуазия (а следовательно, и капитализм, г-н Тихомиров, не так ли?) играла в истории в высшей степени революционную роль», – читаем мы в «Манифесте Коммунистической партии».
«Всюду, где она достигла господства, буржуазия разрушила все старые, патриархально-идиллические отношения. Она безжалостно разорвала пестрые феодальные нити, связывавшие человека с его повелителями, и не оставила между людьми никакой связи, кроме голого интереса, бессердечного «чистогана». В холодной воде эгоистического расчета потопила она порывы набожной мечтательности, рыцарского воодушевления и мещанской сентиментальности…
«Буржуазия разоблачила ту ленивую неподвижность, которая составляла естественное дополнение грубого средневекового проявления силы, до сих пор восхищающего реакционеров. Только она показала, какие плоды может приносить человеческая деятельность. Чудеса ее искусства существенно отличаются от египетских пирамид, римских водопроводов и готических соборов, ее завоевания не имеют ничего общего с переселениями народов и крестовыми походами.
«Буржуазия не может существовать, не вызывая постоянных переворотов в орудиях производства, в его организации, а следовательно, во всех общественных отношениях. Неизменное сохранение старых способов производства было, напротив, первым условием существования всех предшествовавших ей промышленных классов. Постоянные перевороты в производстве, непрерывное потрясение всех общественных отношений, вечное движение и вечная неуверенность – отличают буржуазную эпоху от всех предшествовавших. Все прочные, окаменелые отношения, с соответствующими им, исстари установившимися воззрениями и представлениями, – разрушаются, все вновь образовавшиеся оказываются устарелыми прежде, чем успевают окостенеть. Все сословное и неподвижное исчезает, все священное оскверняется, и люди приходят, наконец, к необходимости взглянуть трезвыми глазами на свои взаимные отношения и свое жизненное положение.
«Своей эксплуатацией всемирного рынка буржуазия преобразовала в космополитическом духе производство и потребление всех стран. К великому огорчению реакционеров она лишила промышленность национальной почвы. Старые национальные отрасли производства уничтожены или уничтожаются с каждым днем. Они вытесняются новыми отраслями промышленности, введение которых является вопросом жизни для всех цивилизованных наций, теми отраслями промышленности, которые обрабатывают не местные только сырые продукты, но произведения самых отдаленных стран. В свою очередь, фабричные продукты этой новой промышленности потребляются не только внутри страны, но и во всех частях света. Прежние, удовлетворявшиеся с помощью местных продуктов, потребности заменились новыми, для удовлетворения которых необходимы произведения отдаленнейших стран и разнообразнейших климатов. Прежняя национальная замкнутость и самодовольство уступают место всестороннему обмену и всесторонней взаимной зависимости народов. Этот всесторонний обмен распространяется также и на произведения умственного труда. Плоды умственной деятельности отдельных наций становятся общим достоянием. Национальная односторонность и ограниченность становятся теперь все более и более невозможными, и из многих национальных и местных литератур образуется одна всемирная литература.
«Быстрым усовершенствованием орудий производства и бесконечно облегченными средствами сообщения буржуазия толкает на путь цивилизации все, даже самые варварские народы. Низкие цены товаров являются в ее руках той тяжелой артиллерией, с помощью которой разрушает она все китайские стены и принуждает к капитуляции самую упорную ненависть варваров к иностранцам. Она заставляет все нации принять буржуазные способы производства, под угрозой полного их разорения; она заставляет их усвоить так называемую цивилизацию, т. е. сделаться буржуа. Словом, она творит новый мир, по своему образу и подобию.
«Буржуазия подчинила деревню господству города. Она вызвала к жизни огромные города, в высокой степени увеличила городское население, сравнительно с сельским, и вырвала, таким образом, значительную часть жителей страны из отупляющей обстановки деревни. И рядом с этим подчинением деревни городу она поставила варварские и полуварварские страны в зависимость от цивилизованных, крестьянские народы – от народов буржуазных, Восток – от Запада.
«Менее чем во сто лет своего господства, буржуазия создала более могущественные и более грандиозные производительные силы, чем все предшествующие поколения, вместе взятые. Подчинение человеку сил природы, машины, применение химии к земледелию и промышленности, пароходы, железные дороги, электрические телеграфы, эксплуатация целых частей света, приспособление рек для судоходства, целые, как бы из земли выросшие населения… в каком из предшествующих поколений могли предполагать, что подобные производительные силы таятся в недрах общественного труда?».
Так понимают значение капитализма «революционеры по логике и чувству», Карл Маркс и Фр. Энгельс. А как понимают его умные и образованные консерваторы?
Почти так же. «Акционерные предприятия (высшая фаза развития капитализма, не так ли, г-н Тихомиров?)… имеют свою историческую миссию, – читаем мы в одном из писем Родбертуса к Р. Мейеру, – они должны дополнить дело рук божиих, прорыть перешейки там, где всемогущий забыл или считал несвоевременным сделать это, соединить под морским дном или через морскую поверхность страны, разъединенные морем, пробуравить высокие горы и т. д., и т. д. Пирамиды и финикийские каменные постройки не могут идти в сравнение с тем, что сделает еще акционерный капитал»[59] и т. п.
Таково общее культурно-историческое значение капитализма. А каково влияние его, в частности, на рабочих, на их умственный склад, на их нравственные привычки?
С какими рабочими пришлось иметь дело капитализму в начале его развития? «Не трудно догадаться, каков был умственный и нравственный характер этого класса, – читаем мы у Энгельса об английских ткачах. – Отрезанные от больших городов, до такой степени отрезанные, что старые люди, жившие вблизи городов, никогда там не бывали, пока машины не лишили их дохода и не вынудили искать заработка в городах, – они стояли на моральном и интеллектуальном уровне земледельцев… они видели в своем сквайре своего естественного опекуна, они обращались к нему за советами, предоставляли на его решение свои маленькие распри и питали к нему все то уважение, которое создается такими патриархальными отношениями… Короче, тогдашние английские промышленные рабочие жили и думали так же, как это и теперь еще можно встретить кое-где в Германии[60]: отсталыми и оторванными от внешнего мира, без умственной деятельности и без сильных колебаний в их положении. Они редко умели читать и еще реже писать, аккуратно посещали церковь, не занимались политикой, не конспирировали, не мыслили, услаждались телесными упражнениями, с величайшим благоговением слушали чтение Библии и прекрасно уживались с высшими классами общества, благодаря своей нетребовательности. Но именно поэтому они были умственно мертвы (слушайте, слушайте, г-н Тихомиров!), жили лишь своими мелкими, частными интересами, своими прялками и садиками, и ничего не знали о том сильном движении, которое происходило тогда в человечестве. Им приходилась по душе их растительная жизнь, и без промышленной революции (т. е. капитализма, г-н Тихомиров) они никогда не вышли бы из этого романтического и чувствительного, но недостойного человека существования. Они были не людьми, а только рабочими машинами в руках немногих аристократов, которым принадлежала до тех пор руководящая роль в истории; промышленная революция сделала только вывод из этого положения, окончательно превращая рабочих в машины и лишая их последней тени самостоятельности, но в то же время возбуждая их к умственной деятельности и завоеванию человеческого существования. Она, эта промышленная революция в Англии, вырвала рабочих «из их апатии по отношению к общечеловеческим интересам» и «втолкнула их в водоворот истории»[61].
Так говорит Энгельс, которого буржуазные экономисты обвиняют в том, что он слишком радужными красками изображал положение рабочих в докапиталистический период и слишком мрачно описал то же положение в период капитализма. Такими обвинениями изобилует, например, книга Бруно Гильдебранда Die Nationalökonomie der Gegenwart und Zukunft.
Но что нам Запад, с его лжемудрецами, как сказал бы г-н Аксаков, послушаем Моисея и пророков, почитаем самого Бакунина.
«Со времени Возрождения и Реформации вплоть до революции, буржуазия (благодаря нарождающемуся капитализму, г-н Тихомиров, или нет?), если не в Германии, то в Италии, Франции, Швейцарии, Англии, Голландии была героем и представителем революционного гения истории. Из ее недр вышла бóльшая часть свободных мыслителей XVIII века, религиозные реформаторы двух предшествующих столетий и апостолы человеческой эмансипации, включая сюда и немецких деятелей прошлого века. Она одна, опираясь, конечно, на могучую руку верившего в нее народа, сделала революцию 1789 и 1793 годов. Она провозгласила падение королевской власти и церкви, братство народов, права человека и гражданина. Вот ее права; они бессмертны!»[62].
И ввиду этих-то бессмертных заслуг западноевропейского капитализма, человек Востока, г-н Тихомиров, не может отказаться от своего славянофильского презрения к Западу, и, лениво позевывая, заявляет, что этот путь развития все-таки был не лучший из всех, «какие можно придумать». Во всей истории буржуазии он видит лишь «массу зла» и «механическое сплачивание рабочих». В этом «сплачивании» заключается для него все значение «крупного производства». Говоря о рабстве, он еще упоминает о вызванном им увеличении производительности труда; переходя же к капитализму, он даже не намекает на те, «как бы волшебством созданные, могущественные средства производства», которые одни только и могли подготовить победу пролетариата! О влиянии капитализма на развитие философии, общественного и частного права, философии истории, естествознания и литературы он не имеет ни малейшего представления. А между тем это влияние не подлежит сомнению, и было время, когда русские писатели понимали влияние классовых отношений в обществе (а чем же, как не капитализмом, создано отношение классов в современном обществе?) на ход развития наук вообще и философской мысли в частности. «Политические теории, да и всякие вообще философские учения создавались всегда под сильнейшим влиянием того общественного положения, к которому принадлежали их авторы, и каждый философ бывал представителем какой-нибудь из политических партий, боровшихся в его время за преобладание над обществом, к которому принадлежал философ, – говорит Н.Г. Чернышевский[63]… Философские системы насквозь проникнуты духом тех политических партий, к которым принадлежали авторы систем». Или г-н Тихомиров полагает, что политические и философские системы эпохи капитализма ниже соответствующих систем средних веков? Или он думает, что свойственные капитализму теории были хуже тех, какие он сам может «придумать»? Пусть же в таком случае он «придумывает» их сколько угодно, пусть продолжает игнорировать историю западноевропейской культуры! В этой распре редактора «Вестника Народной Воли» с Западом первый потеряет очень много, а последний ровно ничего.
Впрочем, не г-на Тихомирова нужно считать зачинщиком этой распри. Наш автор повторяет по этому вопросу лишь сказанное в разных статьях г-ном В.В., который вообще склонен, как известно, суживать культурно-историческое значение западного капитализма и, наоборот, преувеличивать то же значение современной русской «власти», «не имеющей солидного противника в обществе» и потому «могущей не опасаться тех факторов прогресса, с которыми вели непрерывную войну западноевропейские правительства»[64]. Пересмотрите внимательно всю полную бесконечных повторений и потому довольно объемистую книгу о «Судьбах капитализма в России», и вы не встретите других указаний на значение капитализма, кроме указания на «обобществление труда», которое в свою очередь приравнивается к «объединению рабочих» и развитию в них тех или других симпатичных г-ну В.В. чувств. И эта-то узкая и односторонняя оценка целиком перенесена г-ном Тихомировым в свою статью, на ней-то основывает он свои ожидания «от революции»! Наш автор забыл, как видно, прекрасный совет, данный Лассалем одному из своих противников: «учитесь, учитесь, но только не по журнальным статьям».
Русские писатели не довольствуются своей, до нелепости узкой, философией истории капитализма. Они подвергают эту форму производства своему анализу и, так сказать, своим умом находят свойственные ему противоречия. Но какие! Эти противоречия не разрешаются исторической диалектикой путем замены старой социальной формы новой, выросшей в недрах первой из самого, по-видимому, последовательного развития лежащего в ее основе принципа. Это не те противоречия, исторический смысл которых выражается словами Гете —
Vernunft wird Unsinn, Wohlthat Plage[65].
Это – противоречия, не имеющие никакого исторического смысла и вытекающие лишь из того отношения мелкобуржуазного наблюдателя к предмету его наблюдений, которое может быть выражено словами: «десять раз примерь, один раз отрежь». Это своего рода эклектизм, который во всем видит хорошую и дурную сторону, одобряет первую, осуждает вторую и грешит лишь тем, что не видит никакой органической связи между «светлыми» и «затемняющими» чертами данной исторической эпохи. Капитализм мог бы сказать таким критикам словами Фейербаха: «ты осуждаешь мои недостатки, но знай, что ими обусловливаются мои достоинства». Русские писатели применяют в этом случае к историческим категориям метод Прудона, который видел задачу диалектики в указании хороших и дурных сторон каждой экономической категории. «Il veut être la synthèse, – замечает о нем Маркс, – il est une erreur composée»[66].
Говорят, что Прудон был одно время учеником Бакунина. Не у одного ли общего учителя заимствовал он метод, общий ему со многими русскими критиками капитализма?
Блестящим представителем этого метода «сложной ошибки» может служить опять-таки тот же г-н Тихомиров, который, указав хорошую сторону капитализма – сплачивание рабочих, немедленно переходит к указанию темных его сторон. Мы видели уже, в какой степени соответствует действительности его «похвала» капитализму. Неудивительно, если и высказанное им порицание оказывается ни на чем не основанным.
«Капитализм, наряду с механическим сплачиванием рабочих, развивает среди них конкуренцию, подрывающую их нравственное единство»…
Г-ну Тихомирову хочется, очевидно, «придумать» такой переходный путь к социализму, который не знал бы конкуренции. Оставляя в стороне вопрос о роли конкуренции в существовании экономической категории, называемой меновой стоимостью и приводящей труды различных специалистов к одному общему знаменателю простого человеческого труда, без понятия о котором немыслимы были бы сознательные коммунистические тенденции, – обратим внимание на указанную нашим автором дурную сторону конкуренции. Здесь мы прежде всего заметим, что «подрывать» можно лишь то, что существует в действительности, а не в симпатиях и «ожиданиях» г-на Тихомирова. Существовало ли нравственное единство рабочих в докапиталистический период? Мы уже знаем, что нет. В самую цветущую пору цехового производства существовало «нравственное единство» рабочих одной ассоциации или – самое бóльшее – одной отрасли труда в пределах весьма ограниченной местности; понятия же о рабочем, как рабочем, сознания единства всего производительного класса никогда не существовало[67]. Капитализм подорвал, разрушил, устранил «нравственное единство» патентованных специалистов и создал на его месте нравственное единство «пролетариев всех стран», что и было достигнуто им путем конкуренции. Почему же г-н Тихомиров так нападает на нее? Мы видели уже, что, по его мнению, история имеет какое-то самостоятельное, абстрактное «движение к социалистическому строю»; раз дано такое «движение», можно уже безнаказанно «критиковать» все те двигатели и пружины, которые впервые привели передовое человечество «к необходимости взглянуть трезвыми глазами на свои взаимные отношения и свое жизненное положение».
Капитализм «стремится держать рабочих на гораздо более низком уровне развития, чем это возможно по общему состоянию культуры».
Эта фраза кажется целиком выхваченною из протоколов Эйзенахского конгресса немецких катедер-социалистов, по мнению которых социальный вопрос сводится к вопросу о поднятии рабочих на более высокий «уровень развития». Но катедер-социалисты знают, чего они требуют, хотя до сих пор еще, несмотря на все свои усилия, они не решили, как достичь требуемого. Они понимают всемирно-историческое, революционное значение современного пролетариата, и хотят подорвать это значение своими паллиативами, навязать рабочим девиз Родбертуса – monarchisch, national, sozial. Под более высоким уровнем развития они разумеют несколько более высокую и обеспеченную заработную плату и гораздо бóльшую ограниченность, несравненно меньшую отзывчивость рабочего класса. Они знают, что «железный закон» заработной платы есть смертный приговор современному обществу и не прочь позолотить этот закон для отмены приговора. Они предвидят, что если дело останется в его современном положении, то скоро пролетариат возьмет все, и потому они всеми силами стремятся заставить его променять предстоящее ему первенство за чечевичную похлебку. Они хотят буржуазии без пролетариата. Но чего хочет г-н Тихомиров? В каком из предшествующих капитализму исторических периодов рабочий класс стоял на более высоком уровне развития, чем в настоящее время? Было ли так в античном мире, в эпоху рабства, или в средние века, в эпоху крепостничества? Или г-н Тихомиров сравнивает буржуазное общество с «будущим», социалистическим? Если так, то, конечно, он прав в том смысле, что общественный строй «будущей всемирно-исторической эпохи» приведет развитие человека в бóльшее соответствие с созданными цивилизацией производительными силами. Но, не говоря уже о том, что обвинять капитализм в том, что он не социализм, – значит, не понимать исторического генезиса социализма, мы заметим г-ну Тихомирову, что он, по обыкновению, запутался в терминологии. Социалистическое общество немыслимо, разумеется, без трудящихся, но можно наверное сказать, что в нем не будет рабочих: рабочий предполагает предпринимателя-капиталиста, землевладельца и т. д. совершенно так же, как раб предполагает рабовладельца, а серв – феодального господина. Изречение г-на Тихомирова сводится, в таком случае, к тому удивительному положению, что современные рабочие стоят на более низком уровне развития, чем рабочие того общества, в котором совсем нет рабочих.
Или г-н Тихомиров сравнивает положение рабочих в капиталистическом обществе с положением их при тех социальных отношениях, «какие можно придумать» в качестве переходных ступеней к социализму? Если так, то пусть он «придумывает» в добрый час такие отношения, мы прочтем его выдумку с большим интересом. Но пусть он не слишком уж сильно увлекается вымыслом, пусть не забывает он, что нужно различать степень культуры от ее типа, и что если степень материальной культуры современного пролетария очень невысока, то, тем не менее, она все-таки остается культурой самого высшего типа из всех» до сих пор существовавших. Мы не говорим уже об умственной и нравственной культуре этого класса, стоящего по своему развитию несравненно выше производительных классов всех предшествовавших периодов. Пусть г-н Тихомиров обратит серьезное внимание на это развитие, которого не заменят ни первобытные формы землевладения и производства, ни строгая дисциплина, созданная тем или другим «Комитетом» в революционных организациях разночинцев.
«Точно так же» капитализм «прямо отучает рабочих от всякого контроля за общим ходом производства и т. д.».
На это неожиданное обвинение капитализм мог бы ответить русской поговоркой: «чем богат, тем и рад». Он не может приучать рабочих к контролю «за общим ходом производства» по той простой причине, что такого контроля он и сам не знает. Промышленные кризисы обусловливаются, между прочим, именно отсутствием этого контроля. Но, спрашивается, мыслим ли такой контроль вне социалистического общества? Пусть г-н Тихомиров попробует доказать, что – да, тогда мы потолкуем с ним обстоятельнее. Теперь же повторим ему, что обвинять капитализм в том, что он не есть социализм, – значит обвинять историю в том, что она не начала прямо с осуществления программы «Манифеста Коммунистической партии» вместо своего «движения к социалистическому строю».
Многим читателям весь этот спор о значении западного капитализма может показаться совершенно излишним. – Нам интересен не Запад, а Россия, скажут они, зачем же так долго останавливаться на оценке исторического развития Запада? Пусть г-н Тихомиров кое-что просмотрел, кое-что перепутал в этом вопросе. Какое отношение имеет это к нашим домашним делам?
Самое непосредственное. Г-н Тихомиров «критикует» западный капитализм с совершенно определенною практическою целью выработки программы для русской социально-революционной партии. Он «ждет» известных благ «от революции», между прочим, на основании своей оценки западноевропейской истории. Верна эта оценка – основательны и его ожидания; и наоборот: обнаруживает эта оценка полное незнакомство с историей Запада и с приемами современной философско-исторической критики, – самые «ожидания» г-на Тихомирова оказываются крайне легкомысленными. Поэтому я и посвятил много страниц выяснению той путаницы, которая с удобством уместилась на двух страницах (238 и 239) № 2 «Вестника». Покончив с нею, мы можем перейти к русским вопросам.
6. Развитие капитализма на Западе
«Не сотворяйте же себе кумира из частного предпринимательского капитала, – восклицает г-н Тихомиров, возвратившись из своей философско-исторической экскурсии, – тем паче, что большой еще вопрос, сумеет ли такого рода капитал сделать для России хоть то (!), что сделал для Европы. Наше современное положение значительно разнится от положения европейских стран в момент, когда они начали организовывать национальное производство на основе частного капитала. Там частный предприниматель имел перед собою громадные рынки и не имел особенно страшной для себя конкуренции. У нас совсем нет рынков, и частный предприниматель в каждом начинании встречает непосильную конкуренцию европейского и американского производства».
Все эти соображения нашего автора опять не принадлежат ему, а заимствованы у г-на В.В. Но не вдаваясь, однако, в их генеалогию, посмотрим, насколько они основательны. Здесь перед нами опять вырастает трудная и неблагодарная задача распутывания самой невероятной путаницы фактов и понятий.
Прежде всего мы спросим г-на Тихомирова, почему он нападает именно на «частный» предпринимательский капитал и ничего не упоминает о других видах того же предпринимательского капитала? Почему он, по выражению Родбертуса, предпочитает блондинов брюнетам? Думает ли он, что государственный предпринимательский капитал в руках железного канцлера лучше частного капитала в руках Борзига или Круппа?
Или он противопоставляет частный предпринимательский капитал – такому же капиталу рабочих ассоциаций? Но почему же он не оговорил, в таком случае, что симпатии его к предпринимательскому капиталу, не принадлежащему частным лицам, простираются лишь на одну разновидность этого капитала. Да и можно ли симпатизировать этой разновидности без новых и весьма существенных оговорок?
Германская социал-демократия требует государственного кредита для рабочих ассоциаций, но она по опыту знает, что они могут иметь успех, т. е. не выродиться в эксплуататоров чужого труда, лишь под условием строгого контроля на основе социалистических принципов. Представительницами такого контроля могут и должны явиться рабочие социалистические партии. Таким образом, кто говорит о государственном кредите рабочим ассоциациям, – говорит об упрочении влияния рабочей партии или предлагает меру, могущую повести за собою лишь раскол в среде пролетариата и упрочение влияния буржуазии или правительства. Г-н В.В. не боится этого последнего исхода, и потому он смело обращается к «существующей власти» со своими реформаторскими проектами. Г-н Тихомиров принадлежит к непримиримым врагам абсолютизма и в то же время весьма скептически относится к возможности возникновения у нас буржуазного режима и рабочей социалистической партии. Поэтому его планы создания рабочих промышленных товариществ, – планы, о которых, впрочем, мы, благодаря его запутанной терминологии, можем лишь догадываться, – относятся к тому более или менее далекому будущему, когда «захват власти революционерами» послужит «исходным пунктом революции». А так как нам придется еще много говорить об этом захвате и о возможных его последствиях, то мы и не будем останавливаться здесь на рассмотрении условий, при которых русские рабочие промышленные товарищества могут способствовать делу социализма. Теперь же, поставив г-ну Тихомирову на вид неясность и неопределенность его экономической терминологии, перейдем к его историческим противопоставлениям.
Что «наше современное положение значительно разнится от положения европейских стран в момент, когда они уже начали организовывать национальное производство на основе частного капитала» – эта мысль не подлежала бы сомнению, если бы была хоть сколько-нибудь сносно формулирована. Каждый школьник знает, что во всей истории нет двух фактов, совершившихся при вполне тождественной обстановке; неудивительно поэтому, что каждый исторический период каждой страны «значительно разнится» от соответствующего периода всякой другой страны. Но именно вследствие этого можно a priori сказать, что шаблонное противопоставление России Западу теряет всякий человеческий смысл, если не сопровождается целым рядом оговорок, поправок и дополнений, так как под Западом Европы понимается не одна, а много весьма различных стран. Г-н Тихомиров не видит надобности в этих дополнениях. Он противопоставляет «современное положение России» тому «моменту» в истории «европейских стран, когда они начали организовывать национальное производство на основе частного капитала». Но, не говоря уже о том, что нельзя «организовать национальное производство на основе частного капитала» и что полная анархия, т. е. отсутствие какой-нибудь организации, составляет «отличительную черту «национального производства» капиталистических стран; даря г-ну Тихомирову эти логические и терминологические промахи, – мы спросим его, точно ли в один «момент» было положено начало капиталистического производства «в европейских странах»? Не было ли, напротив, таких «моментов» ровно столько, сколько было «европейских стран», вступавших на путь капитализма? А если да, то не разнились ли «значительно» эти исторические «моменты» один от другого? Было ли похоже начало английского капитализма на начало капитализма в Германии? Поскольку нам известно, совсем непохоже, так непохоже, что в свое время и в Германии возникло мнение, будто эта страна совсем не имеет данных для развития крупной обрабатывающей промышленности и должна навсегда остаться земледельческою страною. Люди, державшиеся этого мнения, ссылались именно на то обстоятельство, что «современное» им положение Германии «значительно разнится» и т. д. Что скажет нам г-н Тихомиров об этом вопросе вообще и об этих лжепророках в частности?
В брошюре «Социализм и политическая борьба» я говорил о тех русских писателях, которые оказываются приверженцами географической школы, основанной еврейским мальчиком в рассказе Вейнберга. «Русские самобытные писатели, – говорил я, – сделали лишь одно нововведение в остроумной географической классификации бедного школьника: они подразделили «заграницу» на Восток и Запад и, недолго думая, принялись сравнивать этот последний с Россией, игравшей при этом роль какой-то Срединной Империи». Когда я писал эти строки, мне и в голову не приходило, что такого рода нелепости могут быть повторены на страницах органа, редактируемого, между прочим, П.Л. Лавровым. Теперь я вижу, что сам соредактор г-на Лаврова оказывается последователем еврейского мальчика и валит в одну кучу какого-то «придуманного» им «момента» целый ряд в высшей степени сложных и «значительно» разнообразных исторических явлений. «Вестнику Народной Воли» суждено, как видно, во многом и во многом обмануть ожидания своих читателей!
Впрочем, у г-на Тихомирова есть в этом случае смягчающее обстоятельство. Он введен был в свою ошибку убеждением в том, что в «европейских странах», в известный уже нам исторический «момент», «частный предприниматель имел перед собою громадные рынки и не имел особенно страшной для себя конкуренции», между тем как «у нас совсем почти нет рынков». Если бы это было справедливо, то его противопоставление России Западу имело бы достаточное основание. Как бы ни были различны условия, при которых нарождался капитализм в каждой из «европейских стран», но между ними была бы одна в высшей степени важная общая черта, не повторяющаяся в современной России: присутствие «громадных рынков» для сбыта. Это счастливое для «европейских стран» обстоятельство должно было бы придать совсем иную окраску экономической истории Запада. Вся беда в том, что г-н Тихомиров, или, вернее, автор, из статей которого он почерпнул это убеждение, жестоко ошибается. В названных странах частный предприниматель вовсе не имел перед собою «громадных рынков». Буржуазия» создала рынки, а не застала их готовыми. В предшествовавший ей феодально-ремесленный период не было не только «громадных рынков», но и вообще не существовало рынков в новейшем смысле этого слова: тогда обменивался лишь избыток, остаток от собственного потребления производителя, ремесленники же работали по заказу для данного лица в данной местности, а не для сбыта на рынке. Кто имеет хоть малейшее понятие об экономических отношениях средних веков, тот не будет оспаривать сказанного. Точно так же всякий, «даже не обучавшийся в семинарии», поймет, что спрос, а вместе с ним и рынки могли расти лишь рядом с производством, будучи вызываемы этим последним и вызывая его в свою очередь. «Чаще всего потребности родятся прямо из производства или из порядка вещей, основанного на производстве. Всемирная торговля зиждется почти всецело на потребностях не личностей, а производства»[68]. Современный же, действительно «громадный», всемирный рынок характеризуется именно тем, что на нем не потребление вызывает производство, а наоборот. «Крупная промышленность, вынуждаемая самими находящимися в ее распоряжении орудиями производить в постоянно возрастающих размерах, не может ожидать спроса, производство предшествует потреблению, предложение вынуждает спрос»[69].
Что Западная Европа не имела «особенно страшной конкуренции» в период возникновения капитализма – это можно признать для краткости неоспоримым, хотя нередкое в то время запрещение ввоза в «европейские страны» продуктов восточной промышленности и показывает, что западные мануфактуры боялись азиатской конкуренции. Но «особенно страшными» конкурентами западноевропейских производителей были те же западноевропейские производители. Это перестанет казаться парадоксом, когда мы припомним, что капитализм начал развиваться в различных «европейских странах» далеко не в один и тот же «момент», как это думает г-н Тихомиров. Когда развитие промышленности доходило в одной из этих стран до известной степени интенсивности, когда представители капитала достигали такой силы и такого влияния, что могли делать законодательство орудием своих целей – оказывалось, что «частный предприниматель в каждом начинании встречает непосильную конкуренцию» со стороны соседних стран. Тогда начиналась агитация в пользу государственного вмешательства. История XVII столетия с его тарифами, служащими предметом дипломатических переговоров, с его коммерческими войнами, требовавшими колоссальных для того времени расходов, наглядно показывает нам, какие огромные усилия должны были делать «европейские страны» для приобретения этих, будто бы готовых, рынков. Дело шло не только о завоевании внешних рынков, но и об отстаивании рынка внутреннего. Нужно ли иллюстрировать эту, казалось бы, всем известную историю примерами? Это будет, пожалуй, нелишним, ввиду невежества наших доморощенных и самобытных экономистов. Начнем с Франции.
Кольбер «видел, что Франция получала из-за границы гораздо более товаров, чем посылала туда; что, несмотря на существование турских и лионских мануфактур, Италия продолжала доставлять шелковые изделия, золотые и серебряные ткани, золотую пряжу; что Венеция ежегодно получала от нее несколько миллионов за свои зеркала и кружева; что Англия, Голландия, Испания снабжали ее шерстяными товарами, пряностями, красками, кожами и мылом… Он видел… что большие компании и колонии, которые пытался завести Ришелье, были разорены, и что вся морская торговля Франции была еще в руках англичан и голландцев. Чтобы помешать этому вторжению во французские порты, уже Фуке установил налог в пятьдесят су с тонны товаров, привезенных на иностранных судах, и постоянные жалобы голландцев доказывали Кольберу, что его предшественник нанес им чувствительный удар. Таково было положение. Кольбер задался целью изменить его в пользу Франции, освободить нацию от всякого коммерческого рабства и поднять ее путем развития промышленности до уровня наиболее цветущих наций» и т. д.[70]. Он так усердно принялся за дело, что тарифом 1667 года прямо хотел «уничтожить» голландскую торговлю. «Англичане и голландцы отвечали ему тем же; спор о тарифе послужил поводом к войне 1672 года, и наконец Нимвегенский мир вынудил Францию восстановить тариф 1664 года»[71].
Мы видим, что Франция вовсе не «имела перед собою» громадных рынков, ей нужно было еще завоевать их с помощью целесообразной экономической политики, дипломатических переговоров и даже оружия. Кольбер рассчитывал только на «время и большое прилежание», благодаря которым Франция могла, по его мнению, стать «учительницей наций, дававших ей уроки».
Известно, что покровительственная и запретительная политика Франции не прекратилась с прекращением влияния Кольбера так же точно, как она не ему обязана была первым своим возникновением. Лишь после Версальского мира французское правительство делает в» 1786 году первый шаг в направлении к свободе торговли. Но эта попытка оказалась неблагоприятной для французской промышленности. По трактату с Англией 1786 года за шерстяные и хлопчатобумажные ткани, фарфоровые, фаянсовые, глиняные и стеклянные изделия взималось лишь 12 % стоимости в каждой из договорившихся стран; на металлические изделия: железные, стальные, медные и т. п. пошлина равнялась 10 %; ткани из льна и конопли были обложены пошлиной по тарифу, установленному для наиболее благоприятствуемых наций; но Англия, будучи в состоянии производить все эти продукты на 30, 40, 50 % дешевле, чем французские фабриканты, скоро стала хозяйничать на французском рынке. Вот почему избиратели 1789 года почти единогласно требовали более энергического покровительства французской промышленности. Правительства реставрации и июльской монархии также придерживались строго покровительственного тарифа. Для обеспечения сбыта французских товаров колониям было запрещено торговать с какою-либо другой страной, кроме метрополии. Лишь с 1860 года начинается поворот в пользу свободной торговли, но и этот поворот вызывает очень сильную оппозицию в стране и порицается, между прочим, Прудоном. Наконец, не далее как в 1877 г., боязнь английской конкуренции вызывает со стороны протекционистов образование «Ассоциации для защиты национального труда». Тариф 1882 года представляет собою компромисс между требованиями покровительства и стремлениями к свободной торговле, обнаруживаемыми, главным образом, представителями коммерческого капитала[72].
Такова история «громадных рынков», бывших в распоряжении французских капиталистов. Слышал ли о ней что-нибудь г. Тихомиров?
А Германия, на которую «указывает» нашему автору «некоторая часть социалистов»?
Здесь дело было не лучше. Здесь также «частный предприниматель в каждом своем начинании» встречал «непосильную конкуренцию» более передовых стран. Известно, что немецкий капитализм имеет сравнительно недавнее происхождение. Не только в предшествующие столетия, но даже в начале нынешнего века Германия не могла даже и думать о конкуренции с Францией или Англией. Возьмем для примера Пруссию. В 1800 году Пруссия совершенно запрещает ввоз иностранных шелковых, полушелковых и хлопчатобумажных изделий. В предшествующие 80 лет правительство на одни только шелковые фабрики в Берлине, Потсдаме, Франкфурте-на-Одере и Кепенике издержало более десяти млн талеров (из чего г-н Тихомиров может с ясностью видеть, что не одно русское правительство употребляло усилия для «организации» национального производства «под началом буржуазии»). Но французские и английские изделия были настолько лучше прусских, что запрещение иностранного ввоза обходилось контрабандой, которой не могли истребить никакие строгие меры законодательства. Победы Наполеона лишают Пруссию возможности спасать свои мануфактуры за «стеною» запретительного тарифа. Вместе с вторжением французских войск начинается наплыв французских товаров в завоеванные местности. В начале декабря 1806 года завоеватели требуют пропуска всех французских товаров, с оплатой лишь невысокой таможенной пошлины, во все части Пруссии, занятые наполеоновской армией. Напрасно прусское правительство ставит им на вид, что туземная промышленность не может вынести конкуренции французских фабрикантов. Напрасно доказывает оно, что берлинские фабрики держались до тех пор лишь благодаря покровительственному тарифу, с падением которого население окончательно обнищает, и фабричные рабочие пойдут по миру. Победоносные полководцы буржуазной Франции отвечают, что ввоз в страну французских товаров представляет «естественное следствие» завоевания. Таким образом рядом с политической борьбой правительств шла экономическая борьба народов, или, вернее, тех слоев народов, в руках которых и до сих пор сосредоточиваются средства производства. Рядом с борьбой армий шла борьба фабрикантов, рядом с соперничеством полководцев шла конкуренция товаров. Французской буржуазии нужно было овладеть новым рынком, прусская – всеми силами стремилась отстоять тот, который был в ее руках, благодаря покровительственному тарифу. Где же здесь готовые «громадные рынки»? Когда, вслед за объявлением войны 1813 года, прусские промышленники избавились, наконец, от своих французских конкурентов, у них явились новые, еще более опасные противники. Падение континентальной системы открыло английским товарам доступ на европейские рынки. Огромное количество их наводнило Пруссию. Дешевизна их делала конкуренцию с ними невозможною для местных производителей, при той невысокой пошлине, какой были обложены теперь товары дружественных и нейтральных государств. Жалобы прусских фабрикантов снова заставляют правительство ограничить ввоз в Пруссию, по крайней мере хлопчатобумажных изделий[73]. С тех пор до настоящего времени правительство Пруссии, да и всей вообще Германии, не решается отказаться от покровительственного тарифа, опасаясь «непосильной конкуренции» более передовых стран. И если русские бланкисты захватят власть еще при жизни Бисмарка, то железный канцлер не откажется, вероятно, открыть им тайну своей торговой политики и убедит наших журналистов, что «громадные рынки» не растут и никогда не росли на деревьях.
Перейдем к Америке.
«Северно-американские колонии в отношении промышленности были поставлены своей метрополией в такую полную зависимость, что в них не должны были иметь места никакие роды промышленности, кроме домашнего производства и обыкновенных ремесл. В 1750 году основанная в Массачусетсе шляпная фабрика обратила на себя такое внимание парламента и вызвала такую ревность с его стороны, что все роды фабрик (в колониях, конечно) были объявлены вредными учреждениями (common nuisances). Еще в 1770 году великий Чатам, обеспокоенный первыми попытками фабричного производства в Новой Англии, заявил, что ни один гвоздь не должен быть изготовлен в колониях». Во время войны за независимость, благодаря разрыву с Англией, «фабрики всякого рода получили сильный толчок», что, в свою очередь, повлияло на земледелие и повело к увеличению ценности земли. «Но так как после парижского мира конституция штатов мешала выработке общей торговой системы и тем открывала свободный доступ английским фабрикатам, конкуренции которых не могли вынести только что возникшие фабрики Северной Америки, то промышленное процветание страны исчезло еще скорее, чем возникло. – По совету новых теоретиков, – говорил после один оратор в конгрессе об этом кризисе, – мы покупали там, где могли купить всего дешевле, и наши рынки были наводнены чужими товарами. Наши мануфактуристы были разорены, наши купцы обанкротились, и все эти причины так вредно повлияли на земледелие, что наступило общее обесценение землевладения, а с ним и банкротство наших землевладельцев».
Мы видим отсюда, что была, в свое время, гроза и на американское производство, «непосильная конкуренция» которого угрожает теперь русскому «частному предпринимателю». Какие же громоотводы придумали американцы? Убедило ли их это в том, что их положение «значительно разнится от положения европейских стран, в момент, когда они начали организовывать национальное производство на основе частного капитала»? Отказались ли они от крупной промышленности? Ничуть не бывало. Наученные горьким опытом, они повторили лишь старую историю охранения своего внутреннего рынка от иностранной конкуренции. «Конгресс был осажден петициями ото всех штатов в пользу покровительственных мер для туземной промышленности», и уже в 1789 году был обнародован тариф, сделавший значительные уступки местным фабрикантам в этом смысле. Тариф 1804 года пошел еще далее в этом направлении, и, наконец, после нескольких колебаний в противную сторону, строго покровительственный тариф 1828 года окончательно обеспечил американских производителей от английской конкуренции[74]
