Читать онлайн Песни Синего камня бесплатно
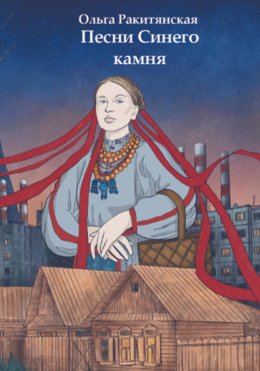
Верни свою птицу
Вяйнемейнен сидел на поваленном темном стволе древней сосны, у самого края октябрьских болот, и жарил на костре сосиски. С сосисок капал жир, шипел и потрескивал на мерцающих бревнах. Пахло горячей смолой и палым листом, а складную длинную вилку для жарки было так удобно держать, что Вяйнемейнен вдруг ощутил уют и спокойствие, каких у него не случалось уже очень, очень давно. Может быть, даже с тех самых пор, как он напел себе медную лодку и покинул на ней землю Карьялы. Люди сочинили потом про это немало сказок, но только он один знал, зачем тогда отправился в странствия.
Надо, надо чаще выбираться в лес. Особенно осенью. «А хорошо сделана вещица,– с удовольствием подумал он про вилку. – Не зря китайцам деньги платил. А ребята из мастерской еще посмеивались, что, мол, там на Алиэкспресс хорошего может быть. – Молодые, не понимают пока, что опытный глаз везде отличит мастерство». Вяйнемейнен всегда любил настоящих мастеров и сделанные ими вещи – удобные, добротные, во всем продуманные, словно для собственной матери старался человек. Такое ни с чем не спутаешь, откуда бы мастер ни был – хоть из Китая, хоть из Виро или Похьёлы – да пусть даже из самой Туонелы или из Линтукото, куда перелетные птицы отправляются по осени.
«Ильмаринену бы показать… Он забавные вещицы любит». Не надо, наверное, было об этом думать. Уют и спокойствие сразу сменились печалью, и веселое пламя на бревнах напоминало теперь совсем о другом огне – яростном и поющем, пылавшем некогда в кузне, о звоне молота, о перепачканном копотью, разгоряченном радостью лице брата.
Ильмаринен…Сколько же они не виделись? Много, много лет. Да что там лет – десятилетий. Скоро, пожалуй, счет пойдет на века. Это случилось еще тогда, в пору первого Великого Безумия, когда Пожирающая сердца, десятая дочь слепой Матери девяти болезней, которую даже сама родительница в ужасе отослала прочь, вырвалась на волю из пещеры. Никто не знал, куда в свое время девалась она, сеющая вражду, ненавистная всем, а Вяйнемейнен знал. И Ильмаринен знал. Это они с Ильмариненом напели ей поражение, медом целительной музыки залили ее пути – и мед этот жег ее, как огонь – выковали ей пещеру под землей без входа и выхода и заточили навеки. Как им казалось – навеки…
Но люди решили иначе. Им, видно, скучно стало жить, не враждуя, не убивая. И так долго звали они Пожирающую сердца, что истончились крепкие стены пещеры, сложенные из песен и меда. Песни и мед никому были теперь не нужны – а без этого они теряют силу. И полетели по небу железные птицы, поскакали по земле железные звери, железные страшные рыбы заплескались в морях и реках. И напрасно было взывать к Матерям лесным, полевым, водяным и болотным – эти матерей не знали. И не в Птичью страну летели они, и не Хозяйку леса искали, и не к Матери вод ласкались – они шли убивать. Друг друга, людей, которые их породили, и всех вокруг. И созданы были они из железа, которое людям когда-то принес Ильмаринен. Принес для счастья…
И тогда Ильмаринен в гневе изломал и молот свой, и кузню, и сам погасил огонь, никогда не угасавший. «Если люди хотят ковать Сампо из крови друг друга – пусть куют сами! Я им в том не помощник!» Так сказал Ильмаринен – и ушел. Куда – не знает никто. Даже сам Вяйнемейнен. Где он теперь? Может быть, стал поэтом? Он бы мог, Ильмаринен… Всякий настоящий мастер – немного поэт. А он был великим мастером. Встретятся ли они еще на этой земле?
Осенняя тьма сгущалась, стояла влажная тишина, какая бывает лишь в это время года. Молчало болото, молчали сырые мхи. И только осенний лес негромко вздыхал пожелтелыми листьями там, за границей светового круга. Вяйнемейнен смотрел в огонь, и сама собой рождалась песня.
О, Рябинная дева,
Сосновая матушка,
Ты, Елей пестунья,
И ты, Совоокая,
Волков зачинающая
От весеннего ветра!
О, Матери леса, силу подайте
Огню моему!
Пусть он горит
Жарче грозди рябинной,
Пусть пламенеет
Ярче осин в Месяц последних ягод,
Светит яснее берёз
В Месяце палых листьев
И волчьих глаз
В пору большой охоты!
О, Матери!
Дайте силу костру моему
И тем, кто пойдет за мной
По осенним болотам.
Шевельнулись ветки рябины над головой, сосна уронила шишку, глухо стукнувшую о мох. Еловая лапа прошуршала тихонько по зеленому тенту, натянутому над костром. И где-то вдали, на границе слуха, полилась в ночное небо протяжная волчья песнь. Вяйнемейнен кивнул благодарно. Матери леса слышали его по-прежнему. Матери всегда слышат…
Эх, будь это в прежние времена – немало лесного народа откликнулось бы на такую песнь-заклинание. Дочери леса уже плясали бы у костра, носились бы белками по стволам, сидели бы у огня, хихикая. Добрые духи-халтии и робкие милые кейю болтали бы о делах лесных и болотных с озорными детьми мхов и грибов – меннинкяйненами. И, может быть, само золотое яблоко леса, бурый мохнатый Отсо, пришел бы поглазеть на пламя и послушать пение Вяйнемейнена.
Теперь не то… Здесь, на тверской земле, вдали от Суоми и Карьялы, живут совсем другие существа, да и те запуганы людьми за годы Великого Безумия. Теперь только и остается, что жарить в одиночестве сосиски на огне. В рюкзаке совсем некстати пропищал лесной мышью сигнал Вотсапа. И еще раз, и еще… Вяйнемейнен нахмурился – опять кому-то с работы неймется. Нет уж, у него законный выходной! И вообще, он в лесу без связи. Совсем без связи, понятно? Кому-то на том конце линии, видимо, стало понятно. Телефон перестал пищать, к костру вернулась осенняя тишина. «А зато сосиски у меня – с сыром», подумал все-таки Вянемейнен, и чувство уюта начало понемногу возвращаться.
«Чего это ты тут делаешь?» -раздвинув рогами-лопатами ветви рябины, прямо в огненный круг, с любопытством, высунулась голова – то ли лосиная, то ли человечья. Глаза у головы были хитро прищурены, и в рябине явственно слышалось нетерпеливое притопывание невидимых в темноте копыт. Хийси! В прежние времена не все бывало гладко в их с Вяйнемейненом отношениях – но теперь это забылось, и Вяйнемейнен даже обрадовался старому знакомому. Хийси появлялся не всегда кстати – но всегда вовремя. Вот и теперь, стоило сосискам зарумяниться…
«Чего это ты готовишь?» – Хийси всегда начинал разговор так, будто они расстались час назад, не больше. А не виделись они, пожалуй, давненько. Не дожидаясь приглашения, Хийси проломился через рябину к костру, уселся на сосновый ствол, пихнув Вяйнемейнена косматым боком – дай, мол, и другу местечко – бесцеремонно ухватил когтистой лапой сосиску и принялся жевать ее, причмокивая. «А вкусно! Человечья еда, небось?» Вяйнемейнен пожал плечами – а что тут говорить? В лесу на кустах сосиски с сыром не растут.
– Давненько я человечьей не ел… Уже и забывать стал, какая она бывает. А они вон чего нового напридумывали, люди! – Хийси потянулся за второй сосиской и утробно вздохнул – то ли сыто, то ли печально. – Вот в прежние-то времена… не забывали люди меня угощать. Как пойдут в лес – так обязательно гостинчик для Хийси, для меня, стал быть. А то и нарочно к камням да выворотням носили, знали ведь, что я того, на гнев скор, а покушать люблю. Теперь не то, позабыли люди старую дружбу…
– Это с тобой, что ли, дружба? – хмыкнул Вяйнемейнен. – Ты же их никогда особо не жаловал.
– А за что мне их жаловать? – возмущенно затряс Хийси рогами. – Они про меня вон сколько сказок сочинили! Нехороших! Мол, и в лесу я им козни всякие строю, и в болото заманиваю, и буяню по осени… А что они на болота за клюквой пьяные ходят, в лесу пакостят и к лосям в пору гона с луками да копьями лезут – это я, что ли, виноват? Ну, скажи, Вяйне – я?
– Несправедливо, конечно, – примирительно сказал Вяйнемейнен. – Да они не про тебя одного сочинили. Про меня вот тоже, еще и похуже… Слышал небось про Айно?
– Это которая из-за тебя утопилась?
Вяйнемейнен поморщился.
– И ты туда же. Верно говорят – слухи сорока на хвосте разносит, да потом не соберешь. Не утопилась она. И не из-за меня. Она от братца своего, Йоукахайнена- бездаря, сбежала. Бывают, знаешь, такие… Три слова кое-как в строку сложили, две струны на кантеле дернули – и уж они рунопевцы, уж они сказители вещие! А что слова у них в строке, что чага на пне гнилом – во все стороны торчат, и струна не поет, а сойкой орет – это им все равно, того они и сами не слышат. Вот и Йоукахайнен из таких. Возомнил о себе невесть что, меня унизить решил, перепеть да опозорить…
– А ты его песней в болото по шею загнал! Знаю, знаю! И он тебе посулил сестрой откупиться, Айно! Выходит, люди-то не наврали?
Вяйнемейнен снова поморщился.
– Не загонял я его никуда. Он сам от позора подальше в болота сбежал. Над ним ведь даже сойка распоследняя смеяться стала, о других уж не говорю! И что надумал, подлец: породниться со мной, сестру свою за меня замуж выйти заставить! Мол, не уменьем своим, не мастерством – так хоть родней прославлюсь. Буду всем говорить, что я самого Вяйнемейнена шурин – может, тогда и песни мои люди зауважают!
– Он что, дурень совсем? Сестра сестрой, да тебя-то, Вяйне, жениться силком не заставишь! Или ты сам на Айно поглядывал? Ну, признавайся – поглядывал? – Хийси лукаво подтолкнул приятеля косматым локтем в бок.
– Да не поглядывал я, – вздохнул Вяйнемейнен. – Надо мне со всякими родниться… Это дурень тот надеялся – мол, покрасивее девку оденем, так он и уши развесит. Принуждать ее начал – чтоб, мол, принарядилась и меня соблазнять пошла. И если б он один – что ей брат, она бы посмеялась только. Но он ведь мамашу свою убедил, что это родство ему вот как необходимо! А мамаша у него такая, знаешь, была – до дочки и дела нет, зато сыночек единственный – свет в глазу, яблочко золотое и серебряное. И стали они вдвоем на Айно… А против матери как ей пойти? Только разве мать поменять. Вот и поменяла: к Матери воды в дочери ушла. Теперь рыбкой плавает, серебряной и золотой, а то снова девой обернется, зеленые косы на быстрине полощет, песни на перекатах поет. Голос-то у нее получше, чем у братца… А Йоукахайнен с мамашей со злости и распустили слухи – что утопилась она из-за меня, а люди поверили, и пошла слава по свету. Лучше бы уж, как про тебя рассказывали, что я по лесам буяню!
– Вот, говорил я тебе, Вяйне – не жди ты добра от людей, – наставительно постучал копытами Хийси и засунул в рот третью сосиску. – А ты все – люблю я их, то, се, хм, хм… – последних слов за чавканьем было уже не разобрать.
Дрова в костре понемногу прогорали, пламя опало, и Вяйнемейнен, нехотя поднявшись, шагнул в темноту за новым полешком.
– На валежник не наступай, – негромко сказал ему вслед Хийси. – Он скользкий сейчас, как брюхо у слизня – раз, и мордой в грязь!
– Без тебя знаю, – добродушно проворчал Вяйнемейнен, входя в огненный круг с поленом в руках. – Чуть не слетал уже. И верно, скользкие стволы, как мыло.
– Как мыло… Что-то слов человечьих у тебя многовато стало. И то – сколько уж мы с тобой по лесам не бродили? Почитай, с позапрошлого лета! На денек заскочишь, ночку переночуешь – и поминай как звали! Нехорошо так, Вяйне.
– «Нехорошо», – со вздохом передразнил его Вяйнемейнен. – Это у тебя, Хийси, все просто – живешь себе в лесу, когда захотел – встал, когда захотел – спать лег, что вздумалось, то и делаешь. А я с людьми живу. Работаю. С работы так просто, когда захотел, не сорвешься. Да вот, полюбуйся, – он рывком вытащил из рюкзака давеча пищавший телефон, открыл Вотсап, сунул Хийси прямо под нос.
– Это чего? – недоуменно заморгал Хийси.
– Ах да… Прости. Сейчас я тебе прочту.
На экране светилось паническое сообщение от контакта «Саша Мануфактура»: «Вениамин Ильич, знаю, что вы выходной, но у нас тут срочный заказ из Карелии, хотят двадцать штук хроматических кантеле! Что делать, Коля и Паша без вас ведь запорют? Или пусть начинают без вас, а то времени мало? Ответьте срочн, плз!
– Это значит «пожалуйста», – разъяснил Вяйнемейнен Хийси. – Из языка этих… саксов. Ну, помнишь, которые…
– Русы, что ли?
– Да нет, другие. Кстати, русы теперь шведами называются. Ты, Хийси, учти – времена изменились, и имена вместе с ними. Скажешь по-старому – тебя, пожалуй, совсем наоборот понять могут. Русами теперь вены зовутся…
– Да мне по мухомору, – недовольно замотал рогами Хииси. – Пусть там люди как хотят друг дружку зовут, лишь бы в лес лишний раз не лезли. Тебя вон тоже обозвали – «Ильич» какой-то. Это что, вроде того… Ну, помнишь, когда наши люди болотные между собой передрались, наслушались соседей и тоже давай – одни за золотых, другие за серебряных…
– За красных и белых, наверное.
– А, один мухомор! Не запомнил я. Мне что красные, что серебряные – я их всех под зад копытом, чтоб драться неповадно было у меня в лесу. Так вот у тех, которые за серебряных… Или за золотых, не помню… Вроде был такой вождь, как тебя звали. Лысый.
– Эх, Хийси, – крякнул Вяйнемейнен. – Не любишь ты людей. А раз не любишь – то и не знаешь о них ничего. А знал бы, так меня бы не равнял со всякими… перкеле. Тот – Владимир был! А я у людей – Вениамин! Понял разницу?
– Да один мухомор, – уныло протянул Хииси. – Ты мне лучше скажи: зачем? Зачем ты на людей работаешь? Жил бы себе в лесу, сам себе хозяин. Или на озере где. Да хоть в Похьёле – и то лучше, там хоть не достанет никто. На что они тебе сдались, такие приставучие?
– Не понять тебе, Хийси, – вздохнул Вяйнемейнен, поправил зачем-то сапогом полено в костре, хотя оно и так лежало как надо. – Тебе бы всех под зад копытом – а мне не все равно. Я же не на людей работаю, а для людей. Для, понимаешь?.. Я поэт. Рунопевец. Мастер. Это все должно быть для кого-то. Я делиться привык. А если не делиться – так и жить тогда незачем. Неинтересно.
– Это у нас с тобой давний спор, – сказал Хийси с набитым ртом – он дожевывал, кажется, уже пятую сосиску. – Вы с Ильмариненом вечно вокруг людей крутились. То одно им подарите, то другое… А они и не ценят. Вон, Ильмаринен…
По лицу Вяйнемейнена пробежала судорога, и Хийси сообразил, что сказал лишнего. Разозлить великого кантелиста – это тебе не лось начихал, Хийси еще хорошо об этом помнил.
– Да я что, я ничего, – спешно забормотал он, наскоро проглотив остаток сосиски. – Я ж не то, чтобы… Ты мне лучше скажи – а чего не в Суоми тогда? Не в Карьяле? Там все-таки наши люди, знакомые. А эти, под Тверью, или как там здешние места зовут – и вовсе чужие…
– Да все потому же, – глухо сказал Вяйнемейнен, не глядя на Хийси. С лица его еще не сошла тень, но все же оно прояснялось мало-помалу – как лесная чаща при восходе луны. – Потому, что мне не все равно, кому помогать, а кому под зад копытом…
– Так ты обиделся на них, что ли? – догадался Хийси. – На Суоми с Карьялой? Что они этого… Хрестуса приняли? А, мой тебе совет – наплюй да разотри. Никому из наших это не помешало. Как верили в нас, так и верят. Ну, злобными всех скопом обозвали – так мне, например, не привыкать. А вы в моей шкуре побудьте, – захихикал он слегка злорадно – но все-таки не очень, кося осторожно глазом на Вяйнемейнена. – Про меня-то люди еще когда начали сказки нехорошие сочинять… До всякого Хрестуса. Вот как стали вместо доброй охоты лес выжигать и невесть что на пепелищах растить – так и начали. Хийси то, Хийси это… Стали леса бояться, к дому прилипли – вот и я нехорош стал. Охотники-то со мной и по сю пору дружат. И ты на дурней не обижайся. Вот увидишь, вернешься – еще и с почетом примут!
– Нет, не в обиде дело, – Вяйнемейнен задумчиво смотрел в сырую тьму, пахнущую грибами. Где-то вдалеке коротко вскрикнула птица – быть может, попалась в когти сове. – Это они про меня сказки свои сочинили – будто обиделся я. Нет… Ты помнишь, Хийси, как люди Карьялы бежали на юг от шведов?
– От русов?
– От шведов. Запомни уже. Так вот – бежали они в здешние леса. И местные вены приняли их хорошо, дали им землю, они выстроили здесь себе новую Карьялу… Ты знаешь, Хийси – они даже играли на кантеле! – Вянемейнен мечтательно улыбнулся. – И хорошо играли… И все же мне было тревожно за них. Когда ставишь баню в чужих лесах, всегда есть опасность забыть себя. Вот поэтому я и напел себе медную лодку. И ушел из Суоми и Карьялы вслед за ними. Им нужна была моя помощь больше, чем тем, кто оставался.
Потрескивало пламя, смола из сухих бревен плавилась с тихим шорохом, и невидимые золотые листья качались в темноте над головами сидящих. Осень устала ходить целый день по болотам и присела напротив отдохнуть у костра. Так сидели они втроем и молчали. Даже Хийси на время забыл о сосисках, задумавшись о чем-то своем. Прошло немало времени, прежде чем Вяйнемейнен заговорил снова.
– Я не ошибся тогда. Беда пришла. Пожирающая сердца вырвалась на волю, и Великое Безумие перемешало всех, словно в котле. Оно разметало детей малой Карьялы, они оказались поодиночке посреди бурного моря чужих людей и смерти. И поодиночке забыли о том, что они дети Карьялы, люди болот, внуки мохнатого Отсо. Забыли не все, но слишком многие. Представь себе, Хийси – я встречаю теперь их потомков, которые не знают родного языка. Да что там языка – у них нет даже луонто, третьей лесной души… Они потеряли свое родство с лесом. А это страшно.
Хийси фыркнул испуганно и недоверчиво.
– Как это – нет луонто? А как же они живут?
Вяйнемейнен вздохнул тяжело, с присвистом, как больной грудью.
– Как живут? Плохо живут, Хийси. Пьют. Ссорятся. Бедствуют. На дворах нищета, потому что в груди свищет ветер из Похъёлы. Друг на друга кидаются и на соседей – лишь бы забыть о боли от пустоты… Человек, потерявший родство, потерял самого себя. Им нужен лес – они забыли туда дорогу. И нет у них луонто-проводника, нет больше лесной души. Оттого все их беды.
Бревна в костре малиново светились, и Вяйнемейнен, не вставая, подбросил в огонь несколько тонких сучьев. Пламя взметнулось ярче, шире раздвинуло темноту, заиграло алым на походной куртке Вяйнемейнена и косматой шкуре Хийси.
– И знаешь, Хийси – есть еще одно… Когда я пришел сюда вслед за детьми Карьялы, то обнаружил, что здесь и до них жили болотные люди, потомки Отсо. Жили давно, и не ушли никуда – но растворились. Стали венами, забыли свой язык и песни, и Отава для них теперь не Мать золотых лесных яблок, не Великая Верша для лунных рыб и песен, а просто одно из созвездий. Может быть, это даже не так и плохо – все же они сохранили луонто, хотя забыли все остальное. Лес был их домом по-прежнему. Но Великое Безумие бросило и их в общий котел, перемешало железной палкой, и тогда им пришлось даже хуже, чем детям малой Карьялы. У тех оставалась еще хоть какая-то память, и они могли за нее ухватиться. Эти – нет.
– Вот ведь… перкеле, – ошарашенно фыркнул Хийси и засунул в рот седьмую сосиску, видимо, чтобы немного прийти в себя после услышанного. – И ты, конечно, тут же решил на помощь прийти? Вы с Ильмариненом… Ладно, молчу, хм, хм…
– Да, – Вяйнемейнен кивнул. – Когда пришло Великое Безумие, я понял, что теперь им без меня не справиться. Только я могу им помочь вновь обрести лесную душу. Потому что я могу вернуть им кантеле. И тогда его голос и песни сами сделают свое дело. Потерянные внуки Отсо сами напоют себе луонто и дорогу в родной лесной дом…
– И как, получается? – Хийси чавкал восьмой сосиской, почесывая ногу копытом.
– Получается, – лицо Вяйнемейнена вдруг озарилось изнутри теплым неярким светом, будто внутри него зажегся еще один костер. – Получается, Хийси…
Он смотрел на пляску огня – и видел многое. Многих. Например, тот майский день, когда…
…Юная женщина задумчиво тряхнула головой. Ей было лет двадцать-двадцать пять, светлые волосы собраны узлом на затылке, но непокорные прядки никак не хотели подчиниться строгому порядку прически, выбивались туда и сюда, золотыми рыбьими хвостиками торчали в разные стороны. И сама она была такой же – внешне молчаливой, но словно готовой в любой момент заплясать, запеть, как речка на перекатах. Серые глаза с голубизной напомнили Вяйнемейнену о давно не виданных озерах Виро и Карьялы. Он стоял рядом с ней, сложив на груди руки, утопив подбородок в седой бороде, и терпеливо ждал.
– Наверное, все-таки эти… Или…
Они стояли на складе гусельной мануфактуры – Вяйнемейнен, юная женщина и ее муж, почти такой же юный, как и она сама. На столе-верстаке перед женщиной лежали гусли – два двенадцатиструнных инструмента. Один был похож на крыло неведомой птицы, и посреди этого крыла полевым васильком распахнулась розетка. Другой походил на птичье перо, и продольные прорези – резонаторы вдоль всего его тела только усиливали это сходство. Оба эти инструмента вышли из-под руки настоящего мастера. Не Вяйнемейнена – но Вяйнемейнен глубоко его уважал, как только может уважать один мастер другого. И оба инструмента были прекрасны – каждый по-своему. Но ни один из них – не был ее инструментом. Вяйнемейнен знал, почему. И еще он знал, почему сегодня, в выходной день, именно ему выпало дежурить на мануфактуре. А юная женщина не знала. Пока не знала. И поэтому никак не могла решиться. «Может быть…» – она тронула струны робкой рукой – в который уж раз! – оглянулась в замешательстве на мужа… И тут ее взгляд упал на полки с готовыми инструментами. Именно туда, куда он должен был упасть рано или поздно. Ведь не зря Вяйнемейнен остался дежурить сегодня.
«Ой, а это что? Можно… посмотреть?» На стол перед ней легло теперь кантеле – то самое кантеле, которое Вяйнемейнен с таким усердием строил, отделывал, полировал неделю назад. Простое кантеле с десятью струнами, без хроматических клавиш. Но именно такие кантеле Вяйнемейнену нравилось делать больше всего. Именно такое он создал когда-то из костей и зубов щуки, а потом – из столетнего дерева. Именно такие кантеле обращали свой голос к лесу и напевали путь заблудившимся луонто. Золотистый инструмент выгнул птичью головку, махнул серебряным рыбьим плавником, глянул из круглой простой розетки дремучими глазами Отсо…
Женщина ахнула – или тихонько вздохнула – совсем не так, как при первом взгляде на гусли. Этот вздох словно вырвался из самых глубин ее души – тех глубин, о которых она сама до сих пор не подозревала. Где пустота давно уже болела, требуя наполнения. Она осторожно коснулась струн – куда увереннее, чем раньше… «Погоди, погоди, – вдруг встрепенулся ее юный муж, до сей поры молчавший, видно хотел, чтобы жена выбрала сама. – Оно, кажется, не настроено. Дай-как мне ключ…».
«Конечно, не настроено,– с некоторым неудовольствием подумал Вяйнемейнен. – На нем ведь неделю никто не играл. Вот только зачем влезать, пусть бы мастер…» Но обидеться он не успел, потому что парень вдруг удивительно ловко заработал ключом настройки. Обычно юнцы его возраста вытаскивали из кармана электронный тюнер или хватались за тот, что нарочно для таких случаев лежал на верстаке – но этому парню ничего подобного и в голову не пришло. Умелыми, опытными руками поворачивал он колки, чутко вслушивался, наклоняясь, и вполголоса бормотал то ли себе, то ли инструменту: «Так, это у нас будет соль… А если сюда диезик? Нет, не пойдет, а если…».
И Вяйнемейнен опытным взглядом с удивлением узнал в нем мастера. Еще юного и не всегда опытного, но настоящего мастера, уже уверенно вставшего обеими ногами на вечную дорогу всех мастеров.
– Ты гусляр? Или мастер по инструментам? – стараясь не выдать своего любопытства, спросил он парня. Вяйнемейнен так и не привык к новому обычаю говорить одному человеку «вы», как будто их много. Впрочем, его возраст и седая борода давали ему такое право – не привыкать.
– Я гитарист, – ответил парень, повернувшись вполоборота и продолжая работать ключом. – И на баяне учился, только давно, в музыкальной школе еще.
Вяйнемейнен кивнул одобрительно. Сам музыкант, отец кантеле – он так никогда и не смог разобраться, как можно играть на баяне, где столько клавиш, но ни одной не видно во время игры. А этот парень смог! Что ж, пусть молодые мастера идут дальше отцов…
Он повнимательнее присмотрелся к парню: темные волосы, тонкий, с горбинкой, нос, усики над верхней губой. Его жена была дочерью малой Карьялы – это сразу было понятно, хотя она сама не помнила об этом. Но этот парень не имел отношения к внукам Отсо. Даже в отдаленных предках у него не было болотных людей. И все-таки кантеле признало его, охотно и радостно откликалось его рукам – уж Вяйнемейнен-то знал разные голоса своего порождения. Конечно, это потому, что парень был мастером, человеком, способным понять любой инструмент. И все же не только поэтому. Было еще что-то неуловимое…
Вяйнемейнен всмотрелся получше – и вздрогнул. Он ясно увидел, что за плечами парня, обнимая его медовыми лапами, стояла луонто. Лесная звериная душа. Та третья душа, которой пока еще не было даже у этой потерянной дочери Карьялы… Луонто – у человека не из болотного рода? Не рожденного матерью Суоми или Карьялы? А впрочем, вдруг подумал Вяйнемейнен: «Почему бы и нет?» Всю свою долгую, по человеческим меркам – вечную жизнь он жил среди рода Отсо, людей болот, трудился для них, помогал им. И потому он не слишком много знал о других людях. «Совсем как Хийси,» – усмехнулся он про себя.
Но ведь и другие люди вышли когда-то из той же утробы, произросли из того же корня, что и люди болот. Они тоже должны были некогда знать Матерей лесных, полевых, водяных и болотных. И других, о которых не знал даже сам Вяйнемейнен, потому что никогда не бывал в тех краях. Так почему бы им и не быть в родстве с лесом, водой и полем? Почему бы им не иметь свои луонто – пусть даже они зовутся по-другому? И, может быть, беда не только внуков Отсо, но и всех людей именно в том, что они забыли об этом родстве?
Может быть, именно поэтому, не умея назвать свою боль – они призвали Пожирающую сердца и Великое Безумие? И, может быть, в таких, как этот парень, таится исцеление не только для детей Суоми и Карьялы – но и для всех? Просто каждому нужно найти свою песню? Мысль эта была неожиданной. И Вяйнемейнену захотелось в лес, сейчас, немедленно, чтобы сидеть у костра, слушать урчание, пение, щебет и крики весенней ночи и обдумывать то, что открылось ему так внезапно.
Но была еще она – золотая юная дочь малой Карьялы, серебристая рыбка неведомых ей озер. Та, ради которой старый Вяйнемейнен остался сегодня на мануфактуре. И ей мог помочь только он. Женщина коснулась настроенного инструмента, пробежала пальцами по струнам – сначала нерешительно, потом все смелей и смелей… И вдруг – заиграла. Игру эту никак нельзя было назвать умелой – но она была настоящей. В ней были тоска и призыв, и плеск озерной волны, взмах весла над затоном и запахи палых листьев. Лунный болотный голос сиелулинту – птицы, возвращающей душу. И птица эта все приближалась, летела стремглав из самого Линтукото, и звериная луонто, еще неведомая даже Вяйнемейнену, следовала за ней из лесов.
Женщина все играла, словно забыв обо всем – даже о себе… И Вяйнемейнен знал, что дело его уже сделано. Она перестала играть так же внезапно, как начала и, кажется, сама еще не понимала, что произошло. Лишь оглянулась на мужа – без слов. Но в ее взгляде больше не было растерянности. А ему, привычному говорить музыкой, видно, и не нужны были никакие слова. «Аня, – выдохнул он, – конечно. Конечно, мы берем кантеле. Это же твой инструмент, сразу видно… То есть слышно». «Айно, – понял вдруг Вяйнемейнен, – Ее зовут Айно».
Косы темного золота полоскались в тумане, на перекате, между серебряных струй, сплетались с водяной травой… Звонкий смех разносился над озером, и песня звучала рассветной росой, и серые глаза насмешливо глядели из-под волны, из дома Матери вод…
Он ведь сказал Хийси неправду. Вернее, не всю правду. Он не то, чтобы поглядывал на Айно – он любил ее. И она это знала. И Йоукахайнен знал. Не такой уж он был дурень, Йоукахайнен – понимал, на что рассчитывал. Вот только Айно Вяйнеменен был не нужен. И он это знал. А Йоукахайнен так и не смог понять своей хитрой, но бездарной головой, что настоящий мастер никогда не станет добиваться любви окольными путями. Тем более – силой. Как давно это было…
Новая, юная Айно счастливо прижимала к себе золотистое кантеле, будто птицу из Линтукото, возвращающую потерянные души. И ее юный муж так же счастливо глядел на нее саму, радуясь ее радости. «А ведь ты – рунопевец, парень», – хитро прищурился Вяйнемейнен. «Не признался, но я-то знаю. Мастер мастера всегда угадает. И твоя Айно любит тебя. Тебе повезло. Ты счастливее меня, и это хорошо. Хорошо, что рунопевцы тоже иногда бывают счастливы… Об одном тебя прошу: помоги ей найти свою луонто. Ты можешь, я знаю и это. Очень тебя прошу – как мастер мастера… Пусть она никогда не скажет, будто кантеле построено из слез».
Костер догорал, и Хийси уже не было рядом. Вяйнемейнен и не заметил за мыслями, как тот ушел. А впрочем – сосиски закончились, что ему тут еще делать? Вяйнемейнен усмехнулся и бросил в огонь пустую упаковку. Она взметнулась было пламенем, но огонь тут же опал – это тебе не смолистые бревна и сучья, здесь огню пищи немного. Вяйнемейнен хотел было подняться, чтобы подбросить в костер очередное полено, но взглянул на небо и раздумал. Так же неслышно и незаметно, как уходил Хийси, раздвинулись темные тучи, и Небесная Лосиха, Мать медолапого птичьего старика, поскакала по небу. Где-то там, за границей неба, птицы и души летели за ней в Линтукото, вращались на вечном золотом колесе жизни. Год пришел к повороту.
День рождения медведя
Синий камень был совсем не синим. Он был белесовато-свинцовым, как небо в пасмурный день, торчал из прозрачной речной воды древней угрюмой глыбой, и на макушке его явственно виднелись следы пребывания облюбовавших камень куличков-перевозчиков. Но Аня все равно сразу его узнала. Да и как было не узнать, если тот дед в Воймеге столько раз про него повторил, еще и с хитрым таким прищуром:
– Вот увидите Синий камень – так все, кончились сосняки, дальше-то одни луга пойдут и листвяк. Это если увидите…
–А что, его не заметить можно? Сейчас же вода низкая. Вы поточнее нам скажите, дедушка, пожалуйста! А то как врежемся на байдарке… И так порвались уже на старой плотине под Гореславлем. Час зашиваться пришлось!
– Да как сказать… – опять этот хитрый прищур, вот вредный дед, объяснил бы толком! – Он ведь не всякому показывается, Синий камень-то. Кому покажется, а кому и нет. Камень-то Синий…
Ну что ты будешь делать? Еще раньше на их с Мишей животрепещущий вопрос: «Далеко ли до Саматихи?» (карта из Яндекса оказалась страшно неточной, а интернет в этой глуши не ловил, и неведомая пока Саматиха, казалось, смеялась над ними, убегая все дальше вниз по реке) – этот дед помотал головой, переспросил и заявил, как ни в чем ни бывало: «Да я и не знаю такую, я в ту сторону не хожу». Не ходит он, видите ли! Прямо девятнадцатый век или средневековье какое-то! Не хожу – значит, ее и нет. А Саматиха чуть ли не районный центр, между прочим, крупное село, там байдарочники уже лет пятьдесят на антистапель встают…
Махнув рукой, они поблагодарили деда (все-таки информация про Синий камень могла пригодиться) и, оттолкнувшись веслом от топкого берега, пошли дальше, решив понадеяться на байдарочное счастье. До сих пор в этом походе, за почти две недели пути, оно им не изменяло. Если не считать той плотины под Гореславлем, конечно. Но там на развалинах почти все рвутся, а уж по низкой воде, как в этом году, и подавно порезов не миновать.
И вот теперь таинственный Синий камень высунулся из воды прямо перед ними, по левому борту – огромный, серый, угрюмый, похожий на голову лося. Лося – ну конечно, кого же еще. В здешних местах лоси встречались чуть ли не чаще людей. Запросто переходили реку вброд прямо перед байдаркой, как будто их с Мишей тут и не было, с ленивым любопытством рассматривали их с берега, ночью подходили к самой палатке, шумно дышали и, может быть, размышляли своими дремучими лесными мозгами – зачем тут этот странный шалаш и кто в нем притаился? Двинуть его для порядка копытом или дальше пойти по знакомой тропе через реку на пойменные луга, пока не лютуют слепни?
Встречи с лосями до сих пор оканчивались мирно. Но все-таки Аня с Мишей каждый раз немного напрягались, когда очередная бурая махина шлепала по воде совсем рядом или высовывала огромную любопытную морду из кустов. Особенно после того случая, когда реку вздумал переходить совсем маленький рыжий лосенок, а байдарку несло прямо на него, табанить на быстрине было трудно, и где-то в кустах на берегу предупреждающе топнула копытом лосиха-мать. Кто их знает, этих лосей, мало ли что им может не понравиться. А при их размерах и весе это будут уже не их проблемы…
Так что сходство Синего камня с лосем не прибавило Ане оптимизма. Да что там – она прямо-таки застонала от разочарования. Не вслух, конечно, чтобы не нервировать сидевшего на руле Мишу. Он и так порядком нервничал: скоро начнет темнеть, а они до сих пор не нашли места для стоянки. То берег оказывался топким – не подойдешь, то все подходы наглухо заросли осокой и крапивой, то не было рядом деревьев или росли одни березы да липы – значит, приличных дров не найдешь, зато комаров будет немеряно… В крайнем случае можно было, конечно, встать и в листвяке, но Мише не давала этого сделать капитанская гордость. Ведь это он научил Аню ходить на байдарке, открыл ей мир речных странствий, чувствовал себя в этом мире ее проводником – и ему непременно хотелось, чтобы каждая выбранная им стоянка вызывала у жены как можно больше восхищения или хотя бы просто радости. Сырой комариный листвяк для этого никак не годился.
К тому же было еще одно обстоятельство: завтрашний день был Мишиным днем рождения. Так уж получилось, что они с Аней родились хоть и в разные годы, зато почти в один день – в середине лета. И вот уже второй раз – с тех самых пор, как поженились – отмечали свои дни рождения в речном походе. Анин день уже наступил, и провели они его на замечательном сосновом склоне, где было вдоволь черники и даже немного грибов-лисичек, а комары и слепни не так уж и зверствовали. Теперь был Мишин черед – и Мише, а еще больше Ане, хотелось отпраздновать и это событие как полагается.
Вот только хорошей стоянки все не было. И последние надежды ее найти разбивались теперь о твердый лоб Синего камня.
«Дальше-то все луга да листвяк…»
Аня снова чуть не застонала от разочарования и бессилия, вспомнив тот уютный сосняк, что они проплывали час назад. Золотые мачтовые сосны у самой воды, сухая ровная поляна, усыпанная хвоей, пологий берег – не пришлось бы далеко таскать тяжелые гермомешки с вещами и едой…
И пьяные мужики. Целая компания развеселых деревенских мужиков, явно осушивших уже не одну бутыль самогона после удачной рыбалки, и никуда не собиравшихся уходить с уютной сосновой полянки.
Завидев байдарку, они завопили что-то невнятное, а Миша молча и быстро оттолкнулся веслом подальше от берега и погреб вперед что было сил.
– А может… – робко заикнулась было Аня, глядя на стремительно опускавшееся к горизонту солнце.
– Ты, кажется, лосей боялась, – буркнул Миша. – Так вот эти – поопаснее лосей. Кого я в лесу по-настоящему боюсь, так это человека. Со зверями все-таки договориться можно, если правила понимать…
И вот теперь – Синий камень. Аня не сказала о нем Мише, но спиной ощутила, что и тот заметил валун и узнал его. И тоже, конечно, ни о чем не сказал – чтобы ее не расстраивать.
Глупо, глупо… Так и будет вечно прятать от нее свои проблемы, чтобы не «расстроить», не «надоесть»? Может, кому другому это бы и понравилось – вот, мол, как муж меня бережет, не грузит негативом. Только радовать старается! Но она-то, Аня… За эти неполных два года, прожитых вместе, она научилась чувствовать Мишу всем своим существом – так, должно быть, мать чувствует младенца. И она все равно понимала, как он ни скрывай. Она все равно знала все его тяжкие мысли – о том, что его музыка, выстраданная и выпестованная, никому не нужна, и приятели только хлопают снисходительно по плечу, но никто и не думает прийти на его концерт, и неужели вся его жизнь – только ради того, чтобы учить девчонок и мальчишек зажимать струны на грифе, играть этюды Джулиани и брать аккорды с баррэ, а ничего больше люди от него никогда не возьмут, как он ни предлагай им лучшие свои сокровища… И именно поэтому он уже целый год не может написать ни одной нотной строчки.
А впрочем, и она сама, Аня… Ей ведь еще предстояло сказать ему. Иначе нечестно. А она не решалась. Не решалась уже три месяца, с того самого, вроде бы ничего не значащего визита к доктору и этих слов, звучавших так неожиданно, непонятно, страшно…
И Синий камень. И день рождения, – именно Мишин день! – который теперь не удастся, потому что им придется встать, отчаявшись, где-нибудь в осоке и крапиве, и…
«Синий камень! – вдруг, неожиданно для самой себя, взмолилась она. – Ну зачем ты так, Синий камень? Это же несправедливо! Несправедливо, чтобы все это – именно Мише! Ты же не знаешь, он самый лучший, он настоящий музыкант, он… Синий камень! Ты же такой древний, это твоя река – ну будь же гостеприимным, ну сделай хоть что-нибудь!»
Говорят, утопающий хватается за соломинку. Или за камень.
Хорошо, что Миша не слышал ее странных просьб…
Вода вокруг камня все так же струилась – быстро и равнодушно, качались прибрежные камыши. И из этих камышей, из-за угрюмой каменной спины показалась вдруг серая уточка.
Привычным взглядом орнитолога Аня сразу определила, что утка именно серая, не обычная кряква, и встрепенулась, несмотря на все свое расстройство. До сих пор на этой реке им не встречались серые утки. Интересно, почему она одна – утята успели вырасти? Аня, не переставая грести, с любопытством проследила взглядом за уткой, наискосок и вперед… «Ой, Миша! Мишенька, смотри!» Там, впереди, на вершине отлогого берега, чуть в стороне от воды – прямо в закатное небо вздымал золотые могучие руки сосняк.
И серая уточка свернула к нему – в единственный узкий, почти незаметный проход среди камышей и осоки.
…Они сидели у негромко потрескивавшего костра, под навесом мохнатых лап огромной сосны, прижавшись плечом к плечу, смотрели сквозь пламя на поблескивавшую под берегом реку и все не могли до конца поверить своей удаче.
В соседних соснах монотонно и упорно пищали птенцы ушастой совы. Где-то в подлеске сонно вскрикнул дрозд-рябинник – должно быть, увидел во сне ястреба. Ветер с тихим шорохом колыхал сосновые ветви, и луна плыла между игл ленивой серебряной рыбой, едва пошевеливая плавниками. Что-то плеснуло в реке – может быть, щука, или какой-то зверь переплывал на тот берег. А больше звуков не было – даже привычного зудения комаров.
Странно, ведь по карте где-то совсем рядом должна была быть деревня. И еще одна – на том берегу. А впрочем, эти карты уже столько раз наврали.
Что-то вдруг забарабанило по костровому тенту, прямо над головами Ани и Миши. Неужели дождь при ясном небе? Но тут же с сосны раздалось глухое «У!» – и они невольно прыснули, разом догадавшись. «Сова – сволочь, – негромко сказал Миша в темноту. – Кто теперь тент отмывать будет?» Но в голосе его не было раздражения. Эта стоянка, так неожиданно найденная в самый последний момент, была, пожалуй, даже слишком идеальной, чтобы в нее поверить. Им не пришлось даже искать дрова – как будто нарочно к их приходу прямо рядом с тем местом, где они собрались развести костер, упала сухая, до звона выбеленная солнцем сосна подходящего размера: не слишком толстая, но и не тонкая, так что, поработав пилой с полчаса, Аня и Миша запаслись дровами дня на два вперед. Сейчас эти дрова потрескивали и шипели в костре, почти без дыма – они оказались еще и очень смолистыми. А впереди путешественников ждал отдых в палатке, в уютном спальнике, на золотом хвойном ковре…
Так должно же тут быть хоть что-то неидеальное – например, неаккуратная сова? Иначе стоянка, пожалуй, и вовсе рассеется поутру, как волшебный сон! Тихо, тихо было вокруг, только кто-то незримый, будто ночной туман над пойменным лугом, вышел неслышно из темноты, присел у огня, всматривался в них лунными глазами и молчал.
…Аня проснулась внезапно, будто кто-то ее подтолкнул. Там, за палаткой, все так же кричали совята – значит, утро было еще далеко. И что-то еще, какой-то голос на краю слуха, странный, стонущий, зовущий… Со всем своим опытом орнитолога Аня никак не могла понять, что это такое. А потом вдруг вспомнила – гагара! Точно так же кричала гагара на Ладоге! Но откуда она здесь? В этих местах, в средней полосе, гагары не водятся.
Аня выскользнула из спальника тихо и осторожно, чтобы не разбудить Мишу. Он уютно посапывал во сне, улыбался счастливо, как ребенок, и Аня невольно улыбнулась в ответ, даже забыв удивиться тому, что различает его лицо в темноте. Расстегнула молнию у входа и вышла в ночь – как была, нагая.
Над поляной все так же плыла луна, цепляясь за сосны, воздух вокруг был серебряным, словно прохладные воды ночного озера, в нем плескались рыбками травинки, пахло иглами и росой. И Аня, повинуясь чему-то в неведомой глубине, вдруг вскинула руки, подставив нагую грудь теплому лунному серебру, и поплыла, поплыла по этим волнам, покачиваясь, будто лодка – или серая утка? Куда – она сама не знала. Она почти забыла сейчас даже о гагаре. А протяжный гагарий зов все звучал, все приближался с далеких перекатов, от Синего камня…
«Здравствуй, Айно, Утиная дочь, внучка Ольхового Зайца! Здравствуй, Мать косматых!»
Это гагара? Или ветер в соснах? А может быть, плещет у Синего камня вода?
Не все ли равно…
«Я – Аня. А кто это – Ольховый Заяц?»
«Твой дед был рунопевцем – там, в старой Карьяле, на Великом озере. Разве ты не помнишь?»
«Мой дедушка был моряком. Он умер в прошлом году. А родился в Москве, как и я».
«Рунопевцем был другой – тот, кто привел ваш род в новую Карьялу. Тот, кто нашел здесь убежище для своих песен. Дед деда твоего деда, и еще дальше».
«Так далеко я не помню. Не знаю».
Дуновение ветра прошло по траве, по нагому телу, словно вздох.
«Да, в этом ваша беда – вы забываете. С тех пор, как вы повернулись спиной к вековечному кругу, время бежит для вас слишком быстро – и слишком долго. Те болотные люди, что жили здесь до тебя – они ведь тоже забыли… Взгляни на ту сосну, Утиная дочь, что ты там видишь?»
Аня перевела взгляд на самую старую сосну в глубине поляны. Они с Мишей заметили ее еще вечером – толстую, кряжистую, опаленную молнией, но не сдавшуюся. Ей было, должно быть, не менее двухсот лет, а может и больше. И теперь Аня откуда-то знала, что посмотреть надо именно туда. Посмотрела – и вздрогнула. Что-то белело там, на одном из сучьев. Чей-то череп смотрел на нее пустыми глазницами, поблескивал в лунном свете большими кривыми клыками.
«Из века в век медолапые здесь уходили по ту сторону камня и люди болот провожали их песней, как братьев. Они ведь и были братьями, внуками золотого Отсо. Из века в век здесь же они возвращались обратно, чтобы сила предков дала жизнь новым поколениям, и люди встречали их песнями, танцами в день их рождения. Теперь не то… Нет больше болотных людей – есть только их потомки, забывшие себя. У них прежние лица, но другая душа. Они живут рядом с нами, но не хотят нас знать. Боятся нас, гонят и проклинают, сочиняют про нас страшные злые сказки, а потом сетуют, что лес встречает их враждебно. Брат, предавший брата – уже не брат, а враг. Худший из врагов».
Колыхнулись лунные волны, зашелестели тревожно сосновые иглы…
«Когда Ольховый Заяц и другие рунопевцы привели сюда свои роды – мы думали, что теперь возродится старая дружба. Снова струны зазвучат на Камне песен, снова мохнатый справит день своего рождения и свадьбу свою под стволами матерей-сосен… Новые болотные люди пришли в наш край, и эти люди помнили – так может и старые вспомнят свой род и песни? Но в мире людей давно уже все не так. Эти не вспомнили – да и те забыли со временем. Вот я вижу теперь внучку Ольхового Зайца, но она не знает ни имени деда, ни языка его, ни того, откуда она сама».
«Мне никогда об этом не рассказывали. Даже дедушка. Только тетя в Питере… Она говорила с дядей, и там было странное слово. Я спросила, и она сказала – это по-карельски. Что-то про тверских карел… Но я забыла. Мне было тогда лет двенадцать. А больше – никто».
«Они боялись. Привыкли бояться за годы Великого Безумия. Так всегда у людей – сначала боитесь, молчите, потом привыкаете, а потом забываете. Если песни не петь – они умирают. Уходят за камень и больше не возвращаются».
«Что же мне делать? Я не хочу, чтобы они умирали».
«Верни свою песню. Вспомни о том, что ты – мать болотного рода. И тогда твоя сила сама поведет тебя, куда нужно».
Мать… Это слово отозвалось острой болью в груди. Глухим эхом, как в пустой бочке, зазвучали слова врача – а она не ждала приговора, она-то думала, что это будет всего лишь осмотр для справки…
«А если я никогда… не смогу стать матерью?»
«Что значит – стать? Каждая женщина – мать».
«Но мать должна… рожать детей?»
«Мать может рожать детей. А может творить и иное. Вот и Сосновую деву зовут Матерью медолапого Отсо, хотя он спустился к ней на плечах Небесной Лосихи, в золотой Небесной Верше. Но она научила его путям лесов и людей, и лишь рядом с ней он стал самим собой. Женщина всегда творит: не этак, так иначе. Что сотворяешь ты, Айно, Утиная дочь?»
«Я… изучаю птиц. И рисую. Тоже птиц. Недавно выставка была… Только почти никто не пришел. Никому это не нужно».
«Ты возвращаешь людям лес. Значит, ты – настоящая мать болот. Просто люди не всегда способны сразу все понять».
Аня оглянулась на палатку и ясно увидела там, внутри, словно в подсвеченном изнутри цветке, сладко спавшего мужа.
«А Миша? Как же он? Мужчина ведь не может стать отцом без женщины».
«Ты хорошо сказала, Утиная дочь. Но ведь он – рунопевец. Быть отцом песен – для него важнее всего. И в этом ему тоже нужна помощь женщины. Такой, как ты – лесной матери, внучки Ольхового Зайца».
«Тогда почему ничего не выходит? То есть выходит прекрасная музыка, но… Никому это не нужно. Как и мои рисунки. И мои птицы».
«Птицы всегда нужны. И песни тоже. Просто он, как и ты, потерял себя. Заблудился».
«Он же не…»
«В нем нет крови болотных людей, это правда. И он не забывал о дружбе с лесом. Но он поет лесные песни не тем людям. А когда его не понимают – пытается переложить их на язык хлева, где хрюкает поросенок. Только они все равно не поймут, а песни в хлеву зачахнут… Помоги ему найти свою тропу, помоги вернуться из-за камня! И тогда вы вместе породите настоящее».
Всплеск на реке, далекий гагарий крик, серебристый туман над поляной, луна взмахнула золотым хвостом, идя на глубину…
«Кто ты?», – хотела спросить Аня и не успела.
Открыв глаза, она увидела лишь темноту палатки. Услышала сонное Мишино сопение, уткнулась носом, как всегда, ему в подмышку…
Странный сон. Или не сон? Она протянула руку, провела осторожно по телу мужа, по спине, по рукам… Ей всегда нравилось ощущать его кожу – одновременно мягкую и упругую, такую родную, пахнущую лесом. Но сегодня было что-то еще – словно гладкая жесткая шерсть, похожая на сосновые иглы – только совсем не колючая.
Миша вдруг повернулся всем телом к ней – не спал или проснулся? – глаза его блеснули в темноте зеленоватым лунным светом. И объятья его были как солнце, как воды летнего озера, они пахли медом и нагретой хвоей, и Аня почувствовала, что растекается в них медовыми летними сотами, и неведомая сила подхватывает их обоих и несет все дальше, и выше, и глубже…
Они не заметили, как за палаткой перестали кричать совята, и тут же вместо их крика начало раздаваться тоненькое ржание, будто где-то в сосновых кронах притаился небесный жеребенок: это птенец коршуна проснулся и требовал еды. Утро пришло.
…Аня собирала землянику в большую жестяную кружку и понимала уже, что кружки маловато: тут бы надо туесок или целую огромную корзину! Такую, как у ее дедушки, человека моря и леса, который порой уходил в чащу на несколько дней в одиночку, где-то блуждал одному ему известными тропами и возвращался всегда с огромной корзиной, доверху полной грибов или ягод. Ее дедушка-карел. Это в него у Ани такие прозрачные голубые глаза и светлые волосы. Странно, почему она никогда не расспрашивала его обо всем… этом?
Земляника была в самом соку, словно нарочно зрела к Мишиному дню рождения. Это ведь был Анин подарок – свежая земляника. Или черника – смотря что попадется. Больше всей на свете еды Миша любил мед и ягоды. Откуда здесь столько ягод? Аня успела уже сбегать на край сосняка – лесок оказался совсем небольшим, наверно, не больше километра шириной – и с удивлением увидеть там широкую утоптанную тропу. Да что там утоптанную – наезженную! На сухой земле явно виднелись следы от мотоциклетных шин. Значит, деревня и правда была где-то рядом. Но почему же тогда так тихо, даже лая собак не слышно? И земляника. За пределами леска ее тоже росло немало, но ягоды были начисто обобраны. А в лесок местные жители, выходит, не заглядывают? Но ведь он такой маленький, совсем не опасный, просматривается с тропинки чуть ли не насквозь…
Конечно, Аня успела сходить и к старой сосне. Никакого черепа на ветвях не было. Значит, все-таки приснилось? Но когда она разгребала руками траву под этой сосной, чтобы добраться до особо аппетитной земляничины – палец что-то слегка кольнуло. Звериный клык. Огромный, старый, пожелтелый. Но все еще острый. Разгребать траву глубже она не решилась.
Когда она возвратилась костру с полной кружкой душистых ягод – Миша уже заканчивал печь блины. Это тоже был ритуал: они брали с собой в походы маленькую сковородку на цепочке, на особенно длинных или праздничных стоянках подвешивали ее над огнем, и Миша пек из какой-то особенной муки лесные блины. Дома он тоже готовил самые разные блюда, в том числе и блины, но почему-то в лесу вкус их получался совершенно особенным. Аня всегда с нетерпением ждала, когда придет время доставать праздничную лесную сковородку. Вот и сейчас Миша сидел, скрестив ноги, под сосной, смотрел на Аню весело и подтягивал к себе длинной палкой цепочку со сковородкой – очередная порция блинов была готова. От него пахло медом и сосновыми шишками, глаза блестели все тем же огнем, что утром в палатке, и Ане при одном взгляде на него хотелось прыгать по поляне, смеяться и танцевать. Что-то бурлило в них обоих, какая-то новая сила рождалась и требовала выхода.
Миша переложил готовые блины в миску, сладко потянулся – аж косточки хрустнули – помотал кудрявой головой.
– Знаешь, я такую… силу чувствую! Мне так хорошо давно не было, честно. Такое ощущение, что – все могу!
– Миску земляники в одно лицо съесть можешь? – Аня смеялась, глядя на него, и самой себе казалась уточкой, весело бьющей крыльями поутру на Синем камне.
– Могу. Но не хочу. То есть хочу, но не хочу хотеть. Тебе тогда что останется, добытчица?
Она упала на траву рядом с ним, боднула его головой в плечо, и они оба расхохотались, сами не зная почему.
– О, гляди – люди идут!
По тропинке совсем рядом с лагерем деловито шагали мужчина и мальчик – должно быть, отец и сын – с удочками в руках. Рыбалка была явно удачной – из жестяного ведра в руках мужчины торчали рыбьи хвосты. Аня ждала, что сейчас рыбаки с любопытством окинут взглядом их лагерь, палатку, расспросят о рыбалке в верховьях… Они ведь наверняка и байдарку успели заметить там, на берегу.
Но странное дело – ни мужчина, ни мальчик, казалось, не замечали их. Ни одного взгляда, ни одного, даже мимолетного движения головы в их сторону. Словно бы их тут и не было. Хотя костер горел чуть ли не у самой тропинки, а в воздухе так и витал аромат свежих блинов.
– Нелюдимы какие-то, – пожал плечами Миша, глядя в удаляющиеся спины.
– Ага. Может, суеверия рыбацкие?
– До сих пор все рыбаки общительными были…
Впрочем, они быстро забыли о нелюдимых рыбаках: ведь их ждали блины со свежей земляникой! Миша быстрыми ловкими движениями растер ягоды с сахаром в миске, и теперь они с Аней макали блины в такое варенье, какого в городе не сыщешь ни за какие деньги. А в закопченном кане уже дымился чай из водяной мяты, черной смородины, таволги и зверобоя. Легкий теплый ветерок колыхал сосновые ветки. И – ни комара, ни слепня. Только черный дрозд негромко пел где-то в глубине леска.
И Ане было так хорошо, что радость в ней замкнула круг и соприкоснулась с болью. Внутри у нее словно вдруг прорвало плотину, и сами собой потекли слезы, не мучительные, не обжигающие, а прохладные и очищающие, как майский черемуховый ливень. Она плакала на руках у Миши, обнимала его и рассказывала, рассказывала обо всем, что мучало ее все эти три месяца. Он слушал ее, гладил ласково по волосам и молчал, потому что понимал ее – теперь она это точно знала. И в этом его понимании было освобождение. Боль утекала вместе с потоками слез в неведомую реку, под Синий камень…
Скрип велосипеда на тропинке – уже совсем близко к лагерю! – заставил ее встрепенуться. Ей не хотелось сейчас никому, кроме Миши, показывать свои слезы. А тот человек, может быть, даже услышал, как она плакала…По тропинке мимо них ехала старушка в цветастом платке, на древнем скрипучем велосипеде, с корзинкой ягод на багажнике. Как и рыбаки чуть раньше, она, казалось, не замечала ни лагеря у самого края леска, ни даже дыма костра – или просто не обращала внимания? Но, подъехав совсем близко, старушка вдруг как-то странно дернулась и остановилась, будто увидела впереди неведомое препятствие. А вернее, не увидела – ощутила что-то совсем рядом глубинным чутьем опыта и истончившейся к старости грани между мирами.
Старушка стояла на тропинке, прислушиваясь и озираясь, не решаясь снова сесть на велосипед. Хотя двое молодых людей, ничем особо не примечательных, сидели тут же, чуть ли не у ее ног. Старушка потянула носом воздух, словно испуганный лесной зверек, пытающийся угадать притаившегося хищника…
«Она нас не видит», – вдруг поняла Аня, и по спине прошел холодок: то ли страха, то ли любопытства.
– Здравствуйте, бабушка! – робко пискнула она из Мишиных объятий.
Старушка вздрогнула, будто ее ударили. Заозиралась.
– Ой, здравствуйте, здравствуйте… А я так напугалася, так напугалася, значит…
Она смотрела теперь прямо на Аню и Мишу – и как бы сквозь них, будто слепая.
«Не видит. Слышит, но не видит. Даже теперь».
Старушка робко, как-то бочком взгромоздилась обратно на велосипед, явно стараясь не делать лишних движений, и вдруг припустила вперед по тропинке, изо всех сил крутя педали. Похоже, она даже испуганно оглядывалась, а может быть, Ане это показалось. Она так и не успела проверить, что будет, если они с Мишей выйдут сейчас за границу лесного круга. Увидела бы их тогда старушка или нет?
Они переглянулись. Помолчали.
– Это что же, мы тут… невидимые, что ли? – наконец, сказал Миша хрипловатым восхищенным шепотом. И зеленые огоньки в его глазах заплясали еще озорнее.
Аня кивнула.
– Мне кажется, мы теперь стали… как Синий камень, – тоже отчего-то шепотом сказала она. – Помнишь, тот дедушка говорил – кому покажется, а кому и нет.
– Вот только мы выбирать не можем, кому показаться. Со старушкой, видишь, не вышло.
– Может, и камень не выбирает. Знаешь, мне кажется – он что-то вроде двери. Кому хозяйка захочет открыть – откроет. А не захочет…
– Хозяйка? Почему не хозяин?
– Может быть, и хозяин, – пожала Аня плечами. – Не все ли равно.
Они еще помолчали, глядя на сосны, костер и реку, чувствуя, как кто-то незримый смотрит на них через огонь пристально и ласково.
– Знаешь, солнышко, – вдруг сказал Миша, и Аня, гладя задумчиво его руку, вдруг ощутила снова под пальцами жесткую гладкую шерсть. – Не верь ты очень этому де… доктору, в общем. Они всегда так – напугают посильнее, чтобы ты им деньги за процедуры всякие понесла. Или просто, чтобы отвязаться. Знаешь, сколько таких ошибок… А у нас будет все, что мы захотим. Все, что ты захочешь. Сам не могу понять, откуда я это знаю – но знаю точно.
Руки его, странно сильные, горячие, мохнатые – да, мохнатые, хотя шерсти не было видно – оплели Анино тело, начали гладить по голове, по спине, проникли нетерпеливо под рубашку…
– Хочешь, проверим прямо сейчас? – голос его прозвучал веселым хрипловатым рыком, и озорные огоньки глаз плясали теперь прямо перед Аниным лицом. – Мы же невидимые…
Сухая теплая хвоя, шершавый ствол сосны, пахнущий медом и шишками. Жаркая медовая река, уносящая ввысь, вдаль, в глубину…
Крик гагары у Синего камня…
…Мать пчел, Лесная хозяйка смотрела из летней сосновой тени вслед узкой зеленой лодочке, готовившейся к отплытию. В лодке сидели девочка и мальчик. Мужчина и женщина. Утиная дочь и Медовое яблоко леса.
Вот девочка на прощанье подвела лодку прямо к Синему камню, коснулась рукой, заговорила – или запела?
Дева Похъёлы говорит,
Так охотнику говорит,
Золотыми струнами говорит:
«Священного лося поймай
В серебряной чаще…»
– Что это? – голос мальчика звучит удивленно.
– Сама не знаю. Это моя тетя в Питере… Она дяде это читала. На своем языке. Я попросила перевести, но мне двенадцать было, и только это осталось. Не вспомню, что дальше. Давай поедем в Питер к тете, а? Давай?
– Давай, – теперь мальчик задумчив, совсем по-мужски. – Знаешь, мне кажется, я напишу… Напишу теперь про этот берег. Про сосняк. Про реку и Синий камень. Сам пока не знаю, что – может, пьесу, а может, песню… Но оно уже внутри. Зреет во мне, как яйцо в птице.
– Как ребенок в утробе… Я понимаю.
Они отталкиваются веслами, кричат напоследок: «Спасибо этому месту!» – и уплывают прочь от Синего камня, скрываются за поворотом, в серебряных струях и золотых камышах. Смотрит им вслед Мать пчел, Лесная хозяйка, кивает довольно. Хорошо она сделала, что позволила тем мужикам резвиться в сосняке выше по течению. Хотя они и невежи. Можно было, конечно, послать туда Ёлса – пусть бы попугал их, показался бы из кустов лосем, а может быть, вепрем. То-то весело было бы поглядеть на сверкающие пятки!
Ну да пусть их – на этот раз. Зато праздник Середины лета, день рождения мохнатого Отсо свершился, наконец, как надо. В первый раз за много, много оборотов золотого круга… И эти двое, внучка Ольхового Зайца и рунопевец новых людей, унесли теперь в себе золотое семя, серебряное яйцо вековечного возрождения. Унесли вниз по реке – как и должно. Все возвращается, все должно возвращаться…
Кто знает – может быть, недолго осталось ждать, когда снова зазвучат струны на темной спине Камня песен? И люди, и лес вновь заговорят, понимая друг друга? Сосны кивали согласно. И серая уточка вскрикнула торжествующе из тростников.
Дед и лесная смерть
Бабу Таню так и не нашли. Почти неделю ее искали всей деревней, облазали все грибные поляны, все мшары, не углубляясь, впрочем, слишком далеко, а то неровен час – сам за бабкой в болото уйдешь. Даже участковый из Гореславля приезжал, тоже по чаще шарился, ругался – мол, каждый год одно и то же, вот и в Сойбе недавно… Деревенские смотрели устало-сонными глазами, плечами пожимали. Участковый еще молодой. И городской, аж из Владимира, говорят. А они привыкли. Не нашли бабку Таню. Даже следов не нашли, даже корзинки, с которой она в тот день уходила в осенний лес. Будто растворилась она во мхах, в октябрьских темных болотах, в еловых буреломах и золотых березовых листьях на черной воде. Никто не удивился. Не в первый раз такое. В прошлом году вот так же пропал мужик из Остеево. Шел в ноябре, уже по сумеркам, по первым заморозкам, в Бакшеиху с двумя приятелями. Выпимши, конечно. На полпути вдруг говорит – я, мол, другой дорогой пойду. Будто позвал его кто-то. Не нашли потом. И тоже никто не удивился.
Деревня поговорила вяло и вернулась к своим заботам. Скоро совсем забудут про бабку Таню. Только кошку ее хотела забрать соседка, да не успела, пропала и кошка. Вышла, должно быть, оголодав, на двор, кротов половить, а лисица и унесла. Обычное дело.
Дед Михалыч сидел у окна, под зеленым абажуром – еще Дарья-покойница покупала – чистил старую двустволку и вспоминал бабку Таню. Он знал ее с детства, Таньку. Неплохая была девчонка. Пела хорошо, звонко так. Они с ней и в школе за одной партой, даже вроде бы нравилась Танька ему… Ёлс знает, как давно это было. А потом – как у всех: муж – Колька-пьяница, дети, ругань, огород, серые бабьи дни. Рано она состарилась, Танька. Колька-тодолго не зажился. Нет, в лесу не пропал – куда такому в лес. Он и дороги туда небось не знал, за клюквой и то не ходил. Повесился в сарае, чуть за сорок ему было. Тогда тоже не удивился никто – алкаш и есть алкаш. Танька не радовалась, конечно. Но и не плакала. Как бы вроде ей все равно. Глаза потухшие были – так они у нее давно уж потухли. И не пела она… да, почитай, с того самого года, как за Кольку вышла. Полвека уже. Все и забыть про ее песни успели. Только Михалыч помнил. Да что ей с той памяти…
Вот и теперь – забудут ее, скоро забудут. Вспомнят разве, когда дети из города заявятся наследство на дом оформлять. Они вроде как и не знают пока, на югах отдыхают где-то. Нечасто они сюда наезжали. И никогда надолго не задерживались. Михалыч их не осуждал. Ему самому-то с Танькой, даже по старой памяти, тоскливо и тяжко было. Только и разговору, как огурцы не вызрели, а клубнику опять всю ежи поели. Ежи! Это ж надо такое придумать. Сколько раз говорил ей Михалыч, что клубнику слизни едят. А ежи – так те как раз слизней. Да она и не слушала, неинтересно ей было. Один раз на ежа с вилами набросилась, Михалыч еле отбил. Оказалась ежиха брюхатая. Она этой дуре столько защитников для огорода бы нарожала… А так Михалыч животину в лес отнес, от греха подальше. И слизни у Таньки опять всю клубнику сожрали.
А ведь в детстве не то было. В детстве она слушать любила, как он про лес рассказывал…Забыла все. И ее забудут. Предлагал ведь он ей, Таньке-то, от Кольки уйти. Это еще до Дарьи. И детишек бы ее принял – подумаешь, детишки, интересно даже. Они вот с Дарьей так и не нажили потом… Пацана бы охотником сделал, девке бы все клюквенные да грибные места в лесу показал – больше его ведь никто не собирает, даже теперь. Может, потом и приезжали бы чаще. Да Танька тогда уперлась – мол, как же так, огород, дети, дом, а что люди скажут…
Дура она, Танька. Люди… Может, и не приедут дети-то. Зачем им, городским, дом в деревне, да еще в такой глухомани. Отсюда и так поразъезжались все, одни старики да старухи остались. И добираться только пешком, или на УАЗе каком-нибудь, который не жалко по корням да кочкам трепать. Не на городских машинках. Забудут Таньку, и дом ее обветшает, крыша провалится, огород зарастет крапивой. Будет дом смотреть пустыми глазницами в темнеющий лес. Еще один пустой дом в деревне.
Михалыч кашлянул, переломил двустволку, поглядел еще раз в стволы на просвет. Встал, потянулся всем телом, с хрустом. Повесил двустволку на гвоздь и вышел на крыльцо, в сырые октябрьские сумерки. Совсем темно уже было – да и то, конец октября. Раньше случалось, в эти дни первый снег выпадал. Таял потом, конечно. А все одно на сердце радостно становилось: скоро зима, лыжам путь, охота веселая на болотах…Теперь не то. Теперь осени что ни год, то теплее, даже зима иной раз бесснежная выдается. Какой уж там снег в октябре.
И все равно – любил Михалыч пору Темных ночей. Пахнет палым листом и поздним грибом. Ни комаров тебе, ни слепней – лосиные мухи и те почти все попрятались. Воздух хоть и сырой, да свежий. Лоси в чаще трубят на закате, серые гуси в небе кличут, Птичьей дорогой летят. Иней сахарный на траве. А ты сидишь у костра, или у печки, если с охоты вернулся. Слушаешь это все, дышишь, смотришь – и тепло тебе, и уютно, и так спокойно, словно у матери на руках. И почему они этого не понимают, люди?
Опершись обеими руками о скрипнувшие перила крыльца, Михалыч окинул взглядом деревню – вернее, то, что от нее осталось. Деревня цепенела перед ночью. Лес темной высокой стеной стоял уже у самых ее пределов, дикие звери, почти не стесняясь людей, выходили в сумерках к заборам, пересекали единственную тропинку, ведущую к станции, призрачными тенями проплывали в кустах у околицы – и деревня даже в ясный июньский день не чувствовала себя здесь хозяйкой. Что уж говорить о Темных ночах, когда лес нависал над ней молчаливо, словно готовый прямо сейчас вторгнуться во дворы, оплести корнями дома, мохом укрыть последнюю память о людях.
Деревня привыкла бояться леса. Зарастали понемногу тропки – те, по которым раньше ходили люди за ягодами и грибами. Иной раз идешь по такой, а она вдруг оборвется в буреломе. Раньше расчищали их, пилой и топором махали, а теперь – что ни год, все меньше удаляются люди от околицы. Михалычу-то что, охотнику и бурелом нипочем. Один он теперь остался на всю округу охотник… Да и как уходить далеко, как не бояться, если каждый в деревне чувствовал смутно и глухо: лес не просто так смотрит и ждет. Позовет однажды из чащи – и не сможешь противиться, уйдешь навсегда. Куда? Если б знать, да ушедшие не расскажут. Каждый год такое случалось. Не в их, так в соседней деревне. Как вот с Танькой теперь…
Михалыч вздохнул, снова кашлянул, посмотрел на небо. Заморозки начались, и ночь стояла ясная. Луна еще не поднялась из-за лесной мохнатой спины, только высоко над головой мерцала одинокая звезда. «Дедов гвоздь» – так звал ее покойный отец. «Смотри, сынок, на Дедов гвоздь – вокруг того гвоздя весь год хороводом ходит, по кругу, по кругу… Большая Ведмедица скачет, охотничье счастье несет на плечах. Как досюда доскачет – тут и год повернется». «Бать, почему ведмедица? Учительница говорит – так неправильно, надо ‘медведь’. А Новый год – в январе. Когда ёлка…»
«Ты учительницу-то слушай, слушай, сынок. Когда она про город чего говорит или там про задачки. Но уж насчет леса – тут моя вотчина. Деды наши все охотниками были, все от леса кормились, лесом жили. И ты охоту не забывай. А ведмедица – так потому, что ведает. Знает. Когда ложиться, когда вставать, где меду лесного найти, когда год к повороту приходит. Вот и мы, охотники – знаем, ведаем…». Теперь и он, Михалыч, знал. И потому один из всей деревни не боялся.
Вот и сейчас, когда все притаились по избам, глядя в печной огонь или в экран телевизора, где кривлялись зачем-то непонятные люди из города – лишь бы не посмотреть ненароком осенней ночи в глаза – его, Михалыча, сырой темнеющий лес звал и манил. Будь у него ночные глаза, как у волка или у рыси, сбежал бы сейчас прямо в чащу: побродить меж деревьев, послушать совиные крики и осенний ток глухаря. Зимой, когда лунный свет отражался от белых снегов, так и делал, бывало. Сейчас не время, конечно. Хотя за околицу почему б и не выйти? Там у него нарочно для таких дел поставлена была лесная скамья: два длинных бревна на двух коротеньких бревнышках. Совсем как в лесу у костра.
…Михалыч сидел на знакомых бревнах, чуть влажных сейчас от осеннего воздуха. Сложил на коленях руки и глядел на небо. Вот и Большая Медведица скачет вокруг Дедова гвоздя… По-отцовому выходило – год к повороту пришел. Кто-то вышел неслышно из чащи, как дуновение ветерка, присел бесшумно рядом на бревна.
– Здорово, старик.
Михалычу и головы поворачивать было не надо, чтобы понять, кто это.
– И тебе, старик, не хворать. Хотя ваши и так не хворают… Давно не виделись. Как дела, как хозяйство?
С этого всегда начинались их разговоры – что в лесу, что тут, у околицы. Сидевший рядом коренастый мужик, кого-то всегда до боли Михалычу напоминавший, в косматом треухе и красной спортивной куртке (Михалыч аж крякнул (вот прохвост, небось у городских туристов подсмотрел, что прошлой зимой тут на лыжах бегали!) – осклабился весело:
– Хозяйство как всегда – лучше не надо! Лоси по чаще трубят, волки на болоте в стаю сбиваются, песни поют. Глухари токуют, к весне готовятся. Рыси вот появились… Гляди, скоро последних кур у вас в деревне перетаскают. Хорошо в хозяйстве дела пошли, когда людишки в лес с пукалками своими бегать перестали!
– Людишки… – проворчал добродушно Михалыч. – Со мной небось дружбу не прочь водить, особенно если стопочку наливают.
– Ты – другое дело, – махнул мужик рукой. – Ты – не пукалка, ты охотник. Наш человек, болотный. С тобой и зверьем поделиться – в радость. Помнишь, как мы с тобой давеча лося того гоняли? Шапку-то потерял еще…
– Давеча… Ёлс ты и есть Ёлс. Это ж полвека тому. Я тогда к Дарье сватался. Не хотела все мне ответ давать, не хоте-е-ла… А я ей такие рога на праздник преподнес! Как лопаты, помнишь, большие. До сих пор в избе висят. Она и ахнула. С того дня у нас дело пошло. Только уж и пришлось тогда за тем лосем на лыжах побегать… И ведь чуть самого не пришиб копытом.
– А чего ты хотел, – усмехнулся довольно Ёлс. – Думаешь, Ёлсова лося поймать дело простое? Было б простое, так каждый дурак бы смог – и какая тогда в том лосе цена? Нет, ты побегай, ты покажи, каков ты из себя охотник – тогда и счастье придет.
Михалыч кашлянул, поерзал на бревнах, устраиваясь поудобнее.
– Это точно… Счастье, оно само не приходит. И дуракам не дается.
Помолчали немного, поглядели в ночное небо. А потом Михалыч сказал:
– Таньку-то не нашли.
Ёлс хмыкнул негромко. Лес молчал за их спинами, дышал прелью.
– Твоя работа?
Снова негромкое хмыканье – и тишина.
– И что тебе Танька сделала? Дурой, конечно, всю жизнь была. Но если и пакостила чего, так только у себя на дворе. Или ты на нее за ту ежиху обиделся? Так ведь спас я ее, вроде как не причина, чтоб человека губить…
Тут уж Ёлс крякнул с досады, почти как сам Михалыч давеча.
– Вот от кого не ждал – так это от тебя. Всю жизнь приятели, и с отцом твоим, и с дедом… Ладно деревня про меня страшилки всякие сочиняет – да ты-то свой брат!
– Сам же признался, что твоя работа.
– Ну, моя. Позвал я ее из болота. И других звал. Так не губил же!
– Может, скажешь – Танька жива?
Ёлс вздохнул.
– Да не жива, конечно. По болотам туманом бродит, даже птицей обернуться не смогла. А все-таки лучше, чем если б как тот, мужик-то ее…
Михалыч молчал. Он никогда не рассказывал Ёлсу про Кольку, но лес уже так близко успел подступить к деревне, что мужику лесному нетрудно, должно быть, теперь узнавать, что творится внутри околицы.
– Я ведь не каждого зову. Только тех, в ком дух погас – одно дыхание осталось. О лесной душе уж молчу, этого добра теперь ни у кого почти не сыщешь. У тебя вот есть, поэтому и дружу с тобой. А эти все… – Ёлс досадливо махнул рукой.
– Забыли вы всё, забыли. А были ведь времена… Да что теперь вспоминать, вы и песен-то старых теперь не знаете. Даже ты. Про Лосиху Небесную, про Дедов гвоздь, про Лесную Матушку-заступницу… Обозвали нас злыднями, сплетней насочиняли, дружбу старую разорвали, а потом и вовсе запамятовали, что мы рядом с вами живем. Как тут в ответ не озлиться. Как вы – так и мы!
