Читать онлайн Довлатов и третья волна. Приливы и отмели бесплатно
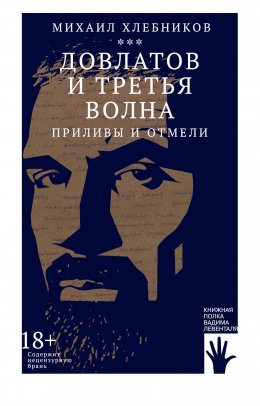
© Хлебников М. В., 2023
© ИД «Городец», 2023
Глава первая
Путь Довлатова в свободный мир оказался непростым. Встреча с ним затянулась на несколько лишних часов. Из дневника Игоря Ефимова:
Встречал в аэропорту Довлатова и его мать, Нору Сергеевну. Не встретил. Оказывается, что он так надрался при пересадке в Будапеште, что его не смогли перенести из автобуса в самолет. Прилетел на следующий день и позвонил уже из гостиницы. Я сразу к нему приехал, объяснил все варианты, какие их ждут. Они понемногу приходят в себя.
Сложности, сорвавшие вылет из венгерской столицы, начались еще при посадке в Союзе. Эра Коробова вспоминает в очерке «Мой сосед Довлатов», напечатанном в «Русской мысли»:
В недлинной очереди покидающих он был последним. Хотела написать «замыкающим», но замыкающим был не он, а следовавший за ним с автоматом наперевес и казавшийся малюсеньким пограничник. Все, кто был впереди по трапу, поднимались, оборачиваясь, но уже торопливо. Их быстро втянуло внутрь, и на середине трапа остались только двое. Сергей поднимался к самолету спиной, с руками, поднятыми высоко над головой, помахивая огромной бутылью водки, уровень которой за время ожидания отлета заметно понизился. Двигался медленно, задерживаясь на каждой ступени. Вторым был пограничник, который настойчиво и неловко подталкивал Сергея, и тот, пятясь, как-то по частям исчезал в проеме дверцы.
Как бы пошло это ни звучало, алкоголь выполнил свою функцию анестетика, заглушив смятение чувств, пространственную дезориентацию. Нервы у эмигрантов выдерживали не всегда. Суховатый и собранный Ефимов в ожидании близкой мировой славы держался хорошо. Иные мастера слова срывались. Одновременно с Ефимовыми и Довлатовым с матерью в Вене оказалась семья писателя Кирилла Успенского (Косцинского). О нем я писал в первой части. В Вене он уже бывал. В 1945 году подполковник Косцинский участвовал в боях на улицах столицы Австрии. Теперь он оказался здесь с семьей в ожидании визы в Америку. Неопределенность действовала выматывающе. Ефимов пишет в дневнике 2 сентября 1978 года:
Очень худо с Кириллом. Он сказал, что Аня недавно, во время очередной ссоры, кинулась на него с ножом, так что он должен был вывернуть ей руку и надавать пощечин. Настоящая драма, но без всяких сложностей: просто вздорная, злая, ленивая, беспредельно эгоистичная баба.
На этом фоне жизнь Довлатова лишена ярких поворотов. Он с матерью селится в отеле с хорошим названием «Адмирал». Часть его расходов оплачивает Толстовский фонд. Тридцатого августа в Вену приезжает корреспондент «Радио Свобода» Юрий Борисович фон Шлиппе. В эфир он выходил под скромным именем Юрий Мельников. Шлиппе берет у Довлатова и Ефимова большие интервью. Материал с Довлатовым режется на три части и выходит 13, 16, 17 сентября. В передачах использовались отрывки из «Невидимой книги» в исполнении Юлиана Панича – известного советского актера, эмигрировавшего еще в 1972 году. Мельников интервью начал с интересного пассажа: виновато ли «Радио Свобода» в том, что Довлатов пострадал? Напомню, в апреле «Невидимая книга» транслировалась в эфире. Довлатов снимает с радиоголоса ответственность, напоминая о своих публикациях в «Континенте» и «Времени и мы».
Он рассказывает, что 29 апреля его избили в опорном пункте милиции: «Не очень жестоко, но достаточно энергично». Довлатов подписывает протокол о своем сопротивлении милиции. К протоколу прибавилось дело о хранении кастета – сувенира со времен службы в лагерной охране. Спохватившись, писатель уточняет, что сторожил уголовных преступников. В итоге писатель приходит к выводу, что после трансляции «Невидимой книги» его «отношения с государством обострились». Довлатов вспоминает участкового – майора Николая Михайловича Павлова, обещавшего «посадить абсолютно трезвого, идущего на цыпочках Довлатова по улице Рубинштейна в аквариум». Под «аквариумом» Павлов подразумевал камеру со стеклянными стенами. Майор приходит к писателю домой и изымает паспорт. Довлатов, приодевшись для солидности, отправляется за документом в опорный пункт. Там Павлов начал жаловаться дружинникам, что Довлатов предыдущим днем избил его и спустил с лестницы. Причем с пятого этажа. Писателя отвозят в отделение милиции и составляют протокол. На следующий день суд приговорил Довлатова к десяти суткам административного ареста. Стоит отметить либерализм ленинградской юстиции. Избиение представителя власти привело всего лишь к десятидневному заключению.
Довлатов называет тех людей, благодаря которым его злоключения стали известны. Это в первую очередь жена. Через нее информация поступила к Владимиру Марамзину, живущему в Париже. Затем подключаются Владимир Максимов, Вадим Делоне, Алексей Хвостенко. Довлатова освобождают досрочно и тут же выдают разрешение на выезд. Энергия ужаса способствовала тому, что Довлатов с матерью были готовы к отъезду за несколько дней до формального срока. Последние два дня Довлатов провел вне дома, чтобы не дать повода майору Павлову нанести прощальный визит с туманными, но заведомо малоприятными последствиями. Рассказ Довлатова о своих злоключениях растянулся на две передачи. Нужно отметить, что он не героизировал себя в отличие от других коллег. Из письма Игорю Ефимову от 16 декабря 1978 года:
У нас все по-прежнему. Вадик [Бакинский] сказал корреспонденту радио, что на него было семь покушений. Прямо Лев Троцкий.
Теплого прощания с майором Павловым не случилось. Зато состоялась родственная встреча в Вене. О дяде Леопольде – брате отца Довлатова – есть рассказ в «Наших». Уехав из Союза в двадцатые и поселившись в Бельгии, Леопольд погрузился в стихию частного предпринимательства. Начиная с шестидесятых, отец Довлатова вступает с братом в переписку. Отрывок из «Наших»:
Леопольд писал, что у него сеть жена Хелена, сын Романо и дочь Моник. А также пудель, которого зовут Игорь. Что у него «свое дело». Что он торгует пишущими машинками и бумагой. Что бумага дорожает, и это его вполне устраивает. Что инфляция тем не менее почти разорила его.
Свою бедность Леопольд изображал так:
«Мои дома нуждаются в ремонте. Автомобильный парк не обновлялся четыре года…»
Письма моего отца звучали куда более радужно: «… Я – литератор и режиссер. Живу в небольшой уютной квартире. (Он имел в виду свою перегороженную фанерой комнатушку.) Моя жена уехала на машине в Прибалтику. (Действительно, жена моего отца ездила на профсоюзном автобусе в Ригу за колготками.) А что такое инфляция, я даже не знаю…»
Мой отец завалил Леопольда сувенирами. Отослал ему целую флотилию деревянных ложек и мисок. Мельхиоровую копию самовара, принадлежавшего Льву Толстому. Несколько фигурок из уральских самоцветов. Юбилейное издание «Кобзаря» Шевченко размером с надгробную плиту. А также изделие под названием «Ковчежец бронзированный».
Леопольд откликнулся белоснежным носовым платком в красивой упаковке.
Затем выслал отцу трикотажную майку с надписью «Эдди Шапиро – колеса и покрышки». Мой отец не сдавался. Он позвонил знакомому инструктору горкома. Раздобыл по блату уникальный сувенир. А именно – сахарную голову килограммов на восемь. В голубой сатинированной бумаге. Этакий снаряд шестидюймового калибра. И надпись с ятями: «Торговый дом купца первой гильдии Елпидифора Фомина».
Знакомого инструктора пришлось напоить коньяком. Уникальный сувенир был выслан Леопольду.
На встречу с дядей герой «Наших» отправляется один. Он рассказывает Леопольду о судьбе деда, не уточняя, что того расстреляли в 1938 году:
Официант принял заказ.
– Да, я чуть не забыл, – воскликнул Леопольд, – скажи, как умерли мои родители?
– Деда арестовали перед войной. Бабка Рая умерла в сорок шестом году. Я ее немного помню.
– Арестовали? За что? Он был против коммунистов?
– Не думаю.
– За что же его арестовали?
– Просто так.
– Боже, какая дикая страна, – глухо выговорил Леопольд, – объясни мне что-нибудь.
– Боюсь, что не сумею. Об этом написаны десятки книг.
Леопольд вытер платком глаза.
– Я не могу читать книги. Я слишком много работаю… Он умер в тюрьме?
Мне не хотелось говорить, что деда расстреляли. И Моню (дядя Довлатова, умерший во время блокады Ленинграда. – М. Х.) я не стал упоминать. Зачем?..
Дальнейшее родственное общение свелось к поездке по Вене и посещению еще нескольких пунктов австрийского общепита:
Что мне нравилось в дяде – передвигался он стремительно. Где бы мы ни оказывались, то и дело повторял:
– Скоро будем обедать.
Обедали мы в центре города, на террасе. Играл венгерский квартет. Дядя элегантно и мило потанцевал с женой. Потом мы заметили, что Хелена устала.
– Едем в отель, – сказал Леопольд, – я имею подарки для тебя.
В гостинице, улучив момент, Хелена шепнула:
– Не сердись. Он добрый, хоть и примитивный человек.
Я ужасно растерялся. Я и не знал, что она говорит по-русски. Мне захотелось поговорить с ней. Но было поздно… Домой я вернулся около семи. В руках у меня был пакет. В нем тихо булькал одеколон для мамы. Галстук и запонки я положил в карман.
Литературный вариант корректируется документальными источниками. Из письма Довлатова жене от 14 октября 1978 года:
Были в трех ресторанах с Леопольдом. Я изнемогал, мама, бедная, заискивала. Думала, он ей зубы вставит.
Игорь Ефимов записывает в дневнике 6 октября:
Довлатов сообщил, что истратил все шиллинги и доллары, исследуя бездны австрийского дна. К нему приезжал богатый дядя из Бельгии – точь-в-точь советская карикатура на буржуя.
Общение с бельгийскими родственниками заглохло после переезда в Америку. Но рассказ был написан.
Пребывание Довлатова в Вене нашло отражение в автобиографической повести Григория Рыскина «Газетчик». Ее автор – журналист, окончивший Ленинградский университет, успевший, как и Довлатов, поработать в союзных республиках. В частности, Рыскин трудился в таком экзотическом издании, как «Комсомолец Туркменистана». Общая выездная волна подняла и его, хотя в профессиональном плане его жизнь складывалась довольно удачно. Я уже говорил, что эмиграцию многие выбирали не по конкретным причинам, а поддавшись общему, какому-то ветхозаветному отъездному настроению. Довлатова Рыскин шапочно знал по Ленинграду. В повести писатель выведен под фамилией Амбарцумов:
Прогуливаясь после полуночи по Кертнерштрассе, я увидел немыслимую фигуру десантника неведомой страны. Он был в зеленой лягушачьей униформе, в солдатских шнурованных бутсах. Головой десантник сшибал мартовские сосульки. Он вел на поводке толстенького фокстерьера и нежно беседовал с ним.
– Даже в Вене спасу нет от этих фрайеров из «Сайгона», – сказал вместо приветствия Амбарцумов. Это был, конечно, он. – Хоть на Ринге «Сайгон» открывай.
– Ничего не получится, публика не та. Ты только посмотри, кто едет.
Мы вышли на Ринг. У подъезда стоял румяный полицейский в золотых очках, похожий на кандидата наук.
– С тобой-то наверняка все хорошо, Амбарцумов, тебя вон классик в аэропорту лобызал.
– Иуда тоже Христа лобызал. Знаешь, сколько они платят за рассказ? Пообедать с дамой не хватит. На пару пива с бутербродами. А моя Ленка в Квинсе только за квартиру триста выкладывает.
– Тебе хорошо, тебя ждут.
– Может, заборы красить придется.
– С таким скелетом, как у тебя?
– А может, продать скелет в анатомический театр.
Тут есть вопросы, касающиеся венских мартовских сосулек, до которых Довлатов в Австрии просто не дожил. Но оставим мелкие придирки. Сцена отражает главное: «тебе хорошо, тебя ждут». Довлатов впервые за долгое время оказался в выигрышном положении. В отличие от мечущихся, растерянных эмигрантов он знал, куда и к кому едет. Довлатов ехал к семье. Его письма к жене и дочери в Америку – свидетельства внезапного осознания ценности дома и семьи. Дом остался позади – в Ленинграде, и туда не вернуться. Семья в Америке. В Америку попасть можно, но без семьи Довлатов себя там не представлял. Уже была попытка пятилетней давности, оставив семью, уехать в Таллин, чтобы там состояться как писатель. Книга не вышла, и семья оказалась под ударом. Жертвовавший многим ради литературы, Довлатов теперь думает и говорит иначе. Из письма жене от 16 октября 1978 года:
Лена, об Америке я знаю все, что можно знать, не побывав там. Планы, конечно, неопределенные. Мы по-разному смотрим на вещи. Ты – реально. Мы – эмоционально. Ты рассуждаешь по-деловому. Нам же – лишь бы соединиться. До того мы соскучились. До того не верили в это.
Автор внезапно решает, что «пережал» с эмоциональностью. Следует показать себя вдумчивым и готовым к ответственным решениям:
Соединимся и начнем жить. Я пытаюсь действовать не спеша, разобраться. Впереди – какая-то довольно серьезная жизнь.
… Леночка, не думай, я не идиот. Я знаю, что все сложно. Но главное – мы сделали правильно. Мы живы, относительно здоровы, главное впереди. Два-три года будут неустроенными и сложными. Но перспективы есть. Главное вырваться из этого сумасшедшего дома. Все время об этом помни. Никаких иллюзий не строю, пытаюсь рассуждать и действовать трезво. Вы вместе, мы любим друг друга. Все будет хорошо.
Довлатов всегда испытывал слабость к составлению всяческих списков. В очередном письме к жене от 24 октября он выразил свой взгляд на будущее в пяти пунктах:
Основные принципы моей жизни таковы. По мере убывания остроты и важности:
1. Быть с вами.
2. Писать, что хочу.
3. Печатать лучшее из написанного.
4. Читать замеч. книги.
5. Как-то зарабатывать на жизнь.
В этих письмах нет привычных для Довлатова рассуждений о литературе, юмор одомашнивается и приобретает даже «буржуазный характер». Из письма жене от 29 декабря 1978 года:
Я много ем. Приобрел 2 кг шпига. Преобразовал в шкварки. Добавляю их в картошку, горох, фасоль и т. д. В чай пока не кладу. Еда здесь дешевая. И выпивка тоже, но что мне до этого? (До выпивки.)
Авторский курсив призван подчеркнуть крах алкоголя в жизни Довлатова. «Выпивка» символически заключена в скобки. Писатель, нуждаясь в деньгах, вносит свой вклад в благоустройство Вены. Он зарабатывает 500 шиллингов, что равняется примерно 40 долларам, на уборке листьев в осенних парках австрийской столицы. На предложение заняться малярными работами писатель ответил отказом, сославшись на отсутствие подходящей одежды.
Хотя Довлатов и не говорит в письмах о литературе, писать он не прекращает. В эти несколько месяцев им написаны несколько текстов. Для только что открывшегося журнала Марамзина «Эхо» он пишет два эссе – «Рыжий» и «Уроки чтения». Первое о дебютной поэтической книге Владимира Уфлянда, ленинградского приятеля Довлатова, вышедшей в «Ардисе». Второе эссе о хождении тамиздата и самиздата в Союзе. Большая часть текста – ненавязчивая реклама «Континента»:
«Континент» в Ленинграде популярен необычайно. Любым свиданием, любым мероприятием, любой культурно-алкогольной идеей готов пренебречь достойный человек ради свежего номера. Хотя бы до утра, хотя бы на час, хотя бы вот здесь перелистать…
Далее рассказывается «абсолютно правдивая история» о некоем социологе Григоровиче. Его Довлатов снабдил свежим номером журнала, с которым тот и попадает в вытрезвитель:
– Давайте оформляться, Григорович. Получите одежду, документы… Шесть рублей с мелочью… Портфель… А журнальчик…
– Книга не моя, – перебил Григорович.
– Да ваша, ваша, – зашептал капитан, – из вашего портфеля…
– Провокация, – тихо выкрикнул обнаженный социолог.
– Слушайте, бросьте! – обиделся капитан. – Я же по-человечески говорю. Журнальчик дочитаю и отдам. Уж больно интересно. А главное – все правда, как есть… Все натурально изложено… В газете писали: «антисоветский листок…» Разве ж это листок? И бумага хорошая…
– Там нет плохой бумаги, – сказал Григорович, – откуда ей взяться? Зачем?
– Действительно, – поддакнул капитан, – действительно… Значит, можно оставить денька на три? Хотите, я вас так отпущу? Без штрафа, без ничего?
– Хочу, – уверенно произнес Григорович.
– А журнал верну, не беспокойтесь.
– Журнал не мой.
– Да как же не ваш?!
– Не мой. Моего друга…
– Так я же верну, послезавтра верну…
– Слово офицера?
– При чем тут – офицера, не офицера… Сказал, верну, значит, верну. И сынок мой интересуется. Ты, говорит, батя, конфискуй чего-нибудь поинтереснее… Солженицына там или еще чего… Короче, запиши мой телефон. А я твой запишу… Что, нет телефона? Можно поговорить с одним человеком. Я поговорю. И вообще, если будешь под этим делом и начнут тебя прихватывать, говори: «Везите к Лапину на улицу Чкалова!» А уж мы тут разберемся. Ну, до скорого… Так они и дружат. Случай, конечно, не типичный. Но подлинный…
Главного редактора «Континента» Владимира Максимова в то время Довлатов почти любил. Чувство было зрячим, не без расчета. Из письма жене от 6 ноября 1978 года:
Идеально ведет себя один Максимов. Он тоже самовольно присваивает копирайт. Зато обещает помочь издать след. книгу. Уже толстую, настоящую.
Слова о «толстой, настоящей книге» требуют пояснения, так как рождают представления о наличии тонкой и ненастоящей книге писателя. И она была. Буквально в дни, когда Довлатов пишет письмо жене, «Ардис» выпускает его «Невидимую книгу» на русском языке. Английский перевод вышел чуть раньше. Довлатов доволен, но хочется большего. Параллельно у него возникает шальная мысль, что Профферы его обжуливают: «Со мной проделали много незаконного». Заканчиваются «Уроки чтения» картиной из настоящего с обязательным упоминанием замечательного журнала:
Сентябрь. Вена. Гостиница «Адмирал». На тумбочке моей стопка книг и журналов. (Первые дни, уходя, механически соображал, куда бы запрятать. Не дай бог, горничная увидит. Вот до чего сознание исковеркано.)
Есть и последний номер «Континента». Через неделю он поедет в Ленинград со знакомым иностранцем. В Ленинграде его очень ждут.
Оба текста Марамзин вскоре публикует. «Уроки чтения» в № 3 «Эха» в том же, 1978 году. «Рыжий» увидел свет в 1979-м в № 5 журнала.
Но самое главное – Довлатов пишет прозу. Осенью появляется рассказ «Юбилейный мальчик», вошедший позже в состав «Компромисса». Литературой занимались или пытались заняться и другие ленинградские писатели, очутившиеся в Вене. Довлатов часто бывал в доме Успенских. Из письма жене от 24 декабря 1978 года:
Он (Кирилл Успенский. – М. Х.) все хочет напечатать здесь статью про то, как брал Вену. Австрийские газеты реагируют на эту тему сдержанно. В этой статье есть такой абзац. Вернее – был. Я заметил, он исправил. «Передо мной, дрожа от ужаса, стояли шестеро австрийцев. Один из них был мертв».
Нужно сказать, что со статьей Успенский мучился почти полгода. Дневниковая запись Игоря Ефимова от 21 июля:
Вчера заходил Кирилл Косцинский. Показал свою статью о том, как он брал Вену и спасал от расстрела австрийских социалистов, составивших потом первое австрийское правительство. Статья для австрийской газеты.
Сам Ефимов с первых дней пребывания в Австрии развил бурную деятельность. Он посещает митинг в защиту советских диссидентов, потом идет на собрание по поводу годовщины вторжения стран Варшавского договора в Чехословакию. На квартире Льва Рудкевича – представителя «Посева» в Австрии и Южной Германии – Ефимов делает два доклада о своей книге «Метаполитика». В сентябре он едет во Францию и Германию. Знакомится с Максимовым, редакцией «Русской мысли», руководством НТС. С последними Ефимов пытался квалифицированно и профессионально обсудить вопрос об обустройстве посткоммунистической России. Из дневниковой записи от 22 сентября:
После обеда к Редлихам приехал Евгений Романович Романов. Серьезный мужчина, как и полагается главе столь одиозной партии. Слушал меня часа полтора, кажется с интересом. Впрочем, от общих рассуждений они устали. Редлиха я попытался навести на разговор об их политических планах, о формах новой власти. Он только отмахнулся и сказал, что главное дело – свергнуть большевиков, а там что-нибудь да образуется.
Параллельно Ефимов пишет несколько статей, включая текст о советской космонавтике. Тридцатого ноября семья Ефимовых улетает в Америку. Главу семьи ожидала работа в «Ардисе», его взяли на должность редактора. В венскую квартиру Ефимовых переезжают Довлатов с матерью. Ефимов пишет письма, в которых пересказываются европейские события в жизни русских писателей. Никуда не уходит вечный семейный вопрос. На этот раз конфликт связан с непростыми отношениями русских писателей с их тещами. Письмо от 16 декабря:
Кирилл Владимирович без вас совершенно распоясался. Без конца меня обижает. Публично сказал, что я – альфонс. Моя терпимость не поспевает за его остроумием. Сегодня едет в Швейцарию, гад!
Я наблюдал жуткий скандал в доме Успенских. Суть была в том, что Наталья Илларионовна (теща Успенского. – М. Х.) ходит полуодетая из ванной в комнату. Кирилл привел довод, что он, будучи телесно мерзок, не ходит голый и другим этого не позволит.
Ефимовы еще до отъезда ввели Довлатова в салон упомянутого выше Льва Рудкевича. Писатель там не прижился, не оценив должным образом борцов с большевистской диктатурой. Из цитированного выше письма:
Салон Рудкевича хиреет день ото дня. Приезжал глава НТС, Поремский. Он мне не понравился. Мировоззрение времен Антанты. И дикие мысли о перевороте в СССР.
Новый, 1979 год Довлатов встретил в семье Успенских. Спасителю первого австрийского правительства Довлатов подарил порнографический журнал, его жене – градусник, видимо, с целью сделать семейную жизнь Успенских по-хорошему жаркой и разнообразной.
Подходит время собираться в дорогу и Довлатовым. Писатель с целью подтянуть английский покупает магнитофон. Свой вклад в подготовку отъезда внесла и фокстерьер Глаша, покусав австрийских детей. Магнитофон и визиты к ветеринару подорвали и без того сомнительное финансовое благополучие.
И здесь уместно рассказать о том, как жили в это время Елена Довлатова с дочерью Катей в Америке. Из Ленинграда они улетели в феврале 1978 года и четыре месяца пробыли в Риме, ожидая американской визы. В Нью-Йорк женская часть семьи прилетела 6 июня, в день рождения Кати. Ей исполнилось двенадцать лет. Довлатовых временно поселили в отеле Latham. Из воспоминаний Елены Довлатовой, опубликованных на сайте «Радио Свобода» 24 августа 2020 года:
Мы приехали, нас поселили в отель, который был в нескольких шагах от Пятой авеню. Сейчас это недосягаемое, дорогое и респектабельное место, а тогда было так себе. Нас поселили в бедный отель. Меня поразила жуткая жара, хоть мы и пробыли четыре месяца в Италии, все-таки там она иначе переносилась. Кондиционер для нас было понятие абсолютное новое и почти необъяснимое. У нас в номере не было кондиционера, от жары спасались как могли. Я довольно долго не могла понять, в чем дело, на нас сыпались какие-то капли воды, не дождь, а именно капли. Мы все никак не могли понять. В отеле мы познакомились с одним человеком, вместе зашли на почтамт отправить письма, он своим родным и знакомым, я своим. Он, случайно глянув через мое плечо на открытку, которую я заполняла, увидел, что я пишу, что что-то такое непонятное влажное сыпется мелкое. Засмеялся и сказал, что это кондиционеры работают, из них капает потихонечку, распыляясь.
Елена Давидовна пыталась найти работу по специальности. В Ленинграде с подачи Норы Сергеевны она освоила профессию корректора. При проверке знаний она уверенно написала слово «коридор» с одной буквой «р», доказав свою компетентность. Довлатова отправилась в «Новый журнал», пост главного редактора которого с 1966 года занимал Роман Гуль. Он предложил Довлатовой проверку. На этот раз буква «р» подвела жену писателя. Она написала «пиррова победа» с двумя «р». По мнению главного редактора – выпускника Пензенской 1-й мужской гимназии – в слове, как и в случае с коридором, требовалась одна буква «р». Не совпав орфографически с одним представителем первой волны эмиграции, Довлатова проявила принципиальность и отправилась в другое не менее респектабельное место – в газету «Новое русское слово». Из воспоминаний Довлатовой:
«Новое русское слово» было на 57-й улице между 8-й и 7-й авеню. Это был тогда тоже район, который никаким образом не распознать теперь. В «Русское слово» вела крашенная по-советски коричневым цветом дверь, внутри были выщербленные железные ступени, литые, с дырочками, дальше уже оно размещалось на нескольких этажах.
Скромное положение издания окупалось его историей. Точнее, одним историческим фактом. Это самое старое периодическое издание. Первый номер газеты вышел в апреле 1910 года, за два года до появления «Правды». Солидную газету возглавлял не менее солидный главный редактор – Андрей Седых (Яков Моисеевич Цвибак). Подобно редактору «Нового журнала», Андрей Седых успел получить классическое гимназическое образование еще в России. Правда, на фоне Романа Гуля Седых выглядел не так серьезно. Если главному редактору «Нового журнала» исполнилось в 1978-м 82 года, то питомцу феодосийской гимназии было всего только 76 лет.
В эмиграции Седых занялся журналистикой и литературой. Главное событие его писательской карьеры – получение Буниным в 1933 году Нобелевской премии. В то время Седых – литературный секретарь писателя. Вместе с Буниным он отправляется в Стокгольм, участвует в торжественных мероприятиях и даже ставит «бунинские» автографы на присланных книгах.
Седых принимает Елену Довлатову на работу корректором после двухнедельного испытательного срока, во время которого она заменяла сотрудницу, ушедшую в отпуск. Через два месяца Довлатова переводится на должность наборщицы. Из отеля она с дочерью переезжает в съемное жилье. Из интервью Елены Довлатовой проекту Peoples.ru в ноябре 2010 года:
Первая наша квартира была квартирой под крышей, в совершенно частном доме. Дальше, здесь же в Квинсе, но в районе Флашинг, на 147-й улице. У русского хозяина, но из галицийцев. Он с Белой армией сюда пришел.
Флашинг – район Квинса. На Лонг-Айленде в то время два района активно заселялись эмигрантами из Союза. Самый известный – Бруклин. Квинс считался более тихим и респектабельным по сравнению с пассионарным и шумным Бруклином. В газете Довлатова познакомилась с Александром Генисом и Петром Вайлем – бывшими рижанами и будущими соавторами. Они образовали, наверное, единственный состоявшийся в русской литературе критический дуэт. Генис уверенно прошел испытание при собеседовании, сделав правильную ставку на романтику Гражданской войны:
Поднимаясь к нему по дряхлой лестнице четырехэтажного дома в центре Манхэттена, я повторял ударные стихи Цветаевой, надеясь ввернуть их в разговор. Кабинет оправдал мои ожидания: на стене висел портрет Бунина в багетной раме. Хозяин ей не уступал: золотые очки, золотые часы, золотые запонки. Я, правда, представлял себе редактора кряжистым стариком со шрамом от сабельного удара времен арьергардных боев врангелевской армии в Крыму, но и этому поклонился в пояс.
– Нам нужны сильные люди, – сказал работодатель, проницательно глядя мне в глаза.
– Еще бы! – подхватил я. – «Белая гвардия, путь твой высок: черному дулу – грудь и висок».
– Рама с версткой весит сорок паундов. Справишься?
– Без проблем! – воскликнул я, хотя имел смутные представления о верстке и никаких – о паундах. – Кроме того, я согласен день и ночь писать статьи на благо освобожденной от большевиков России.
– А, – махнул рукой мой собеседник, – сочинять надо так, чтобы у комсомольцев стояло. Ну что ж, возьмем на пробу, если Седых утвердит.
– Яков Моисеевич, – крикнул он в коридор, и в кабинет вкатился лысый человек, чрезвычайно напоминавший Абажа из книги моего пионерского детства «Королевство кривых зеркал».
Исправляя ошибку, я ему тоже почитал Цветаеву.
– О, Марина, – вздохнул Седых, – она так бедствовала, что за двадцать франков вымыла бы любой сортир в Париже.
Разговор о паундах имел последствия – Генис стал метранпажем:
Дело в том, что до появления на свет компьютеров каждый газетный лист состоял из отлитых на линотипах строк, туго зажатых в раму. Помазав краской шрифт, с полосы делали отпечаток для корректуры и офсета. Потом ее разбирали, чтобы пустить в переплавку. Метранпаж, читая металлическую газету, как в зеркале, собирал статьи, заголовки и рекламу в логически стройную страницу.
Главное оружие Гениса в то время не перо, а шило, с помощью которого он извлекал строчки из тех самых металлических рамок. Собственно типографская работа – самая сложная и творческая часть выпуска «Нового русского слова». Четыре страницы самой газеты заполнялись легко:
На первой шли новости, простосердечно украденные из «Нью-Йорк таймс» и переведенные на монастырский русский с английским акцентом. Военные самолеты назывались «бомбовозами», паром – «ферри», Техас – «Тексасом», политбюро – кремлевскими старцами. Вторую полосу закрывала критическая статья о советских безобразиях. Иногда она называлась «Как торгуем, так воруем», иногда – «Как воруем, так торгуем». Третья полоса вмещала фельетон в старинном смысле, то есть пространное эссе на необязательную тему, которое не читал никто, кроме линотипистов. Четвертая страница радовала кроссвордом, именуемым здесь «Крестословицей». Все остальное газетное пространство занимали объявления. На первой полосе шли извещения о смерти, на последней – реклама кладбищенских услуг.
Петр Вайль занимался светской хроникой, помещая газетные отчеты о посещении балов институток и слета участников Ледяного похода генерала Корнилова. Отработав, друзья составляли литературные планы. Назвать их скромными трудно. Вайль и Генис намеревались создать новую литературную критику, сорвать маски с одних и признать гениальность других.
Довлатов в те дни интересовался практическими вопросами. Следует ли оставить в Европе электрическую бритву и кипятильник, если в Америке другое напряжение? Он собирает вещи, снова пишет жене, лирическое настроение не оставляет его. Из письма жене от 29 января 1979 года:
Лёша не пишет. Игорь тоже замолчал.
Одни мы на свете, ты, мама, Катя, я и Глаша. И это замечательно.
И снова многозначительный курсив. В последних письмах Довлатов сообщает, что они вылетят 22 февраля, рейсом TW-831. Самолет должен приземлиться в аэропорту имени Кеннеди в 17.20. Довлатов просит встретить их, интересуется ценами на такси. В двух последних письмах он второй и третий раз спрашивает об особенностях американской энергосети. Судьба кипятильника продолжает волновать его.
Самолет из Вены вылетает согласно расписанию. Елена Довлатова с дочерью встретили Довлатова и Нору Сергеевну в аэропорту. Теперь о том, как это отражено в прозе писателя. Одиннадцатая глава «Наших» посвящена жене. Уже на первой странице герой признается:
В Америку я приехал с мечтой о разводе. Единственной причиной развода была крайняя степень невозмутимости моей жены. Ее спокойствие не имело границ.
Были и такие интересные наблюдения:
Лену мои рассказы не интересовали. Ее вообще не интересовала деятельность как таковая. Ее ограниченность казалась мне частью безграничного спокойствия.
В жизни моей, таким образом, царили две противоборствующие стихии. Слева бушевал океан зарождающегося нонконформизма. Справа расстилалась невозмутимая гладь мещанского благополучия.
Слова о невозмутимости супруги грустно подтвердились по прилете в Америку:
В аэропорту имени Кеннеди нас поджидали друзья. Известный фотограф Кулаков с женой и сыном. Поздоровавшись, они сразу начали ругать Америку.
– Покупай «тойоту», старик, – говорил Кулаков, – а еще лучше – «фольксваген». Американские машины – дерьмо!..
Я спросил:
– А где Лена и Катя?
Кулаков протянул мне записку:
«Располагайтесь. Мы в Клубе здоровья. Будем около восьми. Еда в холодильнике. Лена».
Мы поехали домой, во Флашинг. Окружающий горизонтальный пейзаж напоминал изнанку Московского вокзала. Небоскребы отсутствовали.
Мать посмотрела в окно и говорит:
– Совсем пустая улица…
– Это не улица, – возразил Кулаков, – это хайвей.
– Что значит «хайвей»? – спросила мать.
– Большак, – ответил я.
Лена занимала первый этаж невысокого кирпичного дома. Кулаков помог нам внести чемодан. Затем сказал:
– Отдыхайте. В Европе уже ночь. А завтра я вам позвоню…
И уехал.
Я, конечно, не ждал, что меня будет встречать делегация американских писателей. Но Лена приехать в аэропорт, я думаю, могла бы…
Мы оказались в пустой квартире. На полу в двух комнатах лежали матрасы. Повсюду была разбросана одежда.
Для любившего порядок Довлатова разбросанные вещи – не только признак победившего хаоса. Это еще и символ семейного кризиса.
На самом деле Довлатова ждал вполне радушный прием. «Встречали его не только мы, но и наши друзья, которых я позвала, – рассказывает Елена Довлатова. – Получился целый кортеж – три или четыре автомобиля. Конечно, огромная компания встречающих должна была впечатлить человека, приехавшего из Советского Союза. Наконец они вышли: мама Нора, наша собачка Глаша и Серёжа. Его приятно удивило то, что Катя за это время превратилась в девушку: сразу бросались в глаза ее пышные длинные волосы (уезжала она коротко стриженная). Помню, в тот день она была одета в красивое девичье пальто. Пока мы ехали из аэропорта, у нас дома распоряжалась наша подруга Наталья Шарымова, которая готовила торжественный стол».
Я привел отрывок из «Наших» не с целью разоблачения писателя, оклеветавшего собственную жену. Я просто предлагаю сравнить жизнь писателя и то, как он ее описал. География (Флашинг), имена совпадают с действительностью. Далее начинается кропотливая работа по перелицовке реальности, превращению ее в литературу.
В «Чемодане», написанном на шесть лет позже «Наших», история появления писателя в Америке еще больше мифологизируется, отдаляется от первоисточника:
Шестнадцатого мая я оказался в Италии. Жил в римской гостинице «Дина». Чемодан задвинул под кровать.
Вскоре получил какие-то гонорары из русских журналов. Приобрел голубые сандалии, фланелевые джинсы и четыре льняные рубашки. Чемодан я так и не раскрыл. Через три месяца перебрался в Соединенные Штаты.
В Нью-Йорк. Сначала жил в отеле «Рио». Затем у друзей во Флашинге.
Август превратился в май, Австрия – в Италию, полгода усохли ровно наполовину. Жена и дочь становятся просто друзьями. По поводу джинсов и рубашек ничего определенного сказать нельзя. Помните, Довлатов отказывается от малярного труда, ссылаясь на то, что вся одежда новая и поэтому не подходит для покрасочных работ. Что-то было куплено. Но ясность и количественная точность списка обновок не могут не породить подозрений. Прелесть и определенное «коварство» прозы Довлатова состоят как раз в незаметном для глаза смещении, которое, постепенно увеличиваясь, уводит взгляд читателя от суровой прозы жизни. Да, в легкомысленном и солнечном Риме можно и даже нужно обзавестись яркими – под цвет неба – сандалиями. В скучноватой и респектабельной Вене подобное буйство красок не приветствуется.
Ради справедливости отмечу, что драматическое «творческое осмысление» в «Наших» совпадает с настроением Довлатова в те дни. Из письма Ефимовым от 9 марта:
Дорогие Марина, Игорь (Бабушка, Лена, Наташа)
Спасибо за письмо. На душе у меня просто жутко. В N. Y. ожидало болезненное личное переживание. Подробностей касаться не следует. Итак я обегал весь город. Всех допрашивал. Совершенно уподобился Федору Павл. Карамазову. Конечно – поделом. И заслужил. И сам виноват. Но все равно очень тяжело и больно. Давно я так не мучился. С Аськиных времен. Вроде бы, от горя человек становится лучше. (Кажется, это пошлость.) И вообще, для хорошего человека – любое несчастье – расплата за его собственные грехи. (И это, кажется, тоже пошлость.) Простите меня за ненужную откровенность. Но я вас всех очень люблю и очень без вас скучаю.
В те дни Довлатову казалось, что воссоединение семьи не получилось, все слова в письмах – глупые мечтания, разговор с самим собой. Эмиграция и переезд в Америку – роковые ошибки, которые уже не исправить. Да, это достаточно быстро прошло. Письмо тем же Ефимовым от 17 марта:
Дорогие Марина, Игорь!
Мне очень стыдно за то письмо. Не принимайте к сведению.
Но эта оглушенность была хорошо заметна в первые месяцы жизни Довлатова в США.
Глава вторая
Пришло время рассказать об истории создания «Нового американца». В наши дни это событие по понятным причинам разделилось на «истории». Слишком разными были отцы-основатели газеты. Также разными были следы в их судьбах от участия в общем проекте. Самая известная версия принадлежит, конечно, Довлатову. В «Невидимой газете» он рисует ситуацию, в которой оказались эмигранты условно творческих профессий – журналисты, музыковеды и даже конферансье. Вырвавшись из тисков тоталитаризма и вкусив первые плоды рыночной экономики, они ощутили растерянность. Воздух свободы пьянил все меньше, насущно вставал банальный вопрос о способах бытового существования. Даже самые предприимчивые признавали свою неспособность быстро вписаться в новый дивный мир.
Бывший фарцовщик Акула мечтал о собственном торговом предприятии. Он говорил:
– В Москве я жил как фрайер. Покупал у финского туриста зажигалку и делал на этом свой червонец. С элементарного гон-дона мог наварить три рубля. И я был в порядке. А тут – все заграничное! И никакого дефицита. Разве что кроме наркотиков. А наркотики – это «вилы». Остается «телега», честный производственный бизнес. Меня бы, например, вполне устроила скромная рыбная лавка. Что требует начального капитала… При слове «капитал» все замолкали.
Многие впадали в диванный анабиоз, погружаясь в размышления о судьбах мира и своего места в истории. Оцепенение сменялось лихорадочной вербальной активностью. Рождались проекты такой степени реалистичности, что слово «фантазия» на их фоне выглядело прагматично, серо и приземленно. При всем разнообразии мечтаний и поисков их объединяло желание совместить будущий социальный успех с творческой самореализацией. В глубине души жило согласие – коварный плод советского воспитания – на творческую победу как таковую, без материального подкрепления. Вариант исключительно финансового успеха почему-то не рассматривался. В ожидании близкого чуда прожектеры щедро делились замыслами с окружающими:
Мы все строили планы. Пока однажды Мокер не сказал:
– А я, представьте себе, знаю, что мы будем делать.
Дроздов заранее кивнул. Эрик Баскин недоверчиво прищурился. Я вдруг почувствовал странное беспокойство.
Помедлив несколько секунд, Мокер торжествующе выговорил:
– Мы будем издавать вторую русскую газету.
Гораздо позже в интервью Виктору Ерофееву дается несколько иная трактовка рождения «Нового американца»:
Потом возникла идея создать газету. Вокруг ошивались бывшие журналисты, и мы решили это делать вместе. Тут же возник вопрос – а кто нам разрешит, и выяснилось, что разрешения не требуется, просто нужно купить помещение, бумагу, техническое оборудование.
Булгаковские интонации из «Невидимой газеты» уступают место нарочито сниженному описанию. В этом варианте не назывался конкретный создатель газеты, но создается впечатление, что именно Довлатов – автор проекта. Прежде чем перейти к выяснению «родительских прав», нужно раскрыть имена прототипов героев повести.
Литературные персонажи из «Невидимой газеты» достаточно близки к реальным основателям «Нового американца». Вилли Мокер – Борис Меттер, Эрик Баскин – Евгений Рубин, Лев Дроздов – Алексей Орлов. Все они, как и Довлатов, журналисты. Самый известный из них – Рубин. Снова «Невидимая газета»:
…Многие из нас когда-то были знаменитостями. Например, Эрик Баскин. Он был известным спортивным журналистом. Редактором журнала «Хоккей-футбол». А футбол и хоккей заменяют советским людям религию и культуру. По части эмоционального воздействия у хоккея единственный соперник – алкоголь.
Когда Баскин приезжал с лекциями в Харьков и Челябинск, останавливались тракторные заводы. Вечерняя смена уходила с предприятий.
Текст близок к действительности. Рубин и правда работал в «Советском спорте» и в его «дочке» – еженедельнике «Футбол-хоккей». Спорт в небогатом на развлечение советском обществе занимал особое место. Поэтому известность и популярность Рубина, за вычетом замерших тракторных заводов, не вызывает сомнений. Отмечу, правда, что редактором ни «Футбола-хоккея», ни даже «Хоккея-футбола» он не был. Самое высокое номенклатурное достижение Рубина – должность заместителя редактора отдела спортивных игр в «Советском спорте». Об этом можно прочитать в мемуарной книге «Пан или пропал!», выпущенной в 2000 году. Читателя, клюнувшего на отчаянное название, ждет горькое разочарование. Из воспоминаний следует, что самыми лихими событиями можно считать роман женатого спортивного журналиста, коммуниста Рубина с симпатичной редакционной машинисткой Жанной, которая также состояла в браке. В итоге Рубин и Жанна счастливо соединяются. Почувствовав вкус к авантюрным поступкам, автор совершает свой второй подвиг – отправляется с семьей в эмиграцию. В общем-то, на этом перечень «крутых поворотов» в судьбе Рубина исчерпывается.
Борис Меттер работал в ленинградской отраслевой журналистике. Самый заметный факт его биографии – родство с Израилем Меттером – относительно известным ленинградским прозаиком. Публика знала дядю Бориса благодаря повести «Мухтар», по мотивам которой был снят популярный фильм «Ко мне, Мухтар!».
Самым скромным из компаньонов можно считать Алексея Орлова. Подобно Меттеру и Довлатову, он работал в ленинградской журналистике: корреспондентом сельскохозяйственной редакции Ленинградского телевидения, а потом в еженедельнике «Строительный рабочий». Из «Невидимой газеты»:
Ходили слухи, что Дроздов бежал от алиментов. Не знаю. Но человек он был довольно умелый и работящий. А это – главное.
Помимо простительного греха любвеобильности, у Орлова было еще одно пристрастие. Григорий Рыскин знал Орлова еще до эмиграции, по работе в провинциальной прессе. В повести «Газетчик» он фигурирует под фамилией Адлер:
Сказать об Адлере «спортивный журналист» – значит ничего не сказать. Мишка был чокнутый. На трибуне стадиона он завывал, потрясал кулаками, рвал клочья из бороды. Однажды во время всесоюзных соревнований по ручному мячу Адлер вырвался на поле и стал давать указания судье. Два милиционера вывели его со стадиона. Адлер не сопротивлялся. Но, удаленный с позором, Мишка объявился по ту сторону забора и продолжал инструктировать судью.
Но, как покажет будущее, неамбициозный трудолюбивый поклонник спорта Орлов имел непростой бэкграунд.
В мемуарах Рубина рассказывается следующая версия рождения газеты:
– Если бы нам удалось раздобыть в долг немного денег, – сказал я Алексею Орлову, – мы могли бы открыть спортивный еженедельник такого формата, как «Футбол-хоккей». Потребитель нашей продукции нашелся бы. Среди эмигрантов много болельщиков.
Орлов в ответ повышает ставки:
– Не спеши. Боря Меттер носится с идеей, чтобы мы втроем открыли не спортивную, а общую еженедельную газету, и какой-то бизнесмен из Нью-Джерси обещал ему помочь получить в банке ссуду.
В феврале 1979 года Орлов в письме к московскому знакомому делится своими «газетными переживаниями»:
Хоккеист, Боря Меттер и я кое-что предпринимаем в направлении своего органа. Дело это многотрудное. Требует мощных финансовых вливаний, поэтому говорить о чем-нибудь конкретном я просто не хочу. Могу только сказать, что первые шаги предприняты. О результатах судить просто-напросто рано. Одно скажу: если дело выгорит, то куча проблем будет снята сама собою.
Понятно, что под «Хоккеистом» подразумевается Рубин. Если учесть, что Довлатов прилетает в Нью-Йорк 22 февраля, то вопрос об авторстве проекта автоматически снимается. Именно Меттеру принадлежит название газеты, ставшее причиной одного из многих будущих конфликтов. Показательно, что Довлатов не просто «крайний» отец-основатель газеты. Меттер, Орлов и Рубин хорошо знали друг друга еще до эмиграции. Меттер дружил с Орловым еще со школьных времен. Орлов же, будучи яростным спортивным болельщиком, не мог не знать спортивного журналиста Рубина. Довлатов не входил в круг их общения, его знали в лучшем случае шапочно.
С другой стороны, отмечу, что издание газеты или журнала вписано в отечественный социокультурный код. Русский человек начинает обживаться на новом месте с того, что открывает печатное издание. Став его владельцем, он стремительно обрастает поклонниками, союзниками, тайными и явными недоброжелателями. Последние пытаются разоблачить недостойные приемы издания и его авторов. Часто вследствие этого на свет рождается новый печатный орган. Издатель, терпя убытки, залезает в долги, но тем не менее чувствует себя на своем месте. Окружающие, живущие куда более спокойной и обеспеченной жизнью, испытывают странную зависть и тягу к этой непростой работе. Не будет преувеличением сказать, что шальная мысль учредить собственное издание посещала голову практически каждого мыслящего эмигранта. Другое дело, что довести замысел до воплощения удавалось немногим. Именно это становилось причиной острой неприязни со стороны невоплотивших мечту.
Рубин пишет о том, что познакомился с Довлатовым летом 1979 года на радиостанции «Свобода». Довлатова пригласили выступить перед сотрудниками:
Когда слушатели собрались в конференц-зале, из-за стола, обращенного лицом к публике, поднялся баскетбольного роста красавец в голубом джинсовом костюме, жгучий брюнет с небольшими аккуратными усиками и карими, отливающими бархатистым блеском грустными глазами.
Картина знакомства, нарисованная мемуаристом, поражает прежде всего портретной живописью: очеловеченный стол вместе с изысками, «отливающими бархатистым блеском», и достаточно ясно характеризует уровень писательского мастерства Рубина. Но самое интересное – фактическая сторона события. Знакомство с Довлатовым состоялось на полгода раньше. Киевский журналист Вадим Консон организовал устный журнал «Берега». За пять долларов читатель/ зритель получал «номер», состоявший из выступлений авторов разной степени известности. В письмо Игорю Ефимову от 22 марта 1979 года Довлатов вложил программу «Берегов». Из нее мы узнаем, что 17 марта можно было услышать «Последние стихи А. Галича» в исполнении Татьяны Брохиной. Далее Марк Поповский рассказывал о своих встречах с академиком Сахаровым. Затем для разгрузки аудитории Юлия Тролль веселила публику рассказом «Что делать, или Шота Пичхадзе в Америке». В нем рассказывалось о «злоключениях эмигрантов в Америке». Образец прозы Тролль:
Сидящие за столом были приблизительно одного возраста – кому под сорок, кому за сорок, за исключением одной миловидной старушки. Обычно, глядя на старую женщину, бывает трудно определить степень ее добродетели в молодости – все старушки чаще всего выглядят абсолютно безупречными в этом смысле. Фаина Семёновна же, сидящая за столом рядом со своим сыном Борисом, была на редкость кокетливая и, можно сказать, пикантная старушка, так что присутствие ее ни в ком не вызывало ощущения диссонанса.
У Фаины Семёновны есть сын – Алик, у Алика жена – Нонна. В общем, уровень понятен. Интересно, что рассказ Тролль напечатан в февральском номере обыкновенного печатного журнала «Время и мы». Этот номер открывается рассказом Довлатова «В гору», позже ставшим частью «Компромисса». А вот это и вызывает «ощущение диссонанса». Проблема заключалась как раз в том, что на страницах и площадках одного издания присутствовали одновременно два таких разных автора.
Далее выступал Рубин со «Спортивным обозрением». Закрывался журнал довлатовскими «Записными книжками писателя». В качестве них выступали отрывки из «Невидимой книги». Кроме этого, в программе присутствовал загадочный безымянный «кинофильм», который должен был комментировать такой же анонимный «режиссер». Встречи проходили в еврейских центрах и синагогах. По воспоминаниям Рубина, количество зрителей не превышало сорока-пятидесяти человек. Довлатов пользовался определенным успехом. В цитируемом письме Ефимову он предлагает выслать ему сто экземпляров «Невидимой книги», которую собирался продавать за три с половиной доллара благодарным слушателям, которые могли бы, таким образом, превратиться в полноценных читателей. Проффер высылает запрошенные экземпляры. В письме от 4 мая 1979 года Довлатов сообщает о своем триумфе:
Сообщаю также, что пятьдесят невидимых книжек были раскуплены за десять минут. С толчеей и конфликтами (Есть свидетели).
Практичный Консон решает оптимизировать расходы и вычеркивает Рубина из виртуальной, как, впрочем, и сам журнал, гонорарной ведомости. Довлатов в знак солидарности с Рубиным прекращает сотрудничество с Консоном. Рубин, потрясенный подобным благородством Довлатова, организует его встречу со своими компаньонами по грядущему изданию.
Елена Довлатова в предисловии к книге мужа, составленной из текстов, опубликованных в «Новом американце», пишет:
Через несколько месяцев после приезда Сергея в Нью-Йорк Боря Меттер позвал нас на встречу, которая состоялась в квартире у Жени и Жанны Рубиных.
В тот вечер долго и шумно обсуждали, какой должна быть новая газета. Она должна была отображать все аспекты жизни эмигрантов, отвечать на множество вопросов: от того, на какие курсы по изучению языка пойти, где купить мебель, как найти врача, где снять квартиру, как провести досуг, какие книги и где купить или взять прочесть, до советов экономистов и врачей. Все материалы должны быть написаны живо, увлекательно и хорошим русским языком.
Довлатова, как и Евгений Рубин, несколько смещает, удлиняет хронологию. Как я сказал, о своем участии в «Берегах» Довлатов пишет Ефимову 22 марта. Но Ефимову приходит от Довлатова два письма, датированных 22 марта. Первое заканчивается меланхоличным пассажем:
В Нью-Йорке, если приглядеться, довольно много всевозможных затей и затейливых возможностей. Может быть, я рискну не становиться грузчиком или доор-меном. Есть всякие соображения…
Второе послание начинается на иной ноте:
Дорогой Игорь!
Извините, что обращаюсь под копирку. Сразу же перехожу к делу. В Америке создается новая газета. Вероятно, я буду иметь к ней отношение. Возможные скептические доводы мне известны. Я их долгое время разделял. Что же меня убедило в практической целесообразности этой затеи? В чем индивидуальность новой газеты? Каковы деловые перспективы?
Нынешние русские газеты обращены к эмиграции вообще. В поле их зрения – Россия главным образом. Новая газета обращается к третьей эмиграции. К людям, приехавшим навсегда. Пытающимся найти свое место в амер. жизни.
Довлатов пишет о том, что газета мыслится как «деловое издание» с мощным информационным блоком, касающимся юридических, трудовых, социальных проблем и вопросов. Далее он обращается к Ефимову с просьбой:
О чем я прошу и умоляю?! Пришлите что-нибудь свое. Бесплатно. Полгода мы работаем бесплатно. В дальнейшем предполагаются гонорары.
Пришлите что-нибудь. Я обращаюсь лишь к тем, у кого нет бездарных вещей. Обратитесь к талантливым знакомым. Настоятельно прошу.
И в финале послания:
Буду ждать. Все меня считают легкомысленным, и правильно. Но сейчас я действую очень трезво, увидите. Не откликнитесь – запью!
Буду очень ждать. Объем – как можно больше. Но благодарю и за одну страницу.
На что здесь следует обратить внимание. Во-первых, с высокой долей вероятности судьбоносная встреча с учредителями газеты, о которой пишет Довлатова, состоялась вечером 22 марта. После нее Довлатов и сел писать «письма под копирку». Во-вторых, и это намного важнее «датского вопроса», перед нами уникальный документ. Я цитировал и еще приведу немало выдержек из эпистолярного наследия писателя. Многие читатели, знакомые с перепиской Довлатова, подтвердят, что это самое светлое, оптимистичное его письмо. Никаких признаков, увы, хорошо знакомого нам скепсиса, переходящего в депрессию, мрачных прогнозов на фоне тягостной действительности. Писатель здесь, как он сам написал, «легкомысленен» в высоком и светлом пушкинско-моцартовском ключе.
Еще за день до этого, 21 марта, Довлатов пишет письмо Людмиле Штерн. В нем он размышляет о своих литературных перспективах в Америке:
Моя растерянность куда обширней средних эмигрантских чувств. В этом-то плане на что мне жаловаться? В газетах обо мне пишут. По радио говорят. Дважды выступал почти бесплатно, но с успехом. Книжки выходят и будут выходить. Есть четыре издательских предложения. Все – несолидные. Ни денег, ни престижа. Есть халтура на радио Liberty. В «Новое Русское Слово» пиши хоть каждый день. (Кстати, о тебе написали мои приятели Вайль и Генис, номер за 20-е. По-моему, грамотно и справедливо.) Работу пока не ищу. Рано. Посещаю английские курсы. Бесплатные, а следовательно – некачественные. Уверен, что в 2–3 месяца подвернется работа. Тут два еврея создают новую газету. Преображается Liberty, а значит, будет вакансия. Но это все <…>.
Что касается восстановления стыдливых отточий, то вероятностный вариант реконструкции полнозвучия мы находим опять же в переписке Довлатова. Вот письмо от 28 марта 1990 года, адресованное Израилю Меттеру. Да-да, тому самому дяде Бориса Меттера:
Писал ли я Вам, что наш ребенок Коля ввел в эмигрантский обиход новое слово, живо подхваченное массами? Как-то раз Лена дала ему утром кашу, он потрогал ее ложкой и говорит: «Это – хунья». Лена спросила – что?! И Коля внятно повторил: «Хунья! Папа всегда говорит такое слово – хунья».
Приняв эту небеспочвенную гипотезу, следует признать, что перспективы издания русской газеты в Америке Довлатов считал «хуньевыми».
Что произошло на встрече? От чего Довлатов воспрял духом, отказавшись от перспективной и солидной должности доор-мена – швейцара? Довлатов поверил. Он увидел, что газета – не пустые эмигрантские разговоры, гипнотическое взаимное убалтывание. Газета, прежде всего, делается людьми. Довлатов поверил в Меттера, Орлова и Рубина. Он увидел в них то, чего ему всегда не хватало в себе: уверенность, деловитость, внутреннее спокойствие. Чудо, что они позвали его в команду. Из воспоминаний Елены Довлатовой:
Домой в этот вечер мы ехали окрыленные. Сергей уже в метро обсуждал план работы своего отдела. Придумывал рубрики. Планировал, каких авторов нужно привлечь и заинтересовать работой в газете.
В повести «Невидимая газета» Сергей описал этот период. Но написано это было уже с позиций так или иначе осмысленных, уже после завершения большого этапа.
Тогда же… Невозможно описать то состояние, те ощущения первых дней. Невозможно было без волнения думать о том, что ты нашел себе место в новой жизни. И не просто место, а возможность делать, что умеешь. И это не отупляющая физическая работа, а творческая. Все время хочу сказать «в достаточной степени», потому что Сергей не считал журналистику делом своей жизни. До сих пор это был способ заработать на жизнь. Потому что главным было – жить жизнью профессионального литератора, писателя.
Нахлынувшее ощущение сопричастности большому делу отдавало сентиментальностью, но оно вполне объяснимо. Из письма Штерн от 8 июня 1979 года:
Мои товарищи и коллеги – прелесть. Расскажу о них коротко. Боря Меттер – Остап, командор. Женя Рубин – Паниковский, я – Шура Балаганов. Орлов – Адам Козлевич. И «антилопа» есть. Все, кроме меня, умеренно и охотно пьющие. Все рослые и толстые. Широкие и веселые.
В письме Ефимову 17 января 1980 года Довлатов повторяет практически слово в слово ильф-петровскую классификацию своих компаньонов. Довлатов тоже хотел быть «широким и веселым». Даже конфликты между соратниками вызывают почти умильное чувство. Из того же письма:
Мы без конца ругаемся. А Меттер с Рубиным даже подрались, шумно и неумело. После чего у обоих распухли щеки.
Причины для драки были. Выход первого номера «Нового американца» все время откладывается и переносится. Сначала открытие планировалось на июнь-июль. Затем дата обрела четкость и ясность, сместившись на 4 сентября 1979 года, интригующе близко ко дню рождения самого Довлатова – 3 сентября. Увы, день рождения не нашел своего естественного продолжения. Что для Довлатова, скорее всего, было не самым плохим вариантом. Издание газеты, по признанию писателя, оказалось «гораздо дороже и сложнее, чем выпускать журнал».
При этом материальная сторона проекта обрела одновременно пугающую и будоражащую сознание осязаемость. Из письма Ефимову от 25 мая:
Газетные дела резко продвинулись. До первого мы покупаем две наборные машины (ибо с первого июня они дорожают на восемь процентов). Фирма обязуется доставить их в течение 60 дней. Это значит, что за 2 месяца надо решить все оставшиеся проблемы, чтобы машины потом не стояли.
В следующем месяце делается еще один шаг к реализации мечты. Из письма к Ефимову от 6 июня:
Теперь о газете. Мы сняли офис на Бродвее. Таймс-сквер, 1. В небоскребе. Правда, на 7 этаже. Это по ленинградским меркам – угол Невского и Литейного. Заказали телефон, визитки, бланки и прочую канцелярщину. Приобрели в рассрочку дивную машину, которая втрое умнее меня. В общем – начали.
Поступательные шаги к успеху сопровождались досадными срывами, связанными с финансовой неграмотностью, если не сказать наивностью, компаньонов. Из интервью Елены Довлатовой в Elegant New York:
И вот Б. Меттер нашел какого-то человека, американца, который вдохновился идеей новой русской газеты, имел счет в банке и мог, как он заверил нас, купить наборную машину в кредит. Мы собрали 900 долларов на депозит, что было для нас значительной суммой, отдали деньги этому американцу, но он растаял вместе с нашими деньгами – больше его никто не видел. Еще раз собрать деньги было нереально.
Увы, и «козырное место» по адресу 1, Times Square имело свой существенный минус. Из цитированного выше интервью жены писателя:
Правда, никому, кроме самых близких, не было известно, что размером она была с кладовку, в которой даже письменный стол едва помещался. Сотрудники редакции и их гости часто сидели на полу, а дверь в коридор почти всегда держали открытой, иначе в комнатке можно было задохнуться. Иногда, когда собиралось слишком много народу, сидели на полу и в коридоре.
К сожалению, даже волшебная машина не ускорила выпуска «Нового американца». Тут нужна была «машина времени». Проблема заключалась, в частности, в запутанных финансовых вопросах. Компаньоны, уверенные в неизбежном успехе предприятия, выбрали бизнес-модель для газеты. Это означало, в частности, невозможность получения государственных субсидий. Деньги для издания следовало получить в форме личных банковских займов. Пробивал заем неугомонный Борис Меттер. Первоначально партнеры рассчитывали на 25–30 тысяч долларов. В итоге банк одобрил кредит лишь на 16 тысяч. Дадим слово Рубину:
Наконец этот исторический день наступил. Собираясь звонить Довлатову, чтобы передать праздничную новость, я предвкушал удовольствие от его счастливого смеха, от буйной радости, которую он не станет сдерживать. Но услышал я в трубке скучный голос, произнесший слова, явно приготовленные заранее:
– Ребята, я с вами во всем, кроме денег. Рисковать деньгами я боюсь. Так что отправляйтесь в банк без меня.
В интервью Виктору Ерофееву писатель обходит этот вопрос:
В результате мы раздобыли 16 тысяч долларов, смехотворную по сегодняшним временам сумму, и с этого началась еженедельная газета «Новый американец», форматом как «Неделя», но 48-страничная.
Причины, по которым Довлатов отказался ставить подпись под банковскими документами, могут быть различными. Но в числе главных – отсутствие уверенности в своем положении. Семейная жизнь только начинала склеиваться, литературное положение вызывало вопросы. О работе речи вообще не шло. Разовые гонорары на «Свободе» (в марте Довлатов получил за выступления 300 долларов) и посещение ювелирных курсов трудно назвать надежным фундаментом для первых самостоятельных денежных операций. Не будем забывать и о том, что Довлатов самый младший по эмигрантскому стажу среди компаньонов. Но в любом случае соучредители не слишком расстроились по поводу отказа Довлатова взять на себя финансовые обязательства. Из воспоминаний Рубина:
Орлов, по своему обычаю, промолчал – он вообще предпочитал роль статиста. Меттер тоже отреагировал спокойно, но, думаю, в душе порадовался: не придется делиться будущими миллионами с лишним партнером.
В переписке с Ефимовым писатель признается в малодушии. Из январского письма за 1980 год:
Мое положение в газете неожиданно стало очень выигрышным. От займа я уклонился, как неимущий. Функции же сохранил. И зарплату, если таковая возникнет, начну получать раньше всех.
С другой стороны, слова Довлатова «мы раздобыли 16 тысяч долларов» находят подтверждение в воспоминаниях Елены Довлатовой:
Не буду останавливаться здесь на том, что пришлось пережить каждому из четырех главных работников и их женам, которые мужественно переносили все невзгоды наравне с мужьями, поддерживая их, вселяя уверенность в том, что дело выйдет. И самые первые расходы на газету были поровну оплачены женами четырех журналистов.
«Мы», таким образом, следует трактовать расширительно. Можно сказать, что издание «Нового американца» из проекта четырех бывших советских журналистов превратилось в общее дело четырех эмигрантских семей.
Одновременно с поисками редакционного помещения семья Довлатовых решает собственный квартирный вопрос. В конце лета 1979 года Довлатовы переезжают в Форест-Хиллс – район того же Квинса, где они снимали перед этим двухкомнатную квартиру. Писатель аргументировал необходимость переезда наличием хорошей школы и общим престижем района. Довлатову очень нравилось рассказывать о страшной криминальной ситуации в Нью-Йорке. Говорил он об этом и в письмах, например, неоднократно упоминал, что вынужден вооружиться двумя пистолетами: один для защиты дома, с другим – большим по размеру – писатель отправлялся на вылазки в город. Не чуждался Довлатов и некоторой театральности. Из воспоминаний Наума Сагаловского:
Наша первая с Довлатовым встреча произошла в декабре 1980 года, когда я со старшим сыном Леней приехал в Нью-Йорк. Мы встретились недалеко от редакции «Нового Американца», на Таймс-сквер. Приблизился к нам высокого роста, крепкий на вид красавец-мужчина и сказал: «Это опасное место. Немедленно уходим», чем сильно меня удивил. Интересно, кто такого гиганта мог обидеть?
Сначала семья вселилась в квартиру на первом этаже по адресу 65-й проезд. Отмечу, что американский «drive» означает несколько иное по сравнению со скромным отечественным «проездом». Из письма Елены Довлатовой автору:
Вы знаете, какой длины наш 63 Драйв? По нему можно ехать на машине не меньше получаса. И это несколько почтовых индексов.
Но вскоре состоялся новый переезд. Семья переселилась в дом напротив – пересечение 108-й улицы и 63-го проезда. Интересно, что такие «спринтерские» переезды можно назвать характерными для Довлатовых. Классический ленинградский адрес писателя – две коммунальные комнаты на Рубинштейна, 22. Во время «таллинской экспедиции» Довлатова Нора Сергеевна и Елена съехались в двухкомнатную квартиру на Рубинштейна, 23. В октябре 1980 года семья сняла на шестом этаже трехкомнатную квартиру, в которой писатель прожил все свои американские годы.
Параллельно с издательскими хлопотами шла какая-то литературная жизнь. Тридцатого апреля в Нью-Йорке прошла конференция, которую организовал Александр Глезер – хозяин издательства «Третья волна» и одноименного альманаха. Отчет о ней разместили в 7–8-м выпуске альманаха. Из него мы узнаем, что сам Глезер в начале работы прочитал стихи Сапгира и рассказал о работе своего издательства. После него выступили Юрий Мамлеев, Довлатов и Михайло Михайлов. Последний – югославский диссидент русского происхождения. Можно предположить, что Глезер пригласил его для колорита и придания происходившему действу солидности. А оно явно нуждалось в этом. Из отчета:
По окончании длившейся почти три часа конференции певица Марта Ковалевская, в прошлом – ленинградка, в сопровождении инструментального ансамбля исполнила старинные русские и цыганские романсы.
Мамлеев в своем выступлении бегло обрисовал положение нонконформистской литературы в Советском Союзе. Но центральное место отведено изложению его собственного рассказа «Изнанка Гогена». В нем Мамлеев поднял такую действительно непривычную для советской прозы тему, как вампиризм и «совместная жизнь вампиров». Свою цель писатель видит в следующем: «Показать субъективный внутренний мир вот этих нечеловеческих сущностей».
Довлатов говорил о менее экзотических предметах, но с гораздо большей экспрессией. Он неожиданно заступается за Бродского:
Вот, когда я ехал из Вены сюда, мне стало известно, что, вот, есть, например, такой «Новый журнал», который редактирует Роман Гуль, человек абсолютно достойный. Он выпустил прекрасную книжку «Одвуконь», про русскую литературу там… (ему много лет, он дружил с Куприным, с Карамзиным, не знаю, с Кантемиром, все замечательно… Вот) но мне рассказала одна приятельница в Нью-Йорке, что Бродского он печатать не хочет, а для людей моего поколения – литератор Бродский – это такой непререкаемый кумир, и вот, тем не менее, печатать его в «Новом журнале» не хотят. Это Бродского!..
Довлатов не желает сбавлять драматического накала и неожиданно переходит от трудной жизни Бродского к не менее тяжелой судьбе Лимонова:
Он – неоклассицист, так сказать, традиционного направления, могу с любого места цитировать… Это старинная классика, просто так похоже на Блока, что невозможно слушать. Вот. Не хочет Гуль печатать Бродского! Куда же деваться Лимонову? Вообще, я думаю, что Роман Гуль в один сабвей с Лимоновым не вошел бы! Как можно! Все речь о том же. Значит, с Бродским не выходит, с Лимоновым не выходит, там, в Париже, свои дела, я много слышал о парижских распрях. Это все было печально, непонятно… Такие талантливые люди, как Синявский, Амальрик, там я не знаю, Глезер, Целков… не ладят, не могут уместиться на одной журнальной странице… и все полны талантов. Здесь же Запад, ну, издавайте журналы, ну, не выйдет, значит, эти журналы вылетят в трубу… все прекрасно, все замечательно! Вот.
Дальше писатель начинает говорить о себе:
К чему я клоню, собственно? У меня вообще нет проблем. Мне еще в Вене сказала одна близкая приятельница, что «Серёжа, твои дела обстоят прекрасно. Ты – средний, общедоступный, общепонятный и общеприемлемый!» Значит, меня печатают везде: вот и Глезер сказал, что будет печатать, и Виктор Борисович Перельман сказал, что должен напечатать, все континенты земного шара, все замечательно… Но есть люди со сложной стилистикой…
Перед нами типичный пример уничижительного «самовосхваления» Довлатова. «Все континенты земного шара» запускают в печать тексты писателя не в силу его невыносимой гениальности, а потому что он: «средний», «общепонятный» и «общедоступный». Здесь, конечно, бросается в глаза определение «средний». Не каждый писатель отважится сказать такое о себе.
Следующее рассуждение Довлатова посвящено авторам «Третьей волны», о которых нам еще придется много говорить:
Я очень рад, что в этот журнал пришли два критика-литературоведа Вайль и Генис. Они там с каждым номером пишут все лучше. У Вайля и Гениса есть такая поразительная способность – они не просто имеют дар тонкого и глубокого анализа, но они, кроме того, имеют способность пользоваться стилистикой рецензируемой вещи для того, чтобы придать значимость собственным соображениям. Скажем, их критическая статейка о Вене Ерофееве написана превосходно, она выше всяких похвал, я не думаю, чтобы кто-то писал сейчас на таком уровне на Западе.
Мимоходом отмечается «основательно талантливый Юрьенен», который, правда, «тяжеловатый». Констатирующая часть выступления Довлатова заканчивается на безусловно оптимистической ноте, касающейся его лично, и некоторым сомнением в будущности русской зарубежной печати:
Все замечательно… Посмотрим, кто прогорит, вылетит в трубу, у кого не хватит денег… Все они издаются на собственные средства, все вкладывают собственные пиджаки в эту программу. У меня положение особое, у меня и так все хорошо. Вот.
В последней части выступления Довлатов по просьбе Вайля развлекает публику чтением «Записных книжек», вошедших позже в «Соло на ундервуде» и «Соло на IBM». Всего обещается пять записей, но, увлекшись, писатель читает двенадцать.
Как я и говорил, отчет о конференции печатается в «Третьей волне». Вскоре альманах внимательно прочитали в ардисовских подвалах. Ефимов, отвечавший Довлатову редко и явно неохотно, пишет ему 2 сентября 1979 года:
Дорогой Серёжа!
Мои девочки начинают хихикать еще до того, как я успеваю распечатать конверт с письмом от Вас. И Вы их почти никогда не разочаровываете – спасибо. Еще мы получили «Третью волну» с портретом и записью речи. Очень смешно, но, конечно, злодей Глезер мог и убрать все «вот» и прочие паразитические образования, которые вообще-то Вам не свойственны.
Заодно Ефимов сообщает, что не собирается выполнить просьбу Довлатова – перенести текст с фотопленки на бумагу.
Заведение, которое печатало мои пленки, берет по 13 центов за кадр. Однажды оно отказалось печатать: пленка была сильно плохого качества. Они находятся в получасе езды от нас, поэтому, честно Вам скажу, мне это хлопотно.
Как видим, «хихикают» не только «девочки» Ефимова. Довлатов отвечает на открытую провокацию привычным для себя способом – саморазоблачением. Начало его ответного письма от 23 сентября, обращенного и к Ефимову, и к «девочкам»:
Дорогие мои, здравствуйте!
Начну с злополучного выступления у Глезера. Я действительно тогда напился. Настолько, что поспал возле Рокфеллер-центра. Затем излил весь этот бред. В конце речи чуть не упал с эстрады. В президиуме сидел развязно. Махал приятелям в зале. Делал знаки относительно – продолжать. Рядом сидел укоризненный хмурый еврей. Оказался югославским диссидентом Михайловым. Начал (Михайлов) выступление словами: «Я ничего не понимаю». Потом мне сказали, что он все свои выступления начинает именно так.
Из письма становится понятно, что выступление бывшей ленинградки Ковалевской с цыганскими и русскими романсами концептуально соответствовало карнавальной атмосфере мероприятия. Также понятна природа иронии Ефимова. Кто такой Довлатов, чтобы где-то перед кем-то выступать. Какое выступление, какой портрет… Человековедческая ограниченность Ефимова – автора «психологической прозы», не позволила увидеть и понять, о чем в действительности говорил Довлатов. Ефимов «прочитал» его выступление как неприкрытое хвастовство. Слова о себе как о «среднем писателе» – неловкое кокетство, лишь подчеркивающее глуповатое самодовольство недалекого автора.
Ответное слово Довлатова – приглашение к покаянию было с благодарностью принято – скорее всего, пришлось по вкусу адресатам: хотя обоснованные предположения не подтвердились, реальность оказалась тоже недурной. Но речь Довлатова при всей ее спутанности и наличии пресловутого «вот» несет в себе не только определенную информацию, но и дает представление о внутреннем состоянии писателя. Его «особое положение» и «отсутствие проблем», так же как и развязное поведение в президиуме, – следствие понимания простой вещи. Да, он публикуется, его печатают в ведущих эмигрантских изданиях. В силу специфики любое зарубежное русскоязычное издание можно смело назвать ведущим. Формально список довлатовских публикаций можно назвать солидным. Перечислим некоторые из них. В упомянутом 7–8-м номере «Третьей волны» рассказ «Высокие мужчины» – часть «Компромисса». В пятом номере «Эха» Марамзина рассказ «Дорога в новую квартиру» из рассыпанного эстонского сборника и эссе «Рыжий», посвященное старому знакомому – Уфлянду. Кстати, начало текста – пример классической довлатовской автохарактеристики:
Поэты, как известно, любят одиночество. Еще больше любят поговорить на эту тему в хорошей компании. Полчища сплоченных анахоретов бродят из одной компании в другую…
Уфлянд любит одиночество без притворства. Я не помню другого человека, столь мало заинтересованного в окружающих. Он и в гости-то зовет своеобразно.
Звонит:
– Ты вечером свободен? – Да. А что?
– Все равно должен явиться Охапкин (талантливый ленинградский поэт). Приходи и ты…
Мол, вечер испорчен, чего уж теперь…
Думается, что в ленинградский период Довлатов в подобном стиле получал не одно приглашение, не только от Уфлянда.
В следующем, 6–7-м номере отрывки из «Соло на ундервуде». Переходим к «Времени и мы». Как я уже говорил, в 38-м номере рассказ «В гору». Через номер публикация рассказа «Черным по белому» – части «Компромисса». Переходим к самому богатому и влиятельному журналу – «Континенту». В № 19 рассказ «Юбилейный мальчик» также из «Компромисса». И это публикации за 1979 год.
В отличие от многих бывших советских авторов, состоявшихся на родине или неизвестных, Довлатов не испытывал особых надежд на свое литературное будущее в эмиграции. Это не следствие особой осторожности, игры в смирение с расчетом обмануть судьбу, осаживающую чересчур уверенных в себе. Довлатов как раз не верил в себя. Его эмиграция, как ни странно, носила в первую очередь личный характер. Заявление в ОВИР совпадало с действительностью. Довлатов хотел соединиться с семьей. Попав в «свободный мир», он не освободился от комплексов и разъедающей рефлексии. Более того, они приобрели несколько новое измерение.
Для большинства эмигрировавших писателей, или тех, кто считал себя писателями, Запад – место, где они не только опубликуют, напишут то, что нельзя было печатать и писать в Союзе, но и получат после этого и вследствие этого славу и деньги. Вспомним хорошо знакомого нам Василия Павловича Аксёнова. Не так давно вышли книга дневниковых записей Семёна Ласкина, приятеля Аксёнова со времени их совместной учебы в 1-м Ленинградском медицинском институте. Сам Ласкин впоследствии также пришел в литературу, став достаточно известным ленинградским прозаиком. Дневники комментирует сын Ласкина – Александр. Семён Ласкин пишет в дневнике, что Аксёнов называл «Ожог» нобелевским романом. Достаточно красноречиво. Об отъезде Аксёнова вспоминает Александр Ласкин:
Его решение не стало для нас неожиданностью. Все же не зря велись разговоры об упомянутом «нобелевском» романе, да и сам роман был красноречив. Кстати, Василий Павлович не оставлял его дома в Москве, а постоянно возил с собой. Когда он жил у нас, то рукопись – в соответствии с советами профессионального конспиратора Красина – помещалась на самую далекую полку платяного шкафа.
Как видите, «крамольный роман» старательно, пусть и неумело завертывался в слой обертки, создающей романтическую «историю книги». О том, как Аксёнов получил свою Нобелевку, я еще расскажу.
Для Довлатова проблемы Нобелевской премии не существовало. Его переживания сводились к вопросу, пройдут ли его тексты, как бы это высокопарно ни звучало, испытание свободой, когда расстояние между его книгой и читателем сократится до естественного для писателя минимума: покупателя, стоящего у книжной полки. Подобная перспектива страшила в первую очередь. Исчезли основания для объяснения череды неудач, томительных ожиданий, заканчивавшихся отказами, реальными или мнимыми цензурными рогатками.
Участие в создании газеты и работа в ней – хороший способ отложить на какое-то время писательский проект. Обратим внимание, что в это время Довлатов выступает на публике с чтением записных книжек, печатает их в журналах. И это не попытка заработать быструю славу анекдотами. Довлатов не уверен, что его серьезные вещи найдут понимание и признание. Это стремление занять себя тем, что умеешь делать. Работать рядом с людьми, которые также умеют и понимают. Довлатов приходит в состояние, когда кажется, что получиться может все, стоит только захотеть. Между делом он предлагает Профферу через Ефимова открыть книжный магазин в Нью-Йорке, который бы торговал продукцией «Ардиса». Письмо от 19 мая:
Разве это фантастика – открыть крошечный (но симпатичный и в хорошем месте) магазин? Продавец, директор, курьер в одном лице с окладом в 300 долларов в месяц – есть. Это я.
Неожиданный ход. А как же «Новый американец», купленные в кредит умные машины? Не проблема, рождается новый проект. Книжный магазин уже не нужен. Лучше развозить книги по торговым точкам. Письмо от 23 мая, не прошло и недели:
Я нашел человека, который этим займется. Он филолог из Москвы, Косман, 25 лет. Работал в такси, есть машина. Торговать не рвется, просто заинтересовался. Мне кажется, очень порядочный человек. Сдержанный и трезвый… Развозит книги по магазинам и т. д.
И дальше:
За Мишу Космана полностью отвечаю.
Третьего июня Ефимов пишет:
Ваш протеже Миша Косман постыдно слинял, как только дошло до дела.
Довлатов не сдается, хотя полностью принял и разделил упреки в адрес «московского филолога». Письмо от 6 июня:
Миша Косман отпал. И черт с ним. Тут все хором говорят, что затея с магазином – идиотизм. Что с этого начинал Кухарец («Руссика»). Что многие пытались. Что книги просто украдут. И т. д. Косман – вялый плешивый человек, напугался и отпал. Я же продолжаю считать эту затею реальной. Скептики не учитывают темпа и качества эмиграции.
Пусть косвенно, но Довлатов называет себя здесь оптимистом. Даже постоянные переносы срока выхода «Нового американца» не охлаждают энтузиазм. Заем, взятый Рубиным, Меттером и Орловым, сделал выход газеты необратимым явлением. Начало зимы прошло в беготне и суете. Главная борьба за два ресурса: возможных подписчиков и рекламу. Вопрос о рекламе делился на две составляющих. Первая: привлечение рекламодателей в «Новый американец». Компенсируя свое неучастие в займе, Довлатов делает креативный взнос в дело будущего неизбежного процветания газеты: придумывает подписку-страховку. Все старались обеспечить хотя бы какую-то финансовую подпитку газеты. Вторая проблема, связанная с рекламой самого издания. И тут возникла проблема экзистенциального толка. Создатели «Нового американца» обратились в «Новое русское слово» с заявкой о рекламе. По сути, газета Седых должна была разместить объявление о появлении своего прямого конкурента. Хотя понятие «конкурент», следует признать, слишком мягкое и не отражает всего накала борьбы. «Новый американец» с момента своего замысла мыслился как антитеза «Нового русского слова». Вспомним слова Елены Довлатовой о задачах газеты: «Все материалы должны быть написаны живо, увлекательно и хорошим русским языком». И это не пустые слова: «Газета должна широко представлять и отражать…» Стилистически Седых и его журналисты застряли в середине 1940-х годов, воспроизводя язык и приемы эмигрантских изданий «первой волны».
В «Невидимой газете» Довлатов вспоминает о своих впечатлениях после знакомства с «Новым русским словом» и его главным редактором. При этом газета переименовывается в «Слово и дело», а Седых фигурирует под фамилией Боголюбов:
Шесть месяцев я регулярно читал газету «Слово и дело». В ней попадались очень любопытные материалы. Правда, слог редакционных заметок был довольно убогим. Таким языком объяснялись лакеи в произведениях Гоголя и Достоевского. С примесью нынешней фельетонной риторики. Например, без конца мне встречался такой оборот: «…С энергией, достойной лучшего применения…»
А также: «Комментарии излишни!»
При этом Боголюбов тщательно избегал в статьях местоимения «я». Использовал, например, такую формулировку: «Пишущий эти строки».
Сказанное о Боголюбове-Седых распространяется и на газету:
Шестьдесят лет «Слово и дело» властвовало над умами читателей. Шестьдесят лет прославляло монархию. Шестьдесят лет билось над загадкой советской власти. Шестьдесят лет пользовалось языком Ломоносова, Державина и Марлинского.
Достается Седых и как писателю. Довлатов прилежно, с карандашом прочитал художественную прозу «Боголюбова». Из письма Ефимова 21 апреля:
Писатель он странный. У него редкий тип бездарности – полноценная, неуязвимая и кропотливая бездарность. Все грамотно, все на месте. «Тяжелая дубовая дверь со скрипом отворилась…» Кроме того, он побил своеобразный рекорд. Шестьдесят лет печатается, издал 14 книг, и ни единая не переведена.
Тема продолжена 4 мая:
Не уверен, что Седых опубликует рецензию. Отношения неважные. Я его глупо и широко дезавуирую. Утверждаю, что его слог непритязательностью граничит с пустотой.
Еще до «объявления войны» Довлатов посещает газету и беседует с заместителем главного редактора. Чудесная сцена в «Невидимой газете»:
Он напоминал прогрессивного горкомовского чиновника эпохи Хрущёва. В голосе его звенели чеканные требовательные нотки:
– Устроились?.. Прекрасно!.. Квартиру сняли?.. Замечательно!.. Мамаша на пенсии?.. Великолепно!.. Ваша жена работает у нас?.. Припоминаю… А вам советую поступить на курсы медсестер…
Очевидно, я вздрогнул, потому что заместитель добавил:
– Вернее, медбратьев… Короче – медицинских работников среднего звена. Что поможет вам создать материальную базу. В Америке это главное! Хотя должен предупредить, что работа в госпитале – не из легких. Кому-то она вообще противопоказана. Некоторые теряют сознание при виде крови. Многим неприятен кал. А вам?
Он взглянул на меня требовательно и строго. Я начал что-то вяло бормотать.
– Да так, – говорю, – знаете ли, не особенно…
– А литературу не бросайте, – распорядился Троицкий, – пишите. Кое-что мы, я думаю, сможем опубликовать в нашей газете.
Затем появляется «пишущий эти строки»:
В этот момент заглянул Боголюбов и ласково произнес:
– А, здравствуйте, голубчик, здравствуйте… Таким я вас себе и представлял!..
Затем он вопросительно посмотрел на Троицкого.
– Это господин Довлатов, – подсказал тот, – из Ленинграда. Мы писали о его аресте.
– Помню, помню, – скорбно выговорил редактор, – помню. Отлично помню… Еще один безымянный узник ГУЛАГа… – (Он так и сказал про меня – безымянный!) – Еще одно жертвоприношение коммунистическому Молоху… Еще один свидетель кровавой агонии большевизма…
Потом с еще большим трагизмом редактор добавил:
– И все же не падайте духом! Религиозное возрождение ширится! Волна протестов нарастает! Советская идеология мертва! Тоталитаризм обречен!..
Прекрасен и портрет Боголюбова:
Редактору было за восемьдесят. Маленький, толстый, подвижный, он напоминал безмерно истаскавшегося гимназиста.
Как всякий настоящий писатель, Довлатов использует метафоры, предполагающие нелинейное прочтение. В «гимназисте» обыгрываются претензии на особую, «мистическую» связь с дореволюционной Россией.
Несомненно, под влиянием Довлатова описывается Седых в повести Григория Рыскина «Газетчик»:
По приезде в Нью-Йорк я тотчас явился к старику Чарских. Его кабинет напоминал выставку подарков. Тут была хохломская балалайка, льняные полотенца с петухами, граненый тульский самовар. Дары третьей волны. Он сидел в вольтеровском кресле за широким столом красного дерева, под портретом царя-мученика, чистый, промытый, моложавый, как будто только что набальзамированный. Вычитывал по мокрой полосе свою статьюшку, разглядывал каждую буковку сквозь тяжелую лупу с советским знаком качества. Когда старик Чарских отдал полосу секретарю, под ней обнаружилась палехская шкатулка, приспособленная для сигар. По черному фону скакал Василий Иванович в бурой бурке на белом коне.
На просьбу Рыскина о работе Чарских-Боголюбов отвечает жестко:
– Ступайте-ка учиться на автомеханика, молодой человек. И пишите в нашу газету. Писать нужно не для заработка, а из любви.
Война с «Новым русским словом» и лично с его главным редактором одна из ведущих тем переписки Довлатова того времени. «Новый американец» существует пока лишь в умах, если не сказать мечтах, его создателей, а в письмах мы читаем: «Плохого человека Седых намерены разорить», «Беседовали с самим Кохане. Это страшная фигура. Теоретически можно попросить его убить Седыха и особенно – Вайнберга», «От Седыха косяком бегут авторы. Он поставил условие: тем, кто печатается у нас, дорога в НРС закрыта. Напугался один Поповский. В Москве не боялся, а тут… Кусок говна – Субботин – диктует ему, где печататься, где нет», «Поверьте, Седыха жалеть не надо. Он хитрый и жестокий человек».
