Читать онлайн На железном ветру бесплатно
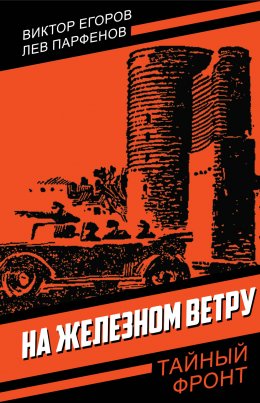
© Егоров В.Г.
© Парфенов Л.И.
© ООО «Издательство Родина», 2023
Часть I
Баку
Пролог
Вместе с толпою пассажиров, прибывших в Баку с вечерним поездом, на привокзальную площадь вышел заросший бородою человек в красноармейской фуражке, коротком засаленном полупальто и солдатских сапогах. Приезжий постоял, огляделся, закинул за спину котомку и, опираясь на палку, не торопясь направился в сторону центра. Он слегка прихрамывал, но, лишь приглядевшись, можно было заметить это. Всякий принял бы его за демобилизованного из Красной Армии – их в начале 1921 года немало приезжало в Баку.
Холодный февральский норд свистел в проводах, окатывал пылью. Приезжий отворачивал от ветра бородатое лицо, ежился, видно полупальто продувало насквозь.
Стемнело. На улицах зажглись фонари. Их раскачивало ветром, и желтые круги света метались по мостовой.
Приезжий дошел до Ольгинской улицы, остановился на углу, чтобы поправить котомку, между делом оглядел угловой дом. Взгляд его остановился на одном из освещенных окон.
На подоконнике стояла настольная лампа с абажуром из зеленого стекла.
Приезжий кинул быстрый взгляд по сторонам. Улица была пустынна. Он пересек мостовую и вошел в ближайший к углу подъезд. Поднялся на второй этаж, троекратно костяшкой пальца постучал в крайнюю дверь.
– Кто?
– Скажите, не здесь ли живет Корыткин?
– Может быть, Корытин?
– Может быть. Мне сказали – сдается комната.
Дверь открылась. Приезжий шагнул через порог в освещенную прихожую, быстро захлопнул за собою дверь.
– Здравствуйте, Красовский.
– Боже мой! Саша, вы? – удивленно и радостно проговорил хозяин квартиры. – Вот сюрприз! Поздравляю с прибытием на родину, подполковник… Однако, борода у вас…
Приезжий сбросил на пол котомку.
– Вы один?
– Разумеется.
– Мне необходимо помыться. Я провонял вагоном и чертовски устал.
– Раздевайтесь, сейчас все устроим. Жить будете у меня.
– Запасная квартира есть?
– Да. В крепости, на Дербентской. На крайний случай подыскал убежище, о котором можно только мечтать: караван-сарай на Сураханской.
– Не может быть! Для русских вход в караван-сарай закрыт.
– Деньги, подполковник, деньги. Это такой сезам, перед которым пасует даже аллах со всеми его запретами. Разумеется, в твердой валюте. Надо хорошо заплатить.
– Не беспокойтесь. У меня все есть.
– Кстати, там же, в караван-сарае, я приобрел отличного связного. Это сын нефтепромышленника Нуралиева – Гасан. Малый с головой.
– О, да вы многое успели.
– Старался. Есть сюрприз и вовсе сногсшибательный.
– Да?
– Эсерам удалось внедрить в Азчека своего человека. Вода согрелась, Саша, вот таз. Конечно, не турецкие бани, но на войне как на войне.
Примерно в тот же час в четырехэтажное здание на Кооперативной улице, где помещалась Азербайджанская чрезвычайная комиссия, вошел высокий плотный человек в коричневом пальто, офицерских хромовых сапогах и с кожаным чемоданчиком. Он потребовал встречи с каким-нибудь ответственным работником Чека, поскольку намерен сделать заявление. Дежурный провел посетителя к начальнику секретно-оперативной части Мельникову.
Это был массивный лобастый мужчина лет тридцати с карими насмешливыми глазами. Под черной кожаной тужуркой бугрились могучие бицепсы. Бывший артиллерист с миноносца «Самсон», участник штурма Зимнего, он все еще причислял себя к личному составу Балтийского флота, поскольку никаких предписаний об увольнении не получал.
По натуре своей Мельников был веселый, открытый и простой человек. Молодых сотрудников-комсомольцев он насмешливо именовал «салагой», а высшей похвалой у него было слово «мастер». В его устах это звучало как «молодец». Человек кипучей энергии, большой физической силы, он целиком отдавал себя работе. Коммунистом он стал в 1916 году. Февральская революция освободила его из тюрьмы, где он вместе с несколькими товарищами ждал военного суда. Шел ему тридцать второй год, и был он холост.
Несмотря на огромную энергию и редкую способность оставаться свежим после двух-трех бессонных ночей, сегодня Мельников чувствовал себя немного оглушенным множеством навалившихся на него дел.
Несколько дней назад чекисты напали на след подпольной организации эсеров. Сегодня из Москвы пришло сообщение о том, что в Баку должен прибыть эмиссар генерала Кутепова – руководителя заграничного белоэмигрантского центра. Ни его фамилии, ни примет, ни каких-либо дополнительных сведений о нем в сообщении не содержалось. Между тем приезд эмиссара подтверждал существование в городе белогвардейского подполья. В уездах бесчинствовали банды муссаватистов. Естественно было предположить, что свою организацию муссаватисты имеют и в самом Баку.
Укомплектование аппарата Азчека еще не закончилось, и нехватка людей с каждым днем ощущалась все острее.
Когда дежурный доложил Мельникову о посетителе, тот приказал немедленно провести его к себе в кабинет. Посетитель разделся, обнаружив под пальто офицерский френч.
– Садитесь, – кивнул Мельников на мягкий, обитый коричневой кожей стул. – Рассказывайте: имя, фамилия, в каких чинах состояли?
Человек во френче – у него было продолговатое сухое и нервное лицо – оглянулся на обитую дерматином дверь.
– Нас не могут слышать?
– Нет.
– Я бывший штабс-капитан Гробер. Максим Николаевич. Родился в Петербурге, в восемьдесят седьмом году, в семье инженера Путиловского завода. Дворянин. Женат. Сын десяти лет. Состою в должности мастера по аппаратуре на городском телеграфе.
– Пришли покаяться в грехах? – иронически щурясь, сказал Мельников.
– Не совсем. Хотя для начала могу вам доложить, что являюсь агентом британской разведывательной службы.
– Вон как! – Мельников взглянул на посетителя с интересом. – Хорошенькое начало! За шпионаж полагается расстрел, а вы говорите об этом, как о прошлогоднем снеге.
Гробер поморщился, растерянный взгляд его скользнул по стенам, и он сказал с заметным усилием:
– Видите ли, я не совершил ничего такого, что бы нанесло ущерб России.
В голосе его не чувствовалось прежней уверенности. Должно быть, слова, которые он собирался сказать здесь, казались ему весомыми и неопровержимыми, пока обдумывал их наедине с собой. По стоило произнести эти слова вслух, как со всей очевидностью обнаружилась их уязвимость и бездоказательность.
С минуту Мельников пристально изучал сухое нервное лицо посетителя.
– Вы сочувствуете большевикам?
– Иначе я не сидел бы сейчас в этой комнате. Я пережил в Баку англичан, турок и муссаватистов и убедился, что порядок в стране способны навести только большевики. Народ идет за вами.
Все это Гробер проговорил без запинки, как хорошо выученный урок.
– Сочувствуете нам, а связались с англичанами, – не совсем понятно, гражданин Гробер, – заметил Мельников.
Он подвинул посетителю папиросы, оба закурили.
– Объясню, – сказал Гробер. – С пятнадцатого года я состоял офицером русской военной миссии в Тегеране. В мою задачу входило не допустить проникновения германского, а также и английского влияния на северные пограничные племена. Однако после того, как к власти в России пришли большевики, мое начальство круто переменило ориентацию. По его приказу я свел одного из влиятельных вождей северных племен, Ашрафи, с английским майором Шелбурном и склонил Ашрафи на политическую связь с англичанами. Иначе ослаблением русского влияния немедленно воспользовались бы немцы, а ведь Россия находилась с ними в состоянии войны.
Я не захотел оставаться в эмиграции и решил перебраться с семьей в Россию. Средств у меня не было. Неожиданно помог майор Шелбурн… Нет, нет, просто предложить деньги он мне не посмел, это выглядело бы слишком грубо. Он дал возможность заработать мне на переводе немецких документов.
Летом восемнадцатого года я с семьей приехал в Баку. Здесь нас встретил порученец Шелбурна и поместил в гостиницу. Жена была восхищена вниманием майора, что же касается меня, то я уже начал понимать подоплеку такой любезности. Действительно, через день состоялась встреча с самим майором Шелбурном. Он сообщил о приближении турецких войск, о срочной эвакуации англичан из Баку, пожаловался на поспешность, которая помешала организовать получение информации из города, занятого турками, и предложил мне взять это на себя. Я согласился. Вы должны меня понять – я вступал в борьбу с врагами России. На подступах к городу с турками дралась Красная Гвардия. Шелбурн вручил мне таблицу с шифром, инструкцию и назвал адрес конторы персидского купца Кареми. Через Кареми я должен был пересылать информацию.
С юности я увлекался радиотехникой, и знания в этой области позволили мне устроиться мастером на телеграф. О переезде в Петроград, как я намечал ранее, нечего было и думать – страну разделили фронты гражданской войны.
Около года назад, перед приходом Красной Армии, Шелбурн опять появился в Баку. Он поручил мне запасную линию связи, в которой мне отводилась чисто посредническая роль. Шелбурн познакомил меня с адвокатом Табаковым. Он, кажется, эсер. От него я должен был получать письма для Кареми и ему же передавать ответы.
– И много вы их передали?
– Вот пока первое и единственное. – Гробер положил на стол лист бумаги, исписанный цифрами. – Табаков вручил мне его вчера.
– Вам знаком шифр?
– К сожалению, нет. Собственно, привело меня к вам не письмо, вернее, не столько письмо…
– Что же?
– Сегодня утром ко мне домой явился некто Красовский, приятель моего двоюродного брата Федора Меньшикова. Незадолго до войны я раза два встречал его у брата – в то время оба они были юнкерами, готовились к выходу в офицеры, я же имел чин капитана и, естественно, для обоих служил образцом. Как Красовский оказался в Баку – не знаю. Мне известно, что Федор служил в деникинской контрразведке. Красовский же сказал буквально следующее: «Всю гражданскую мы прошли рядом». Так что человек он весьма опасный. Доверяя мне, должно быть, по старому знакомству, без обиняков предложил вступить в подпольную организацию. По его словам, организация имеет оружие, а также связь с эмигрантским центром. Из некоторых его замечаний для меня стало ясно также, что организация офицеров имеет связи с муссаватистами.
– В уездах?
– Нет, здесь, в городе.
– Та-ак… – Мельников положил на стол тяжелые ладони. Предположение о существовании муссаватистского подполья подтверждалось.
– Что вы ответили на предложение Красовского?
– Опасаясь вызвать подозрение, я согласился вступить в организацию. Для меня, однако, все давно решено. Россия пережила кровопролитную гражданскую войну, и я не хочу, чтобы в жертву честолюбию и мстительности людей, которым нечего терять, снова приносились тысячи русских жизней. Возможно, это убеждение помешало мне как следует сыграть роль врага большевизма…
– Что? Красовский заподозрил вас?
– Не знаю. Во всяком случае он не назначил следующего свидания, а обещал позвонить по телефону на работу. И тотчас откланялся.
– Он хочет проверить вас.
– Может быть.
– Адрес Красовского или место работы?
– Не знаю.
– Как он выглядит?
Гробер задумался, легкая улыбка скользнула по лицу:
– Вам, наверное, мои слова покажутся странными, но он напоминает рысь.
– Рысь?
– Да. Скошенный лоб, короткий нос, широкие скулы, зеленоватые твердые глаза. Рысь или кошка.
– Рост?
– Небольшой. Похож на мальчишку. Был в шинели, а под ней – гимназическая рубашка.
– Да, немного, теперь пол-Баку ходит в шинелях, – сказал Мельников и неожиданно остро взглянул на Гробера. – Что же прикажете мне с вами делать?
– Не знаю, – развел руками Гробер. – Вероятно, вы меня арестуете.
– Не угадали. Сейчас вы пройдете в приемную и подробно напишете все, о чем мне рассказали. Если позвонит Красовский и назначит свидание, – запомните мой телефон. – Мельников назвал номер. – Если вы мне понадобитесь, я сообщу вам. – Мельников поднялся из-за стола. – Пойдемте, скажу секретарю.
Вид у Гробера был несколько обескураженный. В чемоданчике, который остался внизу, лежало три пары белья. Жена плакала, провожая его из дома, оба были уверены, что расстаются надолго, а, возможно, и навсегда. И вдруг – домой…
– Спасибо, спасибо… гражданин… товарищ… не имею чести знать… – взволнованно проговорил Гробер.
Вернувшись в кабинет, Мельников подумал, что о сообщении Гробера надо немедленно доложить председателю Азчека. Но по укоренившейся привычке, прежде чем идти на доклад, еще раз обдумал и проанализировал все факты, чтобы иметь готовые предложения. Не доверять Гроберу не было оснований. Сведения из Москвы о приезде эмиссара совершенно точно соответствовали его сообщению о создании в Баку белогвардейской боевой организации. Не исключено, что она имеет связь не только с муссаватистами, но и с эсеровской группой. Надо искать Красовского – человека, похожего на рысь. Через него, возможно, удастся напасть и на след белоэмигрантского посланца.
Но такие поиски – дело сложное, долгое. Почти то же, что искать иголку в стоге сена. Мало ли людей, похожих на кошку, на рысь? Взять хоть коменданта Азчека… Усы топорщатся точь-в-точь, как у кота. Всех не арестуешь… Надо выделить для розыска сотрудников.
Но где их взять? Обещал оказать помощь Бакинский комитет комсомола… Снял трубку, попросил соединить с начальником личного стола.
– Кузнецов! Это Мельников. Как у тебя с кадрами? Логинов никого не подослал? Ну, это капля в море! Когда он обещал? Завтра? Ладно, оформляй к Холодкову.
Секретарь городского комитета комсомола Логинов обещал завтра направить на работу в Чека одного комсомольца. Одного. А требовался, по крайней мере, десяток крепких ребят.
1
Этот февральский день не сулил Михаилу Донцову ни особенных огорчений, ни радостей. На улицах было по-вчерашнему холодно. На углу Сураханской и Цициановской носатый ассириец Варташа, кутаясь в синюю хламиду – то ли халат, то ли пальто, взывал к редким прохожим:
– Сапог, батынок чистим-блистим! Дорыга нэ биром!
Около двух Михаил вернулся из училища. Только успел съесть обед – жидкий перловый суп да осьмушку хлеба, пришли Ибрагим с Алибеком. На последней перемене уговорились пойти в Дом красной молодежи. Ленька отправился туда прямо из училища. Вся их компания – четверо комсомольцев с Сураханской улицы – записались позавчера в часть особого назначения. Рассчитали: оттуда прямая дорога в Красную Армию, а повезет, так и на фронт. Сегодня предстояло узнать, стали они бойцами ЧОН или нет.
Прежде чем выйти на улицу, Михаил перед зеркалом одернул пиджак, тщательно стряхнул пылинки. Пиджак принадлежал отцу. Вчера вечером отец торжественно извлек его из шкафа и сказал:
– Надевай. Сукно бостонское – износу не знает.
Сукно, действительно, было хоть куда – темно-синее и на изгибах отливало шелковистым блеском. Михаил сбросил свой старый, чиненый-перечиненый, вытертый до последней степени, кое-где лопнувший по швам пиджачишко и облачился в обнову.
– Смотри-ка, Настя, какой бычок вымахал, – обращаясь к матери и не без гордости оглядывая сына, сказал отец. – В плечах будет пошире меня. Ну, Мишка, носи да помни: разков пять одевал я его, не больше.
В новом пиджаке Михаил сразу почувствовал себя человеком солидным. Утром по дороге в училище нарочно свернул на Воронцовскую, прошелся туда-сюда мимо лаврухинских окон. Его маневры могла заметить сестра, жившая в том же доме, однако он пренебрег этой опасностью ради того, чтобы показаться Зине в обновке. Старания пропали даром – Зина не выглянула.
– Слушай, ашна[1], – по своему обыкновению начал подшучивать Алибек, как только вышли из дому, – до пояса, клянусь кровью предков, ты вылитый английский лорд. А ниже – босяк с Шемаханки. Зайди к Варташе, пусть он почистит твои голубые тапочки под лаковые джимми…
В конце улицы поравнялись с двухэтажным зданием караван-сарая – восточной гостиницей. Высокий сводчатый туннель, прикрытый зелеными воротами, вел в просторный двор. По одну сторону ворот приткнулась лавчонка Мешади Аббаса, по другую – чайхана, принадлежавшая караван-сараю.
Тут все и началось.
Что-то мягкое и тяжелое вдруг ударило Михаила в грудь, отлетело на мостовую. Это была дохлая крыса. В проеме ворот, давясь деланно громким смехом, раскачивались Гасанка Нуралиев – красивый парень в лихо сдвинутой на ухо каракулевой папахе – и его приятель Кёр-Наджаф – слуга из караван-сарая.
– Чего смотришь, большевистская собака?! Закусил?! Можно еще подкинуть! – вызывающе крикнул Гасанка.
Какую-то секунду Михаил колебался. Понимал: Гасанка лезет на рожон не случайно. Чувствует за собой силу. В караван-сарае находился тайный притон курильщиков опиума, принадлежавший знаменитому бакинскому кочи[2] Джафару.
Однажды милиция устроила облаву, но клиентам опиумокурильни удалось уйти по крышам. В притоне всегда околачивалось несколько головорезов, и среди них грозный Рза-Кули – один из подручных кочи. Этот человек славился своим пристрастием к бараньим боям. Он владел несколькими бойцовыми баранами и на улице появлялся непременно в обществе одного из них, ведя его на цепочке, как собаку. Плохо приходилось тому, на кого Рза-Кули науськивал своего телохранителя. Ударом массивных рогов баран мог превратить человека в мешок с костями.
Видно, после смерти папаши нефтепромышленника, не сумевшего пережить национализацию промыслов, младший Нуралиев нашел в притоне покровителей. Недаром Михаил несколько раз видел его в обществе Кёр-Наджафа.
Пока силы были равны – двое на двое. Алибек в счет не шел. Этот веселый осетин, родившийся в Дагестане, умел станцевать лезгинку, любил пошутить над собой и приятелем, высмеять горячность своих соплеменников-горцев, но для серьезной потасовки не годился. Слишком у него была жидка комплекция, слишком узки запястья и тонки пальцы. Да и наружность его – продолговатое остроносое лицо с огромными темными, как переспевшая слива, глазами – говорила скорее об артистической, чем о воинственной натуре.
Михаил шагнул к калитке. Ощущение силы в напрягшихся мышцах, собственной отваги опьяняло. Между ним и Гасанкой существовали старые счеты, еще с младшего класса гимназии. Михаил хорошо знал своего врага, знал его заносчивость, коварство и мстительность. Знал, этот тип их ненавидит. Ненавидит за то, что они комсомольцы, за то, что Советская власть ничего не отняла у них, а, напротив, все дала и во всем сравняла с ним. Имей Гасанка возможность, – пожалуй, не дохлую крысу влепил бы Михаилу в грудь, а пулю.
– Ну-ну, подходи, Донцов, подходи!
Алибек опередил – неожиданно бросился головой вперед, будто собирался протаранить противника.
Гасанка и Кёр-Наджаф не приняли боя, отскочили в глубь туннеля. Алибек нырнул в ворота, помчался следом.
«Заманивают», – сообразил Михаил. Тело его уже не подчинялось доводам рассудка. Будто подхваченный ураганным вихрем, он ворвался во двор. Рядом широким махом бежал Ибрагим. Они опередили Алибека, и Михаил крикнул:
– Дуй назад!
Рядом послышались хлесткие звуки ударов – Ибрагим схватился с Кёр-Наджафом. Михаил ничего не видел перед собою, кроме Гасанкиной спины. Вдруг Гасанка резко остановился, выбросил навстречу кулак. В глазах зарницей блеснуло пламя, но боли Михаил не почувствовал. Всей тяжестью налетел на врага, опрокинул на спину, коротким резким тычком головы нанес удар в лицо. Гасанка взвизгнул как-то по-поросячьи, вцепился в Михаила, стараясь сбросить с себя.
– Мишка, спасайся – Рза-Кули!!!
Отчаянный зов Ибрагима почему-то прозвучал из невообразимой дали. Острое чувство надвигающейся опасности будто удесятерило силы. Чтобы оторвать от себя Гасанку, Михаил дернулся всем корпусом, пытаясь встать на ноги.
Прямо на него, сбычившись, мчался крупный баран. Михаил едва успел подпрыгнуть. Ноги скользнули по крутому бараньему боку… Брызнула глиняная крошка… Баран врезался рогами в стену и завалился на бок.
Михаил бросился к воротам. Но было поздно. Навстречу бежал Рза-Кули, размахивая бараньим поводком – тонкой стальной цепочкой. В его руках она разила не хуже, чем клинок. Из-под низко надвинутой на лоб коричневой папахи пристально смотрели холодные беспощадные глаза. На лице, обрамленном черной скобкой бороды, стыла пугающая улыбка.
Сердце Михаила холодным комочком провалилось куда-то. Все звуки вдруг оборвались. Не слышно было ни грузных скачков Рза-Кули, ни собственного дыхания. От этого происходящее казалось сном. Что мог пятнадцатилетний подросток противопоставить матерому бандиту, о силе которого по Баку ходили легенды? Михаил сам видел, как однажды, гонясь за каким-то бедолагой, Рза-Кули забежал к ним во двор и нечаянным рывком свалил сруб колодца вместе с двухметровым воротом и барабаном из дубового кряжа.
Они встретились на полпути к воротам.
Внезапно к Михаилу пришло расчетливое спокойствие.
Рза-Кули взмахнул цепочкой, но, упредив его на какое-то мгновение, Михаил упал ему под ноги. Бандит тяжело рухнул на утрамбованную землю. Звук был хрясткий, точно уронили мешок с арбузами.
Прежде чем бежать, Михаил, уже из чистого молодечества, пнул Рза-Кули в бок. Яростная ругань понеслась ему вдогонку.
– Давай к тебе, а то поймает, – встретил его у ворот Ибрагим.
Проскочили, в конец улицы, свернули во двор, в подъезде остановились. С минуту было слышно только шумное дыхание. Ибрагим выглянул наружу – за ними никто не гнался.
– Ну, слушай, Миша, ты был, как лев, которого полгода кормили одной кашей! – отдышавшись заговорил Алибек. Огромные глаза его сияли. – Ты рвал и метал этих чудаков, как горный орел, – Алибек патетически вознес руку к потолку, – отбившуюся от стаи голубку!
– Кончай трепаться, – утомленным голосом попросил Ибрагим, ощупывая синяк на скуле.
Алибек грустно вздохнул, и Михаил, превозмогая боль, засмеялся. Собственно, он был доволен собой. Шутки шутками, а вел-то он себя действительно геройски. Свалил с ног самого Рза-Кули, да и Гасанке влепил неплохо.
Алибек вдруг округлил глаза.
– Миша, да на тебе ж полпиджака!
Михаил глянул на себя и обомлел. Бортов у пиджака не было. Их точно бритвой отрезали. Наружу торчали обрывки подкладки.
– Это Гасанка, – сказал Ибрагим. – Нарочно сделал, гад.
– Вредный, сволочь, – сразу посерьезнев, подтвердил Алибек. – Я б такого к стенке – и весь разговор.
Михаил молчал. Подвиги его вмиг потускнели. Пиджак куплен в шестнадцатом году. Теперь на Кубинке за него можно было бы получить фунтов пять баранины, а то и десяток чуреков. Уж лучше б с самого спустили шкуру…
Ибрагим потянул за рукав.
– Ладно, пошли умоемся – у тебя нос в крови.
В центре покрытого киром[3] двора стоял колодезный сруб с воротом. Ибрагим достал ведро воды, слил товарищу. Михаил умылся, подкладкой пиджака насухо вытер лицо, шею. Вернулись в подъезд.
У Ибрагима нашлась махорка, скрутили по цигарке. Курить зашли под лестницу – Михаил опасался, что увидят мать или кто-нибудь из сестер. Об отце и говорить не приходилось – убьет за курево.
– Что будем делать? – спросил Алибек, отважно выпустив дым через нос. – Кафарову в таком виде на глаза не покажешься. Скажет: «Слушай, где ты кур воровал, что тебя всего собаки порвали?»
Михаил уныло пожал плечами. Не. знал он, что делать. Пиджаку карачун – это факт. Главное: что отцу скажешь? Вот не хватало еще заботы. Тут в ЧОН зачисляют, тут борьба с контрреволюцией предстоит не на жизнь, а на смерть – и в такое время надо думать о пиджаке. Отец никаких резонов во внимание не примет. Такой уж человек – только от него и слышишь: «живи, как люди», да «выйди в люди»… Спит и видит, что Михаил на инженера выучится. А он и не помышляет об инженерстве. У него совсем другие планы.
Грохнула входная дверь, кто-то стремительно взлетел вверх по лестнице, на головы приятелей посыпалась труха.
Сверху донеслось:
– Миша дома?
Голос сестры Нади:
– А он куда-то с ребятами ушел. В Дом красной молодежи, что ли…
– Да я оттуда, там его нет.
– Тогда не знаю.
Дверь захлопнулась. Друзей из-под лестницы точно ветром выдуло, забыли даже цигарки побросать.
Со второго этажа спускался белобрысый парень в шинели явно с чужого плеча и в чувяках на босу ногу.
– Ленька! – окликнул Михаил.
Парень едва не кубарем скатился вниз, заговорил торопливо, взахлеб:
– Ишачье! Где вы мотаетесь? Кафаров же спрашивал… Сегодня, говорит, списки… кого в ЧОН… Сформируют отряд, назначат командира… Может, и оружие выдадут…
Алибек сграбастал его за отвороты шинели:
– Брешешь! Что оружие – брешешь!
– Брешет собака на базаре… Идете?
– Идем… – Михаил затравленно оглядел товарищей. – Ребята, погодите, я другой пиджак надену.
Взбежал по лестнице, постучал в дверь. Скомканный пиджак держал под мышкой. Открыла опять сестра Надя – плотная круглолицая девушка семнадцати лет.
– А-а, ты… А тут тебя…
– Знаю, знаю… Мама дома?
– На базаре.
Это облегчало дело. Михаил проскользнул мимо сестры в гостиную, оттуда к себе в «темную» – небольшую, лишенную окон комнату. Сунул пиджак под подушку, на ощупь нашел очки-консервы. Без таких очков трудно было ходить по Баку во время норда – пыль забивала глаза. Тихонько выбрался в прихожую, снял с вешалки пиджак, с которым еще вчера, казалось, расстался навеки и, крикнув «запри!», был таков.
2
Ребята свернули на Цициановскую и прибавили шаг. Ветер теперь дул в спину, подгонял. На мостовой то в одном, то в другом месте внезапно вздымались, закручиваясь, пылевые смерчи и так же внезапно опадали. Панель была аккуратно разлинована отглаженными ветром песчаными валками – свеями. Песок хрустел под ногами. Немногие прохожие, двигавшиеся против ветра, напоминали бурлаков с известной картины Репина – шли, наклонившись вперед, будто волокли за собою непосильной тяжести груз.
Михаил сжимался под пронизывающим нордом, безуспешно стараясь запахнуть кургузый пиджачок, согреть под мышками красные руки, почти по локоть вылезавшие из рукавов. Мозжило нос. Он явно распухал, нарушая естественные пропорции лица.
Свернули на Коммунистическую и почти сразу же вышли на площадь Красной молодежи. С юга площадь ограничивала десятиметровая зубчатая стена Крепости. За нею теснились плосковерхие дома старого города, справа над стенами маячил минарет древнего дворца ширваншахов. Две круглые зубчатые башни, как часовые, стояли по обе стороны широкой арки ворот. Над воротами нависал мощный контрфорс, наводивший на мысль о неприступности стен. Когда-то от ворот начиналась дорога на Шемаху.
Ветер заметал песок под арку ворот. Ребята бегом наискось пересекли площадь и очутились у подъезда невзрачного двухэтажного здания – Дома красной молодежи. Здесь помещался комсомольский клуб. В просторном, вестибюле не было ни души.
Ленька бросил на друзей уничтожающий взгляд.
– Ну вот, из-за вас опоздал. Нашли время мордобитием заниматься.
Между тем всего десять минут назад, когда ему рассказали о драке, он выразил искреннее сожаление, что ему в ней не довелось участвовать. Никто не стал уличать его в противоречии – до того ли!
Заглянули в зал заседаний, где устраивались лекции, диспуты, а иногда и танцы. Пусто. Вернулись в вестибюль. С площадки второго этажа долетели невнятные голоса. Как по команде ринулись наверх.
Нет, не опоздали! Перед дверью так называемой музыкантской комнаты гудела толпа. Работая плечом, Михаил попробовал пробиться поближе к двери. Друзья поспевали за ним. Но какой-то верзила в замасленной кепке не захотел уступить дорогу.
– Ты куда такой шустрый?
– Туда, – горячо выдохнул Михаил.
– Мы все туда.
– Я записывался в ЧОН…
– А остальные – в инвалидную команду?
Кругом засмеялись. Михаил понял – спорить с этим здоровяком бесполезно. Спросил:
– Вызывают или как?
– Пока никак, – скучным голосом отозвался парень.
Другой сосед оказался более словоохотливым.
– Сам Логинов здесь. Будет с каждым бойцом знакомиться.
Дверь музыкантской распахнулась, и на пороге появился высокий человек лет двадцати пяти, в красноармейской гимнастерке. Это был Кафаров – заведующий военным отделом Бакинского комитета комсомола. Он держал перед собою несколько листов бумаги – должно быть списки.
Оглядел собравшихся, улыбнулся, узнавая знакомых. Сказал:
– Кого вызову – заходите.
«Если по алфавиту, то попаду в числе первых», – подумал Михаил и безотчетно попытался продвинуться поближе к двери.
Кафаров заглянул в список:
– Семакин, Гаджиев, Гречкин, Левченко, Джебраилов.
Верзила вдруг рванулся вперед, ощутимо ткнув Михаила локтем в грудь.
Вызывали не по алфавиту. Михаил почувствовал зависть к тем, кто скрылся в кабинете.
– Слушай, а если нас не вызовут?
Черные глаза Алибека лихорадочно блестели, на острых скулах выступил румянец.
– С чего ты взял? – хмуро отозвался Михаил. – Мы комсомольцы. У Ибрушки и Леньки отцы рабочие, у меня – буровой мастер, тоже, считай, рабочий…
– А у меня бывший приказчик.
– Ну и что? Не буржуй ведь.
Вскоре из музыкантской один за другим вышли пятеро вызванных. Посыпались было вопросы, но следом появился Кафаров, и опять наступила напряженная тишина.
– Принятым в часть особого назначения через час собраться внизу, в зале, – объявил Кафаров и опять уткнулся в список. «Сейчас, сейчас меня, – лихорадочно билось в голове Михаила. – Да ну же, ну же – Донцов…» Рубашка прилипла к спине и под коленками противно подрагивало. Кафаров назвал несколько фамилий, среди них Ибрагима и Леньки. Те прошли в кабинет, причем лица у обоих сделались какими-то отрешенными.
Над ухом плачущий голос Алибека:
– Ну, что я говорил?
– Отстань! – свирепо огрызнулся Михаил.
Огляделся. Народу в коридоре было еще много. «Чего я боюсь? Вызовут… Не хуже других… В комсомол же приняли, – и в ЧОН примут».
Когда вышли Ибрагим с Ленькой, метнулся к ним.
– Ну как?
Губы Ибрагима вопреки его стараниям сохранить серьезный вид расползлись до ушей. Хлопнул приятеля по плечу.
– Взяли! Сейчас, наверно, и вас с Алибеком вызовут. – Поколебавшись, сказал: – Знаешь, почему-то про тебя спрашивали: какой человек.
Кафаров начал выкрикивать фамилии. Михаил протиснулся к самой двери, стараясь обратить на себя внимание.
Однако, встретившись с ним глазами, Кафаров никак не дал понять, что помнит о нем. Пропустил в музыкантскую счастливцев, среди которых оказался Алибек, и захлопнул за собой дверь.
Михаил не услышал своей фамилии и в следующий вызов. Вскоре он один остался около заветной двери. Друзья виновато топтались неподалеку, на лестничной площадке. Михаил не смотрел в их сторону. Они так же старательно отводили от него глаза, не желая показать, что понимают его унижение.
«Не доверяют», – вползала в мозг ядовитая мысль и тяжелой обидой наполняла все его существо. – Недаром Ибрушку спрашивали про меня… За что, за что? Войти, сказать: у меня брат – чекист, в особом отделе Одиннадцатой армии… Да разве они не знают?»
Последняя группа принятых в ЧОН покинула кабинет.
«Все. Больше ждать нечего…» Скосил глаза на лестничную площадку. Догадались ребята уйти или нет? Разговаривать с ними теперь было бы пыткой. Перед глазами – сплошной серый туман… Спазма сдавила горло.
Кто-то вышел из кабинета.
– Донцов, зайди! – голос Кафарова.
Михаил стоял, точно пригвожденный к месту. Молчал. Знал: стоит раскрыть рот – и расплачется, как гимназистка.
– Зайди, говорю.
Трудным усилием преодолел спазму. Разлепил рот.
– Я… что ли?
– А кто же еще?.. Э, постой, постой… – Кафаров тронул его за плечо, повернул к свету.
– Что с тобой? Глаза красные, нос – спелый гранат, – заболел, что ли?
– Да нет, здоров я, – испуганно встрепенулся Михаил.
– Ну, давай.
Кафаров втолкнул его в музыкантскую.
В небольшой комнате стоял облезлый канцелярский стол, пяток стульев. У двери на гвоздях – шинель и кожаная куртка. На подоконнике – буденовка и фуражка. За столом сидел рыжеватый парень в помятой гимнастерке – секретарь городского комитета комсомола Логинов. «Спал, видно, в одежде», – подумал Михаил. У секретаря было широкоскулое лицо, и потому бросалась в глаза худоба, втянутые щеки, костистый, разделенный пополам подбородок.
– Садись, Донцов, – секретарь кивнул на ближайший стул.
Михаил сел.
Логинов придвинул к себе стопку каких-то документов, должно быть личные дела комсомольцев, полистал их, поднял на посетителя светлые глаза.
– Учишься?
– В высшем начальном училище, – с готовностью подтвердил Михаил.
– В высшем начальном, – задумчиво повторил секретарь. – А как со здоровьем? Силенка есть?
Михаил скромно потупился:
– Не жалуюсь.
Кафаров, сидевший сбоку от стола, потянулся за кисетом, искоса нацелил на Михаила смеющиеся глаза.
– Слышь, Донцов, а что у тебя все-таки с носом? Ударил кто?
Михаил насупленно молчал. И чего придирается? Если и ударили, так теперь из-за этого в ЧОНе нельзя состоять?
– Дрался? – в упор спросил секретарь.
– Ну, дрался! – Михаил задиристо вскинул голову. – А что? Нельзя? Пусть всякий контрик тебе на глотку наступает?..
– Какой контрик?
– Да хоть Гасанка Нуралиев.
– Это не сын ли бывшего нефтепромышленника?
– Ну да. Такой гад… – «…отцовский пиджак на мне порвал», – чуть было не сказал Михаил.
– Из-за чего же у вас? – полюбопытствовал Кафаров.
– Он на комсомольцев зуб имеет. Драка была идейная.
– Ах, вон как! Тогда совсем паршиво.
– Почему?
– Да потому, что он же тебе и вложил.
Михаил от возмущения даже привстал со стула:
– Он?! Мне?! Видели бы вы, как я… – «бросил на землю Рза-Кули», – хотел он сказать, но промолчал – это было бы хвастовством.
– А нос-то, – весело напомнил Кафаров.
Михаил помрачнел и отвернулся: «Дался ему мой нос…»
– Да ты не сердись, – подобрел Кафаров. – Попало – ничего, заживет. Важно, чтобы понял: голыми руками контрреволюцию не задавишь.
Михаил посмотрел на свои оббитые, в ссадинах, пальцы, согласно кивнул.
– Вот мы и решили, – серьезно заговорил Логинов, – что полезно будет тебе пройти еще одно училище, тоже высшее, только не начальное, а окончательное. Хочешь работать в Чека?
Если бы перед Донцовым появился вдруг всесильный сказочный волшебник и предложил выполнить любое желание, Михаил не раздумывая попросил бы: «Сделай меня чекистом». Поэтому слова секретаря он воспринял, как чудо. В первое мгновение просто не поверил своим ушам. По мере того как сказанное доходило до его сознания, восторг, жгучий, невозможный, праздничный, почти нереальный, затоплял его сердце. Кровь тугим горячим потоком ударила в лицо, выдавила слезы. Михаил встал… сел… опять встал…
– Товарищи!.. – Прижал к груди скомканную кепку. – Я всегда… Я… хоть сейчас… Я готов…
Его порыв тронул Логинова. Он вылез из-за стола, шагнул к Михаилу, легонько тряхнул за плечи.
– Ну вот и хорошо. Да ты не волнуйся… Мы ж тебя знаем. И Василия Егоровича, брата твоего, знаем… Семнадцать-то тебе исполнилось?
Михаил почувствовал себя так, словно из парной его выбросили на мороз. Конец! Сейчас узнают, что ему только пятнадцать, и посмеются: «Что ж ты нам голову морочил? Иди пока, дерись со своим Гасанкой…»
– Ис… полнилось, – трудно ворочая сухим языком, проговорил Михаил.
– Ну что ж, приходи завтра к Кафарову в горком. Только пока никому ни слова. Разве что родителям. Сам понимаешь, куда тебя посылаем. Работай на страх врагам. Да и паек получишь. Семья-то большая?
Михаил моргал, не понимая. О пайке оп вовсе не думал. Какой уж паек?! Он готов был с себя последнюю рубашку отдать, только бы приняли в Чека.
– Будем надеяться, не подведешь. Как сам-то считаешь?
Голос изменил Михаилу.
Вместо твердой, гремящей металлом фразы «Не подведу», из глотки его вырвался жалкий хрип.
– Ну, двигай, – сказал секретарь горкома, понимающе жмуря глаза.
3
В коридоре Михаила обступили друзья.
– Как дела? Слушай, как дела! – нетерпеливо дергал за рукав Алибек. – С нами?
– А то как?
– Асса! – Алибек встал да носки и, скорчив свирепую физиономию, прошелся в лезгинке: – Ай, какие мы джигиты! Ай, какие молодцы мы! Пошли в зал, товарищи бойцы! Смерть мировому капиталу!
Со смехом и шутками спустились в вестибюль. Здесь Михаил отстал от друзей. Он не имел права поделиться с ними своей радостью, и, наверное, поэтому захотелось побыть одному, обдумать неожиданный поворот в жизни.
Вышел на улицу, глубоко натянул кепку. Ветер заметно утихомирился. Солнце стояло низко на западе, и длинные тени до половины закрывали площадь. Михаил прошел вдоль крепостной стены и свернул направо.
Улица подобно дельте реки делилась на два рукава. Левый – Ольгинская, правый – Михайловская. Между ними тупым клином встал двухэтажный дом, похожий на стрелку острова или на корабль. В детстве Михаил любил бывать здесь с матерью. Нижние этажи сплошь заняты мелкими лавчонками с раздвижными, всегда гостеприимно распахнутыми дверцами. За эти дверцы их так и называли – растворы. Над витринами тянулись белые тенты. Какими только сластями не торговали в растворах… И рахат-лукумом, и халвой, и финиками, и душистым лимонадом. А самое главное – обе улицы выводили к морю. Сейчас магазины закрыты и улицы пустынны. Михаил вышел на набережную, пересек бульвар, остановился у каменного парапета. Лицо окропило холодными брызгами. Одна за другой набегали волны, с грохотом разбивались о пирс. Справа и слева темнели пустые причалы на деревянных решетчатых сваях. А когда-то здесь дымили пароходы и свай не было видно за их бортами.
Михаил взглянул на город. Прямо перед ним, господствуя над приморской частью Крепости, вздымалась огромным цилиндром сорокаметровая Девичья башня. От нее по всей высоте отходила в виде отростка недлинная стена, назначения которой никто не знал.
За башней вверх по горе уступами взбегали дома с плоскими крышами. Издали казалось, будто они стоят друг на дружке.
Сколько народу живет в Баку? В школе учитель географии говорил: больше двухсот тысяч. Сколько же среди них врагов Советской власти? И как он их будет искать среди этакой прорвы людей? А как быть с родителями? Логинов разрешил сказать им о поступлении на работу в Чека. Мог бы и не разрешать: все равно придется от них скрыть. Иначе жизнь пойдет прахом. Отец не позволит бросить школу.
Солнце зашло. Алые блики легли на маслянистые бока волн. Пенные гребни отливали розовым, точно светились изнутри. Холод пробирал до костей. Михаил повернул домой. Отец, наверное, явился с работы, выражает неудовольствие: куда Мишка делся? Требует, чтобы вся семья была в сборе, когда он дома. Прямо самодержец какой-то. А тут еще с пиджаком морока… Отец не сегодня, так завтра узнает.
Предчувствия не обманули.
Отец, среднего роста плотный старик шестидесяти лет с густыми пшеничными усами и глазами яркой голубизны, увидев Михаила в дверях, тотчас скрылся в «темной». По укоризненным взглядам сестер, по тому, как мать, прислонившись к изразцовой печке и сложив на животе руки, тихонько вздыхала, Михаил понял – порванная обновка обнаружена. Отец вернулся темнее тучи. В руках – злосчастный пиджак. Он ухватил его пальцами за плечи и легонько встряхнул перед собою, как приказчик в магазине готового платья.
– Это что?
Вопрос был задан явно для запала, и Михаил счел за благо промолчать.
– Я тебя спрашиваю или нет? Где ты испоганил пиджак?
– Дрался, – виновато опустил голову Михаил.
– Та-ак… Я работаю, сестры хребты гнут, чтоб только его, сук-киного сына, выучить, как путного… Последнее ему отдаем, чтоб не хуже людей, не голодранцем ходил, а он – на-ко тебе – дрался… Ему наплевать, – отец возвысил голос, ожесточенно тряхнул пиджаком и швырнул на пол, – ему наплевать, что от семьи, почитай, фунтов пять хлеба псу под хвост! Кто тебя ободрал?! Ну?! Опять с этими босяками из притона связался?!
– Да.
Ни слова больше не говоря, отец схватил висевший на гвозде у окна ремень.
Михаил выскочил в прихожую.
– Стой, башибузук!
Боль обожгла ухо, полосою прошла по спине. Доставалось Михаилу от отца и раньше, но тогда было больно, и только. Сейчас он не испытывал страха перед физической болью. Иное чувство поднялось в нем. Он вдруг осознал себя взрослым и не мог допустить, чтобы его выпороли, как мальчишку. Схватился за ремень.
– Папа, не надо! Папа, не имеешь права, я…
«Я чекист», – едва не вырвалось у него.
Отец дернул ремень к себе.
– Что?! Я т-те…
Михаил прыгнул к входной двери, повернул ключ, очутился на площадке, ничего не видя в темноте, сбежал с лестницы. Долетел отчаянный крик матери:
– Миша, верни-ись! Миша-а!..
Он не остановился.
«Ничего, пусть, пусть, – стучало в мозгу, – пусть они узнают, пусть узнают». Что именно «они» должны узнать – в этом он не отдавал себе отчета, так же как и в том, куда он, собственно, идет. Фонари на улице еще не зажигались, было темно, лишь кое-где падали на панель полоски света из окон. Ветер утих и в спокойном воздухе звуки доносились издалека. Поравнявшись с лавкой Мешеди Аббаса, Михаил услышал за дверью грубую ругань. Голос, хриплый, напористый, принадлежал Рза-Кули. Встреча с ним на пустынной улице после всего, что произошло днем, могла бы плохо кончиться. Но Михаилу и в голову не пришло поостеречься. Напротив, он хотел столкновения, жестокой битвы, в которой израсходовался бы камнем осевший в груди заряд досады, обиды, злости. А еще лучше, если бы его убили (ну, не совсем, а так…) Это заставило бы отца горько пожалеть о содеянном.
Михаил пересек Цициановскую, миновал еще квартал и свернул на Воронцовскую. Опомнился только перед бывшим домом Лаврухина – двухэтажным, не считая полуподвала, зданием в стиле ампир. Фасад украшали высокие зеркальные окна. Когда-то весь первый этаж занимал сам Лаврухин. Прошлым летом, после муниципализации недвижимости, его уплотнили. Теперь вместе с дочерью Зиной он помещался в двух угловых комнатах. Окна их были черны. Только в полуподвале светились два маленьких квадратных окошка. Там жила старшая, замужняя сестра Михаила – Анна. Еще покидая дом, Михаил знал, что пойдет к сестре. Здесь его встречали радушно и понимали лучше, чем в семье. Подумал: «Переночую, а там видно будет». Через калитку прошел во двор, опираясь о стену, спустился по неровным кирпичным ступенькам. Нащупал шершавую от облупившейся краски дверь, постучал.
Открыл Ванюша – муж сестры. В лицо пахнуло теплом, кислым запахом детских пеленок.
– Здорово живешь, родственник, – приглушенно сказал Ванюша, отступая в глубь темной прихожей и пропуская Михаила. – Тише, Аня ребят укладывает.
Лицо Ванюши скрадывала темень, но в голосе его угадывалась улыбка. Знакомая мягкая, доброжелательная улыбка, которую все так любили в семье Донцовых. Михаил почувствовал: надрыв его слабеет, рассасывается тяжесть на сердце. Он воспринял это как должное, потому что заранее знал: именно так и будет, стоит ему переступить порог сестриного дома.
– Заходи, чего стал? – шепнул Ванюша и легонько толкнул в спину.
Михаил оказался в чистой, оклеенной зеленоватыми обоями комнате с низким сводчатым потолком («как в церкви», – шутил Ванюша).
Все здесь было устроено так же и расположено на тех же местах, что и у Донцовых. И венские стулья стояли точно такие же. Один из них Михаил помнил с детских лет. Когда-то он надевал его на шею и палками выбивал из фанерного сиденья барабанную дробь. Стул и по сей день сохранял следы от палочных ударов.
На комоде на белой вышитой скатерке лежал толстый в тисненой обложке альбом с фотографиями.
Года четыре назад этот альбом составлял предмет гордости Анны. Его подарила на новоселье дочь домохозяина Зина, тогда еще девочка. Подарила вместе с фотокарточкой, на которой была запечатлена она сама рядом со своим братом, геройским офицером – вся грудь в крестах, – прибывшим на побывку по ранению. Всякий раз, явившись к сестре, Михаил непременно просматривал альбом. Собственно, интересовало его лишь изображение Зины на пятом листе, на остальных фотографиях он задерживал внимание для отвода глаз.
Но сейчас было не до альбома.
Михаил опустился на диван. Напротив, за перегородкой, другая комната, служившая спальней. А за капитальной стеной, к которой примыкал диван, – нежилое помещение. Раньше там помещался хозяйский погреб. За перегородкой слышался голос Анны:
- Баю, баю, баю-бай —
- Приходил дедок Вавай…
Ванюша постоял перед Михаилом, потом уселся напротив. Положил руки на колени, причем левую передвигал с заметным усилием. Был он в два раза старше Михаила, а выглядел чуть ли не ровесником. Молодили его белокурые вьющиеся волосы, чистое лицо с гладким высоким лбом, ясные серые глаза. Невысокий, неширокий в плечах, он благодаря пропорциональному сложению казался рослым и сильным. Под черной рубашкой угадывалась выпуклая грудь.
В семье Донцовых мужа Анны, деповского слесаря Ивана Касьяновича Завьялова, все, от мала до велика, именовали попросту Ванюшей. Причиной тому были и его мальчишеская наружность, и добрый, веселый нрав, унаследованный от отца – астраханского грузчика.
– Давненько не виделись, – сказал Ванюша. – Я третьего дня забегал к старикам, да тебя не застал. – И, оглянувшись на перегородку, повеселел: – Погоди, сейчас Аня управится, ужинать сядем… А то, погляжу, чтой-то ты нынче квёлый.
Михаил сидел, уставившись в пол, вертел в руках кепку.
– Ванюш, можно у вас переночевать?
– Ночуй. А что на Сураханской – пожар, что ли?
– Я из дому ушел.
– Это в каком смысле?
– С отцом поссорился. Из-за пиджака.
Михаил коротко поведал историю с пиджаком, нехотя упомянул о драке во дворе караван-сарая. Как ни хорошо он знал Ванюшу, реакция зятя оказалась совершенно неожиданной. Вскочил, хлопнул Михаила по плечу.
– За что это тут моего братца нахваливают? – певуче проговорила Анна, появляясь из-за перегородки. Из всех сестер Анна казалась Михаилу самой красивой. У нее все было крупно: и стан, и лицо, и губы, и глаза. Слегка вьющиеся пепельные волосы, туго затянутые на затылке в тяжелый пучок, казались слишком густыми.
Михаилу пришлось повторить все сначала. На сестру его рассказ произвел совсем другое впечатление.
– Батюшки! – ахнула она. – Час от часу не легче! Да ты о матери-то подумал, дубовая твоя голова?! Ведь она сейчас места себе не находит. Сказал хоть, куда идешь-то?
– Нет.
– И он еще тут рассиживается… Ты тоже хорош! – сокрушенно покачала она головой, обернувшись к мужу. – Вместо того чтобы на путь наставить мальчишку, он его хвалить взялся. Господи! – она села к столу и бессильно уронила на колени руки. – Видно, все мужики на одну колодку – хуже малых ребят. Слышь, Михаил, сейчас же иди домой…
– Погоди, погоди, Анюта, – Ванюша встал между сестрой и братом. – Его тоже надо понять. Крут твой папаша не в меру – это уж и говорить нечего. Пиджак ему весь свет застит. А я так скажу: молодец, Мишка, что не спасовал перед бандюгами… А пиджак – не живая душа, можно другой купить…
– Купил один такой! – в голосе Анны послышались сварливые нотки – дань мгновенному раздражению. – Ты вон сунулся, куда не следовало, – теперь ходишь инвалидом. Купи другую-то руку, приставь!..
– Молодец, парень! Ей-богу, молодец! Самого Рза-Кули с ног долой! Правильно, так и надо. Милиция-то наша, да и Чека не больно их беспокоят. А бандитам нельзя спуску давать – на голову сядут. Всем народом надо навалиться…
– Аня, ты это… ты давай меня ругай… Обо мне речь… Что ты за него взялась, он не виноват…
Анна выслушала Михаила с тем смешливым удивлением, какое у взрослых вызывают речи не но годам развитого ребенка. И вдруг, запрокинув голову, расхохоталась.
– Нашелся защитник… Ой, господи!.. Ну как есть ребята малые… Это ж надо…
Ванюша, смеясь, обнял Михаила.
– Ну, брат, вдвоем нас голыми руками не возьмешь – не дадимся.
– Да нет, на самом деле, – не сумев сдержать улыбку, заговорил Михаил, – чего она на тебя-то?
– А ты как думал? – Ванюша весело подмигнул жене, – Учить-то нашего брата надо? Ведь это пока холостой, полагаешь – умней тебя на свете нет, а женишься – враз докажут, что ты круглый дурак…
– Смотрите-ка, разговорился… Лучше бы подумал, как с этим чертоломом быть.
В тоне Анны не слышалось уже прежней строгости, а взгляд, которым она наградила мужа, свидетельствовал о полном примирении.
– Да как быть? – Ванюша искоса оглядел Михаила, будто оценивая. – Коли уж парень взбунтовался, пусть у нас переночует. Собери ему поужинать, а я пока слетаю на Сураханскую, мать успокою.
Михаилу постелили на диване. Заснул он мгновенно, лишь голову донос до подушки. Когда вернулся Ванюша, не слышал.
4
Егор Васильевич Донцов всю ночь ворочался, думал о детях. Не спала и жена его, Настасья Корнеевна. Раза два пыталась заговорить с мужем, но Егор Васильевич притворился спящим. Что ей скажешь? Сам будто в темном лесу, что к чему – не ведаешь. С дочерьми куда легче. А парни, – словно им шлея под хвост попала, – пули отливают один другого хлеще.
Был Егор Васильевич человеком строгих правил и от детей требовал безоговорочного послушания.
Происходил он из крестьян Тамбовской губернии. В Баку попал еще мальчишкой вместе с родителями, недавними крепостными князя Юсупова.
Жизнь не очень-то баловала Егора Васильевича, но, блюдя родительские заветы, бога помнил и всем, чего достиг, был обязан только себе, своей честности и прилежанию. Четырнадцатилетним мальчонкой привели его на промыслы – помогал катать бочки с нефтью. Призываться на цареву службу ездил в родную деревню Колодную, там под одно уж и женился на сироте.
Довелось Егору Васильевичу бедовать и в промозглых землянках и в гнилых бараках. Выпадали годы, когда, кроме пустой похлебки да пресных лепешек, никакой другой еды на столе не видел.
Из тринадцати детей, которых родила ему Настасья Корнеевна, выжило всего шестеро: два сына да четыре дочери. Михаил был последышем.
К тому времени, когда он родился, Егор Васильевич ходил в буровых мастерах и получал по тогдашним представлениям хорошее жалованье.
Из рабочего поселка Сабунчи перевез семью в город.
На Сураханской улице в доме фабриканта Лаврухина снял квартиру из трех комнат. Квартира была из самых дешевых, одна комната вовсе не имела окон, но Егор Васильевич души не чаял в новом жилье, – слава богу, не барачный закуток. А окон нет, так зачем они при электричестве? Щелкнул выключателем – светлей, чем на улице днем. По случаю купил обстановку: шкаф, комод, венские стулья, зеркало, никелированную кровать… Мебель была хоть и подержанная, но еще годилась. Двух старших дочерей выдал замуж. Анну – за деповского слесаря Ванюшку Завьялова, Марью – за телеграфиста Дрозденку со станции Баладжары. Зятья попались уважительные, в меру пьющие. Кое-какое приданое получили за женами. Не хуже, чем у людей.
Ванюшка Завьялов, любимый зять, с молодой женой устроился в полуподвале другого лаврухинского дома – на Воронцовской. Хлопотами насчет квартиры для молодых опять-таки занимался Егор Васильевич. А то разве бы поселил хозяин под собою невесть кого?
Старший сын, Василий, четыре зимы ходил в начальное городское училище. Потом Егор Васильевич взял его к себе на промысел. Думал «вывести в люди», то есть сделать из него бурового мастера.
Младшему уготована была совсем иная судьба. Егор Васильевич определил Михаила в гимназию, в младший класс. Утром в первый день занятий, увидев сына в полной гимназической форме с начищенными пуговицами, Егор Васильевич сказал, как отрезал: «Быть тебе инженером».
Нравилось старому мастеру, что жизнь его домочадцев заранее определена, поставлена на линию. И главным своим долгом он почитал утвердить их на этой линии, не дать свернуть. В молодости, да и в зрелом возрасте, он довольно натерпелся от всяких превратностей судьбы и теперь старался оградить от них детей.
Жизнь, однако, распорядилась вопреки его воле.
После февральской революции вдруг узнал: старший сын – большевик. О том, чтобы выйти в мастера, Василию и помышлять теперь нечего было. Какой же дурак-хозяин согласится поставить большевика на такую должность? Поставь-ка, он те намитингует!
В апреле двадцатого года, когда рабочие Баку восстали против муссаватистов, любимый зять, тишайший Ванюшка Завьялов, оказался в рабочей дружине, шел чуть ли не в первых рядах, палил почем зря из винтовки, будто и не было у него на руках жены да троих ребят-малолеток. Вот и схлопотал, стервец, пулю. Рукой-то как следует не владеет. А какой ты слесарь без руки? Какой кормилец? Только на паперти сидеть и годишься.
Но более всего обидным Егору Васильевичу казалось то, что ни сына, ни зятя он как следует не знал. Ну, зять – ладно… А сын? С малых лет наставлял сына Егор Васильевич, и было совершенно непонятно, когда, в какой день тот перестал доверять отцу, его здравому смыслу. Уж чего-чего, а здравого-то смысла у Егора Васильевича на десятерых достанет. Кулаками вколачивали. И вколотили. Первое дело: с сильным не дерись, с богатым не судись. Второе: сладкого куска не чурайся, в дом неси, живи не хуже людей. Кажись, простая наука. Ан нет. У детей все получалось наоборот.
Взять младшего, Мишку. Сколько стараний приложил Егор Васильевич, чтобы устроить парня в гимназию! Сколько порогов обил! Не обошлось и без «барашка в бумажке». Устроил. В первую мужскую имени Александра III гимназию. В ту самую, которую кончил сын Милия Ксенофонтовича Лаврухина. В классе выпало сидеть чуть ли не за одной партой с Гасаном, сынком самого господина Нуралиева. И что же? На третий или на четвертый день приходит, стервец, с занятий часа на три позже. И под глазом синяк, словно у галаха с Каменной пристани. Егор Васильевич, натурально, учиняет допрос: «Рассказывай-де про свои художества». – «Был оставлен без обеда». – «То-то славно. За какие поступки?» – «Дрался». – «Очень великолепно. С кем же лупцоваться изволили?» – «С Гасанкой». – «С каким Гасанкой? Уж не господина ли Нуралиева?!» Хоть стой, хоть падай! Какова же картина открывается? На перемене тот Гасанка повалил Мишку, сел на него верхом да и говорит: «Потому как мой папаша над твоим хозяин, то, стало быть, и я над тобой в полном праве. Вези, куда прикажу».
Мишка его сбросил да по уху, да по другому. Горяч, дьявол, весь в деда. Тут надзиратель – цоп раба божия… Гасанка на пролетке домой укатил, а Мишку – без обеда.
Конечно, Гасанка – мальчишка-дрянь, да ведь за ним сила. Что он там отцу наговорил – кто его знает, только приехал господин Нуралиев однажды на буровую и будто ненароком: «Ты, мол, Егор, укороти свого байстрюка, добрым людям прохода не дает». Что тут ответствовать будешь – знай шапку ломай.
Попробовал Егор Васильевич все дело, как оно выписывается, сыну растолковать. Куда там! Волком смотрит: «Еще пуще Гасанке навтыкаю, коли сунется». Хитрости у парня нету, все напролом норовит.
Старший сын, Василий, тоже задал Егору Васильевичу задачку. В восемнадцатом году, когда Баку заняли англичане, ушел с отрядом красногвардейцев. Полтора года не было о нем ни слуху ни духу. Мать каждое утро спозаранку клала по сорок поклонов перед образом богородицы, молила «сохранить и помиловать». Знать, дошли ее молитвы. Прошлой весной заняла город Одиннадцатая Красная армия. Дело было утром, а под вечер заявился домой и Василий. Вид геройский: черная кожанка, перекрещенная ремнями, солдатская фуражка со звездой, на одном боку – наган, на другом – шашка и полевая сумка. А правую щеку от подбородка до уха просекает багровый рубец.
Переполох поднялся – дым коромыслом. Мать плачет, Егор Васильевич сияет, сестры ахают. Мишка, словно дитя малое, скачет вокруг, то за кобуру хватается, то за шашку.
За столом сидели допоздна. Василий амуницию снял, надел синюю сатиновую косоворотку – мать сохранила в укладке. Бутылку николаевки распили – честь по чести. О себе Василий рассказывал скупо. Служил в Царицыне в Чека. Потом попал в конный корпус Буденного. Щеку ему развалил шашкой казачий сотник, как брали Касторную. После взятия Ростова опять стал работать в Чека. Теперь состоит в особом отделе Одиннадцатой армии.
Что такое особый отдел, Егор Васильевич не знал, но смекнул: раз «особый», значит, не тяп-ляп – дело важное, и кое-кого к нему не приставят. Спросил с осторожностью:
– А что, Василь Егорыч (упустить отчество посчитал неудобным), ежели по-старому, в каком ты теперь чине? Вроде генерала, надо полагать.
– Не знаю, не интересовался, – ответил Василий, – может, и так.
– Ну да, ну да, дело военное, – туманно заметил Егор Васильевич. – Оно и то сказать: в двадцать шесть годов на такую должность выйти, тоже не каждому дано. Хорошо вот ты донцовского корня… А другой бы… – Егор Васильевич безнадежно махнул рукой, наполнил рюмки и заговорил с воодушевлением:
– Ты одно знай: нас, Донцовых, по какой части ни пусти, мы свою лихость окажем. Взять меня… Из последней мелюзги, из откатчиков, в буровые мастера шагнул… Когда поженились с твоей матерью, всего добра у нас было – одеяло из лоскуточков. Вон сколь своим горбом нажил. Дети не разуты, не раздеты… – Он огляделся, разыскивая глазами что-то. – Погоди, а где твой багаж? У чужих людей оставил? Ты привези всё, сохранней будет.
– Какой багаж? – не понял Василий.
– Как это «какой»? Вещи.
Василий глазами указал на диван, где лежала амуниция.
– Тут все мои вещи. Других не имею.
Да сказал-то как: спокойно, с полным своим удовольствием, будто так и надо.
– Вот те и енерал, – не без злорадства внушал Егор Васильевич жене, лежа в постели. – При такой должности лишних порток не нажил. А? Людям скажи – не поверят.
– Да вроде у него и штаны крепкие и тужурка, – неуверенно попробовала возразить Настасья Корнеевна.
– «Крепкие»… Разве в том дело? А доведись жениться? Под тужурку жену-то молодую примет? Мы хоть и плохоньким, а все одеялом укрывались. Да и кем я тогда был, вспомни-ка? А этот при большой должности…
Василий утром думал было навестить Ванюшку. Тот лежал в больнице с простреленной рукой. Но чуть свет прискакал нарочный, и Василий быстро облачился в свою амуницию.
– Куда ты в этаку рань? Погоди, поесть соберу, – всполошилась Настасья Корнеевна.
– Не могу, мама, товарищ Киров вызывает.
С тем и убежал.
Две недели прожил Василий в отчем доме. Ночевал не каждую ночь. Стелили ему в «темной», вместе с Мишкой. Перед сном братья подолгу разговаривали. Подойдет Егор Васильевич к двери, только и слышит: бу-бу-бу… О чем они там беседовали – неизвестно. Василий уехал в Грузию, а Мишка вскоре объявил, что вступил в комсомол. Егор Васильевич встревожился – опять фокусы. Спасибо, зять Ванюшка растолковал ему: комсомол – это коммунистический союз молодежи, ничего вредного в нем нет, а совсем напротив. Будто бы даже сам Ленин его и организовал. К Ленину Егор Васильевич относился с уважением и перечить сыну не стал. Верно, с той поры Мишка вроде посмирнел, в училище ходил с охотой. Слова всякие насобачился заворачивать – натощак и не выговоришь: экспроприация, эксплуатация, эмиграция. Про политику возьмется рассуждать что твой министр, отец только зенками хлопай. Дочь Катюша – девке двадцатый год, замуж сбирается – заикнулась было насчет приданого: платье, мол, там с оборками справить, то да се, Мишка ей сейчас: «Это-де мещанство и затхлость быта». Тут уж у Егора Васильевича терпенье лопнуло: «Я т-те покажу тухлость! Ума не нажил, а туда же, паршивец… Что ей, голой прикажешь ходить? Брысь!..»
Дальше-больше – новое дело придумал. «Иконы, – говорит, – надобно снять, потому что бога нет, а вместо него один опиум и дурман». Не догляди, так бы и содрал иконы. Спасибо, зять Ванюшка урезонил, он хоть и недалеко от Мишки ушел, а все поумней.
Ну ладно, пусть бы себе словами тешился, рассуждал про эксплуатацию, покуда отец в силе, да учился как следует. Нет, вовсе от рук отбился. Вон уж до чего дошел – в разбойничьем притоне в драку встрял, новый пиджак дня не проносил, вдрызг разделал. Разве поступают так добрые дети? Теперь к Ванюшке убег. Тот тоже хороша ягода. Явился вечор и пошел: ругать, мол, Мишку не за что, не с кем-нибудь, а с бандитами схватился, значит, парень и телом и духом силен – радоваться надо. Ему что, Ванюшке? Не на его кровные пиджак-то куплен. Вот и радуется: телом да духом… А Егору Васильевичу от духа одна поруха… Ведь ежели бы на Кубинку снести… Нет, каков сахар?! Отец уж и поучить не смей… Ну-у, дела-а…
Светало, когда старый мастер заснул.
5
Вчера свирепствовал холодный норд, а нынешнее утро обещало день теплый, по-настоящему весенний.
Синеватая полоса тени пересекала двор до самого крыльца и напоминала ковровую дорожку. В тени суетились дикие голуби, торопливо стучали клювами по твердому киру. Зина стояла на крыльце, кидала им хлебные крошки. На ней было короткое светлое пальто, и, озаренная ярким утренним солнцем, она напоминала то ли снегурочку, то ли добрую фею. Михаил увидел ее сразу, как только вышел во двор. Кровь неожиданно и бурно прилила к лицу, усугубив чувство неловкости.
– Здравствуй, – сказал он и оглянулся на вход в полуподвал – появление сестры или Ванюши в эту минуту было бы очень некстати.
Девушка степенно ответила на его приветствие и засмеялась, показав два ряда ровных, как зерна в кукурузном початке, зубов:
– Смотри, вон тот, растрепанный, – прожорлив, как Гаргантюа!
Михаил не знал, кто такой Гаргантюа, однако счел уместным поощрительно улыбнуться белому с серой головкой, растрепанному и верно до последней степени оголодавшему голубю, который, раскидав своих товарищей, хватал самые крупные куски.
– Он каждое утро ко мне прилетает, – продолжала Зина. – Я даже имя ему придумала – Бедуин. Правда, он похож на бедуина?
Михаил согласно кивнул. Возможно, и впрямь эта растрепанная, осатаневшая от жадности птица похожа на бедуина. Важно совсем другое. Вот она, Зина… Он слышал ее голос, видел ее ярко-синие глаза, нежный овал подбородка, полные, четко обрисованные губы – всю ее, легкую, тонкую, воздушную. Он испытывал от этого огромную радость и немного завидовал жалкому уроду, получившему романтическое прозвище – Бедуин. Эта бестолковая птица каждое утро видит ее, вот такую, оживленную, озаренную солнцем… «Я могу сделать ради тебя все, что пожелаешь», – мысленно вдруг обратился Михаил к девушке на крыльце и почувствовал, как от сладкого ужаса похолодели щеки. Показалось: она услышала его тайную мысль, потому что посмотрела на него пристально.
– А почему ты в такую рань пришел к сестре? – спросила она.
– Я ночевал здесь. Поссорился с отцом и ушел из дому.
За секунду перед тем Михаил не знал, что ответит именно так. Ведь это неправда. Ванюша объявил, что все улажено, он может идти домой и ничего не опасаться. Слова вылетели сами собою. Но – странное дело: после того как они были произнесены, он ощутил уверенность в себе и даже некоторое превосходство над собеседницей. Кургузый пиджачок, из рукавов которого едва не по локти высовывались руки, не казался ему теперь столь безобразным – изгою приличествовала именно такая одежда.
– Зинуша! – долетел из недр дома густой мужской голос.
Девушка шагнула к двери, помедлила, сказала негромко.
– Подожди меня, проводишь до училища.
В полной растерянности Михаил остался стоять посередине двора. Проводить ее до училища – такой удачи он не ожидал.
Впервые Михаил увидел ее в мае семнадцатого года. И тоже на крыльце. Только не на этом, а на том, на парадном, что выходит на улицу. И была она не одна. Рядом стоял блестящий поручик с тремя георгиевскими крестами на груди, в белых лайковых перчатках и в щегольски мятой фуражке, как принято у боевых офицеров. В зубах он держал папиросу и опирался на сучковатую полированную палку.
Они фотографировались. Фотограф – кудрявый толстенький человек в клетчатых брюках – установил на тротуаре коричневый ящик на треноге и, приникнув к нему, накинул на голову черное покрывало.
Поручика Михаил знал. О нем говорила вся гимназия. Бывший ее воспитанник Александр Лаврухин, ныне герой войны, приехал после ранения в отпуск. Имя его, окруженное романтическим ореолом, гимназисты произносили с благоговением. В четырнадцатом году Александр Лаврухин со второго курса Киевского университета ушел на фронт вольноопределяющимся. Трижды пролил кровь за святую Русь. И благодарное отечество достойно наградило героя…
Самые горячие почитатели из гимназистов добыли сучковатые палки и чуть прихрамывали, в точности копируя походку своего кумира. Иные, в их числе и Михаил, твердо решили бежать на фронт и подобно Лаврухину стать на стезю славы. Такая перспектива казалась тем более заманчивой, что, по слухам, у поручика имелась сестра Зина – девочка необыкновенной красоты. Естественно, она не сможет остаться равнодушной к герою. Налицо были все условия, питавшие со времен трубадуров и миннезингеров истинно рыцарское воображение.
В тот воскресный день Михаил впервые пришел навестить сестру (она его баловала сластями), недавно вместе с мужем переехавшую в лаврухинский дом. Появление на крыльце двенадцатилетней девочки с нежным лицом и огромными синими глазами и ее брата героя ошеломило Михаила. В этой картине было что-то до неправдоподобия прекрасно. Прекрасное, как в книгах. Как «Всадник без головы», как «Белый вождь», как «Оцеола, вождь сименолов». Не удивительно, что все прохожие замедляли шаги и оборачивались на эту пару. А Михаил, будто пригвожденный, стоял на противоположной стороне и смотрел, смотрел… Зина, одетая в скромное гимназическое платье, по-видимому, гордилась своей родственной близостью с блестящим офицером. Она поминутно заглядывала снизу вверх ему в лицо, что-то щебетала с улыбкой и затем, не желая показать, что ее интересует произведенное ею и братом впечатление, бросала вокруг деланно рассеянные взгляды. Возможно, она заметила неотрывно глазевшего на нее с противоположной стороны гимназиста и ее игра предназначалась именно для него.
– Внимание! – сказал фотограф и поднял руку.
Поручик что-то с улыбкой шепнул девочке, и она перестала вертеть головой.
– Готово!
Фотограф сложил треногу, поклонился поручику.
Зина благодарно кивнула в ответ. Именно это фото и оказалось впоследствии в альбоме, подаренном Анне.
Офицер махнул перчаткой.
Из ворот выехала лакированная коляска, остановилась у крыльца. Серый в яблоках жеребец нетерпеливо мотал головой, позванивая трензелями. Офицер подсадил в коляску сестру, ловко опершись на палку, уселся рядом. Зина мельком оглянулась на гимназиста, и Михаилу почудилась легкая улыбка, предназначенная ему. Кучер тряхнул ременными вожжами, лошадь непринужденной рысцою понесла коляску в сторону центра, мимо Парапета – так назывался круглый сквер, и звонкий цокот копыт затерялся в шуме улиц. Целую неделю после той встречи Михаил ходил как в тумане. Он видел себя на сером в яблоках жеребце во главе мчащейся во весь опор на врага кавалерийской лавы. На голове чудом держалась такая же мятая фуражка, как у поручика Лаврухина, а в зубах такая же папироса. И где-то, скорее всего в его душе, гремел оркестр.
- Так громче, музыка-а,
- Играй победу…
И в последний момент, когда разбитые германские полчища обращались в позорное бегство, он, раненный пулей навылет (это так геройски звучало – навылет!), медленно и красиво валился с коня. Тотчас же над ним склонялась Зина Лаврухина в косынке сестры милосердия и, прижав руки к груди, как Вера Холодная в кинематографе, окропляя его лицо горючими слезами, произносила: «О, не умирайте, прошу вас! Вы такой герой, что я безумно вас полюбила!» Затем стройность видения нарушалась. Возникали бессвязные отрывки. То он лежит в лазарете и опять над ним склоняется Зина. То приводит в плен германского генерала и Зина же первая встречает его. То стоит с нею на крыльце, опираясь на сучковатую палку; вдруг с винтовками наперевес набегают неизвестно откуда взявшиеся германцы в остроконечных шлемах, и он начинает крушить их палкой, сшибает со шлемов пикообразные набалдашники и всех повергает наземь перед крыльцом.
В течение недели Михаил ежедневно заходил к сестре, однако девочку, поразившую его воображение, встретить не удалось.
Знакомство состоялось лишь осенью, в середине октября. Тогда у Анны родился второй ребенок – девочка, и в полуподвале отмечали крестины. Михаилу надоело слушать, как Ванюша заодно с сестрами величал его «дважды дядей», сожалел, что с этим «дядей» по его малолетству нельзя выпить за новорожденную племянницу, и он убежал во двор. Туда же с улицы зашла и Зина. Ее брат поручик давно уехал на фронт, в гимназии о нем никто не вспоминал, гимназисты успели поголовно увлечься сперва цирковым борцом Заикиным, который всех соперников шутя укладывал на обе лопатки, потом пилотом, прибывшим в город по военной надобности.
Стоило Михаилу увидеть девочку, как прежние мечты всколыхнулись в душе, и пришло странное ощущение легкости, будто он вдруг лишился телесной оболочки. Ни секунды не мешкая, на глазах у нее он ловко вскарабкался на крышу конюшни и без колебаний прыгнул с трехметровой высоты. Удар о твердый в это время года кир отозвался острой болью в ступнях. Однако прыгуну удалось скрыть свои истинные ощущения. Девочка посмотрела на него с интересом.
– А с дома можете?
Михаил небрежно взглянул вверх.
– А чего ж? Могу.
Девочка засмеялась.
– Вы просто хвастун.
Михаил решительно шагнул к крыльцу.
– Покажите, где у вас вход на крышу.
И вдруг понял весь ужас своего положения. Сейчас она проводит его на крышу, он вынужден будет прыгнуть (не отступать же с позором!) и, конечно, разобьется вдребезги. Мысль эта отозвалась мурашками в ногах, как бывает, когда стоишь на краю пропасти.
– Не надо, не надо, я верю!
Девочка удержала его за рукав. То ли она вошла в его положение, то ли действительно поверила. Во всяком случае он был признателен ей за благоразумие.
– Где вы научились так прыгать? – полюбопытствовала девочка.
– А я тренируюсь, – обретая прежнюю уверенность, сказал Михаил. – Я хочу стать пилотом. У меня есть один знакомый пилот. Он обещал научить меня летать на аэроплане…
Михаил врал беспардонно и вдохновенно, врал напропалую, думая лишь о том, как бы заинтересовать девочку своей особой, удержать ее внимание. Его искренняя горячность, возбужденный, взъерошенный вид, должно быть, загипнотизировали Зину. Устремив затуманенный взгляд куда-то поверх его плеча, она спросила:
– Как ты думаешь, люди смогут когда-нибудь летать? Не в аэроплане, а просто, как птицы.
Незаметно для себя она перешла на «ты», и Михаил, еще не смея поверить в это окончательно, понял: он признан если не другом, то кандидатом в друзья.
– Конечно, смогут. Ясное дело – смогут, – сказал он, и девочка улыбнулась так радостно, будто только его согласия и недоставало для того, чтобы люди смогли обрести крылья.
– Ты кто? Как твое имя? – спросила она, с беспокойством оглянувшись на крыльцо черного хода.
– Я Мишка Донцов. У меня сестра Анна здесь проживает, внизу.
– А я Зина Лаврухина.
– Знаю.
– Откуда? – в голосе ее послышалось лукавство.
– Да так… знаю…
Михаил покраснел и отвернулся.
На крыльцо вышла полная краснолицая женщина в фартуке, с засученными по локоть рукавами, Василиса, кухарка Лаврухиных.
– Зинушка-а, барышня-я, – приторно-ласково пропела кухарка, – во-он вы где… А там папенька сердятся: аглицка учительница пришла, а вас нету…
– До свидания. Я буду рада вас видеть, – неожиданно по-взрослому сухо и важно кивнула девочка и, взойдя на крыльцо, скрылась за дверью.
Это было три с половиной года назад. Многое переменилось с той поры. Россия взорвалась Октябрьской революцией. Жизнь в Баку, точно горная лавина, сдвинутая раскатами далекого грома, неудержимо хлынула, сметая старое, привычное.
Создание Бакинской коммуны. Драки в гимназии между ее сторонниками и противниками. Михаил оказался в числе сторонников. Возможно потому, что его брат был большевиком. Скорее же всего по той причине, что Гасанка Нуралиев выступал против коммуны. Досталось тогда Гасанке крепко. Впрочем, и Михаил не уберегся от синяков и шишек.
Брат Василий почернел, осунулся от бессонных ночей. Советская Россия задыхалась от мятежей, голода, тифа. Москва просила нефти. Василий руководил погрузкой нефти на суда. Метался между портом и промыслами. Владельцы нефтепромыслов саботировали, требовали платить золотом. Домой Василий приходил злой, тяжелый от неизвергнутой ярости. Ругал Манташева, Лианозова, Нагиева, Нуралиева, говорил, что, будь его воля, предал бы их революционному суду, а промыслы национализировал.
– Умен, да только бодливой корове бог рогов не дал, – ядовито возражал отец. – А рабочим бы кто платил? Ты, что ли? Так у тебя в кармане одна вошь на аркане… А их, – свирепо тыкал коричневым пальцем в сестер, в Михаила, – чем прикажешь кормить? Али в гроб укладывать?..
Василий угрюмо молчал – денег у Совета Народных Комиссаров не было.
Голод. Нашествие англичан, турок. Бои под городом. Все это вместе, а главное – голод и турецкая угроза – сломили коммуну. Большинство депутатов Бакинского Совета поддержали требование эсеров пригласить для защиты города английский отряд. Незадолго до этого по поручению Шаумяна Василий с небольшим отрядом красногвардейцев увел в Астрахань последний караван нефтеналивных судов.
Англичане. Турки. Муссаватисты. Мусульманские проповедники в зеленых чалмах, призывающие правоверных признавать одну власть – власть ислама.
Восстание. Отряды вооруженных рабочих на улицах. И, наконец, приход Одиннадцатой Красной армии.
Время заставляло быстро взрослеть. Давно поблек и забылся образ поручика Лаврухина. По словам Зины, отец считал его погибшим, потому что с ноября семнадцатого года о нем не было никаких вестей. Смешными выглядели теперь прекраснодушные мальчишеские мечты, навеянные благородными героями старых книг.
Изменилась и Зина. Девчонка превратилась в статную девушку. Красота ее утеряла кукольность. Что-то вызывающее, дразнящее угадывалось в четком рисунке пухлых губ, в огромных синих глазах. Это что-то было проснувшееся сознание своей власти.
С некоторых пор Михаил начал понимать, что любит ее. Он рано созрел, обладал воображением, и к его детскому преклонению перед красотой ее лица, ее хрупкостью начало примешиваться томящее чувство восторга.
Встречались они редко. И только во дворе. В комнаты Зина его не приглашала, и он понимал причину: Милий Ксенофонтович не одобрил бы выбора дочери. Разговоры их касались главным образом книг. Зина жила в мире, далеком от повседневности, мечтала об экзотических странах и океанских рассветах. В ее словах, жестах, повадках было что-то от джеклондоновских женщин – мягкое и смелое. Она аккуратно посещала училище и больше никуда не ходила. Заветным желанием Михаила было пригласить ее на танцы в Дом красной молодежи. Впрочем, он понимал, что это вряд ли осуществимо. Она слишком отличалась от тех девушек комсомолок, что посещали Дом молодежи. Те не обращали внимания на поношенную одежду парней. В их глазах такая экипировка выглядела естественной, они, дочери рабочих, сами не блистали туалетами. Они были грубоваты, громко и свободно смеялись, в их речах часто проскакивали жаргонные словечки, с детства вошедшие в язык где-нибудь в родных Сабунчах или Романах. Зина среди них выглядела бы белой вороной. Да и он стеснялся бы перед нею своей одежды. И подвергся бы всеобщему осмеянию.
В разговорах с Зиной он избегал касаться политики. Опасался, вдруг она отзовется неодобрительно о Советской власти, о комсомоле, о Красной Армии. Ведь тогда придется немедленно порвать с ней дружбу, забыть и думать… о буржуйской дочке. Да, именно так оскорбительно он и вынужден будет ее назвать. Пока же слова «буржуйская дочка» совершенно не ассоциировались с образом Зины.
Михаил ждал недолго. В вязаной шапочке, в легком пальто, размахивая желтым портфельчиком, она обежала с крыльца, кивнула:
– Пошли.
Две длинные – до пояса – косы разметались, и она небрежным движением закинула их за спину.
– Рассказывай, – попросила она, как только вышли за калитку.
С великолепной, почти гусарской беспечностью Михаил поведал о драке в караван-сарае, о порванном пиджаке, о ссоре с отцом и своем бегстве. При этом он поглядывал по сторонам, всей душой желая, чтобы навстречу попался кто-нибудь из знакомых ребят. То-то бы вылупил гляделки, увидев его с такою красавицей. Потом на него посыпались бы вопросы: «кто такая?» да «что у тебя с ней?», а он бы в ответ таинственно улыбался.
Тщеславные его помыслы были прерваны вопросом:
– Зачем ты дерешься? Ведь такие, как Рза-Кули, могут убить.
– Большевики перед контрой не отступают, – сурово молвил он.
Она украдкой взглянула на него. Лицо его выражало непреклонность. Большой шишковатый лоб грозно навис над глазами, губы сжались в нитку и четко выявился крутой изгиб подбородка.
– Ты большевик?
– Конечно. Всякий комсомолец – большевик.
Сердце его тоскливо сжалось. Вот сейчас скажет: «Ну и уходи. Большевики отобрали у нас все богатство, и я не желаю иметь с тобою ничего общего».
Они вышли к Парапету и свернули налево. Под деревьями сквера прохаживались и стояли, группируясь по двое, по трое, люди в цивильных «господских» одеждах довоенного вида. Мелькали папахи, картузы, не редкостью был и котелок. «Черная биржа» спозаранку приступала к «операциям».
Зина улыбнулась какой-то своей мысли и тронула его за рукав.
– Слушайте, господин большевик, а я что придумала-а…
– Что?
– У папы четыре или пять пиджаков. Висят без дела. Куда ему столько? Ведь теперь либерте, эголите, фратэрните, верно? Свобода, равенство и братство. Как ты посмотришь, если я, будучи свободным человеком, по-братски и во имя идеи равенства подарю тебе один пиджак?
«Ты что же, за буржуйского холуя меня считаешь?» – готово было сорваться с его языка. Но улыбка ее светилась такой простодушной радостью (видно, ей очень понравился замысел с пиджаком), что ни о каких задних мыслях и речи быть не могло. Михаил весело рассмеялся, представив себя в лаврухинском пиджаке.
– Нет, правда, – серьезно заговорила Зина, практичная, как всякая женщина, – пиджак пропадает без пользы. А ты явишься в нем домой, и твой папа перестанет сердиться. И тогда незачем уходить из дому.
Нежность теплой волной прошла через сердце Михаила. Он старался не смотреть на девушку, чтобы не выдать своего чувства.
– Ты не беспокойся. Из дому я и так не уйду…
Зина потупила взгляд, потому что в голосе его уловила то особенное волнение, особенную зыбкость, за которыми угадывалось все, чего она втайне желала.
– Ванюша ходил к отцу еще вчера, все уладил… – продолжал Михаил, – а сказал я так, для красного словца…
– Наврал?
– Ага.
– Зачем?
– Так. Думал, тебе будет со мной интересней.
Зина замедлила шаги, не поднимая глаз, тихо заметила:
– Что же тут интересного?..
– Не знаю… Мне казалось…
Они остановились около закрытых наглухо ворот рядом с Армянской церковью.
– Я… мне и так… интересно, – едва слышно проговорила она. Губы ее вздрагивали.
Они не заметили, когда и как оказались в нише калитки под прикрытием акации. Калитка была заперта.
Мимо спешили к заутрене черные старушки. Никто не обращал внимания на юную пару.
– Зина…
– Что?
– Да я хотел…
– Что?
– …Я, понимаешь…
– Что?
– …ты не сердись…
– Не сержусь.
– …люблю тебя.
Она подняла на него глаза. Привстала на цыпочки, ткнулась губами куда-то в угол его рта и стремглав выскочила из ниши. По асфальту дробно простучали ее каблучки.
Когда Михаил появился дома, ни мать, ни сестры словом не обмолвились о вчерашнем.
Напротив, были предупредительны. Это умилило Михаила, и, чтобы не очень мучиться раскаянием, он поспешил убраться. Захватил учебники, как обычно, уходя в училище. Но путь его лежал совершенно в другую сторону.
В горкоме комсомола Кафаров без задержки оформил путевку. На форменном бланке с печатью было четким почерком написано:
«Член Коммунистического Союза Молодежи Донцов Михаил Егорович направляется в распоряжение Азербайджанской Чека для использования на работе».
Вскоре Михаил шагал по Набережной в сторону Кооперативной улицы, где находилась Чека. Сквозь голые деревья бульвара проглядывала морская синь. Теплый ветер, пахнущий водорослями, гладил лицо. Природа ликовала вместе с ним.
Он видел себя в черной, перекрещенной ремнями кожаной тужурке, с кобурой на боку. Все будет именно так. Его примут в Чека, и он сделается грозой врагов Советской власти. Как Дзержинский. Как брат Василий. Грудь его распирало от ощущения собственной значимости.
Он свернул на Кооперативную и увидел четырехэтажное серое здание с застекленными балконами. Квадраты балконных стекол блестели на солнце.
Михаил вдруг оробел. Мелькнуло: в этом огромном здании столько людей, опытных, знающих, смелых; кому здесь нужен он, мальчишка? Недавней приподнятости как не бывало. С каждым шагом все больше овладевала им мучительная неуверенность в себе. На что он надеется? Чекисты – это не Кафаров, не Логинов. Они-то мигом определят его настоящий возраст. Их не обманешь.
Остановился перед парадной двухстворчатой дверью с медной рукояткой. В зеркальном стекле отразилось худощавое испуганное мальчишеское лицо.
Коротко вздохнул, пригладил волосы, рванул на себя створку. Не поддалась. Рванул сильнее. Заперта, что ли?
– Не стоит, не стоит ломиться, коллега, – нетерпеливо сказали сзади, – дверь открывается внутрь.
Михаил выпустил рукоятку. Высокий сухопарый человек весьма сурового вида толкнул дверь, вежливым жестом пригласил Донцова войти первым.
В тесном вестибюле стоял красноармеец с кобурой на боку. Сухопарый кивком поздоровался с ним и прошел к лестнице, ведущей наверх.
– Тебе что? – строго спросил часовой.
Михаил протянул ему пропуск и путевку. Красноармеец – у него были коричневые, нахальные, как у шемаханского авары[4], глаза – снисходительно пробежал по строчкам, вернул бумаги:
– К Кузнецову в секретариат.
Михаил поднялся на второй этаж.
По коридору, заложив руки за спину и опустив голову, двигался здоровенный, наголо стриженный дядя в черном пиджаке. Михаил устремился к нему:
– Скажите, где мне…
Здоровяк вскинулся, будто у него выстрелили над ухом, испуганно оглянулся назад.
– Не разговаривать с арестованным!
Из-за его спины выдвинулся невысокий парень в кожаной тужурке, правая рука – в кармане.
– Проходи.
Тон его был властен, в глазах – решимость.
Михаил отшатнулся, прилип к стене. Испуг сменило восхищение. Ну и ну! Как он? «Не разговаривать… Проходи!» Сразу видно боевого чекиста.
Чтобы снова ненароком не попасть впросак, Михаил зашел в один из кабинетов. Сидевшая за машинкой пожилая женщина в пенсне объяснила обстоятельно, как найти товарища Кузнецова.
Застекленная веранда была разделена дощатой перегородкой на две неравные комнатушки. Большая оказалась пустой, в меньшей, похожей на закуток, сидел товарищ Кузнецов. Михаил ожидал увидеть человека с пронизывающим взглядом и сильным, как на плакатах, лицом. Но за столом сидел добродушный, располневший канцелярист в парусиновой толстовке. Бритая сияющая голова на короткой шее и очки делали его похожим на воскресного дачника.
Солнце стояло прямо напротив веранды и наполняло закуток тяжелым зноем. Ни малейшего движения воздуха не ощущалось через распахнутое настежь окно. Оно выходило на маленький дворик, напоминавший шахту.
Кузнецов пригласил посетителя сесть. Поминутно вытирая платком затылок и шею, прочитал путевку.
– Значит, к нам. Комсомольское, так сказать, пополнение. Что ж, хороший народ нам нужен. Да, нужен. Идете по желанию?
– Да, – довольно твердо выговорил Михаил и почувствовал облегчение. Кажется, ничего дядька.
– Что ж, ладно, ладно…
Кузнецов приложил к затылку мокрый платок и опять заглянул в путевку.
– Ладно, ладно… Сколько же вам лет?
Вот оно – началось!
– Се… семнадцать.
Лицо Михаила медленно заливала краска. Совестно было врать.
Добродушный Кузнецов промокнул платком шею.
– Ладно, ладно… А не найдется ли документа? Метрической выписи, скажем?
Метрической выписи не было. От матери Михаил знал, что в церкви Иоанна Предтечи, где его крестили, метрические книги утеряны. То ли поп пустил их на растопку, то ли бандиты разграбили – неизвестно. Все это довольно связно Михаил изложил Кузнецову.
– Такое положение везде, – доверительно сказал Кузнецов.
Он достал из ящика стола лист чистой бумаги, желтую ручку, написал несколько строк, пришлепнул под текстом круглую печать.
– Возьмите эту бумаженцию, товарищ Донцов, и шагайте с нею прямо отсюда в больницу, что на Большой Морской. Предъявите ее доктору Бабаяну. Он с научной достоверностью должен установить ваш возраст. Сами понимаете – у нас запрещена эксплуатация труда подростков, и мы с вами обязаны свято блюсти революционную законность.
Он встал, подал Михаилу направление.
– Пожелаю удачи. Из больницы милости прошу ко мне. Давайте отмечу пропуск.
Михаил не помнил, как шел по коридору, как спустился в вестибюль. На месте сердца ощущался комок горечи. «Конец. Не быть тебе чекистом. Не быть никогда».
В вестибюле стоял все тот же часовой.
Михаил сунул ему пропуск и хотел поскорее выскочить на улицу. Но часовой загораживал проход. Он повертел пропуск и уставил на Михаила нахальные глаза.
– Как дела? Домой небось завернули?
Наверное ему было до отчаяния скучно.
Михаила взяло зло: «Еще издевается, гад…» Сказал и удивился своему звенящему голосу:
– Стоишь?
– Ну, стою…
– И стой молча, пока не сменят. Разговаривать без дела часовому запрещено. Службы не знаешь.
– Ух ты, какой строгий, – пытаясь сохранить достоинство, натянуто заулыбался красноармеец.
Доктор Бабаян – кудрявый, средних лет армянин, разговорчивый и быстрый, как комочек ртути, – мельком заглянул в направление, бросил:
– Раздевайтесь, юноша.
В кабинете, кроме него, присутствовали довольно молодая черноглазая сестра и пожилой лысый фельдшер с усами, как у Тараса Шевченко. Вдоль степ стояли непонятные приборы: похожий на самовар никелированный бак с резиновой трубкой, высокая деревянная доска с делениями и ходившим по ней вверх и вниз ползунком.
Михаил снял пиджак, рубашку, бросил на табуретку.
– Совсем, совсем, – доктор нетерпеливо помахал рукой, будто отстраняя от себя ненужные мелочи.
– Как… совсем?
Михаил, краснея, покосился на сестру. Лицо ее было невозмутимым.
– Брюки, кальсоны долой. Вот так.
Михаил покорно разоблачился догола и прикрылся ладонями.
– Ну-ну, без фиговых листочков. Здесь вы передо мной, как на страшном суде перед господом богом, – стремительно подходя к нему, сказал доктор.
Михаил нахмурился, выпятил грудь и напряг мышцы. Подумалось, что так он будет выглядеть старше.
– Даже свой апостол Павел имеется, – продолжал доктор, взглянув на стоявшего рядом фельдшера.
Ощупал сухими холодными пальцами грудь, плечи, бицепсы и зачем-то горло.
– Ну-с, каково сложение, Павел Остапыч? – обратился к фельдшеру.
– Та шо ж – хоть сейчас у гвардию, – прогудел тот.
Доктор извлек из кармана халата трубку, выслушал и выстукал Михаила.
– Рано мужаете, юноша.
– Почему рано, мне семнадцать, – мрачно отозвался Михаил.
– Что вы говорите?! Будь у вас усы, я дал бы все тридцать, – доктор отошел к столу. – Юлия Филипповна, измерьте сего молодца.
Сестра велела Михаилу встать на низенькую площадку у основания доски с делениями. На голову опустилась доска, прикрепленная к ползунку.
– Сто восемьдесят.
– Отлично, – доктор потер ладонь о ладонь, будто услышал очень приятную весть.
Сестра подала Михаилу резиновую трубку от бака, похожего на самовар.
– Сделайте глубокий вдох и дуйте сколько хватит сил.
«Вот оно, самое главное», – подумал Михаил. Прежде надо успокоиться, выровнять дыхание. Так. Теперь наберем воздуху…
Бак оказался из двух цилиндров. Верхний, вставленный в нижний, лишь Михаил начал дуть в трубку, пополз вверх. Еще… Еще… Лицо Михаила побагровело, запас воздуха иссякал, а цилиндр поднялся всего на вершок. Ну, еще немножко… еще… Звякнул выскочивший из бака внутренний цилиндр.
– Одевайтесь, богатырь, – услышал Михаил голос доктора.
Победа!
Когда оделся, доктор пригласил его сесть к столу и начал что-то строчить на бланке. При этом говорил без умолку.
– Датой вашего рождения, дорогой мой, в пределах от 904-го до 906-го я могу распорядиться действительно, как господь бог. Выглядите вы на все семнадцать, тем более что страстно этого желаете. Следовательно, так и запишем: родился в 1904 году. Какой месяц вас более всего устраивает?
– Февраль.
– Не ошибитесь, юноша. Родившегося в феврале ожидает бурная, полная всяческих превратностей жизнь. Ненадежный месяц, знаете ли. То в нем 28 дней, то 29… Кстати, какого числа вы собираетесь праздновать день своего рождения?
– Первого.
– Ну, разумеется, не второго же… Тэк-с, – доктор встал, поднялся и Михаил. – Получите ваш документ. Позвольте поздравить с рождением.
«Новорожденный» принял бумажку, горячо и сбивчиво пробормотал: «Спасибо, спасибо… доктор», – пятясь к двери, поклонился фельдшеру, сестре, никелированному баку и покинул кабинет.
В вестибюле дежурил другой красноармеец, и это было чертовски досадно. Очень хотелось бы взглянуть в глаза тому нахалу.
Кузнецов по-прежнему сидел в своем закутке и утирался мокрым платком.
– Скоро обернулись, – улыбнулся он, увидев Михаила в дверях, и протянул руку: – Ну-ка, что там пишет доктор?
Прочитал, одобрил своим обычным «ладно, ладно», достал голубую новенькую папку и аккуратно уложил туда оба донцовских документа: путевку и справку о возрасте. Из облезлого канцелярского шкафа достал анкету, вручил Михаилу, кивнул на дверь.
– Идите туда, заполните. Пишите разборчиво.
За перегородкой стоял маленький столик и расшатанный стул. Чернила загустели, и писать ими было одно мучение.
В соответствующую графу Михаил внес новую дату своего рождения. При этом не только не испытал неловкости, но поймал себя на том, что верит, будто ему семнадцать лет. Такова магическая сила официального документа.
Прочитав анкету, Кузнецов удовлетворенно кивнул. Спросил только:
– Василий Егорыч Донцов из Одиннадцатой армии ваш брат?
– Да.
– Ладно, ладно… Теперь, будьте добры, ознакомьтесь с этим документом и, если не последует возражений, распишитесь внизу.
Перед Михаилом легла бумага с машинописным текстом, В ней говорилось о том, что нижеподписавшийся обязуется верно, не щадя сил и самой жизни, служить трудовому народу, Советской власти и делу мировой революции, свято хранить доверенную ему служебную тайну и в случае нарушения данной заповеди готов понести наказание по всей строгости революционных законов.
Фразы были торжественны, бескомпромиссны и вызывали трепет. Именно их и недоставало Михаилу, чтобы в полной мере ощутить значительность происходящих в его жизни перемен.
Без колебаний он поставил под текстом свою подпись.
Вместе с анкетой обязательство также легло в голубую папку. Михаил догадался: отныне папка станет «его». Она вберет в себя все, что с ним произойдет на службе в Чека. Подумалось: лет через десять эта папка, возможно, сделается пухлой, как роман Дюма. И такой же интересной. Если бы возможно было заглянуть вперед…
– Садитесь, Михаил Егорович, давайте познакомимся, – без улыбки сказал Кузнецов. – Меня зовут Федор Ильич. Я, как вы догадываетесь, занимаюсь личным составом. Вам работа предстоит ответственная – в секретном отделе. Этот отдел занимается борьбой с контрреволюционным политическим подпольем. – Он тронул очки за дужку, сдвинул вниз, давая отдохнуть переносице, взглянул на Михаила поверх стекол. – Здесь, как вы сами понимаете, требуются грамотные люди. Их, между прочим, у нас так и величают: наша интеллигенция. Вы меня поняли?
Михаил кивнул.
– На работу милости прошу завтра к девяти утра. Явитесь в комнату сорок пять, к товарищу Холодкову. Это начальник отдела. А теперь, Михаил Егорович, попрошу вас спуститься вниз к нашему фотографу. Сошлитесь на меня, он вас сфотографирует и завтра к концу дня милости прошу получить пропуск.
Спустя полчаса Михаил вышел на улицу. Остановился у дверей. Взглянул направо, налево. Нет, не сон, а явь – принят в Чека! Кто принят в Чека? Михаил Егорыч Донцов! Да, Михаил Егорыч! А Кузнецов-то! Мировой мужик. Только не похоже, что пролетарий. Но все равно мировой.
Прохожие с удивлением оглядывались на странного парня: стоит на пороге Азчека и улыбается – рот до ушей. Нечасто такое увидишь.
6
Большая удача, если в ранней юности жизнь твоя обретает ясную цель. Михаил понимал это, правда, скорее инстинктом, чем разумом.
Что было в его жизни до сих пор? Книги да красивые несбыточные мечты, разделенные с такими же подростками – Ибрагимом, Алибеком, Ленькой. Кругом круто менялась жизнь, а они, по малолетству и по причине полной зависимости от родителей, не имели права принять в ней участие, испробовать, на что годны.
Они издали следили за тем, как рушились устои старого мира, но это ничего не меняло в их личной жизни, тусклой жизни городских мальчишек из рабочих семей. Поэтому книги питали их воображение. Маленький лорд Фаунтлерой и Реми Мелиган, Морис Джеральд и Оливер Твист, Нат Пинкертон и граф Монте-Кристо – таков был круг их героев, таков был связанный с этими героями объем понятий, которыми они расцвечивали тусклую обыденность. Придуманная красота была эфемерна, но другой они не знали. И не могли знать. Красота суровой эпохи открывалась тому, кто участвовал в ее свершениях.
Таким человеком был брат Михаила.
В первый вечер, когда они остались вдвоем с Василием в «темной», Михаил вытащил из лежавшей на табуретке кобуры братнин наган и с удовольствием прицелился в лампочку. Василий молча отобрал у него револьвер, сунул под подушку.
– Ты чего? Бандитов опасаешься? – с загоревшимися глазами спросил Михаил.
Брат усмехнулся одной половиной рта – мешал шрам через всю щеку, – сел на стул, начал снимать сапоги.
– Тут, – сказал, – похоже, без бандитов хватает охотников до чужого оружия.
– Я, что ли?
– Догадливый.
Василий разделся, лег на свою старую скрипучую деревянную раскладушку с ножками в виде буквы икс.
Михаил погасил свет и тоже лег. Отвернулся к стене. После недолгого молчания сказал:
– Что я, маленький?
– Да нет, не маленький, – отозвался Василий. – На фронте встречал ребят чуть постарше тебя.
– Я бы тоже смог воевать.
– За что?
– Известно: за Советскую власть.
– Нужны Советской власти такие вояки.
– А что? – Михаил вскинулся на кровати. – Думаешь, струсил бы?!
– Нет, зачем же? Тут дело в другом. Помнишь, как ты в младшем классе с Нуралиевским сынком подрался?
– С Гасанкой?
– Ну да. Ты тогда разве для собственного удовольствия кулаки-то в ход пустил?
– Он сел на меня верхом… Я, говорит, буду твоим хозяином.
– Вот-вот, – обрадованно проговорил Василий, – отсюда, от печки и пляши. Либо он тебя оседлает, либо лупи его по морде – третьего не дано. Уж наш батя на что крут – сам знаешь, – и тот, помню, тебе эту драку простил. Понял: на твоей стороне справедливость, классовая справедливость…
Василий заскрипел раскладушкой.
Вспыхнула зажигалка, на миг вырвав из непроглядной тьмы резко очерченный профиль брата.
Точечный огонек цигарки, то разгораясь, то притухая, диковинным светлячком повис в воздухе. Запахло махорочным дымом.
– Борьба, Миша, – это нелегкое дело, – каким-то незнакомо жестким тоном проговорил Василий. – Нелегкое и некрасивое. Красиво о ней только пишут. Те, кто ее никогда в глаза не видывал. Ну, сам посуди: что красивого в убийстве, в смерти? Кровь, стоны, вопли. Каждая смерть с нашей ли, с вражеской ли стороны прибавляет вдов и сирот. Разве ты задумывался над этим, парень? – Помолчав, продолжал: – Представь себе знакомого человека, который тебе по нраву, друга, что ли…
С поразительной ясностью Михаил вдруг увидел давнишнее: на крыльце дома стоит, опираясь на палку, поручик Лаврухин с папиросой в зубах, рядом – кукольной красоты девочка.
– …Представь, что он, веселый, здоровый секунду назад человек, вдруг падает, сраженный пулей…
…Поручик на крыльце схватился за грудь, медленно стал оседать и рухнул на асфальт. Девочка в ужасе вскрикнула, закрыла руками лицо… Михаил почувствовал: по щекам от висков струйками сбегает пот.
– Горько это, тяжело…
Зашипела и погасла цигарка.
– Конечно, для какого-нибудь убийцы все просто. Ему чужая жизнь, что щепка. Но любители пострелять в людей в Красной Армии долго не держатся. Либо к «зеленым» сбегают, либо на мародерстве попадаются.
– Кто же нужен Красной Армии? – спросил Михаил, чувствуя неясную робость.
– Люди, Миша, люди, а не мастера убивать. Сознательные революционные бойцы требуются Красной Армии, которые, как бы тебе объяснить?.. Ну вот ты, скажем, заехал этому… Гасанке, что ли, по роже… Юшку пустил. Приятного мало, верно? Да ведь не мог иначе. Так и они, не могут не идти в бой против белой сволочи… Потому что революция – их кровное. Она установит справедливость на земле. Справедливость для них, для тебя. Это и дает им силу выдерживать смерть, кровь, свою и чужую. Понял?
– Понял.
– Навряд. Почаще вспоминай Гасанку, тогда, может, поймешь.
– А отец говорит…
– Ты отца не трогай. Он другую жизнь прожил. Старую. А нам с тобой новую начинать. Стремись к ней, строй ее. Я вот… всегда о ней думаю.
На этот раз молчание длилось долго. Брат, должно быть, разволновался, опять закурил.
– Что же мне делать? – Вопрос Михаила прозвучал по-детски беспомощно. Он сам уловил это и подосадовал на себя.
– Давай договоримся, братишка, – сказал Василий, – такие слова говоришь в последний раз. Не маленький. Что делать – пролетарию должно подсказывать классовое сознание. Вон Ванюша – смирен, смирен, а в решительный момент понял, что надо делать. Для начала вступи в Коммунистический Союз Молодежи. И друзей сагитируй. Вот тебе первое задание от Советской власти, товарищ. А теперь, – он погасил цигарку, – спать, спать…
Такие беседы происходили каждый раз, когда Василий ночевал дома. Он рассказывал о гражданской войне, о Ленине, о разгоревшейся в мире классовой борьбе, о руководителях и героях Бакинской коммуны Шаумяне, Джапаридзе, Петрове, Азизбекове, расстрелянных в Закаспийских песках. Этих людей он хорошо знал. Говорил горячо, вдохновенно, словно читал стихи. Но когда речь заходила о нем самом, о его работе, отделывался односложными словами. В ответ на просьбы Михаила рассказать, как он вылавливал контрреволюционеров, отмахивался:
– Да ну тебя!.. Начитался Пинкертонов.
Скрытность брата обижала Михаила и в то же время поднимала в его глазах профессию чекиста на некий недосягаемый пьедестал, делало ее особенно притягательной.
Однажды, перед тем как лечь спать, Василий принялся зашивать фуражку – на ней оказались две дырки. У Михаила загорелись глаза.
– Пулей? Кто это?
– Он самый – классовый враг, – сказал Василий, но тут же воровато оглянулся на дверь, придушенным голосом пригрозил: – Смотри, матери не вздумай брякнуть…
Жизнь брата, накаленная смертельным палом борьбы за великие идеалы, виделась Михаилу прекрасной, и для себя он желал такой же судьбы.
Он чувствовал себя так, будто с него сползла тесная оболочка. Он видел мир другими глазами. Сместилась граница между добром и злом. Она проходила вовсе не там, где видели ее авторы старых книг. Благородный богатый джентльмен выводит на чистую воду злого обитателя трущоб, собиравшегося похитить у бездомного мальчика миллионное наследство – еще недавно такая коллизия умиляла Михаила и его друзей, не вызывала сомнений. Теперь все выглядело по-иному. Авторы старых книг лгали, потому что не добирались до корня явлений. Прежде чем налепить на обитателя трущоб клеймо злодея, следовало задаться вопросом: почему существуют трущобы и кто загнал туда человека?
Ответ получался потрясающий. Оказывается, не кто иной как благородный джентльмен создал трущобы, не кто иной как он загнал туда человека и превратил его в злодея. Граница между добром и злом совпадала с границей, делящей человечество на классы. На имущих и неимущих. На буржуев и пролетариев. Первые стояли за старый, несправедливый строй жизни, от них исходило все зло. Вторые хотели справедливости и потому были средоточием добра.
Эти новые, такие ясные мысли захватили молодой ум, потому что давали ответы на все вопросы и не оставляли места для туманных предположений и колебаний. Впрочем, была одна неясность: куда отнести Зину? Она происходила из враждебного лагеря, где одно зло, а Михаил видел в ней только добро. Стыдно признаться, больше добра и душевной красоты видел в ней Михаил, чем в иных представительницах собственного пролетарского класса. Все собирался спросить совета у брата, как быть с Зиной, но Василий вскоре уехал в Тифлис. Тогда Михаил изобрел в уме некую тихую гавань «для особых случаев», куда и поместил Зину.
Запали в сердце слова, сказанные братом в ночь перед отъездом:
– Вот ты, Миша, все пытаешь: как быть да что делать? Бывают, знаешь, такие шкуры на земле, что плюнул бы, да слюны жалко. Ты его поднимаешь в атаку за лучшую жизнь, а он: «Чай, у меня не две жизни. Пойдешь за лучшей, глядишь, и плохую-то потеряешь». Можно, конечно, и так прожить. Но я знаю других людей, великих людей – большевиков. Они, брат, жизнь измеряют не годами, а пользой ее для революции. Боятся они не смерти, а бестолковой смерти. Без них, как без Коперника, и земля не вертелась бы. А ты говоришь: как быть, что делать? Равняться по ним – вот что. Землю поворачивать своими руками – вот что.
После отъезда брата Михаил вместе с Ибрагимом, Алибеком и Ленькой вступили в комсомол.
Меньше года минуло с того дня. И вот Михаил стал чекистом. В пятнадцать лет очутился он на передовой линии огня, и жизнь его обрела цель и смысл. Это была большая удача. Ею он обязан брату и комсомолу. «И никогда, – сказал он себе, – никогда ни тебе, братишка, ни тебе, Кафаров, ни тебе, Логинов, не придется краснеть за меня. Нет, не придется».
7
Едва открыв глаза, Михаил вспомнил, что он больше не ученик высшего начального училища, а чекист. Из горницы сквозь приоткрытую дверь проникал свет. Сорвался с постели, выглянул из «темной» – ходики на столе показывали семь. Не проспал!
Оделся, заглянул в зеркало и остался недоволен. Кургузый пиджачишко, коротковатые брюки, тапочки – вид далеко не чекистский. Можно было понять Алибека и других ребят. Вчера они зашли за ним. В Доме красной молодежи проводилось первое занятие комсомольского отряда ЧОНа – изучение материальной части винтовки. Михаил проводил друзей до угла Цициановской.
– Дальше шагайте одни, ребята. Я ведь не в ЧОНе.
– Как не в ЧОНе? – округлил глаза Алибек. – Такой джигит…
– Меня приняли на работу в Чека.
Алибек окинул его с ног до головы, перевел взгляд на друзей, и покрутил у виска пальцем. Ибрагим и Ленька захохотали так, что пробегавшая мимо собака шарахнулась на мостовую.
– Что вы ржете, несчастные авары! – прикрикнул на них Алибек. – Человека завтра назначат командовать всеми вооруженными силами республики! Так отдайте ему честь!
– Обормоты, – беззлобно сказал Михаил и повернулся, чтобы уйти.
– Слушай, неужели не врешь?! – удержал за рукав Ибрагим.
– Не вру.
– Ну, здо-орово! Оружие выдали?
– Пока нет.
Это убедило друзей окончательно. Если бы человек врал, он бы непременно приплел пару пистолетов, что сейчас как назло лежат в столе, ключ от которого потерян.
Михаил попросил Ибрагима, как самого серьезного, зайти к директору училища и сказать, чтобы фамилию Донцова вычеркнули из списка учащихся.
– Только дома не проболтайтесь. У меня отец и мать ничего не знают. И вообще, не распространяйтесь об этом.
– Кому говоришь? – обиделся Алибек. – Не понимаем разве? Считай – могила.
…Да, вид у него совсем не чекистский. Но, может, оно и лучше. Для маскировки. Мало ли какое дадут ему сегодня задание!
Из дому вышел опять с учебниками под мышкой, будто в училище. Оставил их в темном углу под лестницей.
Ровно в девять Михаил стоял перед дверью, над которой в бронзовом овале тускло поблескивала цифра 45. Раньше в здании, как видно, располагалась гостиница.
С утра в коридорах и на лестнице было людно. Туда-сюда с деловым видом спешили сотрудники. Большинство в черных кожаных тужурках. Почти у каждого с правого бока тужурка оттопыривалась, из-под нее выглядывала кобура.
Люди входили и в комнату № 45. Оттуда доносился говор, стрекот пишущей машинки; иногда в басовитые мужские голоса вплетался женский дискант.
Михаил собрался с духом и вошел. В большой светлой комнате с высокими лепными потолками стояло пять или шесть канцелярских столов, громоздкий темный шкаф. Прямо напротив, около окна стучала на «ремингтоне» молоденькая машинистка. Круглолицый парень лет двадцати с русым чубом в накинутой на плечи студенческой тужурке, присев на край стола, ей диктовал. Другая машинистка, закладывая в машинку бумагу, что-то говорила смуглому юноше в цивильном костюме, по виду азербайджанцу. Он молчал и хмурился.
Тот, что в студенческой тужурке, обернулся на стук двери.
– Я к товарищу Холодкову, – предупреждая его вопрос, сказал Михаил.
Парень молча кивнул куда-то вправо, и Михаил увидел белую двухстворчатую дверь, ведущую в смежное помещение.
Он осторожно постучал. Никакого ответа. Заглянул в кабинет. Слева в простенке между окнами за письменным столом сидел вчерашний сурового вида мужчина, который помог Михаилу открыть входную дверь и назвал его «коллегой». Мужчина оторвался от бумаг, нетерпеливо бросил:
– Входите, входите.
– Мне товарища Холодкова.
– Я, я Холодков. В чем дело?
Михаил переступил порог, осторожно прикрыл за собою дверь. Он успел рассмотреть своего начальника. На худощавом продолговатом лице нездорового землистого оттенка выделялись две глубокие борозды. Они спускались от крыльев носа и окаймляли рот, отчего челюсти казались выпяченными. Светлые, глубоко посаженные глаза почти закрывались густыми бровями. Все это вместе сообщало Холодкову вид суровый и неприветливый. Он выглядел лет на сорок, и только чуть волнистая, расчесанная на косой пробор шевелюра да по-молодому звучный приятный голос противоречили такому впечатлению.
Сбивчиво, то и дело без нужды ссылаясь на Кузнецова, Михаил объяснил, кто он и зачем пришел.
– А! Ну, знаю, знаю, – вставая из-за стола, сказал Холодков. – Проходите, садитесь.
У него была манера говорить быстро, нетерпеливо, точно он досадовал на непонятливость собеседника. Впрочем, как убедился впоследствии Михаил, чужую речь, даже многословную и путаную, он никогда не перебивал.
Холодков усадил Михаила к столу, сам остановился напротив, опершись руками о спинку стула.
В дверь кто-то заглянул.
– Тихон Григорьевич, вызывали?
– Я занят. Подождите минут пять.
Холодков приподнял стул и пристукнул ножками, будто поставил точку.
– Знакомство, наше, товарищ Донцов, много времени не займет. Рассказывать о себе вам нечего, поскольку вся ваша биография впереди.
Он улыбнулся, старившие его морщины перестали бросаться в глаза, и Михаил понял, что Холодкову не больше тридцати лет.
– Как ваше имя?
– Михаил Егорыч.
– Ну, Егорычем вы еще успеете стать. Позвольте уж, коллега, попросту называть вас Мишей. Не возражаете? Тогда я введу вас в курс дела.
Михаил подался вперед, насторожился. Вот сейчас он получит первое задание. Сейчас наступит момент, с которого начнется жизнь, полная борьбы и опасностей…
– Вам, Миша, мы поручаем вести делопроизводство нашего отдела. Придется регистрировать документы, отправлять почту, словом, вести дела канцелярии. Кроме того…
В глазах Михаила отразилась такая растерянность, такое откровенное отчаяние, что Холодков прервал себя на полуслове.
– Что-нибудь непонятно?
– Нет… понятно… Только я думал… Я хотел…
– А-а, разочарованы! – догадался Холодков. Насмешливо щуря глаза, отчего они совсем спрятались под густые брови, спросил: – Вы сколько-нибудь представляете нашу работу?
– Конечно… Вылавливать врагов Советской власти… заговорщиков…
Зазвонил телефон на столе – черная коробка с высоким рычажком, напоминавшим вилку, и с надписью «Эриксон и К°». Холодков снял трубку, сказал: «Хорошо, хорошо. Буду». Пригладил волосы, походил туда-сюда, шагнул к окну, заглянул на улицу.
Створки были распахнуты наружу. С улицы тянуло теплом. Прикрыл окно, створки опять разошлись. Попробовал запереть, но задвижка, видно, перекосилась, – оставил как есть. Сказал задумчиво:
– Значит, вылавливать заговорщиков?.. В общем-то правильно. – Быстро повернул голову, посмотрел на Михаила из-за плеча сверху вниз остро, весело. – Конечно, знаете, как это делается?
Михаил сидел ни жив, ни мертв. Возьмут да прогонят: привередники, скажут, нам не нужны. Раскаивался: зачем вылез со своими дурацкими желаниями? Да слишком уж неожиданно получилось – ведь в голову не приходило, что могут определить в канцелярию.
Холодков достал из ящика стола папиросу, покатал между пальцами, заговорил быстро и резко:
– Допустим, не очень знаете, но полагали, что тут перед вами выложат подробные инструкции, и вы все в мгновенье ока постигнете. Так вот, коллега, если хотите работать у нас, постарайтесь как можно быстрее избавиться от школярских привычек. Всероссийская Чека существует около трех лет. Наше учреждение – меньше года. Инструкций нет. Подавляющее большинство наших сотрудников – безусые юнцы вроде вас. Я – недоучившийся студент юридического факультета, прапорщик военного времени. Начальник секретно-оперативной части – недавний матрос. Учить вас некому и некогда. Потому и ставим вас к делопроизводству. Обвыкайте, присматривайтесь и учитесь. Сами. Чем скорее, тем лучше. Есть голова на плечах, преданы делу революции, – получится чекист. Я полагаю, так и будет – вас рекомендовал комсомол. А там посмотрим…
Холодков подошел к окну, опять попытался прикрыть створки и опять безуспешно.
– Надеюсь, вы меня поняли? – услышал Михаил после короткой паузы.
– Понял. Я готов.
Он встал. Под пытливым взглядом Холодкова невольно вытянул руки по швам.
Холодков, должно быть, понимал, что происходит в его душе. Улыбнулся спокойно, по-доброму.
– Превосходно. Пойдемте, познакомлю с секретарем отдела Спиридоновым, он вам все объяснит.
В пять часов Михаил отправился домой. Вместе с другими спустился в вестибюль. Среди сотрудников Чека он выделялся своей потрепанной одежонкой и подчеркнуто серьезным выражением лица. Еще на лестнице вынул из кармана пропуск – книжечку с тисненой надписью на обложке «Азербайджанская Чрезвычайная Комиссия». Показал часовому красную обложку. Однако часовой задержал его, развернул пропуск, внимательно заглянул в лицо, потом на фото. Возвращая красную книжечку, недовольно буркнул:
– Предъявляй в развернутом виде.
На улице было свежо – днем прошел дождь. Пахло мокрым асфальтом.
Михаил неторопливо шагал по Кооперативной и перебирал в памяти события первого трудового дня.
После разговора Холодков вышел вместе с Михаилом из кабинета, подвел к круглолицему парню в студенческой тужурке.
– Вот, Костя, рекомендую: наш новый работник товарищ Донцов. Прибыл по путевке БК КСМ. Будет заниматься регистрацией. Покажи товарищу, что и как.
С этими словами Холодков скрылся в кабинете, жестом пригласив туда двоих сотрудников, видимо тех, что заглядывали в дверь.
Стук пишущих машинок оборвался как по команде. Обе машинистки воззрились на новичка с откровенным любопытством. Ту, что сидела поближе, Михаил успел рассмотреть. Это была темноглазая брюнетка с очень белой кожей и крошечной родинкой на щеке. Согласно моде, стремящейся подчеркнуть женское равноправие, она носила короткую мужскую стрижку. Но искать в этом социальный смысл, пожалуй, не стоило – просто короткие волосы были ей к лицу. Судя по ее оживленному, смелому взгляду, подрагивающим от сдерживаемого смеха губам, она была хохотушка, выдумщица и не лезла за словом в карман.
– Так вы будете работать у нас в канцелярии? – спросила она. – Это очень приятно…
В голосе ее слышалась простодушная заинтересованность, явно не вязавшаяся с ее наружностью, и чуткий к насмешкам Михаил тотчас насторожился.
– Наши мужчины такие сухари – каждое свое слово ценят на вес золота…
Вторая машинистка – шатенка, подстриженная так же, как и ее подруга, фыркнула.
Секретарь отдела Костя Спиридонов, торопливо дописывавший какую-то бумагу, на миг оторвался от работы, бросил на девушек строгий взгляд.
Один только смуглый юноша в цивильном костюме держал себя так, будто находился в комнате один. Сжав ладонями виски, он изучал какой-то документ и, пожалуй, не видел и не слышал происходящего вокруг.
– Давайте знакомиться, – продолжала брюнетка, на которую недовольство Кости не произвело ровно никакого впечатления. – Меня зовут Сима, ее, – она кивнула на подругу, – Шура. А вас? Михаил? Славно. Простите за нескромный вопрос, Михаил: сколько вам лет? Вы на редкость хорошо сохранились.
Шура низко склонилась над машинкой, плечи ее заходили ходуном. Сима закусила губу. Но глаза выражали простодушие и невинность.
Мысленно посылая ее ко всем чертям, не дрогнув, однако, ни единым мускулом, Михаил сообщил, что с первого февраля ему пошел восемнадцатый год. Внутренне напрягшись, он готовился отбить следующий выпад. К счастью, не успела веселая Сима рта раскрыть, как Костя Спиридонов отложил ручку и, взяв Михаила под локоть, сказал:
– Не обращай на них внимания, товарищ Донцов. Работа у них скучная…
Он подвел Михаила к одному из столов, что находился в углу, между дверью, ведущей в коридор, и дверью кабинета.
– Не обижайтесь, Миша, – сказала Сима им вдогонку, оставив за собою последнее слово.
Костя коротко вздохнул, как бы предлагая Михаилу взять за образец его собственную, Костину, выдержку.
– Значит так, – сказал он, откинув пятерней сползший на брови чуб, – здесь твое рабочее место. Во-первых, – он назидательно поднял указательный палец, – вот в этой книге, – отпер выдвижной ящик стола, достал большую канцелярскую книгу, – будешь регистрировать информацию, которая поступает в наш отдел. Во-вторых, старайся писать грамотно, коротко, но внятно. И, в-третьих, крепко запомни: дело это секретное. Тебе доверяется жизнь людей. Сболтнешь где лишнее – и ша, человека нет. Врагу только намек дай, дальше он сам сообразит. Так что о работе ни с кем ни слова. Ни с отцом ни с братом. Наш отдел входит в СОЧ. Ясно?
– Ясно. А что такое СОЧ?
– Секретно-оперативная часть. Подписку о неразглашении служебной тайны давал? Ну вот. Распорядок дня такой: с девяти до пяти – работа, с пяти до девяти вечера – перерыв. С девяти до двенадцати – опять работа. Не заскучаешь. Прими ключ, не потеряй смотри.
Костя отошел к своему столу. Михаил остался один на один с регистрационной книгой. Секретарь ему понравился. Особенно тем, что без церемоний перешел на «ты».
Ровно стрекотали машинки. В дальнем углу тихонько, точно мышь, шелестел бумагами смуглый юноша. Иногда стрекот машинок прерывался, и девушки перекидывались двумя-тремя фразами, которые непременно сопровождались хихиканьем. В их разговорах фигурировали то Костя, почему-то именовавшийся «классной дамой», то какой-то «коллега» (под этим прозвищем нетрудно было узнать Холодкова), то человек по имени Поль. Михаила удивляло, почему столь легкомысленные девицы работают в Чека, да еще в самом секретном отделе. «Это же находка для врага! – мысленно возмущался он. – И бубнят и бубнят, как сороки».
Демонстрируя свое полное к ним презрение, Михаил ни разу не поднял на девиц глаза. Углубился в регистрационную книгу. Сосредоточиться на работе было нелегко, потому что то и дело через комнату в кабинет Холодкова и обратно, грохоча сапогами, проходили сотрудники. Громко здоровались с Костей, с машинистками, подходили к ним, восклицали: «А как тут поживает наша интеллигенция?» Перебрасывались шутливыми замечаниями о каком-то Вовке, у которого пьяный дантист вместо больного зуба выдрал коронку. Но чаще всего шутки касались вопроса о том, скоро ли Сима или Шура позовут на свадьбу и какому счастливцу предстоит занять место жениха. Вся эта болтовня порождала в душе начинающего чекиста сложное чувство. Оно имело горьковатый привкус, словно Михаила в чем-то обманули или обидели невзначай. Разве такими он представлял себе чекистов? Треплются с этими мещанскими дурами. Брат Василий позволил бы себе такое? Ни строгости, ни боевой решительности в глазах. Наверное, тоже канцеляристы. Во всяком случае не те, кто с риском для жизни вылавливает врагов, подставляет под пули грудь. И зачем только носят револьверы у пояса? Время близилось к полудню, когда подошел Костя.
– Ну как, разобрался?
– Разобрался, – хмуровато сказал Михаил.
– Тогда пошли обедать. Есть-то хочешь?
Вопрос показался Михаилу странным. Есть он хотел всегда. С весны восемнадцатого года. Ощущение голода стало привычным. Хорошие продукты можно было приобрести лишь на Кубинке, где процветал черный рынок. Буханка хлеба стоила там многие миллионы – всего отцовского жалованья достало бы разве что на осьмушку. Семья жила на три скудных пайка. Сестра Катя состояла чертежницей в конторе бурения, Надя работала машинисткой в Наркомате юстиции. На три карточки выходило чуть больше фунта хлеба в день. Самым изысканным блюдом считался горох. Изредка, раза два-три в году, появлялся на столе чурек.
Михаил давно забыл ощущение сытости.
Костя правильно понял его молчание.
– Талоны в столовую не получал? Айда в АХЧ, там оталонят.
Административно-хозяйственная часть помещалась на первом этаже. Михаилу дали талоны на неделю вперед.
Столовая – продолговатое полуподвальное помещение с низкими сводчатыми потолками – бывший духан, – находилась неподалеку, в доме через улицу. На первое подали жидкий пшенный суп и осьмушку ржаного хлеба. В супе, кроме пшенных хлопьев, плавало бледное перышко лука и две-три звездочки жира неизвестного происхождения. Радужными переливами они напоминали мазут. На второе была пшенная каша такой густоты, что хоть ножом режь. И первое и второе явно готовилось в одном котле.
Михаил обедал, в одиночестве. Костю, едва он появился в столовой, позвали к столу, занятому компанией сотрудников. Оттуда доносился веселый смех. Михаилу сделалось грустно. Более всего ему хотелось поскорее стать своим в этой среде.
Чем ближе подходил Михаил к дому, тем неотвратимее вставал перед ним вопрос: как объяснить родителям предстоящие ежевечерние отлучки? Дело, однако, решилось просто и не потребовало изощренного вранья.
– Где тебя нелегкая носила до сей поры? – поинтересовалась мать.
Отец молчал. После ссоры он чувствовал себя не то чтобы виноватым, а растерянным – не знал, как обращаться с сыном.
Михаил сказал, что был в Доме красной молодежи, что там же его накормили обедом, поскольку он теперь боец ЧОНа и что сегодня, так же как завтра и в последующие дни, им, чоновцам, предстоит дежурить по вечерам.
– Само собой, – неожиданно согласился отец, – харчи надо отрабатывать.
Такая сознательность примирила Михаила с отцом. Желая ему угодить, он раскрыл учебник географии и сделал вид, будто занимается. Егор Васильевич ходил по квартире довольный, – видать, парень за ум взялся.
Между тем Михаил думал вовсе не о географии. Он изыскивал возможность увидеться с Зиной. До сих пор их встречи были случайны. Он ни разу не отважился постучаться в дверь к Лаврухиным или вызвать девушку каким-нибудь иным способом.
Около восьми, ничего не придумав, отправился на Воронцовскую. На дворе сгущались сумерки. Чистильщик Варташа укладывал в деревянный сундучок свой нехитрый инвентарь. За горою, над Баиловым, будто подернутый сиреневым пеплом, догорал закат. В густеющей синеве неба угадывались первые бледноватые звезды.
Теплые притушенные вечерние краски показались Михаилу необыкновенно красивыми. Им овладела непонятная, терпкая грусть. Перед нею все остальное отступило на второй план. Даже привычное ощущение голода пропало. Такого с ним еще не было. Но ведь до вчерашнего утра ни одна девушка и не целовала его. Надвигалось что-то огромное, неизведанное, пугающее и вместе с тем желанное. Жизнь вступала в новую колею, оставив позади детство и отрочество.
Во двор дома Лаврухиных Михаил проник из соседнего двора, перебравшись через стену. В темноте угодил в мусорный ящик, смердящий нечистотами, но зато избежал опасности столкнуться в калитке с сестрой или Ванюшей. Как им объяснить позднее посещение?
Из трех лаврухинских окон, выходивших во двор, светилось только одно, крайнее. Свет был слабый, видно от настольной лампы. Зина, наверное, сидела за книгой. Из-за дальнего угла дома, от калитки, доносились детские голоса. Там играли дети. Возможно, среди них Колька, старший племянник. Увидит – объясняйся тогда.
Михаил укрылся за сараем, бывшей конюшней. До заветного крыльца рукой подать, но дверь закрыта наглухо. Постучаться? А если вылезет сам Милий Ксенофонтович? Да и она выйдет, – тоже долго задерживаться нельзя: отец услышит стук.
Постучать легонько в окно? Если встать на цыпочки, можно дотянуться. Ну, а вдруг Милий Ксенофонтович в той же комнате?
Взгляд Михаила упал на водосточную трубу. Она четко выделялась на светлом фоне. От нее до оконного проема метра полтора… На уровне подоконника – карниз. Белая занавеска лишь на три четверти закрывает окно. Значит, поверх нее можно заглянуть в комнату, как-нибудь привлечь внимание Зины… Михаил перебежал двор, осторожно, чтобы не наделать шуму, вскарабкался по трубе на уровень окна. Ступил на узкий – только-только подошвы уместились – карниз. Нащупал край оконного проема, перехватился… Встал на покатый выступ окна. Перевел дух и заглянул в комнату. То, что увидел, показалось настолько неправдоподобным, что в первый момент он подумал: не галлюцинация ли. Напротив окна, боком к столу, сидел Гасанка Нуралиев. В его руке дымилась папироса.
На лицо Гасанки падала тень от настольной лампы, и все же Михаил хорошо рассмотрел его надменное лицо. Гасанка молча смотрел на кого-то, кто находился перед ним по другую сторону стола. Занавеска мешала увидеть этого второго, но у Михаила даже не возникло вопроса, кто он. Само собою разумелось – Зина. Из комнаты не доносилось ни звука.
Две-три секунды понадобилось Михаилу, чтобы прийти в себя. Прежде всего он испугался, как бы его не обнаружили. Мысль об этом была невыносима для его гордости. Рискуя сорваться, он одним махом перебрался к трубе и соскользнул вниз. Огляделся вокруг. Первым его побуждением было схватить булыжник и запустить в окно. Вторым – ворваться в комнаты и перевернуть все вверх дном. Это намерение тотчас сменилось иным, более достойным мужчины: дождаться, когда Гасанка выйдет, избить его до полусмерти у нее на глазах и гордо удалиться, не удостоив ее ни единым словом. Однако от этих великолепных поступков Михаила удержало одно трезвое соображение. Оно всплыло в мозгу подобно глыбе льда в озере кипящей магмы. У него в кармане лежало удостоверение сотрудника Азчека. Еще два дня назад он мог драться, как простой пацан, не очень отвечая за свои поступки. С сегодняшнего дня все его действия взвешиваются на иных весах, оцениваются по другой, более строгой шкале. Не имеет права сотрудник Чека вести себя, как мальчишка.
Михаил взобрался на смердящий мусорный ящик и перелез в соседний двор. Она – чудовище. После всего, что произошло вчера, любезничать с его смертельным врагом, впустить в дом… Нет, видно буржуй так и льнет к буржую… И как ловко скрывала свое знакомство с Гасанкой. Глазом не моргнув, выслушала рассказ о драке. Притворно сочувствовала… О… Змея!.. Подлая змея… И вовсе, вовсе не красивая…
На работу он пришел мрачный, разбитый, почти больной.
8
Продукты подходили к концу, и Милий Ксенофонтович полдня проторчал на Парапете. Под вечер подвернулся «жучок», скупавший бриллианты. За кольцо с камнем в шесть каратов дал четыре банки мясных консервов английского производства, головку сахару и пять фунтов муки-крупчатки.
Да-с, апокалипсические времена. За кольцо в девятом году он отвалил полтыщи. А еще говорили – политэкономия… Толстые книжки писали. Количество труда-де обусловливает стоимость. Чепуха-с! Вся политэкономия умещается у человека в желудке.
Очутившись в своей комнате, не без труда отодвинул гардероб, открыл железную дверцу вделанного в стену шкафчика, сунул туда узелок с продуктами и поставил гардероб на место.
Заглянул в смежную комнату к дочери. Зина лежала в постели, света, несмотря на сумерки, не зажигала.
Встревожился.
– Что с тобой, дочь? Не заболела ли, не приведи бог?
– Не знаю… Нет. Так, голова что-то.
– А-а, не я ль тебе говорил: нельзя столько читать, нельзя!
Собственно, когда уходил днем, она не читала, а писала в дневник. И личико у нее было при этом какое-то воспаленное. Теперь угол дневника – толстой тетради в коленкоровом переплете – торчал из-под подушки.
Милий Ксенофонтович положил ладонь на лоб дочери. Жара, слава богу, кажется, нет… Вот и пойми тут… Девице без малого шестнадцать…
– Может, поешь или чайку?
– Не хочу, папа, я лучше полежу – пройдет…
– Ну-ну-ну, полежи…
Вернувшись к себе, Милий Ксенофонтович включил настольную лампу, достал кое-какие счетные книги и принялся их изучать. Еще недавно по вечерам он увлекался раскладыванием пасьянсов. Карты неизменно предрекали конец большевизма. Впрочем, что они могли еще показывать, если всякому здравомыслящему человеку и без карт ясно: дни хамской власти сочтены. Поэтому решил Милий Ксенофонтович заняться более практическим делом: подсчитать гуртом все убытки, нанесенные ему революцией. Убытки он исчислял не только в рублях. А забвение людское, попрание прав – какими деньгами оценишь?
В свое время Милий Лаврухин был известным в Баку человеком. Владелец трех доходных домов, мыловаренного завода, солидного пакета «золотых» нобелевских акций, член городской думы, член благотворительного общества имени вдовствующей императрицы Марии Александровны, он считался просвещенным коммерсантом. Значительное грубоватое лицо с коротко постриженными усами и аккуратной седой эспаньолкой, обходительность, умение к случаю проявить добродушие и широту взглядов располагали к нему людей, вызывали доверие. Никому из тех, кто имел дело с этим благообразным, отлично владевшим литературной речью стариком, в голову не могло прийти, что родился Милий Ксенофонтович в молоканском селе неподалеку от иранской границы, что лет тридцать пять назад собственноручно обрабатывал свой крестьянский надел и был неграмотен. Он разбогател на торговле скотом. Весной покупал в Иране гурты мосластых изголодавшихся коров и овец, нанимал пастухов. Скот перегоняли через границу, выгуливали на вольных пастбищах, и хозяин по хорошей цене продавал их мясоторговцам.
Милий Ксенофонтович не любил вспоминать о тех временах. Кем он тогда был? Сермяжной шкурой. Вышел на настоящую дорогу. С хорошим капиталом обосновался в Баку, начал по льготным ценам скупать участки, строить дома, женился на девушке из благородных – дочери чиновника, состоявшего при особе наместника. Не пришлось вместе дожить до преклонных лет – умерла жена за год до войны.
Сын Александр (крещен в день тезоименитства его императорского величества государя Александра Третьего) рос парнишкой здоровым, смышленым и бойким. От матери унаследовал благородное дворянское обличив, от отца – мужицкую силу характера, цельность, сметку. Однажды, еще будучи гимназистом, во время летних вакаций, на строительстве новой дачи в Мардакянах в день научился у каменщика класть стены, да его же, побившись об заклад, кто скорее подведет свою часть под крышу, и обставил. В четырнадцатом году ушел на фронт. А через три года на побывку после ранения приехал с золотыми погонами поручика, с тремя «Георгиями» за храбрость.
Александр получил назначение в штаб Юго-Западного фронта. Изредка писал письма. Радовался Милий Ксенофонтович; сын служит в штабе, подальше от германских снарядов и поближе к генералитету. Да, видно, сглазил… С ноября семнадцатого как отрезало. Ни писем, ни иных вестей. То ли убит на гражданской, то ли ушел с генералами за границу…
Зная монархические убеждения сына, Милий Ксенофонтович ни на секунду не сомневался, что тот воевал на стороне белой армии, за восстановление «законного порядка», за «единую и неделимую Русь-матушку».
Одно утешение осталось – дочь Зина. Обличием вышла в мать – с первого взгляда видна дворянская порода. Иной бы, может, посчитал, что по нынешним временам это ни к чему. Но Милий Ксенофонтович воспринимал «нынешние времена» только как неприятный эпизод. Было татарское иго, было «смутное время», было нашествие двунадесяти языков – все прошло. И это пройдет. Почему? Да потому, что не может такое продолжаться долго. Не может – и все тут. Не бывает такого. Не бывает, чтобы человека ни за что ни про что, без суда и следствия лишали прав состояния, чтобы цена нобелевских акций падала до цены бумаги, на которой они напечатаны, чтобы домовладелец превращался в жильца коммунальной квартиры.
Право на частную собственность представлялось ему таким же естественным, как право дышать окружающим воздухом. Крутые действия большевиков вызывали у него не столько злобу, сколько недоумение. Помилуйте, это даже любопытно! Разве только в дурном сне увидишь… Но дурные сны не бывают продолжительны. Слава богу, на Россия свет клином не сошелся, цивилизация еще не погибла. Не сегодня-завтра Антанта двинет несметные полчища. У нее тоже немалые денежки здесь пропадают, а тамошние дельцы, не в пример нашим, народ дошлый…
То-то пойдет потеха… Нет, мыловарам-то каково будет? Ведь в прошлом году взашей выгнали его с завода… Дурни, дурни… Куда глаза-то денут от великой стыдобушки, когда огрудят крыльцо да бухнутся на колени, вымаливая прощение. Что же делать – простим… Только уж насчет убытков – шалишь: все вернут до полушки.
Ну, а большевичков-разбойничков, коих рабочие же и повяжут, закуют в колодки и повезут в клетках, как Емельку Пугачева, в Москву. Предоставят рабов божьих на лобное место. Выйдет палач с топориком и полетят головушки. Много полетит, ох много!
То-то иностранцы посмеются: «Ну, Расеюшка, целый мир распотешила!» Посадят в Петрограде царя Михаила или Кирилла, а при нем своего министра. И пойдет он нашу «великую и малую и белую» уму-разуму учить.
Иногда лютой змеею вползала трезвая мысль: а ежели они не бандиты и не грабители? Одежду, золотые часы с цепочкой, хрусталь не взяли, хотя и не скрывал. Обстановку тоже оставили. Поют: «Мы наш, мы новый мир построим…» Строить собираются… Ну, как построят! Мыловаренный-то работает…
Подчиняясь инстинкту самосохранения, он отвергал эти думы. Признать их правильными значило признать свой конец. Он не мыслил существования без власти, которую давала ему частная собственность. И если новый мир отвергает ее, то для Милия Ксенофонтовича нет места в новом мире.
…В тишине Милий Ксенофонтович услышал легкий скрип ступенек. Кто-то взошел на крыльцо. В дверь постучали. Милий Ксенофонтович недоумевал, кто бы это мог быть. Люди его круга с наступлением темноты старались не выходить из дому.
Спрятал в ящик стола счетные книги, вышел в прихожую. Раньше отсюда вела дверь в кухню, но теперь она была заколочена. Кухней пользовались жильцы. Вход в дом у них тоже, слава богу, отдельный – через парадное крыльцо.
Стук повторился.
– Кто там?
– Здесь живет гражданин Лаврухин?
Легкий акцент выдавал азербайджанца. Голос был молодой, принадлежал скорее всего подростку, и это несколько успокоило Милия Ксенофонтовича.
– Кому и зачем, позвольте спросить, я понадобился?
– Письмо вам.
– Письмо носит почтальон, да и то по утрам, а не на ночь глядя. От кого письмо?
– Не знаю. Меня просили доставить и ответ принести.
Милий Ксенофонтович постоял в раздумье. Черт его знает… Словно для них почта не существует. Попросить бы сунуть письмо в щель, да дверь сделана добротно, ни единой щели в ней не сыщешь. Из кухни доносились приглушенные голоса жильцов, шипение примуса. В случае чего можно на помощь позвать.
Повернул ключ, отодвинул щеколду. На крыльце стоял парень в каракулевой папахе, в приличном костюме.
– Входите.
Милий Ксенофонтович тщательно запер за посыльным дверь, провел в свою комнату. На вид парню было лет шестнадцать, не больше. Физиономия вполне добропорядочная, если не считать ссадины под глазом. Указал на стул:
– Извольте садиться.
Сам сел в простенок, рядом с окном: в случае чего можно стекло разбить и караул крикнуть.
Посыльный снял папаху, выложил на стол самодельный конверт из синей оберточной бумаги. Затем достал папиросу и, перед тем как закурить, попросил разрешения, чем окончательно расположил к себе хозяина. Конверт был заклеен. Милий Ксенофонтович достал нож для разрезания бумаги, распорол конверт, извлек вдвое свернутый лист довоенной почтовой бумаги. Развернул… И только благодаря многолетней привычке владеть собою в присутствии чужих людей удержал возглас радости и удивления.
Узнал почерк Саши, пропавшего сына. С минуту Милий Ксенофонтович сидел неподвижно, давал время уняться сердцебиению. Тотчас сообразил: коли посыльный не знает, от кого письмо, то, стало быть, и знать не должен.
Спокойным, размеренным жестом придвинул к себе настольную лампу, прочитал:
«Дорогой папа, обнимаю тебя. —
Строки начали расплываться. Некоторое время невидящими глазами смотрел на письмо. Посыльный не должен заметить его волнения. Трудным усилием заставил отступить слезы.
Я знаю, – читал он дальше, – что, благодарение богу, вы с Зиной живы и здоровы. Для меня это большое счастье. Вы, верно, и ждать меня перестали. Не удивительно, если так: я прошел через огонь, в котором сгорели десятки моих товарищей. Сейчас нахожусь в Баку. По причинам, о которых тебе нетрудно догадаться, существую нелегально, под чужим именем. Не исключено, впрочем, что обстоятельства приведут к родным пенатам. В связи с этим прошу тебя осторожно выяснить один деликатный вопрос. Мою сестрицу видели в обществе пролетарского юноши, некоего Донцова Михаила. Сей кавалер со вчерашнего дня является сотрудником Чека. Необходимо, папа, исподволь выяснить через Зину, что их связывает, когда, при каких обстоятельствах и почему они познакомились. Особенно важны мелочи – о чем они говорят и т. п. Если тебе все известно, то немедленно изложи в письме и отправь его с посыльным. Разумеется, в конверте, т. к. посыльному незачем знать содержание нашей переписки. Если же мое сообщение для тебя новость, то, полагаю, для выяснения всех обстоятельств достаточно будет одного дня. Предложи посыльному явиться к тебе послезавтра в удобное для тебя время. Умоляю, будь осторожен, не руби с плеча, не требуй от Зины прекратить встречи с этим чекистом. Обнимаю и целую, папа. Письмо обязательно сожги, но так, чтобы этого никто не видел. Зина обо мне пока ничего не должна знать.
Твой любящий сын».
Милий Ксенофонтович долго охлопывал себя, прежде чем нащупал в кармане халата платок. Вытер запотевший лоб, виски.
Сказал:
– За ответом, молодой человек… не имею чести знать имени-отчества, милости прошу через день часиков этак в пять. Засветло… Да-с.
Милий Ксенофонтович встал, привычно пошарил в пустом кармане. Посыльный слегка усмехнулся и высокомерно, даже слишком высокомерно для татарского юнца, заметил:
– Не трудитесь, господин Лаврухин, я в гимназии учился.
– Э-э… помилуйте… Я вовсе не то чтобы… на чай, положим, а так. Может, перекусите?
– Спасибо, не хочу. До свидания.
«Мальчишка! Молоко на губах не обсохло, а гонору…» – мысленно ругнулся Милий Ксенофонтович, запирая за посетителем дверь. Вернулся в комнату и рухнул на диван, давая волю чувствам.
Вот так сюжет! Сын нашелся, теперь с дочерью неладно. Недаром вчера утром она с каким-то парнишкой на крыльце балясничала. И в училище весело побежала. Не самый ли это чекист? Те-те-те, а ведь не зря он вокруг Зинуши крутится, не зря. Уж не пронюхал ли про тайничок, что в стене. Одних бриллиантов, не считая царских десяток да серебряной посуды, тысяч на сто спрятано в том тайничке… Ай-яй-яй-яй… Вот беда-то… Петля, чистая петля. Что делать? Что делать?..
Милий Ксенофонтович перечитал письмо, вышел в прихожую и сжег его в печке. Осторожно приоткрыл дверь в комнату дочери, вошел, затаился. Уловил чуть слышное ровное дыхание. Зина спала. На цыпочках прокрался к изголовью, нащупал угол тетради, высунувшейся из-под подушки, тихонько потянул. Спустя минуту сидел у себя, при свете настольной лампы листал дневник дочери. Ну вот и слава богу, и слава богу. Все узнаем без допросов… Добром-то слова не вытянешь… Характером вся в покойную мать, царство ей небесное. Не то, не то… Про учителей, про книги. Ага, вот оно. Сегодня, должно быть, написано. Милий Ксенофонтович уселся поудобней и стал читать.
«Я знаю его три с половиной года, но вчера увидела будто впервые. У него сильное лицо и ярко-голубые смелые глаза флибустьера». (Эко завернула! Флибустьер. Уж писала бы прямо – разбойник – в самую бы точку). «Раньше я не замечала (где уж тебе, дурочке, заметить?!) – то есть замечала, пожалуй, но меня это не волновало. А вчера, когда увидела его, приятно сжалось сердце. Он решителен, как Робеспьер, и беспощаден к своим слабостям, как отец Сергий. Он сказал, что уйдет из дому, и тотчас признался мне, что солгал. Я понимаю его. Как сильный человек, он презирает рисовку». (Эх, дочь, дочь, тебя он презирает за то, что летишь, как мотылек на огонь). «И еще он горд, очень горд, но вместе с тем деликатен. Его гардероб оставляет желать лучшего. Когда я предложила подарить ему папин пиджак (ого! вон до чего дошло! Отцовские пиджаки кавалерам раздаривать; Мало большевики сграбили, теперь родная дочь взялась), – он тотчас отказался (слава богу!), – но как-то так просто, не придавая этому значения, что у меня в глазах потемнело от любви к нему. (Вот те на! Отца грабят, а у нее в глазах темнеет – от любви… Не к отцу, не к брату, а к тому же грабителю. В шестнадцать-то лет! Экая напасть!) – Да, я его люблю. И он меня – тоже. Он признался все-таки и ужасно, ужасно смутился. Произошло это на улице, а вовсе не в цветущем саду и не в лодке во время шторма, как мне мечталось. Он еще ученик. Но я знаю, он многого добьется, у него цельный характер, в нем есть свежесть незаурядности… У меня такое чувство – все время хочется заботиться о нем. Я точно родилась заново, родилась с новым, горящим сердцем. Я удивительно как счастлива…»
Запись обрывалась – дальше были чистые страницы. Милий Ксенофонтович встал и начал расхаживать по комнате. Движение возбуждало мысль. Жизнь дельца приучила его не предаваться долго бесплодным сожалениям, а, крепко взяв в руки вожжи, управлять событиями.
Донцов, Донцов. Позвольте-ка… Да ведь это, надо полагать, сын бурового мастера Донцова, что снимает квартиру в доме на Сураханской. А здесь две комнаты в полуподвале, помнится, сданы его зятю. Теперь понятно, почему Зинуша знакома с Мишкой Донцовым. Их знакомству больше трех лет. А чекистом парень заделался только вчера. Отсюда следует, что Сашины подозрения гроша ломаного не стоят. И за тайник опасаться нет оснований.
Как с Зиной быть – вот задачка. Большевичкам скоро конец. И этого флибустьера ждет намыленная веревка. Спасать надобно Зинку, спасать. Можно бы, конечно, родительскую власть употребить… Да надо ли? Покуда ее любовь… фу! – пар один, девичьи грезы… А запрети – и всерьез разгорится. От запретов многие беды проистекают.
Есть иная зацепочка. Сказать Зинуше, что ее кавалер чекист, благо она о сем не ведает. Открыть про Сашу. Прячется, мол, от Чека. Что же отсюда воспоследует? Братом она гордится – герой – и никогда не выдаст. Боязнь за брата заставит ее держаться с кавалером настороже. Тут уж будет не до нежных чувств. Потому чекист – это не книжный флибустьер. Он, оглашенный, родных отца-матери ради своей революции не пожалеет. Зина – девочка не глупая, к семье приверженная, сама даст ему отставку. Тихо, мирно…
С величайшими предосторожностями Милий Ксенофонтович положил дневник туда, откуда взял.
9
Третий рабочий день, как и два первых, не принес ничего нового. Девушки машинистки, распознав в новичке человека не расположенного к зубоскальству, перестали его задирать. Михаилу было не до них. Чудовищное вероломство Зины Лаврухиной выбило его из колеи. С трудом высиживал положенные часы и никак не мог заставить себя заинтересоваться работой. Писать приходилось во много раз больше, чем на уроках в училище. За день правая рука уставала до ломоты. С горьким чувством посмеивался над собой: «Уж здесь-то изучу русский язык на все сто. После такой практики без экзаменов в академию можно».
Явившись в начале шестого домой, застал Ванюшу. Он вскочил навстречу, шумно приветствовал, похлопывая по плечам, по спине. В глазах его искрилось лукавство и улыбался он по-особенному, будто знал очень веселый анекдот, да не решался рассказать.
Из соседней комнаты доносился звонкий голосок племянника Кольки. Требовал каких-то объяснений от «тети Нади».
– Вот бабушка внука просит до завтра оставить. Придется. Видно, дети не больно балуют ее лаской да заботой.
Ванюша подмигнул Михаилу – что, мол, поделаешь, надо посочувствовать старушке.
Настасья Корнеевна вздохнула, обратила на зятя ласковый и погрустневший взгляд.
– Верно, верно, Ванюша, истинные твои слова. Пробери ты его, дома в глаза не видим.
– Ничего, мамаша, он парень исправный, плохого не сделает, – бодро заверил Ванюша. – Ну, я пойду. Миша, проводи до ворот.
– Да куда ж ты его, дай поесть, – встрепенулась Настасья Корнеевна.
– Сыт я, сыт! – уже из прихожей крикнул Михаил.
Едва вышли на улицу. Ванюша расхохотался – дал себе волю.
– Ну, брат, не ожидал от тебя такой прыти.
– Какой?
Михаил терялся в догадках. Не проведал ли Ванюша о его работе в Чека?
– Не знаешь? Ове-ечка!.. Эх, паря, золотой у тебя родственник. На!
Ванюша протянул клочок бумаги. Михаил выхватил, развернул. Крупным почерком, с завитушками, напоминавшими славянскую вязь, было выведено:
«Приходи на Парапет к шести. Средняя аллея, первая скамейка со стороны Ольгинской. Обязательно!»
Слово «обязательно» дважды подчеркнуто.
Лицо, шею Михаила точно кипятком ошпарило. Сглотнул слюну. Молчал.
– Да полно, не конфузься ты этак-то, – мягко сказал Ванюша, – а то, ей-богу, страшно: хлопнешься в обморок, возись с тобой. Дело-то житейское…
– Когда она?.. – вымолвил наконец Михаил.
– Да сейчас. Прихожу из депо – встречает у калитки. Глазки в землю, щечки, будто маков цвет. Так и так, Иван Касьяныч, не могли бы вы быть настолько добры… Почему не быть? Зашел домой, взял Кольку, тем паче, что бабка просила привести.
– Анне сказал?
– Зачем? Женский пол в такие дела допускать нельзя – сейчас всю округу оповестят, уж мне ли не знать? Ну, молодец Мишка. Девушка хороша, хоть и буржуйского роду. Она, ежели рассудить, так нашему брату нужна женщина рукодельная – прислуги не держим… Но и то сказать: нужда всему научит. Выхожу намедни, глядь, что за диво: лаврухинская дочка стираное бельишко на дворе развешивает… Нет, девка по всем статьям…
– Ванюша!.. – отчаянно, будто в него раскаленной иголкой ткнули, вскрикнул Михаил. – Ну, что мне?.. Что ты, как сваха?.. – В голосе слышались слезы. – Белье какое-то! – Сглотнул слюну. – Ты ее не знаешь… Она… с Гасанкой…
Не выдержал. Невозможно стало нести в себе эту тяжесть, разъедающую ядовитую боль. Рассказал все, как было. И про то, как по водосточной трубе лазил и про все остальное. Ванюше можно. Прошли в конец улицы, повернули, проскочили до угла Цициановской. Здесь Ванюша остановился и сказал:
– Ну, Михаила, тебе только в цирке выступать – ловко по трубам лазишь. Одно плохо… – указательным пальцем постучал сначала по лбу шурина, потом по стене.
– Чего? – не понял Михаил.
– Олух царя небесного – больше ничего. Ты куда свои ревнючие бельмы запускал? В комнату к папаше ее, Милию свет Ксенофонтычу. Очень просто мог старика в одночасье жизни решить. Глянул бы Милий на окно, а там этакая персона глазищами ворочает. Ну и дух вон…
– Как же… так? – жалко улыбнулся Михаил. – Откуда ты знаешь, чья комната?..
– Месяца два назад Колька заболел, так я толкнулся к Лаврухиным за аспирином. Дочка его честь по чести провела меня к себе, выдала целую пачку… Ее окно крайнее от улицы, а эти два – отцовские. Понял, голова?
Михаил стиснул в ладонях здоровую руку шурина.
– Ванюша, ты славный… Спасибо, Ванюша. Ты… Я никогда…
– Ну, ну, не задерживайся, беги куда зовут. Эх, влетит мне от мамаши – увел, скажет, парня не емши, не пимши… Сплети уж там что-нито поскладнее…
– Сплету, Ванюша, сплету! – весело пообещал Михаил и, не переставая улыбаться, зашагал через улицу.
У него не было часов, да и без них знал, что пришел на Парапет слишком рано. Однако четверть часа провести в одиночестве было, пожалуй, кстати.
Две аллеи, пересекаясь в центре, делили окружность сквера на четыре сектора. Третья аллея опоясывала сквер по периметру. Вдоль бровок тянулись сплошные заросли кустов боярышника. Летом они представляли собой непроницаемую для глаза зеленую стену. Кусты не подстригались с семнадцатого года и сильно разрослись. Но сейчас сквозь мешанину сучьев, на которых едва проклевывалась зелень, сквер просматривался насквозь и казался прозрачным. Развесистые акации, что поднимались за кустарником, только-только раскрыли почки и в лучах предзакатного солнца выглядели чуть размытыми, будто погруженными в зеленоватую воду.
«Трудовой» день «черной биржи» кончился, исчезли с аллей котелки и визитки. Сквер заполнила демократическая публика. Возвращаясь с работы, спешили служащие, прошла, оживленно переговариваясь, компания девушек – у каждой связка книг.
Михаил опустился на скамейку в конце аллеи, рядом с седеньким старичком в белой толстовке, полосатых брюках и пенсне – по виду бывшим учителем или чиновником. Сев вполоборота к старичку, из-за его головы, увенчанной соломенной шляпой-канотье, вглядывался в перспективу Ольгинской улицы. По ней вдаль убегали трамвайные рельсы туда, где торчало знакомое, скошенное с боков и похожее на корабль, здание.
«Так, значит, Гасанка приходил к старому Лаврухину, – в который раз повторял про себя Михаил, точно еще сомневался в такой возможности. – Интересно, зачем? Хотя, какое мне дело? Главное – Зина тут ни при чем. Хорош бы я был, если бы начал перед ней высказываться насчет Гасанки…»
Сердце вдруг подскочило к самому горлу. Только он мысленно произнес имя Гасанки, как увидел его самого, живого, из плоти и крови, в неизменной каракулевой папахе. Неторопливым шагом фланера Гасанка двигался по кольцевой аллее. Пересек выход на Ольгинскую и скрылся за стеною боярышника. Михаил не отрывал от него глаз. Сквозь просветы в сучьях он увидел, как Гасанка подошел к пустовавшей скамейке, сел, мельком взглянул направо, налево, достал толстую папиросу (должно быть, мирзабекьяновской фабрики), закурил.
Михаил не знал, что делать. Уйти? Неужели она назначила свидание им обоим, чтобы посмеяться? Тогда все!.. Больше он ее не хочет знать… Это… это уже просто… черт знает что… Глупо.
Гасанка посмотрел в сторону Михаила, тот быстро отклонил голову, спрятавшись за канотье старичка. Тотчас сообразил, что прятаться нет нужды, Гасанка все равно его не видит за густым переплетением сучьев, потому что от Гасанки до кустарника не меньше десятка метров.
Рядом с Гасанкой на скамейку сел щуплый молодой человек в потрепанной гимназической фуражке. Внимание Михаила он привлек потому, что обратился к Гасанке с какими-то словами. Одет он был в форменную гимназическую рубашку, перепоясанную широким черным ремнем – по всему, недавний гимназист. Примечательным показалось его лицо – широкий покатый лоб, под одну линию со лбом нос, широкий в переносице и слишком короткий. Физиономия эта напоминала кошачью или, скорее, рысью морду. Под стать рысьим были и глаза – круглые, немигающие.
«Гасанка, наверное, просто дожидался здесь этого типа», – чувствуя, как тает в груди напряженность, сообразил Михаил.
Так оно и было. Гасанка поднялся, оставив на скамейке синий пакет – похоже, с папиросами, – и пошел дальше по кольцевой аллее. Молодой человек с рысьим лицом сунул пакет в карман брюк, зевнул, потянулся, запрокинув руки и выгнув спину. Посидев еще с минуту, встал и вышел со сквера. Пересек улицу, задержался на углу Ольгинской, закурил. Миновал угловой двухэтажный дом, затем, словно бы спохватившись, повернул назад и вошел в ближайший к углу подъезд. Михаил поймал себя на том, что неотступно следил за «гимназистом», как про себя назвал он Гасанкиного знакомого. Подумал: Гасанка определенно спекулянт и сбывает папиросы. Впрочем, сейчас Михаил готов был простить ему и спекуляцию.
Он не видел, как подошла Зина. Она выросла перед ним точно из-под земли. В черном платье с белым кружевным воротничком и кружевными манжетами она выглядела совсем взрослой. На ее лице он не уловил оживления, радости от встречи. Напротив, оно было строгим, пунцовые губы плотно сжаты, и на чистом высоком лбу между бровей обозначилась едва заметная складка. Михаил почувствовал робость, жалко улыбнулся и немедленно возненавидел себя за эту улыбку.
Зина холодно поздоровалась, села рядом.
– Мне надо с тобой серьезно поговорить.
От ее ледяного тона у Михаила заныло в груди. Совсем не так представлял он себе свидание с любимой. Решил: «Наверное, видела, как я лазил на окно, и думает – хотел подсмотреть».
– Почему ты скрыл от меня, что работаешь в Чека?
У Михаила отлегло от сердца.
– А когда бы я сказал? Ведь всего три дня как работаю.
Его искренний, почти виноватый тон обескуражил Зину. Она ожидала, что Михаил станет отнекиваться, врать, постарается скрыть свою принадлежность к Чека. Собственная холодная надменность показалась ей глупой и оскорбительной. Пряча глаза, проговорила:
– Значит… ты не следил за мною… за нашей квартирой? И со мною… в общем, поддерживаешь знакомство, не потому что…
– Да что ты, Зина! – С недоуменной улыбкой Михаил прижал к груди ладони. – Зачем за тобой следить? Я… Я и не думал… Конечно… – Он хотел сказать: «Конечно, к твоему отцу ходит Гасанка, явно спекулянт», но вместо этого вырвалось: – Мало ли что – в Чека работаю? Значит, обязательно следить? Я же там просто бумажки переписываю – вот и все.
Он сам удивился своей искренности и полному отсутствию честолюбивых побуждений. А ведь еще позавчера, не испытывая ни угрызений совести, ни сомнений, собирался намекнуть Зине насчет подстерегающих его на каждом шагу опасностей, собственной неустрашимости и прочих героических качеств.
– Правда?
Зина подняла на него глаза. В них не осталось и следа недавней отчужденности. Взмах ресниц, густых и длинных, вызвал такое ощущение, будто теплая бархатная ладонь коснулась груди.
Михаил кивнул, не в силах вымолвить слова. Ее рука лежала на краю скамейки, он подвинул свою и коснулся мизинцем ее мизинца. Он затаил дыхание, отдаваясь волнующему чувству близости. Положил свой мизинец на ее, осторожно погладил. Потом накрыл ее руку ладонью. Оба молчали и смотрели в землю. Боялись встретиться глазами, потому что каждый знал, что найдет во взгляде другого.
– Проводи меня, – тихо сказала она.
Они шли, разговаривая о библиотеке, что около армянской церкви, о воробьях, о красках вечернего неба. Они шли рядом, то и дело совершенно непроизвольно касались друг друга плечами, и от этого ощущение их обособленности от остального человечества крепло и утверждалось.
Дойдя до дому, они немного постояли около калитки. Обоим не хотелось расставаться, но и торчать на глазах у целой улицы тоже было неловко. Зина нашла выход из положения, – взяв Михаила за руку, провела за сарай. Они очутились в узком пространстве между задней стеною сарая и стеною, опоясывавшей двор. Было тесно, им поневоле пришлось встать вплотную друг к другу. В сумеречном свете раннего вечера она показалась Михаилу пугающе прекрасной. Он посмотрел ей в глаза и, подчиняясь неизвестной силе, исключавшей даже мысль о сопротивлении, привлек ее к себе, нашел ее губы… Время потеряло значение. Зина первая вернулась к действительности.
– Что мы делаем? Нельзя… не надо…
– Давай поженимся, – сказал он. Сказал только потому, что знал из книг: женщины всегда почему-то ждут от мужчин именно этих слов.
– Но ты ведь еще мальчишка.
– Мне семнадцать.
– Ты не знаешь мою семью. Ничего не знаешь. Папа…
Она запнулась и долго молчала. Положила руки ему на плечи, проговорила торопливо, трепетно, будто стесняясь своих слов:
– Скажи, Миша, если бы, ну, близкий тебе человек оказался бы нелояльным к власти, который ты служишь…
– Враг, что ли? – захотел уточнить Михаил.
– Ну да, положим, враг… Твой родственник хотя бы… Что бы ты предпринял как чекист? Выдал бы его властям?..
Вопрос показался ему слишком отвлеченным, потому что руки его лежали на девичьей талии и губы еще сохраняли вкус поцелуя. Улыбнулся ее наивности, сказал:
– Да ведь если он враг, значит он уж не родственник.
Руки сползли с его плеч, упали, как плети.
– Но как же так? Получается: родственные узы для тебя ничто.
– Погоди! – вдруг загорелся он. – Вот и видно, что ты не пролетарка… Главное что? Борьба классов. Ну какой же, посуди, может быть у меня родственник в классе, который враждебный и с которым я борюсь?..
Она посмотрела на него искоса и снизу вверх, отчего взгляд ее приобрел вызывающую остроту.
– Ты только что предлагал пожениться, а я принадлежу к буржуазному классу. Раздумаешь, да? И начнешь сейчас же со мной бороться?
Такого оборота Михаил не ожидал. Огляделся, будто ища поддержки.
– Но ты… ты должна перевоспитаться, полностью встать на комсомольскую платформу. За мировую революцию и против гидры капитала…
Она улыбнулась, но совсем не весело, а устало.
– Какой еще гидры? Гидра – в мифологии.
Михаил снял руки с талии Зины. Что-то обидное почудилось в ее улыбке и словах.
Она уловила перемену в его настроении, попыталась произнести какие-то примиряющие слова, но он заговорил, не слушая ее:
– Знаю, что в мифологии, – дело не в том. Я за Советскую власть и за мировую революцию, потому что я за справедливость. Разве это плохо? Я за то, чтобы все люди жили хорошо, чтобы не было голодающих и нищих. Разве это плохо? Скажи: плохо? – Но сказать он не дал. – И если, например, один захапал все, что создали тысячи человек, я за то… Словом, его надо экспроприировать как последнего гада. Разве это плохо? Ну ответь – плохо?
Он говорил громко, не заботясь о том, что его могут услышать во дворе. Голос его клокотал. В повороте крупной головы, в энергичных движениях рта, в яростном блеске глаз чувствовалась незаурядная внутренняя сила…
– Нет, ты ответь! – напористо повторил он. – Разве это…
Она обвила его шею и закрыла губами рот…
– Пора, – сказала она, отрываясь от него, – мне пора домой.
– А когда… когда мы встретимся?
– Не знаю… Завтра. Нет, лучше через день… Приходи к дому, кинь камешек в мое окно, с улицы легко попасть – оно крайнее. Только не разбей окно. И постарайся не попасть на глаза отцу.
Она засмеялась легко, счастливо.
Шагая домой (спешил – надо было перекусить перед работой), вспоминал и заново переживал каждый взгляд, каждое слово, каждый поцелуй. «А откуда она узнала, что я в Чека?» – неожиданно возник вопрос. Об этом он говорил только своим друзьям. Но они не болтливы и, кроме того, не знакомы с Зиной. Так откуда же?
10
Постепенно Михаил втянулся в работу. Обилие писанины больше не угнетало его. Документы, попадавшие ему в руки, открывали нечто такое, о чем он раньше не подозревал. Оказалось: в борьбе с затаившейся контрреволюцией принимали участие люди, не имеющие никакого отношения к Чека. Обыкновенные рабочие, служащие в своих письмах сообщали о появлении в городе активных муссаватистов, дашнаков, эсеров, о тех, кто призывал выступать против Советской власти.
Когда Михаил выразил перед Костей Спиридоновым удивление по этому поводу, тот лишь пожал плечами.
– А что тут удивительного? Мы защищаем народную власть, вот народ нам и помогает. Иначе пришлось бы раз в десять увеличить штат.
Большинство корреспондентов были малограмотны, выражались языком корявым и неуклюжим. Буквы в письмах клонились и вправо и влево, точно доски в трухлявом заборе. Как видно, писание требовало от этих людей немалых усилий, и только неотложная нужда, чувство долга заставляло их браться за перо. Но именно в таких письмах содержалась самая ценная информация.
Официально в обязанности делопроизводителя входило вносить краткое содержание поступавших от граждан писем в регистрационную книгу. Но вскоре Михаил понял, – от него требуется нечто большее, чем бесстрастная регистрация. Раза два Холодков интересовался, не попадались ли в письмах упоминания о подпольных контрреволюционных организациях. Собственно, Холодков почти ежедневно просматривал регистрационную книгу и знал, о чем пишут добровольные помощники. Михаилу стало ясно: начальник нацеливает его, вводит в курс главных задач, стоящих сейчас перед Чека. Конечно, на своем невеликом посту делопроизводитель вряд ли мог сколько-нибудь заметно повлиять на успешное решение этих задач, но Холодков хотел, чтобы молодой сотрудник поверил в необходимость и важность порученного ему дела. Теперь чтение писем стало для Михаила увлекательным поиском, он не просто с любопытством воспринимал вое, о чем в них говорилось, – он знал, что ему нужно. Канцелярская работа впервые дала нечто похожее на чувство удовлетворения.
Однажды молчаливый смуглый юноша, сидевший в дальнем углу канцелярии – его звали Муса Кулиев и он был переводчиком, – положил перед Михаилом на стол перевод письма, написанного по-азербайджански.
«В Азчека.
Заявление.
От электромонтера табачной
фабрики Зейналова Эсфендиара.
У меня есть дальний родственник. Эюб Миркулиев. До революции он имел керосиновую лавку. Эюб очень любил читать газеты и всегда рассказывал, про что там пишут. Эюб не любил царскую власть, но любил турок и говорил, что Азербайджан надо отделить от России. За это муссаватистская власть сделала Эюба чиновником и послала в Ганджу. Теперь Эюб опять появился в Баку, опять читает газеты и опять говорит, что Азербайджан надо отделить от России. Мне он сказал: есть секретная организация, которая позаботится об этом, и предложил вступить в нее. И еще он сказал, что сбросить большевистскую власть помогут русские офицеры. Они хоть и гяуры, но лучше большевиков. Так сказал Эюб. Я не желаю отделяться от России, потому что в ней теперь наша рабочая власть. Прошу: помешайте Эюбу и его друзьям отделить Азербайджан от России. Живу я на Персидской улице в доме № 141.
Зейналов».
Михаил еще раз перечитал письмо. Сомнений быть не могло: этот любитель газет Эюб – член подпольной организации муссаватистов. Вместе с письмом Михаил не мешкая прошел в кабинет Холодкова.
Тот прочитал, пригладил волосы. На скулах выступил румянец.
– Так, так, штабс-капитан-то прав, – пробурчал себе под нос и потянулся к телефону. Положил руку на трубку и, словно только теперь заметил Михаила, улыбнулся.
– Что ж, коллега, вы начинаете кое-что смыслить в наших делах. А?
– Не знаю, – зарделся от похвалы Михаил.
– Хорошо, оставьте письмо, идите, – без улыбки, сухо сказал Холодков и, когда Михаил уже взялся за ручку двери, добавил: – Продолжайте, Миша, в том же духе.
«О каком-таком штабс-капитане он упомянул? – недоумевал Михаил, усаживаясь за свой стол. – Штабс-капитаны были только в царской армии да у белых. А Холодков сказал: прав штабс-капитан-то».
Решил справиться у Кости Спиридонова. Подошел к его столу, стараясь перекрыть стук машинок, громко спросил:
– Костя, а кто такой штабс-капитан?
Костя откинулся на спинку стула, поправил на плечах неизменную студенческую тужурку. Некоторое время смотрел на Михаила озадаченно, точно вспоминая, кто это перед ним. Потом поманил пальцем и, когда Михаил, навалившись животом на стол, оказался с ним нос к носу, вполголоса сказал:
– Во-первых, не ори. Во-вторых, штабс-капитан – офицерский чин старой армия. В-третьих, почему именно в рабочее время тебе приспичило задавать пустые вопросы?
– Что чин, это ребенок знает, – ворочая желваками (возмутил назидательный тон Кости), сказал Михаил, – А спросил я потому, что Холодков сказал про какого-то штабс-капитана, мол, он прав… Офицер, а прав? Непонятно.
Костя ухватил его повыше локтя, притянул к себе и шепнул на ухо:
– Хочешь получить совет? Под большим секретом?
– Под секретом?
– Ну да, ценный же совет. Не суйся в дела, не имеющие прямого отношения к твоей работе. Чем меньше об этих делах будешь знать, тем лучше для них. Поверь опыту старого чекиста.
Эпитет «старый» так не вязался с мальчишеским обликом двадцатилетнего Кости, что Михаил не удержался от саркастической усмешки.
– А ты зубы не скаль, – серьезно и без тени смущения сказал Костя. – В Азчека я с первого дня и за девять месяцев кое-что постиг. Все. Иди работай.
Михаил подавил обиду. Если отбросить Костину заносчивость, вечные «во-первых», «во-вторых», то, пожалуй, следовало признать его правым.
В сущности Костя был честный, принципиальный, прямой человек. Комсомольцы избрали его секретарем ячейки, и он неплохо справлялся. К числу принципов, которыми он руководствовался в работе, относилось неприятие анонимок. Анонимки он презирал, авторов их именовал Навуходоносорами и полагал, что их надо расстреливать. Проверка показывала: в девяти случаях из десяти авторы анонимок пытались с помощью Чека свести личные счеты.
Как-то раз попалось письмо такого содержания:
«Товарищу председателю Азчека!
Как пламенный пролетарский революционер, пострадавший от ига царизма, довожу до вашего сведения, что проживающий в Баку по Тазапирской улице, дом 108, гражданин Плотников есть злостный спекулянт торговли кокаина, который уж год маскируется под трудящего пролетария. Бинагадинского промысла и не верьте ему, потому что он буржуйский гад, по которому плачет веревка. Кокаин он прячет в подушке, что на тахте. Сведения эти правильные.
К сему старый рабочий и пламенный революционер».
Михаила позабавил стиль. Вручил письмо Косте – пусть тоже посмеется.
Результат получился обратный ожидаемому.
– По-одлец! – темнея лицом, процедил сквозь зубы Костя. – От первого до последнего слова ложь – видно же. Н-ну покажу я этому «пламенному революционеру» страсти господни!
На следующий день пришел на работу веселый, будто светящийся изнутри. Явно гордясь собою, положил перед Михаилом клочок серой оберточной бумаги, пришлепнул ладонью:
– На, прочти-ка.
Михаил сразу узнал почерк автора вчерашнего анонимного письма.
«Я, бывший лавочник Баюкин Фрол Кузьмич, клятвенно обещаюсь не домогаться плотниковской Марыськи и не приставать, а в случае нарушения буду бит как распоследняя сволочь гражданином Спиридоновым, в чем претензиев не имею.
К сему: Баюкин».
– Понимаешь, – возбужденно объяснял Костя, закуривая папиросу. – Плотников рабочий, у него дочь…
– Красивая? – подала со своего места голос машинистка Сима.
Костя смешался, уронил зажигалку, долго доставал ее. Закурил, пряча от Симы порозовевшее лицо, и лишь после того, как застрекотал Симин «ремингтон», продолжал:
– …Дочь, понимаешь, Марыся. Прекрасная девушка и… и довольно развитая. И этот паразит Баюкин проходу не давал ни ей, ни ее отцу – жениться, видишь ли, вздумал. Первая-то жена умерла. Марыся, разумеется, отказала. Вот он и задумал облегчить себе дело. Расчет какой? Кокаина, конечно, у Плотникова не найдут, а по подозрению, мол, все равно заберут в Чека. Куда девушке деваться? Только в объятья Баюкина. Каков? Я по стилю определил мерзавца. Пламенный, видите ли, революционер!
– А это? – Михаил указал на записку.
– Заставил написать. Для верности. С учетом психологии. Во-первых, он лавочник и для него законную силу имеют только расписки, во-вторых…
– Во-вторых, тебе понравилась Марыся, – уличил Михаил.
Костя выпрямился, крутнул о дно пепельницы окурок и принял неприступный вид.
– Глупо, Донцов. Я еще понимаю – Сима… А ты серьезный парень – не ожидал. – Начальственным взглядом окинул канцелярию:
– Работать, товарищи, работать.
С одним письмом получился курьез, над которым неделю хохотала вся Чека от первого до четвертого этажа.
Письмо было написано ровным убористым почерком на хорошей почтовой бумаге.
«Глубокоуважаемые товарищи чекисты!
Вот уже двадцать лет, как я тружусь на почтамте при вокзале – принимаю корреспонденцию от граждан. Вчера пришлось работать поздно вечером. Зал был пуст, когда там появились два типа, видно с пассажирского поезда. Ну, доложу я вам, чистейшей воды контрреволюционеры. И все оглядывались этак воровато – не следят ли за ними. На одном была офицерская шинель, а на ней следы от погонов… Не иначе, как бывший офицер-контрик. Да оно и по роже видать: бледный, смотрит волком – настоящий каратель. Второй – в кожаной куртке и в галифе – на вид матерый бандит и родинка под правым глазом. Сел он к столику, достал записную книжку и давай строчить. Потом вырвал листок, запечатал в конверт и сдал мне. Да все этак торопливо. А каратель в это время озирался, видно побаивался, сукин сын. Да ведь мне из окошечка-то все видно. Адрес на конверте такой: Петроград, Мелентьевская улица, дом 10, бывший Прохорова, Степаниде Ильинишне Иконниковой. Фамилия, обратите внимание, какая-то контрреволюционная. Не мог я всего этого стерпеть по причине, что очень уж от них натерпелся. Наш начальник таким же супостатом был. Двадцать лет продержал меня в одной должности. Как вышли они, я попросил Марию Степановну посидеть за окошком, а сам следом. Оба, видать, не здешние. Потому что дошли до Колюбакинской улицы, а оттуда подались в гостиницу «Европа».
Письмо, которое они написали, посылаю вам. Может это и незаконно, но для такого случая допустимо.
Викентий Чернооков».
Михаил распечатал приложенное письмо. Почерк крупный, уверенный.
«Здравствуй, дорогая сестренка!
Долго не писал, потому что времени нет. Работать приходится, почитай, круглые сутки. Гражданская война на юге хоть и кончилась, а битва за Советскую власть продолжается и мы ее, само собой, выиграем…»
Михаил обескураженно потер лоб. Такого рода «обвинительные» документы ему еще не встречались.
– Костя, посмотри – ничего не понимаю.
Костя все внимательно прочитал и, не дав никаких объяснений, скрылся в кабинете начальника отдела.
Вскоре оттуда донесся раскатистый хохот. Дверь распахнулась, и Холодков, низко наклонив голову, проскочил через канцелярию в коридор. Следом вышел улыбающийся Костя.
– Что случилось? Куда побежал Коллега? – засыпали его вопросами девушки-машинистки.
– Мельникову письмо понес.
Оказалось: «офицер-контрик с рожей карателя» – не кто иной как Холодков. Второй, в котором почтовый служащий заподозрил «матерого бандита», – был начальник секретно-оперативной части Мельников. Оба только вчера вернулись из района Али-Байрамлы, где орудовали националистские банды. Холодков надел в командировку свою старую офицерскую шинель. Осталась она от германской войны, где он, вольноопределяющийся, дослужился до прапорщика. Шинель и сбила с толку впечатлительного Черноокова.
На вокзале, воспользовавшись свободной минутой и близостью почты, Мельников написал письмо замужней сестре. Не думал не гадал, конечно, что на следующий день оно к нему вернется. Оба, и Холодков и Мельников, не имели в Баку квартиры и жили в гостинице «Европа», что дало повод посчитать их приезжими.
Долго еще потом товарищи подтрунивали над ними: «Эх, вы, чекисты! Позволили какому-то почтовику до дому себя проследить. Ночью на пустых улицах «хвоста» не заметили».
Явления, раздражавшие или удивлявшие Михаила в первые дни работы, со временем становились не только понятными, но и привычными, само собою разумеющимися. Он больше не таращил на Костю глаза, когда тот приказывал ему: «Сходи в бандотдел» или «Это узнай в КРО». Он шел в отдел по борьбе с бандитизмом и узнавал в контрразведывательном отделе. Вскоре он научился не хуже прочих оперировать сокращениями и если его спрашивали, где он работает, коротко отвечал: «В Секо». Понимающему было ясно: в секретном отделе, а непонимающему и понимать не надо.
Сотрудники, которых в первый день Михаил поспешно осудил за легкомысленную болтовню с девушками из канцелярии, оказались все людьми интересными и симпатичными. Костя по сравнению с ними выглядел сухарем и педантом. Впрочем, педантичность его проявлялась только в канцелярии. За пределами ее он превращался в обыкновенного веселого и общительного студента, каковым и являлся до прихода в Чека.
После истории с анонимным письмом Костя начал тщательно следить за своею наружностью. Ухитрялся ежедневно гладить брюки, чистить тужурку и ботинки. Когда Сима со свойственным ей ехидством во всеуслышание обратила его внимание на это обстоятельство, он сделал каменное лицо и, медленно краснея, отчеканил:
– Попрошу обойтись без пошлых намеков. Тем более в рабочее время. Чтобы раз и навсегда покончить с нездоровым любопытством, извольте, скажу: да, я дружу с девушкой по имени Марыся, по фамилии Плотникова. Вы удовлетворены? В таком случае продолжайте работать.
– Я не удовлетворена, – обезоруживая Костю мастерски разыгранным простодушием, возразила Сима. – Мне не совсем ясно: у вас дружба или… любовь?
Шура, уронив голову на клавиши машинки, беззвучно хохотала.
Костя нервически улыбнулся, схватил какую-то бумажку и выбежал из канцелярии.
Легкомыслие Симы, ее вечные насмешки казались Михаилу недопустимыми. Непонятно, зачем кисейных барышень принимают на работу в Чека? Как-то за обедом в столовой он поделился с Костей этой мыслью.
– Чудак, нашел «кисейную»! – засмеялся Костя. – Да она с пистолетом управляется не хуже нас с тобой! (Михаил потупил взор – с пистолетом управляться он не умел). И вообще замечательная девушка, комсомолка, – продолжал Костя. – При муссаватистах работала в подполье и выполняла опасные поручения.
– Не может быть! – опешил Михаил. – Да она и на подпольщицу ни капельки не похожа.
– Голова садовая, а еще чекист, – упрекнул Костя. – В том-то и вся сила. А будь у нее на лбу написано – «Подпольщица», могла бы она вести работу под носом у врагов?
– И Шура работала в подполье?
– Ну, Шуре еще восемнадцати нет. Но тоже комсомолка. По-старому она бы сиротой считалась. Отец рабочий, погиб в восемнадцатом от турецкой пули, мать умерла еще раньше. Но теперь она не сирота. Все мы ее братья, весь комсомол. А тот, кто ее обидит, – Костя предостерегающе постучал ложкой по столу, – будет иметь дело со мной.
Михаил принял угрозу на свой счет и, смущенный, отвел глаза.
– О присутствующих не говорю, – смягчился Костя. – А вообще-то, вижу, – ты их осуждаешь. Брось, Донцов. Это верно, посмеяться они любят. Вон и Холодкова «коллегой» окрестили. Он и не думает обижаться. Потому что здорово девчонки работают. Много и безотказно. Слышал ты от них хоть одну жалобу?
Нет, жалоб Михаил не слышал. Ни от девушек-машинисток, ни от других сотрудников Чека. Люди работали сутками, валились с ног. Однажды, явившись на работу на полчаса раньше, Михаил увидел в комнате оперативных дежурных двух сотрудников, которые спали, уронив головы на стол. Никто не говорил об усталости. Это считалось дурным тоном. Напротив, люди были веселы, не упускали ни единой возможности пошутить, разыграть друг друга, рассказать анекдот. Большую часть суток они проводили на работе среди товарищей, а не дома, не в семье и сюда, к товарищам, они несли все свои радости и огорчения Это создавало атмосферу братства и напоминало Михаилу казацкое «товарищество», владевшее его воображением лет пять назад, когда впервые прочитал гоголевского «Тараса Бульбу». Он никогда не слышал, чтобы его сослуживцы говорили о пайке, о зарплате – словом о том, что ныне именуется материальными благами. Пайка не хватало и на неделю. Зарплата почти ничего не стоила. На черном рынке «рубли-миллионычи» не котировались, а государственные магазины выдавали товары по талонам. Каждый сознавал, что большего Советская власть дать ему не может. Даже если бы паек и зарплату вовсе упразднили, у большинства из них не возникла бы даже мысль оставить работу. Они не просто работали – они делали революцию. А кто же за революционную деятельность требует зарплаты? Напротив, революционер свое право участвовать в борьбе оплачивает собственною кровью. Так думали все, кого знал Михаил, так думал он сам. Впрочем, презрение к материальному благополучию объяснялось, пожалуй, и еще одним обстоятельством, которого Михаил но молодости не учитывал. Все его товарищи были не женаты, бездетны, и заботиться о прокормлении семьи им не приходилось.
В первые дни сотрудники-оперативники не обращали внимания на новичка. Здоровались кивком и проходили мимо. А он всей душою тянулся к товариществу.
Кое-кого Михаил знал по имени, о других только слышал из разговоров Симы и Шуры, но никогда не видел. Особенно часто девушки упоминали какого-то Поля Велуа. Михаил терялся в догадках: француз, что ли? Однажды – время было за полночь – перед уходом домой Михаил торопился записать почту, чтобы немедленно отправить с нарочным. Вдруг в канцелярию влетел невысокий парень в кожаной тужурке нараспашку. Именно не вошел, а влетел. Потому что в тот момент, когда Михаил услышал стук двери, парень уже находился посреди комнаты. Крутнулся на каблуке, громко провозгласил:
– «Одних уж нет, а те далече!»
Заметил Михаила, в одно мгновение очутился около его стола.
– Где начканц? А! Во-первых и во-вторых, провожается со своей Марысей Дульцинеевной!
Схватил со стола пресс-папье, стакан для карандашей, железную линейку, и эти предметы замелькали в воздухе, как спицы быстро вращающегося велосипедного колеса. Пожонглировав с полминуты, положил все на прежние места, в упор опросил:
– Ты новый коллежский регистратор?
Сбитый с толку экспансивными действиями незнакомца, Михаил молча хлопал глазами.
– Непонятно? Ты или не ты для Коллеги регистрируешь документы?
– Я.
– Ну вот и есть коллежский регистратор, Я тоже полтора месяца сидел на этом увлекательном деле. – Незнакомец протянул руку: – Поль Велуа.
Михаил удивился – Поль совсем не походил на француза. Собственно, представление о внешности французов Михаил почерпнул из рождественских открыток, на которых изображался сладколицый молодой брюнет с безукоризненным пробором и во фраке. Поль же был скуластый, неширокий в плечах, но крепко сбитый парень с глубоко посаженными серыми глазами и прямым, чисто славянским носом, какой нередко встречается у жителей северных областей Европейской России. Прямые русые волосы, обветренное лицо… Сними с него кожанку, обуй в лапти – вылитый сельский пастух.
Михаил пожал суховатую ладонь.
– Донцов… Михаил.
– Донцов Михаил – повелитель чернил, – продекламировал Поль. – Ну, ну, не хмурься, все мы такие. – Новый знакомый уселся на угол стола, рассеянно взял карандаш, поставил острием на палец и некоторое время удерживал в равновесии, продолжая беседу. – Сколько тебе лет? Семнадцать? А мне девятнадцатый. Все мы одинаковы. Приходим сюда, чтобы грудью защитить Советскую власть, а она, приняв облик товарища Холодкова. сажает нас вот на этот регистраторский стул. – Он бросил карандаш. – Стрелял когда из револьвера?
Михаил медлил с ответом. Соврать, что стрелял, не повертывался язык.
– Понятно – не знаешь, за какой конец его держать, – деловито констатировал Поль и соскочил со стула. – Айда, поучу? – Он задержал на Михаиле выжидающий взгляд, добыл из кармана тужурки новенький черный наган, подбросил и ловко поймал. – Пулемет есть, тир у нас в подвале, а ключ – у дежурного. Айда, что ли?
Михаил ушам своим не верил. Пострелять из нагана – кто же откажется… И так буднично – «айда». Будто в столовку. И револьвер у него выглядит детским мячиком. Боясь, как бы Поль не передумал, сгреб письма, попросил:
– Подожди, только в экспедицию снесу.
– Айда вместе.
Тир – подвальное помещение шагов в сорок длиной – был освещен единственной тусклой лампочкой. На дальней стене белела газетная полоса с начерченными на ней углем концентрическими кругами. Продырявленная во многих местах газета разлохматилась и вряд ли могла служить мишенью.
Впрочем, Поль даже взглядом ее не удостоил. Остановился под лампочкой, вынул из кармана наган.
– Слушай лекцию, Донцов, – будешь первым из стрельцов.
Михаил засмеялся, что же касается Поля, то, скорее всего, он даже не заметил свою шутку. Чуть хмурясь, начал «лекцию».
– Перед тобою револьвер-самовзвод системы наган семизарядный, так называемый офицерский. Есть еще солдатский наган. Но у того курок для выстрела надо каждый раз взводить пальцем. Теперь наблюдай. Чтобы разрядить эту штуку, я отодвигаю щечку и… раз… раз… раз…
Поль легонько покрутил барабан, и на его ладонь высыпалось семь золотистых патронов с округлыми пулевыми головками.
– Теперь заряжаю, наблюдай. Отодвигаю щечку… раз…
Поворачивая барабан, Поль просунул в отверстие сверху все семь патронов.
– Наган заряжен. Взгляни на барабан спереди, видишь – пули на месте. Теперь ставлю на боевой взвод. Оружие к стрельбе готово.
Начиная испытывать нетерпение, Михаил протянул руку за наганом.
– Подожди, – остановил Поль. – Хочешь стрелять – сам разряди и заряди.
«Ученик» без особых усилий повторил все манипуляции «учителя».
– Молодец, Донец!
Поль порылся в карманах, вынул пустой спичечный коробок, установил на выступе стены над газетным листом.
– Целиться умеешь?
– Умею.
– Под нижний обрез. Не торопись. Спуск не рви, нажимай плавно. На все про все дается тебе семь патронов. Коллега имеет привычку выговаривать за перерасход.
Михаил с удовольствием ощутил в ладони рубчатую тяжесть оружия. Целился тщательно и долго. Выстрел оглушил, и наган едва не вывернулся из пятерни. Пуля выбила на серой стене щербинку в вершке над коробком.
– Так стрелять – не надо и целиться, – заметил Поль.
Остальные шесть выстрелов принесли больше успеха. Коробок, правда, не пострадал, но пули вокруг него легли кучно.
– Для первого раза неплохо, – утешил «учитель», забирая у Михаила наган.
Заново зарядил, как бы по рассеянности вскинул, выстрелил. От коробка полетели щепки.
Михаил смотрел на него разинув рот, как на чудотворца.
– Да ведь ты не целился!
– Целился, только рукой, а не глазом, – улыбнулся Поль.
– ?!
– Ну, как тебе объяснить, – я вроде бы вижу рукой… – Беззаботно – брось, мол, ломать голову над чепухой! – хлопнул Михаила по спине. – Словом – мистика. Айда лучше по домам – успокоим пап и мам.
С каждой минутой, проведенной в обществе этого парня, интерес Михаила к нему возрастал.
Вместе вышли на улицу, не сговариваясь, свернули направо.
– Почему тебя целыми днями не видать? – спросил Михаил.
– В конторе-то? Участвую в розыске иголки в стоге сена. Ужасно скучаю по злоязычной Симе и прочей интеллигенции.
– Слушай-ка, Поль… Ты вот часто говоришь стихами – это само собою получается? Или сочиняешь?
– Тренируюсь, – серьезно сказал Поль. – Всякое дело требует тренировки. А я люблю стихи…
– И сам сочиняешь?
– Ага.
Михаил не знал: верить, нет ли. Люди, сочинявшие стихи, представлялись ему небожителями, недосягаемыми для простых смертных. К тому же, поскольку его знание поэзии ограничивалось стихами из старых хрестоматий, то большинство поэтов не вызывали у него интереса. Стихи были только частью учебной программы, которую следовало вызубрить, чтобы не получить двойку. Иного значения в его жизни они не имели.
И вдруг на тебе… Свой в доску парень, да мало того – чекист… сочиняет стихи!
Поль был в сапогах, и шаги его гулко бухали на пустой, слабо освещенной фонарями улице. В такт шагам он начал произносить какие-то слова. Михаил не разбирал их смысла, но звучали они резко, дробно, как барабанный бой. Невольно шаг его приноровился к этому рвущему, толкающему ритму, и вот уже оба не шли, а маршировали по гулкой улице, и Михаилу неожиданно стал доступен смысл барабанных слов. Это, как ни странно, были стихи…
- Глаз ли померкнет орлий?
- В старое ль станем пялиться?
- Крепи
- У мира на горле
- пролетариата пальцы!
- Грудью вперед бравой!
- Флагами небо оклеивай!
- Кто там шагает правой?
- Левой!
- Левой!
- Левой!
Поль кончил декламировать, а в ушах Михаила все еще звучало: «Левой! Левой! Левой!» и ноги шагали, подчиняясь колдовскому ритму.
– Нравится?
Поль замедлил шаги. Колдовство нарушилось, распался ритм. Михаил перевел дух. Испытывая чувство, близкое к благоговению, проговорил:
– Здо-орово… Неужто?.. Поль, неужто это ты сам?..
– Ну да, сам… Это Маяковский написал. Настоящий поэт.
– Он еще что-нибудь сочинил?
– А-а-а, забрало! – почему-то обрадовался Поль за Маяковского. – Слушай еще.
Остановился под фонарем и, раскинув руки, будто собираясь обнять небо, на всю улицу возвестил:
- В сто сорок со-олнц закат пылал,
- В ию-юль катилось лето,
- была жара-а,
- жара плыла-а… —
Поль не говорил стихи, а пел. Пел, запамятовав, должно быть, что на дворе два часа ночи, что находится на улице.
Из-за угла вывернулся чоновский патруль – трое парней с винтовками, по виду – одногодки Михаила.
– Граждане, предъявите документы, – хмуро попросил старший.
- …само
- раскинув луч-шаги-и,
- шагает со-олнце в поле… —
продолжал Поль, одновременно запуская руку в карман за пропуском. Но вместо пропуска в руке у него оказался наган. Чоновцы отпрянули, старший вскинул винтовку, крикнул срывающимся мальчишеским дискантом:
– Бросай оружие!!
– Вы что, очумели?! – заорал Михаил, размахивая пропуском перед дулом винтовки. – Мы из Чека!!
- Хочу испу-уг не показать —
- и ретиру-у-юсь задом… —
безмятежно выпевал Поль, сунув наган под мышку и роясь по карманам. Наконец, протянул ощетинившимся чоновцам красную книжечку.
Те в замешательстве переглянулись, старший миролюбиво бросил Донцову: «Ладно, валяйте» и своим: «Пошли, братва».
- Ты зва-ал меня?
- Чаи гони,
- Гони, поэт, варенье… —
донеслось им вслед, и все трое дружно оглянулись. «Черт те что о нас подумают», – обеспокоился Михаил, однако прервать вошедшего в раж чтеца не решился.
Домой пришел около четырех утра. Чуть ли не до Санбунчинского вокзала проводил своего нового товарища.
Михаилу нравилась его простота, какая-то органическая щедрость. Поль сыпал остроумными репликами, но, казалось, не замечал их, не старался непременно вызвать у собеседника смех. Для него важнее всего было ловко выразить мысль.
Коротко рассказал о себе. Никакой он не француз. Настоящее имя Павел, фамилия Кузовлев. Родители, известные цирковые жонглеры, в детстве называли его Полем. Позднее, готовясь к цирковой карьере, он взял артистическую фамилию родителей – Велуа. Так и в паспорт записали. Революция и гражданская война вытеснили мечты о цирке. Вступил в комсомол и так же, как Михаил, был направлен на работу в Чека.
Стихи он читал безотказно. Готовность Михаила слушать вызывала у него по-детски простодушную радость.
Михаил такие стихи слышал впервые. Он впитывал их, как сухая губка воду. Стихи эти соответствовали его душевному настрою, они без усилий входили в сердце и отпечатывались в мозгу. Повторив иную строчку, он вдруг начинал испытывать удовольствие, о возможности которого еще вчера не подозревал.
Кроме Маяковского, Поль читал Блока и Есенина, Лермонтова и Пушкина. Он заново открывал перед Михаилом поэзию. Он выбирал такие стихи, в которых и намека не было на спокойную гладкую красивость, памятную Михаилу по гимназической хрестоматии. Слова в этих стихах были увесисты, громадны, высвечивали яркими красками и озорно хохотали. Даже хорошо знакомый Пушкин в передаче Поля становился буен, как подгулявший запорожец:
- Эй, казак! Не рвися к бою:
- Делибаш на всем скаку
- Срежет саблею кривою
- С плеч удалую башку.
Домой Михаил возвращался переполненный ритмами. Длинные пустынные улицы то ухали единым тысячным шагом «Левого марша», то взрывались короткой очередью красногвардейского «Максима».
- Трах-тах-тах! – И только эхо
- Откликается в домах…
- Только вьюга долгим смехом
- Заливается в снегах.
И, уже засыпая в постели, видел грандиозные, мирового масштаба сражения на фоне пламенеющих, как театральный задник, далей, и в голове гудело:
- Мы на горе всем буржуям
- Мировой пожар раздуем,
- Мировой пожар в крови…
Следующий день был первым днем праздника новруз-байрама – мусульманского Нового года. С утра правоверные резали баранов (если они были) и одаривали друг друга сладостями.
Выйдя из дома, Михаил увидел около лавки Мешади Аббаса шумную компанию. Это были люди кочи Джафара. Все как один в каракулевых папахах, в новых костюмах и шикарных лакированных штиблетах. На каждом белоснежная сорочка и яркий галстук. Среди них, явно главенствуя, выделялся Рза-Кули с неизменным бараном на стальном поводке. Тут же Михаил заметил Кёр-Наджафа и Гасанку. Рза-Кули что-то говорил, жестикулируя свободной рукой, и каждая его фраза сопровождалась дружным смехом всей компании. Судя по оживленным, раскрасневшимся лицам, люди кочи с утра успели хлебнуть вина.
Михаил знал: Рза-Кули не забывает обид. Благоразумно было бы избежать встречи с ним – без ущерба для собственного достоинства перейти на другую сторону улицы. Месяц назад Михаил, наверное, так бы и поступил.
Но сейчас мысль о возможности отступления показалась ему кощунственной. Не мог он, чекист, уступить улицу бандиту, как уступал ее недавно ученик высшего начального училища.
Ровным деловым шагом он приближался к магазину Мешади Аббаса. «Эй, казак! Не рвися к бою: делибаш на всем скаку…» – предостерегающе звучало в голове. Но шел и шел вперед, зная за собою счастливое свойство: когда опасность вплотную заглянет в глаза, наступит расчетливое спокойствие и ясность.
Рза-Кули заметил его и умолк. Оборвался смех. Все взгляды устремились на Михаила. Гасанка что-то коротко сказал Рза-Кули, тот усмехнулся в бороду и вдруг наклонился, как бы для того, чтобы спустить барана с поводка. У Михаила оборвалось сердце и тело каждой своею клеточкой будто завопило «Беги-и!». Вспыхнувший было смех умолк: Михаил – ни единой кровинки в лице – шел прямо на барана. Шел, ни на мгновение не переставая ощущать режущий взгляд Рза-Кули.
