Читать онлайн Каталог утраченных вещей бесплатно
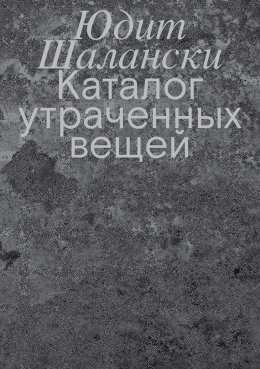
Вступление
Пока шла работа над этой книгой, в атмосфере Сатурна сгорел космический аппарат «Кассини»; разбился о камни красно-бурого Марса зонд «Скиапарелли», которому назначалось исследовать планету; на маршруте Куала-Лумпур – Пекин бесследно исчез «Боинг 777», в Пальмире были взорваны Баала и Баалшамина – древние храмы, стоявшие две тысячи лет, повреждены фасад Римского театра, Триумфальная ярка, Тетрапилон и фрагменты Большой колоннады; в иракском Мосуле уничтожена Соборная мечеть ан-Нури, а также мечеть пророка Ионы; не осталось камня на камне от раннехристианского монастыря Святого Элиана в Сирии; в Катманду во время землетрясения обрушилась – уже во второй раз – башня Дхарахара; третья часть Китайской стены стала жертвой вандализма и эрозии; из фамильного склепа была похищена неизвестными голова Фридриха Вильгельма Мурнау; высохло озеро Атескатемпа в Гватемале; на Мальте осыпалось в Средиземное море «Лазурное окно», скала, похожая на арку; вымерла мозаичнохвостая крыса, исконно обитавшая на острове Брамбл-Кэй, в водах Большого Барьерного рифа; в возрасте 45 лет был усыплен самец северного белого носорога, последний представитель подвида, его пережили только дочь и внучка; из лаборатории Гарвардского университета пропал единственный в мире образец металлического водорода, полученный после восьмидесяти лет поисков, что сталось с микроскопически малыми частицами, никто не знает: то ли были украдены, то ли банально убиты, то ли вернулись в газообразное состояние.
Пока шла работа над этой книгой, сотрудник Нью-Йоркской библиотеки Шаффера, листавший альманах за 1793 год, обнаружил конверт с убеленными сединой прядями Джорджа Вашингтона; были найдены дотоле неизвестный роман Уолта Уитмена и «Both Directions at Once», считавшийся утерянным альбом Джона Колтрейна; девятнадцатилетним практикантом, работавшим в Гравюрном кабинете города Карлсруэ, найдены сотни рисунков Пиранези; удалось прочесть две страницы из дневника Анны Франк, которые были заклеены оберточной бумагой; расшифровать древнейший в мире алфавит, нацарапанный на каменных дощечках 3800 лет назад; получить графические данные с фотографий, сделанных лунными модулями в 1966–1967 годах; кроме того, наткнулись на фрагменты двух ранее неизвестных стихотворений Сапфо; на территории Бразилии, в древесной саванне, орнитологи несколько раз заметили синеухую земляную горлицу, с 1941 года якобы вымершую; биологи открыли новый вид дорожных ос, Deuteragenia ossarium, которые строят многоячейковые гнезда в дуплах сухих деревьев и подкладывают в каждое мертвого паука для питания личинок; в Арктике нашлись «Эребус» и «Террор» – корабли экспедиции Франклина, потерпевшей неудачу в 1848 году; на севере Греции раскопали гигантский могильный холм, место последнего пристанища если не Александра Великого, то, вероятно, его сподвижника Гефестиона; в Камбодже, недалеко от храмового комплекса Ангкор-Ват, археологи обнаружили первую столицу Кхмерского царства Махендрапарвата, крупнейшего в Средние века поселения; в некрополе древней Саккары наткнулись на мастерскую, где бальзамировали покойников; в созвездии Лебедь, на расстоянии 1400 световых лет от нашего Солнца, в так называемой зоне обитаемости ученые разглядели небесное тело, средняя температура которого сравнима с температурой Земли, существуют все основания полагать, что там есть вода или была когда-то, а значит, есть жизнь, отвечающая нашим о ней представлениям.
Предисловие
Как-то в августе, несколько лет тому назад, мне довелось посетить безвестный северный городок. Он лежал в одном из тех окраинных изломов бухты, которая с незапамятных ледниковых времен приметно врезается вглубь материка и в солоноватых водах которой по весне кишит селедка, летом угорь, осенью треска, а зимой шебуршат карпы, щуки и лещи, – немудрено, что рыбацкий промысел там и сегодня востребован. Вот уже много веков рыбаки со своими семьями населяли этот живописный – иначе и не назовешь – уголок, худо-бедно скроенный из двух мощенных булыжником улиц, площади, предназначенной для сушки сетей, и монастырского подворья, на котором анахоретствовали две дремучие старушки голубых кровей. Иными словами, место это было явно вне времени, и здесь, легко поддавшись искушению, ты начинал думать о туманном, но всё же манящем прошлом как о живом. Нет, не кусты цветущих роз и долговязые мальвы перед приземистыми белеными известью домишками, не пестрящие красками деревянные двери или узкие проходы между строениями, почти все без исключения ведшие к каменистому берегу, – не они запали мне в память, но то удивительное обстоятельство, что под сенью молодых, утопавших в летней зелени лип в центре поселения глазам моим явилась не рыночная площадь, а кладбище, заключенное в оправу чугунной ограды, – что там, где обыкновенно меняли товар на деньги, мертвые под землей тихо-мирно делали свое дело, или – как принято говорить в силу невесть какого неискоренимого суеверия – покоились. Изрядное изумление, отозвавшееся поначалу довольно неприятно, возросло еще больше, когда мне указали на дом одной женщины, которая всякий раз, занимаясь в кухне стряпней, смотрела на могилу безвременно ушедшего сына, – тогда я ясно поняла, что речь идет о традиции – вековой традиции гильдии, отвечавшей в здешних краях за погребальный обряд, что именно она способствовала особому сближению между родственниками – умершими и еще живыми, сближению, какое, насколько мне было известно, замечено только у обитателей некоторых островов Тихого океана. Разумеется, мне и прежде доводилось посещать разные достопримечательные места, приспособленные человеком для захоронений: я видела Сан-Микеле, Остров мертвых с его высокими стенами из красного кирпича, встающий из сине-зеленой глади Венецианской лагуны, – поистине неприступная крепость; видела ослепительную ярмарочную сутолоку на голливудском кладбище «Hollywood Forever» во время Дня мертвых, который отмечается мексиканцами, – когда могилы обряжают в оранжево-желтое, а на их стражу заступают цветистые черепа из сахара и папье-маше, обреченные вследствие неумолимого тления на вечную ухмылку. Но нигде не тронуло меня за живое так сильно, как на кладбище той рыбацкой деревушки: в его необычном плане – эдаком компромиссе между квадратом и кругом – я подметила символическое воплощение утопии, по замыслу совершенно возмутительной: жить бок о бок со смертью. «Маленький остров» или «земля, окруженная водой» – так назвали здешнее место датчане, и долгое время я пребывала в твердой уверенности, что на этом клочке земли ты гораздо ближе к жизни, чем где-либо; ведь его обитатели в буквальном смысле слова вводили покойников в свой круг, а не спроваживали из общины за городские ворота – что традиционно принято в наших широтах – на специально отведенные места, которые, правда, уже в обозримом будущем вновь становились частью неудержимо растущего урбанического пространства.
Теперь, когда почти завершена работа над книгой, в которой ключевая роль отводится самым различным феноменам разрушения и распада, только теперь я понимаю, что в неисчерпаемом калейдоскопе возможностей подобная форма обращения со смертью лишь одна из многих и, по правде сказать, ничуть не менее конфузная и ничуть не более гуманная, чем описанный Геродотом обычай андрофагов поедать умерших родителей, который никак не вязался с тем непомерным ужасом, в какой повергла их весть о том, что греки своих предков сжигают. Кто ближе к жизни: тот ли, кто ни на секунду не забывает о смерти, или же тот, кто ухитряется отогнать о ней всякую мысль, – мнения на этот счет сильно расходятся, как и в вопросе, что мучительнее: представление о конечности всего сущего или о том, что конца просто нет и быть не может.
Бесспорно одно: смерть и сопутствующая ей проблема – как после скоропостижного ухода человека поступить с тем, что осталось, – от бездыханного тела до нажитого и ставшего вдруг бесхозным добра – в ходе истории проблема эта требовала решений и побуждала к действиям, которые не только ее снимали, но и воодушевляли далеких наших предков ступить на путь развития от животного к человеку. Homo sapiens – и в этом, по общему мнению, его отличительная черта – не бросает почивших сородичей, предпочитая не вверять их останки естественному процессу разложения; хотя, по правде сказать, схожие нравы замечены и среди других высокоразвитых видов: так собираются слоны вокруг умирающего члена стаи, на протяжении многих часов поглаживают его своими хоботами и при этом гневно трубят, нередко даже пытаются поднять безжизненное тело и только потом накрывают его землей и ветками. В последующие годы они регулярно возвращаются к местам умирания, что возможно не иначе как при наличии крепкой памяти и, если угодно, даже определенных представлений о потустороннем, не менее фантастичных, чем наши, и проверке не поддающихся.
Цезура смерти – исходная точка наследия и памяти, а плач по покойнику – начало всякой культуры, он заполняет пением, молитвами и сказами разверзшуюся пропасть, внезапную тишину, вновь оживляя то, что ушло. Опыт утраты – чистая форма, и позволяет яснее увидеть масштабы потери, которая зачастую, в преображающем свете печали, становится объектом вожделения. Вот как это сформулировал известный гейдельбергский профессор зоологии в предисловии к одной из книжек бремовской серии: «Ценить то, что утрачено, больше того, что есть, – похоже, в этом и заключается отличительное свойство человека Запада, рационально вряд ли объяснимое; иначе откуда взяться тому нелепому странному умилению, какое с некоторых пор вызывает у нас сумчатый волк».
Существует множество стратегий, как удержать в памяти прошлое и остановить забвение. Наука историография, если верить преданию, началась с череды разрушительных войн между греками и персами, а искусство мнемоники, нынче почти забытое, – с трагического случая, унесшего много жизней. Дело было в Фессалии, в далеком дохристианском V веке, тогда во время пиршества обрушился дом, погребя под завалами всех присутствующих. Выжил только один, поэт Симонид Кеосский, обладавший отменной памятью; он мысленно снова проник в разрушенное здание и восстановил порядок рассадки гостей, – так удалось распознать извлеченные из-под обломков тела. Среди бесчисленного множества дилемм есть одна – жизнь или смерть; когда после кончины человека говорят о невосполнимости потери, боль утраты захлестывает нас с удвоенной силой и в той же мере – разделенная – приглушается; с пропавшим без вести иначе: нас мучает неопределенность, которая не отпускает словно кошмарный сон, сотканный из робкой надежды и недозволенной скорби, и этот сон не оставляет нас в покое, мешает всё осмыслить, и главное – он не дает нам жить.
Быть живым означает пить горькую чашу потерь. Вопрос о том, что с нами будет, так же стар, как человечество, ведь неотъемлемая и равно тревожная черта будущего – его непредсказуемость, вынуждающая человека пребывать в неведении относительно времени и обстоятельств своей смерти. Кто не шептал заклятие от сглаза в сладостно-приторном предчувствии грядущих страданий, кто не испытывал фатального порыва прокрутить в голове все страшные сценарии, надеясь таким способом их предотвратить? Мы живо представляем собственный крах, рисуем в воображении мыслимые и немыслимые катастрофы, после чего мним себя застрахованными от неприятных сюрпризов. В эпоху Античности сны сулили утешение и, как полагали греки, подобно оракулам, предрекали грядущее; они не могли отвратить неотвратимое, но смягчали ужас перед нежданностями судьбы. Нередко люди сводят счеты с жизнью из страха перед смертью. В порыве одержать верх над неопределенностью будущего, пусть даже за счет урезанного собственного существования, самоубийство – мера, пожалуй, самая радикальная. Свидетельства сообщают, что среди даров известного индийского посольства, принятого императором Августом на острове Самос, находился не только тигр и безрукий юноша, умело справлявшийся со всем при помощи ног, но и человек из касты брахманов по имени Зармар, который изъявил желание самолично положить конец своей жизни – в доказательство того, что она всегда складывалась так, как он того хотел. В Афинах, пока не стряслось непредвиденного, Зармар, раздевшись донага и умастив себя маслами, с улыбкой на лице бросился в огонь; он сгорел заживо в страшных муках, о чем нетрудно догадаться, и благодаря инсценировке собственной смерти вошел в историю, пусть даже как герой курьезного анекдота, о котором Дион Кассий упомянул в своей восьмидесятитомной «Римской истории», чудом дошедшей до нас частями. В конечном счете всё, что мы имеем, – только остатки того, что было.
Память, в которой откладывается каждая мелочь, в сущности, пуста. Жительница Калифорнии, знать не знавшая о науке мнемонике, но умевшая в подробностях восстановить каждый день, с 5 февраля 1980 года была заложницей никогда не отпускавших ее воспоминаний – заточенный в эхокамеру арестант, фантом аттийца Фемистокла, который в родном своем городе знал по имени каждого гражданина и однажды поведал мнемонику Симониду, что скорее предпочел бы владеть искусством забывать, чем помнить: «Увы, я помню даже то, что помнить не хочу; а что хочу забыть, не забываю». Умение выбрасывать из головы относится к разряду невозможного, поскольку всякий знак постулирует наличие чего-нибудь, даже если утверждается его отсутствие. Мы знаем поименно почти всех, кто в Римской империи был подвергнут demnatio memoriae, проклятию памяти, самые красноречивые тому доказательства содержатся в энциклопедиях.
Забывать всё начисто, разумеется, плохо. Еще хуже – не забывать ничего, ведь знание рождается из забвения. Если запоминать всё подряд, как это делают электронные вычислительные машины, знание теряет ценность и оборачивается нагромождением никому не нужных данных.
Положим, в основе создания всякого архива, как это и было с его прототипом ковчегом, и впрямь лежит желание ничего не утратить, однако даже такие бесспорно вдохновенные идеи, как, например, идея превратить один из континентов (к примеру, Антарктиду) или даже Луну в центральный музей Земли, где под лозунгом демократии и равенства беспристрастно презентовались бы плоды культуры, – даже такие возвышенные идеи тоталитарны и обречены на фиаско, как устроение нового рая, манящий образ которого издревле хранится в сознании каждой культуры.
По сути, всякая вещь – это мусор, всякое строение – руины, а творчество – не что иное, как разрушение; ничем не лучше труды ученых и институтов, громко трубящих о том, как пекутся они о наследии человечества. Даже археология – с какой бы осторожностью и рассудительностью она ни проникала в глубь прошлых эпох – есть лишь иная форма разорения, а архивы, музеи и библиотеки, зоологические сады и природные заповедники – лишь кладбища с собственной управой, и многое из того, что поступает туда на хранение, зачастую бесцеремонно вырвано из бурлящего водоворота современности, с одним только правом – быть сброшенным со счетов, забытым подобно героическим событиям и людям, чьими монументами напичканы городские пейзажи.
Лучше почесть за счастье неведение человечества о том, каких гениальных идей, каких волнующих шедевров и революционных достижений оно уже лишилось – одни разрушены намеренно, другие банальнейшим образом потерялись со временем. Кажется, неизвестность никого не тяготит. Однако вот какой факт вызывает удивление: среди современных европейских мыслителей немало таких, кто видит в регулярном закате культуры разумную и даже оздоровительную меру. Будто культурная память – это вселенский организм, чьи жизненно важные функции работают только при условии исправного обмена веществ, когда каждый прием пищи сопровождается ее усваиванием и, в конце концов, выведением из организма.
В узкой и самовластной картине мира безудержная жажда покорения и эксплуатация чужих территорий, стремление захватить, поработить и уничтожить неевропейские народы и вытравить с корнем их презренную культуру, представляется как часть естественного процесса, где превратно истолкованная теория эволюции – выживает сильнейший – служит оправданием совершенных преступлений.
Так уж устроены мы, что жалеем только о том, чего рядом нет, чего не хватает, но что однажды мелькнуло – некий реликт, весть, порой только слух, не более, след, стертый наполовину, отозвавшееся эхо. Как бы хотелось знать, что означают геоглифы Наски в перуанской долине, чем заканчивается 31-й фрагмент Сапфо и какую угрозу приметили в Гипатии современники, что растерзали на кусочки не только ее труды, но и тело.
Малые крохи, оставшиеся от иных вещей, иной раз служат самым красноречивым к ним комментарием. От оперы Монтеверди «Ариадна» до нас дошел только полный отчаяния плач, в котором героиня поет: «О дай мне, смерть, забвенье! О дай мне, смерть, забвенье! Ужель могу снести я боль разлуки, терпеть всечасно муки… Когда ж конец мученьям. О дай мне, смерть, забвенье!»[1] Женщина с закрытыми глазами, о которой нельзя сказать с уверенностью, спит ли она или же умерла – от картины Люсьена Фрейда сохранились только репродукции, оригинал похищен из Роттердамского музея и позже сожжен в печи румынской ванной комнаты, куда отправила его мать одного из воров. Из сочинений трагика Агатона забвения избежали два шутливых куплета, – лишь потому, что были процитированы Аристотелем: 1. Искусство благоволит случаю, случай благоволит искусству. 2. Даже боги не в силах изменить прошлое.
То, что не дано богам, во все времена снова и снова жаждут заполучить деспоты, не насытившиеся своими разрушительными деяниями в настоящем. Кто хочет контролировать будущее, должен сперва отменить прошлое. Кто вознамерился провозгласить себя родоначальником новой династии, источником истины, тот должен прежде стереть память о предшественниках и запретить любое инакомыслие, как сделал это самозванец Цинь Шихуанди, «первый августейший правитель Цинь», когда в 213 году до н. э. учинил одно из самых ранних достоверно подтвержденных книгосожжений, приказав казнить всякого, кто ослушается, или ссылать на принудительные работы: будь то строительство императорских дорог, возведение Великой Китайской стены или гигантского захоронения, неотъемлемой частью которого стала терракотовая армия солдат, изваянных в полный человеческий рост, с колесницами, лошадьми и оружием, – воплощенная мания величия; сегодня копии этого войска кочуют по всему миру, воскрешая в памяти людей образ заказчика (согласно задумке), но в то же время подрывая его беспримерной профанацией.
Нередко сомнительный план обратить прошлое в tabula rasa продиктован вполне естественным порывом – еще раз начать всё сначала. В середине XVII века в английском парламенте всерьез обсуждался вопрос о том, не лучше ли предать огню архивы лондонского Тауэра, «дабы изничтожить всякое упоминание о том, что было, и начать жизнь сызнова», – цитирует Хорхе Луис Борхес слова Сэмюэла Джонсона, которые мне так и не удалось найти в оригинале[2].
Не секрет, что земля – это груда обломков ушедшего будущего, а человечество, разношерстное и вечно грызущееся, – толпа наследников священной древности, какую неизменно приходится кроить заново и подгонять, опровергать, ломать, игнорировать и вытеснять; не будущее, но прошлое – вопреки распространенному убеждению – становится, таким образом, истинным выразителем возможного. Именно поэтому его переосмысление относят к первым официальным актам всякого нового режима. Кому однажды (как это случилось со мной) довелось жить в эпоху исторического перелома, на чьих глазах происходило свержение старых кумиров и демонтаж памятников, тот без особого труда в любом проекте будущего неминуемо распознает черты нагнавшего нас вчерашнего дня: наступит время, и руины восстановленного Берлинского дворца уступят место новому Дворцу Республики.
На Парижском салоне 1796 года, проходившем в Лувре, было представлено два полотна Юбера Робера, известного поборника архитектурной живописи, уже запечатлевшего и штурм Бастилии, и снос дворца Медон, и осквернение королевской усыпальницы в Сен-Дени. На одном полотне – собственный проект художника по переделке Большой галереи Лувра: зал, благодаря стеклянной крыше залитый светом, полный картин, скульптур и посетителей; на другом – тот же интерьер в руинах. В первой версии будущего над головой посетителя – окна, во второй – затянутое тучами хмурое небо, рухнувший свод, голые стены, на земле обломки скульптур. Среди руин в одиночестве – Аполлон Бельведерский, Наполеонов трофей, покрытый сажей, но невредимый. То тут, то там блуждают охотники до катастроф, выуживают из-под завалов торсы, греются у костра. Из расщелин свода пробивается зелень. Руины – это утопия, место, где слиты в одно прошлое и будущее.
В теории ценности руин, надо сказать, довольно спекулятивной, архитектор Альберт Шпеер пошел еще дальше, утверждая (и это спустя десятилетия (!) после краха национал-социализма), что его проекты в буквальном смысле тысячелетней империи учитывали, помимо долгостойкости материалов, также и облик будущих руин, – даже в состоянии упадка сооружения рейха не должны уступать в величии римским развалинам. Освенцим, напротив, и не без оснований, утверждает абсолютное разрушение, после которого не остается даже руин, – свидетельство абсолютного краха. В нем воплотилась до предела обесчеловеченная архитектура универсальной машины уничтожения, выверенной в мельчайших деталях, столь же слаженной, сколь и безотходной, – истребив миллионы, она оставила в Европе ХХ века чудовищную брешь, травму, которая саднит в памяти тех, кто выжил, и их потомков – жертв и палачей, – саднит как осколок инородного тела, с трудом приживляемого, и ждет фундаментального переосмысления. Примеры геноцида, как никогда ранее, потребовали скорейшего ответа на вопрос: в какой мере вообще познаваем опыт утраты, и многие из тех, кто родился позже, были вынуждены признать: то, что произошло, неподвластно самому пылкому человеческому воображению, – признание малоутешительное и вполне ожидаемое.
«О чем поверяют исторические источники? Не о фиалках, растоптанных при штурме Льежа, не о страданиях коров во время пожара Лувена, не о скоплениях облаков в окрестностях Белграда», – констатирует Теодор Лессинг в книге «История как придание смысла бессмысленному», написанной во время Первой мировой войны и развенчивающей все прежние модели истории с ее якобы поступательным и основанным на здравомыслии ходом, суть которых заключалась в придании задним числом формы бесформенному – идея, претворившаяся в рассказы о началах и концах, о взлетах и падениях, о процветании и распаде, которые в большинстве своем не выходили за рамки нарративного канона.
Вера в просветительскую силу прогресса жива и воздействует на умы почти с прежней силой, несмотря на то что некоторые процессы эволюции показали: на определенном отрезке времени судьба вещей во многом зависит от случая и умения приспосабливаться – от эдакого до крайности замысловатого симбиоза; возможно также, всё дело в банальном очаровании, какое излучает амбициозно устремленная вперед историческая лента времени, чье традиционное изображение в виде линии, утвердившееся в западных культурах, невольно может склонить иного к ложному и откровенно натуралистическому выводу о том, что даже в условиях развенчания божественных авторитетов всякая данность желанна и наполнена смыслом. В бесхитростной, но всё же убедительной драматургии, какой отмечено непрерывное развитие, от прошлого только один прок – уступая место новому, оно рождает у нас представление о ходе истории как о неизбежном и отнюдь не случайном прогрессе – будь то история отдельного индивида, страны или всего человеческого рода. Доподлинно известно, что хронология, суть которой заключается – да не дадут мне соврать архивариусы – в распределении порядковых номеров среди новых поступлений, то есть в слепом следовании логике, являет самый тривиальный принцип организации порядка, поскольку лишь имитирует его.
Нынешний мир сродни необозримому архиву, и вся материя на земле, живая и неживая, есть документ грандиозной по масштабам и чрезмерно затратной по времени системы записи, которая напичкана несметными примерами того, как выносятся уроки из прошлого; таксономия же становится учением постфактум, попыткой упорядочить биологическое многообразие и якобы придать объективную структуру почти беспредельному хаосу, каким отмечены наши знания об эволюции. Пропасть из такого архива практически ничто не может – запас энергии в нем постоянен, и след остается от каждой вещи. Знаменательный тезис Зигмунда Фрейда, сомасштабный закону сохранения энергии, гласит: ни сновидения, ни мысли никогда не стираются из памяти окончательно, если это так, значит, с помощью нескольких нехитрых приемов – вроде тех, к каким прибегают археологи, извлекая из земли человеческие останки, ископаемых животных или глиняные черепки, – из гумуса человеческой памяти можно не только эксгумировать опыт прошлого, будь то наследственная травма, пара стихотворных строк, вырванных из контекста, сумбурный кошмар из раннего детства, привидевшийся далекой грозовой ночью, порнографическая картинка, когда-то повергшая нас в ужас; при желании и определенной сноровке из пасти Оркуса можно вырвать деяния неисчислимой рати угасших поколений – и если след взят, больше уже никто не осмелится отрицать правду, даже ту, от которой пытались отгородиться, которую думали подменить, опорочить или предать забвению, – правда воцарится повсюду и навсегда.
Увы, физика не лучшее средство для утешения. Ведь закон сохранения энергии, постулирующий триумф над всем, что, конечно, ни слова не говорит о необратимости всякой трансформации. Когда произведение искусства бросают в огонь, оно пышет жаром, но много ли проку от такого тепла. В пепле нет ничего, достойного восхищения. По столу, обтянутому зеленым сукном, невозмутимо летают бильярдные шары, вот только изготовлены они из очищенной от серебра старой кинопленки, на которую были сняты первые немые фильмы. Мясо последней морской коровы переварилось мгновенно.
Похоже, конечная гибель всего живого и сотворенного является непременным условием его существования. Рано или поздно – это, разумеется, лишь вопрос времени – всё сойдет на нет, подвергнется распаду и тлению, будет истреблено и уничтожено, оригинальные свидетельства прошлого, открытию которых мы обязаны катастрофам, не исключение: единственные образцы загадочных слоговых пиктограмм древних греков, так называемого линейного письма Б, сохранились благодаря пожару, который около 1380 года до н. э. разрушил Кносский дворец, но придал прочность и законсервировал до наших дней тысячи глиняных дощечек с записями приходов и расходов означенного двора; гипсовые слепки из города Помпеи достались нам в результате извержения Везувия, во время которого люди и животные были погребены заживо, а когда тела их истлели, в застывшей лаве образовались пустоты – только заполняй; тени Хиросимы, похожие на фотографии призраков, отпечатались на тротуарах и стенах домов после взрыва атомной бомбы.
Горько осознавать, что ты смертен, и оттого вполне объяснимо самонадеянное желание воспротивиться бренности, оставить после себя след безвестным грядущим поколениям, добрую память, чтобы помнили «вечно», как сулит бодрящий завет, неустанно выбиваемый на граните могильных камней.
Об умилительном рвении, с каким наделенный разумом вид тщится обратить внимание Вселенной на свое житье, свидетельствуют послания к потомкам, заключенные в капсулы времени, которые дрейфуют в межзвездном пространстве на борту космических зондов Вояджер-1 и Вояджер-2, удаляясь от Земли всё дальше и дальше. На двух идентичных медных дисках, покрытых золотом, записаны фото и графика, музыка и звуки Земли, а также приветствие на 55 языках, чья неуклюжая лихость («Привет от детей планеты Земля») выдает человечество с головой. Заманчиво представлять, что ария Царицы ночи Моцарта, «Melancholy Blues» Луи Армстронга и азербайджанский балабан – это всё, что останется от человечества, если, конечно, инопланетяне вообще разгадают выгравированный на футляре ребус – как проигрывать записанную аналоговым способом пластинку, и не только разгадают, но и умело применят на деле. По признанию самих инициаторов космической бутылочной почты, вероятность этого ничтожно мала, и вся затея кажется плодом, по-видимому, еще бытующего в науке мистического мышления, неким инсценированным ритуалом, который в первую очередь служит самоутверждению вида, неготового смириться с абсолютной своей ничтожностью. Но какая польза от архива без адресата, от капсулы времени без тех, кому она предназначена, от наследия без наследников? На опыте археологов мы усвоили, что в мусоре прошлых эпох содержатся самые красноречивые свидетельства. Геологический слой из пластика, радиоактивных отходов и электролома без малейших усилий со стороны будет сохраняться веками, сообщая достоверные сведения о наших привычках и хронически отягощая жизнь на Земле.
Возможно, наши потомки перекочуют на другую планету, что издревле являлось предметом тайных воздыханий человечества, которое совсем не прочь отмотать время назад и исправить допущенные однажды ошибки или (если потребуется) ценой неописуемых затрат создать заново то, что так опрометчиво было разрушено. Возможно также, к тому времени наше культурное наследие действительно удастся вписать в геном особо устойчивого бактериального штамма наподобие искусственной ДНК.
С середины правления первой династии египетских фараонов сохранился папирусный свиток, датируемый примерно 2900 годом до н. э., свиток настолько ветхий, что до сегодняшнего дня он так и не был развернут, – о содержании его остается только гадать. Точно таким мне представляется иногда будущее: я вижу растерянность пришедших нам на смену поколений, вижу, как стоят они, застыв, перед умными машинами сегодняшних дней – причудливыми алюминиевыми коробками, содержимое которых – из-за стремительной смены компьютерных платформ и языков программирования, файловых форматов и способов воспроизведения – превратилось в бессмысленные коды – объекты с довольно куцей аурой в сравнении с узелками кипу, какими пользовались инки, безгласными, но не менее красноречивыми; я вижу, как глазеют они на загадочные древнеегипетские обелиски, монументальные свидетельства, вот только чего, триумфа или скорби – больше никто не знает.
Ничто не вечно, и тем не менее иная жизнь длится дольше: церкви и храмы оказались прочнее дворцов, а письменные культуры стабильнее тех, что обходятся без сложных знаковых систем. Письменность, которую хорезмийский ученый муж аль-Бируни сравнил однажды с существом, разрастающимся в пространстве и времени, с самого начала служила для передачи информации, это была система, независимая от родовых связей и существовавшая параллельно устной.
За чтением или письмом ты привечаешь родные души – так прокладывается другая, духовная линия наследования, в противовес исконной биологической.
Если рассматривать человеческий род как орудие некоего божества (что, надо сказать, время от времени и случается), чья задача – архивирование мира и сохранение сознания Вселенной, то мириады написанных и напечатанных книг – не считая тех, что созданы самим Богом и его многочисленными эманациями, – представятся нам как попытки следовать нелепому долгу и аннулировать неисчерпаемость вещей исчерпаемостью их материальной оболочки.
Наверное, в силу слаборазвитого воображения книга до сих пор видится мне самым совершенным из всех медийных носителей, невзирая на то, что бумага, которую вот уже несколько столетий применяют для ее изготовления, не так долговечна, как папирус, пергамент, камень, керамика или кварц, и что даже библейские тексты – самые тиражируемые и переведенные почти на все языки мира – дошли до нас не полностью. Мультиплицированная сущность с повышенными шансами на сохранение до нескольких поколений, книга – открытая капсула, в которую заключено послание к потомкам, в ней – с момента написания до сдачи в набор – оставляет засечки время, и каждый напечатанный текст утверждает себя как утопическое, напоминающее чем-то руины пространство – в таком пространстве мертвые словоохотливы, прошлое дышит жизнью, в достоверности записанного нет сомнений, а время устранено. Как инструмент в исконном смысле слова консервативный, книга во многом явно проигрывает новейшим проводникам информации – материям на вид бесплотным, с непомерным объемом данных и претензией на преемственность; однако благодаря своей завершенности, в которой текст, иллюстрация и форма гармонично друг друга дополняют, именно книга обещает привести в порядок мир, а то и заменить его. В умозрительном разделении на смертное и бессмертное, на душу и тело, имеющем место во всех религиях, заложена, пожалуй, одна из самых утешительных стратегий того, как следует справляться с потерями. Неотделимость содержания от формы, в которую оно облечено, побуждает меня не только писать книги, но также их оформлять.
«Каталог», как и всякая книга, создавался в порыве неодолимого стремления сохранить в целости хоть что-нибудь, оживить прошлое, воззвать к забытому, дать слово тому, что некогда умолкло, и повздыхать об упущенном. Ничто нельзя вернуть, водя пером по бумаге, но всё можно познать. На этих страницах речь в равной мере идет о поиске и об открытиях, о потерях и приобретениях, о том, что, пока жива память, разница между наличием и отсутствием, наверное, ничтожна.
За долгие годы работы над рукописью мне довелось пережить несколько кратких, но беспредельно драгоценных мгновений, когда мысль о неминуемом конце всего и вся казалась мне столь же утешительной, как и представление о том, что будущие экземпляры этой книги, однажды заняв свое место на полках, неминуемо покроются пылью.
Южные острова Кука
Туанаки
* Атолл Туанаки располагался в 200 морских милях к югу от острова Раротонга и приблизительно в 100 милях к юго-западу от Мангайи.
† Он затонул, по всей вероятности, на рубеже 1842–1843 годов во время подводного землетрясения – так или иначе миссионеры, достигшие этих мест в июне 1843 года, определить положение острова уже не могли. Только к 1875 году он был вычеркнут из географических карт окончательно.
История эта началась ровно семь лет назад, ясным апрельским днем, отмеченным совершенным отсутствием ветра; тогда, рассматривая один из глобусов, какими напичкан отдел картографии Государственной библиотеки, я наткнулась на некий остров Ганг, о котором дотоле и знать не знала. Сирый кусочек суши приютился в северо-восточной пустыне Тихого океана, в кильватере мощного куросио – играющего иссиня-черной рябью морского течения, которое неустанно гонит на север теплые соленые воды от острова Формоза вдоль Японского архипелага, – приютился в той северной точке, где сходились воображаемые линии, протянутые от Марианских островов и Гавайского архипелага, некогда носившего имя 4-го графа Сэндвичского Джона Монтегю, о чем, по крайней мере, свидетельствовала и замеченная мной сфера – размером с детскую головку, изваянная из гипса и папье-маше, с искусным картографическим оттиском. Знакомое название и необычность места разожгли мое любопытство и побудили к изысканиям, в ходе которых выяснилось, что в районе с координатами 31° с. ш. и 154° в. д. дважды видели риф и целых четыре раза землю, хотя потом в существовании ее непременно кто-нибудь да сомневался; так продолжалось до 27 июня 1933 года, в тот день командой японских гидрографов, тщательно исследовавшей означенный регион, было наконец официально засвидетельствовано исчезновение Ганга, – прослышав о потере, мир, однако, не сильно сокрушался.
Старинные атласы и в самом деле буквально испещрены островами-фантомами, якобы примеченными мореходами, и вот что удивительно – примечали их тем чаще, чем точнее становились карты, возвещавшие о стремительном сокращении неизведанных пространств; последние белые пятна никому не давали покоя, людей на кораблях растравляла беспредельная пустынность морских просторов, сбивали с толку то низко висящие облака, то дрейфующие айсберги, их воротило от гнилой воды, червивого хлеба и от твердой, как камень, солонины, они исступленно бредили о славе и о том, как ступят на землю; и в этой безграничной исступленности желаемое сплавлялось в лаково-лакомый слиток золота, подвигая путешественников заносить в судовые журналы замысловатые названия и сопровождать их прозаичными координатами, – так однообразие дней разбавлялось открытиями, пусть даже и мнимыми. В похожих обстоятельствах на картах водворились Нимрод, Матадор и Острова Авроры – бледные очертания рассеянных пятен земли, подписанные хладнокровным курсивом.
Подобные феномены, однако, не слишком занимали мое внимание, хоть и считались они непреложными на протяжении долгого времени; по-настоящему влекли меня острова, чья прежняя реальность и последующее исчезновение были подтверждены многочисленными свидетельствами, и всех более – затонувший остров Туанаки, – не только комбинацией звуков, похожих на стихшее секунду назад заклинание, но главным образом одной примечательной записью об обитателях острова, которым, оказывается, были чужды любые формы борьбы и которые не употребляли слово «война» ни в одном из его нелестных контекстов; по детской своей наивности, видимо, где-то глубоко внутри меня еще жившей, я приняла прочитанное за чистую монету, хоть и припомнила на раз дюжину утопических трактатов, авторы которых осмеливались утверждать, что другой мир тоже возможен, но только в теории, а в качестве доказательства приводили не в меру подробные описания форм общественного устройства, продуманные с таким тщанием, какое может свидетельствовать только о безнадежной оторванности от жизни. Итак, вопреки блестящей осведомленности, я, подобно многим моим предшественникам, пустилась на поиски страны, где предаваться воспоминаниям было не принято, где жили только настоящим, где насилие, нужда и смерть находились в забвении, поскольку никто даже знать не знал, что это. Таким рисовался мне Туанаки, и этот чудесный образ вторил приводимым в источниках описаниям: атолл из трех островов, расположенный почти вровень с океаном, в кольце неглубокой лагуны, которая изобилует рыбой, мерцает молочно-голубым и защищена от сильных волн и назойливого прибоя коралловым рифом; поросший частоколом стройных кокосовых пальм и пышными фруктовыми деревьями, населенный неведомой породой людей на редкость дружелюбного и миролюбивого нрава – одним словом, место было восхитительное, и для вящей простоты я окрестила его про себя раем, чьим единственным отличием от стократ воспетого прообраза являлось одно едва приметное и в то же время решающее обстоятельство: плоды его деревьев не сообщали ни капли знания, разве что азбучную истину о том, что перспектива остаться на здешних брегах куда благодатнее, чем уйти, ибо, как вскоре я, к своему удивлению, поняла, эдемский сад в этом уголке Поднебесной служил местом приюта, а не изгнания.
Рассказы о неправдоподобном кусочке суши отличались подробностями, не допускавшими сомнений в прежнем его существовании, хотя точную позицию острова не доводилось определять ни одному хронометру, поскольку ни Уоллис, ни Тасман, ни Бугенвиль, не говоря уже о безымянном капитане сбившегося с курса китобойного судна, никогда не видали его пологих берегов. Я снова и снова увязала в маршрутах великих тихоокеанских экспедиций, следовала за штриховыми и пунктирными линиями, прочерченными на градусной сетке, пересекала разлитый по бумаге океан, соотнося корабельные пути с предполагаемым расположением острова, для которого – во внезапном порыве нахлынувших имперских амбиций – сделала засечку в самом нижнем вакантном четырехугольнике.
Сомнений не оставалось: тот самый мореплаватель, которому удалось проникнуть по воде почти во все уголки мира и которого маленький континент по сей день почитает за величайшего из своих сыновей, похоже, тот самый мореплаватель во время третьего и последнего своего путешествия, ни о чем не подозревая, проскочил атолл Туанаки: 27 марта 1777 года два подчиненных ему корабля-угольщика, некогда сошедшие со стапелей в туманном Уитби, проплыли мимо острова, лежавшего буквально у них под носом, и ничего не заметили – при полном параде, с поднятыми парусами, горделивые, как фрегаты. Прошло уже больше месяца с тех пор, как «Резолюшн», долго служивший Джеймсу Куку верой и правдой, и его эскорт, более молодой и юркий «Дискавери», при первом же легком бризе снялись с якоря в бухте новозеландского залива Королевы Шарлотты, исконно принадлежавшей англичанам, миновали пролив, названный в честь их капитана, через два дня наконец оставили позади холмистый мыс Паллисер, что отливал из-за дымки черно-зеленым, и вышли в открытое море. Но ветры артачились. Свежие, зачастую переменчивые бризы безотрадно слабели, а шквалы, сопровождаемые хлесткими дождями, сменялись мучительными штилями. Даже привычные настойчивые весты вопреки всем сезонным прогнозам на этот раз не спешили гнать корабли к северо-востоку, на долготу Таити, и момент, удобный для того, чтобы снова бросить якорь, угрожающе отодвигался. Они потеряли уже много времени. И с каждым днем таял очередной луч надежды – увы, не плыть их кораблям грядущим летом вдоль берегов Нового Альбиона, не найти лазейки в том заклятом водном пути, который на географических картах – далеких от совершенства – сулил желанное сокращение маршрута между Тихим океаном и Атлантическим. Грезы о проходе, усеянном паковым льдом, но тем не менее пригодном для движения судов, стары как мир и живучи – как всё, о чем грезят ученые-космографы, и сейчас они представлялись более чем реальными; ведь с идеей о существовании гигантского Южного континента пришлось проститься – Кук, в поисках овеянного легендами края, немыслимо большими и затратными зигзагами избороздил все южные моря и не увидел ничего, кроме ледяных гор.
С обвисшими парусами оба судна, мыкаясь, мало-помалу двигались вперед, и вскоре их стала обволакивать оглушительная тишина, совершенно непохожая на то единодушное безмолвие, которым было наполнено мое библиотечное житье-бытье. Звуки этой тишины мне удавалось время от времени распознать: они являлись в виде перекатной долгой зыби, погоды, разгулявшейся словно в насмешку, нескончаемой литании волн, без устали крючащихся и снова сходящих на нет, некогда обвороживших великого Магеллана и надоумивших назвать океан «тихим», – в эфемерном консонансе угадывалось безжалостное шипение вечности, и оно пугало больше, чем самые яростные бури, о каких хотя бы с уверенностью можно сказать, что рано или поздно они уймутся.
Эти воды не были ни мирными, ни тихими, в их черных глубинах бродили в ожидании своего часа необузданные силы. Дно, всё в трещинах и расщелинах, изрезано подводными впадинами и скальными образованиями – незажившими рубцами глубокой древности, когда еще спаянные континенты, дрейфовавшие по Мировому океану единой массой, под воздействием чудовищных сил вдруг стали разрываться и липнуть к мантии Земли, пока литосферные плиты не пришли в движение, подминая друг друга, дыбясь, устремляясь в бездонные пропасти или в светлые выси – всё по законам природы, не знающим ни справедливости, ни пощады. Вода залила конусы вулканов, и по краям их кратеров расселились мириады кораллов, под ласковыми лучами солнца те породили рифы – остовы будущих атоллов, на плодородных почвах которых прорастали семена с намытых приливом ветвей, в то время как потухшие исполины всё глубже погружались в бездну, неизмеримую и беспросветную в масштабах вечности. И пока всё это свершалось, сопровождаемое слабым гулом, который слышен даже сейчас, в трюме блеяла от голода скотина: бык, коровы, телята, бараны, овцы и козы, ржал жеребец с кобылами, надрывались павлин и его павы, квохтали домашние птицы. Кук никогда не брал на борт столько живности – ни дать ни взять, половина ковчега, а всё по настоятельному желанию короля – полный комплект, установленный далеким предшественником: плодитесь и размножайтесь; капитан недоумевал, как Ной ухитрялся набивать все эти голодные рты, ведь они поглощали горы провианта на равных с командой.
Они плыли по открытому морю с большим отклонением от намеченного курса, на пятнадцатый день – если верить записям бывшего на борту бондаря – Кук, особенно радевший за лошадей, в надежде сэкономить сено, запасы которого таяли на глазах, отдал распоряжение забить восемь овец и тем самым положил конец возложенной на них миссии – заселить один из тихоокеанских островов и наплодить там ягнят. Увы, часть мяса исчезла из камбуза еще до готовки – обычная мелкая кража, вот только случались они теперь слишком часто. Капитан печенкой чуял растущее у него за спиной недовольство, чуял предательство, он приказал урезать мясной рацион у всей команды, пока не найдется виновный, а когда люди не притронулись даже к жалкой похлебке, усмотрел в их поведении бунт. Слово, что спичка под палящим солнцем, достаточно искры, и вспыхнет; следующие два дня тянулись бесконечно долго, ветер несколько раз менялся, и, когда задул с юга, капитана, уже давно смотревшего на всех волком, вдруг прорвало, и всё, что лежало на душе камнем, наконец нашло выход в виде ярого неприкрытого гнева. Долговязая одинокая фигура Кука шныряла по палубе как в припадке, он рвал и метал, и его проклятия долетали до пороховой камеры. Снедаемый недоверием капитан перестал заботиться о людях, образ сурового, но справедливого отца, каким он виделся многим, померк, а на его место заступил старый деспот – непредсказуемый, как морские ветры. Невзгоды, выпавшие в том плавании на долю команды, а также тот факт, что на страницах дневника Кук ни словом не упоминает о досадных инцидентах, – всё это было только преддверием последовавшей за тем череды трагических событий, которая прервалась только через два года в бухте Кеалакекуа, где жизнь капитана пришла к страшному завершению.
Истекли последние дни месяца, которому, казалось, не будет конца, время давно обернулось вечностью, в ее бездействии отдельные часы и дни больше не имели никакого значения. Над кораблями кружили альбатросы и буревестники, со свистом разрезали сухой воздух летучие рыбы, курсировали туда-сюда морские свиньи и дельфины, а также стаи крошечных медуз, круглых и маленьких, как пули мушкетов. Но однажды явилась большая белая птица с красным хвостом, возвестив о том, что твердь уже близко, пусть и невидимая пока, в другой раз с той же вестью мимо проплыло громадное бревно, от долгого нахождения в воде затянутое блеклой пленкой морских ракушек, похожих на разбухшие гнойники.
И вот наконец, 29 марта 1777 года, в 10 часов утра на шедшем впереди под ветром «Дискавери» взвился голландский красно-бело-синий флаг – земля. Почти одновременно и с мачты «Резолюшн» заметили серо-голубую струнку суши, блеснувшую на северо-восточном горизонте, призрачную как мираж. До самого заката корабли держали курс к пульсирующей вдали полоске неведомого берега, потом всю ночь, до рассвета, проделывали хитрые маневры, в результате приблизившись к острову мили на четыре; и здесь, с южной его стороны, в бликах встающего из воды солнца команде явилось чарующее зрелище. Сразу несколько человек, тронутые неземной красотой и не полагаясь на капризную память, схватились за кисти и перья в порыве запечатлеть водянистыми красками и худо-бедно наработанными мазками лучезарную панораму: невысокие холмы, мерцающие пурпуром в лучах утреннего солнца, вершины, поросшие пестрыми деревьями и пальмами с их взлохмаченными кронами, сочно-зеленые непроходимые джунгли на склонах, кокосы, джекфруты, плантаны, поблескивающие в сине-розовой дымке.
Я рассматривала эти рисунки, с которых всё еще проступала напитавшая их тоска, в душном зале отдела картографии с его молочно-белыми окнами, никогда не открывавшимися, – как мне разъяснили, ради обеспечения сохранности фонда. Среди эскизов нашлась также карта, принадлежавшая штурману «Дискавери», которому было поручено произвести измерения острова и зарисовать его на бумаге, насколько такое вообще возможно, сидя в шлюпке и огибая не слишком внушительный по размерам участок суши. Штурман, отметив контуры острова двойной линией, а возвышенности решительным, курчавым штрихом, снабдил сам листок подписью вдвойне нелепой, готический шрифт которой говорил о торжественности момента, удостоверявшего открытие «Острова Дискавери». Названием больше, названием меньше, подумала я, очередное голословное заявление, выспреннее и пустое, под стать породившей его унаследованной привычке.
На берегу тем временем уже давно собрался народ – ни сном ни духом о том, что стал частью некоего открытия и теперь в каждом рапорте из тех, что регулярно отправлялись на другой конец света, обречен играть навязанную ему роль туземца. С этой целью островитяне заняли исходные позиции, закинули на плечо дубины, подняли копья. Чем больше их выступало из тенистых зарослей на залитую утренним светом сцену, тем громче и настойчивее звучало гортанное пение. Люди размахивали оружием, снова и снова вскидывали его вверх, в такт боевому кличу, вот только определить, угроза ли в нем или приглашение, было нельзя, сколько к подзорной трубе ни прикладывайся. Толпа – голов уже сотни две – в окуляре казалась почти осязаемой, только и всего, – сделанный из дерева, латуни и стекла прибор, похоже, совершенно не годился для разрешения по-настоящему важных вопросов. Искреннее любопытство, красноречивые, приведенные со знанием дела описания языка, жестов, физического сложения и нарядов, включая традиционные головные уборы и узоры на коже, безупречная скрупулезность, с какой сравнивалось данное племя с другими, – хоть всё это и имело место, от восприятия моряков – самого непосредственного, прежде всех слов – главное ускользало, поскольку мир для них делился на своих и чужих, а явления в нем – на привычные и необыкновенные, поскольку единое они разъединяли и норовили проводить границы там, где их нет, – подобно тому как это делалось на навигационных картах, бахромой береговой линии сообщавших о том, где заканчивается вода и начинается суша.
Я много размышляла: а кто вообще умеет читать приметы, кому понятен язык мушкетов и вертлюжных пушек, язык бессчетного множества рук, левых и правых, простертых или поднятых кверху, кто истолкует беснование людей или их странную сдержанность, вертелá над огнем с нанизанной на них человечиной, трущиеся друг о друга носы – кому под силу всё это объяснить, а еще поднятую к небу лавровую ветвь (бывает, и пальмовую), жесты приветствия, согласия или людоедство. Что есть война, а что мир, как увидеть конец и распознать начало, что такое милость, а что коварство, спрашивала я себя, пока сидела в буфете, откинувшись на спинку обтянутой бордовым бархатом скамьи, и разглядывала сосредоточенно жевавшую вокруг меня публику. Каково это: разделять с соплеменниками одну и ту же пищу, бдеть по ночам при отблесках костра, обменивать утоляющие жажду кокосы на железяки и всякую ерунду?
Итак, люди толклись на берегу: кто-то неуклюже бродил по мелководью, другие пританцовывали и пронзительно кричали в сторону рифа. Но о чем они думали? Мне ли решать?! В то время я никуда не ездила, хотя на недостаток заманчивых приглашений издалека грех было жаловаться, я ходила в библиотеку, где открывала для себя всё новые и новые области для изысканий, надеясь пролить свет на скрытую первопричину бытия и под видом упорядоченных каждодневных занятий придать смысл собственной жизни. Итак, еще раз: люди думали то, что думали, видели то, что видели, и то была их правда.
Во всяком случае, наверняка можно сказать следующее: на узкой лодчонке с высокой раздвоенной кормой подплыли к кораблям два островитянина, из брошенных им даров ни к чему не притронулись – ни к гвоздям, ни к жемчугу, ни к рубахе из красного сукна. Достоверно и то, что один из них, проявив удивительное бесстрашие, поймал веревочную лестницу, поднялся на борт «Резолюшн» и назвал себя Моуруа с острова Мангаиа. В каюте капитан и островитянин, должно быть, какое-то время просто стояли друг против друга и примеривались, глаза в глаза, точно звери, которым никогда прежде встречаться не доводилось: два человека, один идеально круглоголовый, как все туземцы, другой, Кук, с птичьим черепом; первый с мягкими чертами лица и блестящими глазами, полногубый, второй – сама суровость: губы стрункой, выразительный нос, пронизывающий взгляд из глубоких глазниц; длинные смоляные волосы, завязанные на макушке в тугой пучок, и рядом – уже редеющие, спрятанные под серебристо-серым париком; оливковая кожа, от плеча до локтя покрытая татуировками, и тут же, в противовес, бледная как полотно; на крепко сбитом и упитанном теле накидка из лыка, цвета слоновой кости, длиной до колен, напротив – высокая сухощавая фигура в кюлотах и мундире из темно-синего сукна, обшитом золотым галуном. Только уродливые страшные шрамы словно свидетельствовали о тайном союзе, но – разумеется, из самых добрых побуждений – их не выдавали ни многочисленные картины и гравюры с изображениями Кука, ни портрет Моуруа, написанный в тот знаменательный вечер корабельным рисовальщиком: зачем людям знать о ране на лбу туземца, полученной в бою, да еще скверно зажившей, зачем видеть на правой руке Кука вздутый от ожога рубец, что протянулся между большим и указательным пальцем до запястья. В знак скрепления этой нечаянной близости железный топор поменял владельца и, когда за островитянином приехала одна из лодок, отправился с ним. Прибой не ослабевал, и вскоре все надежды высадиться или бросить якорь были похоронены – куда бы ни опускали лот, он всякий раз возвещал одно и то же: дно слишком глубоко и, сверх того, покрыто острыми кораллами. При мысли, что они покинут эти земли, так и не ступив на берег, болезненно горчило, и в вечерних сумерках, когда слабые порывы ветра доносили до моряков ароматы амброзии, горечь перерастала в тягостное разочарование.
На этом месте свидетельства очевидцев обрывались, и тем не менее, несмотря на обилие противоречий, они привели меня сюда: на борт помянутых желто-синих кораблей под красным английским флагом, которым наутро предстояло сняться с якоря и растаять в далеких далях. Я вдруг увидела, что стою на палубе совершенно одна, да и не на палубе вовсе, а на берегу острова, знакомого по размывчатым изображениям на картах, я даже на секунду забыла, что это не Туанаки, а по соседству, что занесло меня не бог весть какими судьбами на Мангаиа – атолл, лежащий в пяти километрах над ложем океана, по очертаниям – вылитый скат, гигантским кольцом объявший широкое известняковое плато с бесчисленными рифами и гротами, вымытыми сильным прибоем, невозделанными землями и топкими озерами, переходящими в холмистый ландшафт, где сыро на вершинах и сухо с подветренной стороны, на склонах. Столь же красноречива и летопись Мангаиа. В ней содержались сведения буквально обо всем: кто кому приходился сыном, кто чьим наследником, кто титулован законно, а кто обманным путем – с той давней поры, когда предки мангаиан в выдолбленных из бревен челнах и каноэ подались на восток, навстречу Сириусу, и когда, причалив к разрозненным землям, стали их заселять. Хроника здешних мест скреплялась не датами, но узами крови, которая текла по причудливо разветвленным каналам, через роды и поколения, время от времени проливаясь на полях сражений.
Я могла только гадать, какая встреча ждала Моуруа на берегу, но – будто сбитая с толку нечистым – вдруг живо представила, как соплеменники налетели на гонца с расспросами: что за бледнолицые гости и откуда пожаловали, как было единодушно решено, что посланы они самим Тангароа, божеством, которому поклонялись на Мангаиа в глубокой древности и который потерпел поражение от брата своего Ронго и бежал в открытое море. Передо мной как наяву потянулся живой поток: люди шли к каменной статуе Ронго, стоявшей недалеко от берега, – почтить память о роковой битве и отблагодарить бога за то, что тот уже во второй раз дал отпор врагу и всему его эскорту. В скудном своем воображении я рисовала, как выступил вперед гонец Моуруа и затянул перед идолом хвалебную песнь, исполненный гордости, присущей человеку чести, мощное его телосложение выдавало закаленного, дожившего до седин воина. Было время, когда он – еще необрезанным мальчиком – ходил в самом последнем ряду бойцов, вооруженный дубиной из железного дерева; с тех пор немало воды утекло: постепенно, битва за битвой, он продвигался вперед, мужественно закрывая бреши, которые оставляли сородичи, сменил оружие и теперь лихо орудовал топором и копьями, оснащенными базальтовыми наконечниками, – вся его жизнь прошла в долине старой лагуны, вокруг которой громоздились исполосованные ветрами прибрежные скалы, напоминая трибуну гигантского амфитеатра, где спокон веков мерились силами воины различных племен – потомки враждовавших друг с другом богов, – схватки продолжались до тех пор, пока глухие удары барабанов войны не возвещали о прекращении боя, после чего все пускались в пляс, во время которого пронзительные вопли танцоров заглушали стоны раненых, триумфальный клич сотрясал ночь и наводил ужас до самого рассвета, и только тогда звучала дробь барабанов мира. Победителю доставался «Мангаиа» – титул правителя, награда немалая. Мангаиа значит мир, Мангаиа значит сила, временная власть, достаточно прочная, чтобы решать любые вопросы: кого куда поселить и какой участок земли дать в надел, а кого лучше спровадить на бесплодные карстовые рифы, где процветает один сушняк. Там, в холодных и сырых известняковых пещерах, отсиживались в ожидании своего часа побежденные, спадая с тела, пока не оставались от них кожа да кости или пока число их потомков не умножалось настолько, что надежда разбить обидчиков в ближайшем сражении вновь начинала крепнуть. Я отчетливо видела, как сверкают в полутьме белки их глаз, слышала, как капает на их головы и затылки вода со сталактитов, давилась запахом гнили.
В те дни и недели, листая этнологические хроники первых миссионеров и штудируя нравы и обычаи островитян, я узнала, что власть на Мангаиа передавалась не по наследству, что ее завоевывали: то в открытом сражении, то во время ночной пирушки, нередко перераставшей в побоище, после которого противник, обманутый и одурманенный растертыми корнями кавы, попадал в чан на раскаленных камнях и тушился в собственном соку до готовности.
На этот раз Моуруа сжимал в руках топор, отливавший нездешним блеском, и если кто думает, что это просто кусок железа на деревянной рукоятке, обычный дар, преподнесенный с благими намерениями, тому невдомек, какой властью он обладает. Отныне топор будет доставаться победителю – по пользе с ним не сравнится ничто, вытесать с его помощью из дерева бочку, доски или оружие так же легко, как разрубить на алтаре Ронго череп жертвы, которую приносили в начале каждого нового правления.
Мангаиа не просто остров, один из тысячи рассеянных по безбрежному океану, Мангаиа – это целый мир, где не имело значения, умрешь ли ты с голоду в лабиринте затхлых гротов или в ветхой пироге под нещадно палящим солнцем. Проигравший терял всё: имя, землю, жизнь, – кому удавалось спастись, тот не думал о возвращении. Есть немало свидетельств о вырвавшихся счастливчиках, которые находили прибежище на острове Туанаки, лежавшем в двух днях ходу. На Мангаиа правители сменяли друг друга, следуя заведенному порядку, и так продолжалось до тех пор, пока круговорот триумфов и поражений вдруг не прервался. История всегда одна и та же, разнятся сценарии: то заявились чужеземцы, никого не спросясь, – пришлось спроваживать; в другой раз китобои – протягивали в сбитых руках пеструю раковину, зубчатыми краями напоминавшую разинутую пасть; то пожаловали миссионеры со своими женами, но, едва ступив на берег, в смертельном страхе заспешили назад, наперекор прибою, бросая привезенное добро: свинью и хряка, которых встретили как божественную пару и, обрядив в мочало, сделали предметом поклонения; толстые книги с черными, похожими на татуировки закорючками и тончайшими страницами, которые нынче шуршат на телах танцоров; а раз завезли неведомую заразу, что унесла больше жизней, чем все кровопролитные войны, вместе взятые. Таким было начало, а дальше последовал конец, долгое прощание с богами. Образы, вырезанные из железного дерева, были поруганы, священные рощи осквернены, кумирни преданы огню. Стенания последнего языческого племени остались неуслышанными, как и его мольбы о пощаде в решающей битве. Те, кто не пожелал обращаться в другую веру, умерли под ударами топоров из американской стали, из камней разбитого колосса Ронго вскоре выросла церковь. Топор Кука стал ржавым реликтом, символом ушедшего господства – он выполнил свое назначение и был возвращен английскому миссионеру второй волны, мне так и не удалось дознаться почему: из гордости ли, а может, в смутной надежде упрочить когда-то скрепленный союз или наоборот – его расторгнуть. Миссионеру тоже было невдомек, и без долгих размышлений он передал кусок старого железа Британскому музею.
Волей-неволей я думала о бродящих в недрах Земли силах. Там, где они заправляют, заведенный издревле круговорот взлетов и падений, удач и провалов совершается быстрее. Острова показываются и снова уходят под воду; продолжительность их жизни короче, чем у материков, они – явления провизорные, в сравнении с миллионами лет и бескрайними просторами океана – бирюзовыми, лазурными и нежно-голубыми, и на глобусах неизменно повернуты к стенке, во всяком случае в читальном зале отдела картографии, по которому я теперь прохаживалась с торжествующим видом, в уверенности, что наконец-то нащупала нужную нить – тонкую пуповину, связавшую Туанаки и Мангаиа – кольцо из отмерших кораллов и базальтовой лавы, вершину торчащей из воды отвесной горы, вытолкнутую на поверхность небывалым подводным землетрясением. Такая же яростная буря увлекла на дно Туанаки, накрыв тяжелыми водами Тихого океана, вскоре после того как миссионеры отправились на поиски острова. Гигантская волна, серой тенью подползавшая от горизонта, поглотила всё вмиг почти беззвучно. Я видела совершенно ясно, как на следующее утро в том самом месте, где находился остров, на зеркально-гладкой поверхности океана плавали только мертвые деревья.
За год до этого события маленькая шхуна с командой в семь человек нащупала среди рифов проход и достигла пустынных берегов Туанаки. По приказу капитана один из матросов, вооруженный только кортиком, отправился на разведку острова; продираясь через дебри банановых зарослей, кокосовых пальм, бугенвиллей и диких орхидей, он вдыхал воздух, насыщенный ароматом плюмерии, гибискуса и белого жасмина, а когда наконец выбрался на поляну, то обнаружил на ней дом собраний, а внутри немногочисленную группу мужчин. Они были одеты в пончо Мангаиа и говорили на местном диалекте, отмечалось в единственном свидетельствующем о той встрече документе, который я перечитывала с чувством безмерного удовлетворения.
Один из присутствующих – верно, старейший – знаком попросил гостя войти, и когда тот последовал приглашению, задал вопрос о капитане.
– Капитан на борту, – правдиво отвечал матрос.
– Отчего ж не сходит на берег? – не поведя бровью, продолжил расспросы старик. На шее у него болталась витая раковина.
– Боится, что убьете.
Наступила тишина, и две-три секунды казалось, что прибой угрожающе близко. Старик посмотрел в густые заросли. И наконец с удивительным спокойствием произнес:
– Мы не умеем убивать. Мы мастаки плясать.
Напоследок мой взгляд еще раз задержался на бледно-голубом глобусе. Я сразу нашла искомую точку. В точности там, где экватор, чуть южнее, среди рассеянных островков лежал идеальный клочок земли – вдали от мира, о котором забыл всё, что когда-то знал. А мир печалится только о том, чем ведает, и даже не подозревает, чего лишился, что затерявшееся на земной сфере крошечное пятнышко в не меньшей мере достойно называться его центром, поскольку связано оно с Землей не узами торговли, не путами войны, но несравнимо более крепким сплетением, сотканным из тончайших нитей мифа. Ведь миф – высшая из реальностей, а библиотека – подумалось мне на секунду – доподлинная арена истории.
За окном зарядил дождь, сопровождаемый муссоном, влажным и для здешних северных широт непривычно теплым.
Древний Рим
Каспийский тигр
Panthera tigris virgata, он же персидский, мазандеранский, гирканский, каспийский или туранский тигр
* В результате разделения жизненного пространства, имевшего место около 10 000 лет назад, появились два подвида тигра: сибирский и каспийский. Последний обитал в верховье Аракса, среди лесистых холмов и равнин Талышских гор, протянувшихся до самой Ленкоранской низменности, на южных и восточных берегах Каспийского моря, на северной стороне Эльбурского хребта до самого русла Атрека, на юге Копетдага до бассейна реки Мургаб; водился он также в верхнем течении Амударьи, на берегах ее притоков и в долине, вплоть до Аральского моря, а еще в нижней части Зеравшана, в верхних течениях Илиса и Текеса и в пустыне Такла-Макан.
† Охота, утрата среды обитания и сокращение популяции животных, которыми питаются хищники, стали причиной вымирания каспийского тигра. По некоторым данным, в 1954 году в районе реки Сумбар, текущей через нагорье Копетдаг на туркмено-иранской границе, был застрелен последний экземпляр. Согласно другим свидетельствам, это случилось в 1959 году, на территории национального заповедника Голестан, что в северных районах Ирана. В 1964 году на отрогах Талышских гор и в бассейне реки Ленкорань вблизи Каспийского моря в очередной раз были замечены последние представители этого подвида. В начале семидесятых биологи иранского Министерства по защите окружающей среды пытались отыскать каспийского тигра в отдаленных районах необитаемых гирканских лесов, но эти попытки не увенчались успехом. В неволе нет ни одного выжившего экземпляра. Несколько препарированных образцов находятся в естественно-научных коллекциях Лондона, Тегерана, Баку, Алматы, Новосибирска, Москвы и Санкт-Петербурга. До середины семидесятых годов чучело каспийского тигра выставлялось в Ташкентском музее естествознания, пока его не уничтожил пожар.
По вечерам они голодны и беспокойны. Без мяса вот уже много дней. Без охоты, с тех пор как угодили в силки. Инстинкт в заточении притупляется – похоже, так и полягут у всех на виду, грудой обглоданных костей. В кошачьих глазах огонь. Это отблески факелов. Они предвещают появление стражников, которые во время каждого обхода превращаются в слух, всматриваются сквозь прутья клетки, пытаясь понять в потемках, что с грузом – жив ли еще.
Поднимается решетка. Но вместо еды им приготовлено кое-что другое. Факелы указывают дорогу. Их загоняют копьями в черную дыру без окон – два деревянных ящика, не выше холки. Потом закатывают на стоящие в ожидании телеги. От голода чувства обострены. Суета, движение, шум: суровые приказы стражников, пронзительный свист возницы, лязг упряжи, удары челноков о дальний причал, скрежет колес, чмоканье веревок.
Рывок, и колонна трогается, следует назначенному пути. В самое сердце города. К последнему пределу. Оси пронзительно скрипят на каждом повороте.
Зверей разделяет только стена. Они сидят, скрючившись, в темноте. Знают всё, но ничего не видят. Ни прогнивших доков, ни пышущую паром живодерню, ни Пренестинских ворот, которые остались позади; не видят строений из мрамора и тибурского камня, светящихся даже ночью. Они животные. Такие же как мы. И так же, как мы, обречены на смерть.
Их привозят в катакомбы еще затемно. Последние ночные часы они бесцельно мечутся по тесной камере, наматывают круги, чужие друг другу, а равные ли – время покажет. В камерах затхло, подземелье не знает света. Когда наконец поднимается солнце, ни один луч не проникает в это царство теней, состоящее из коридоров, погрузочных площадок и подъемников, из дверей и затворов.
Тем временем высоко над ними натягивают парусиновый тент – второе небо над каменной воронкой, которую постепенно наполняет публика всех рангов и мастей: консулы и сенаторы, весталки и всадники, граждане и вольноотпущенники, легионеры в отставке и – на галерке, в самом крайнем ряду – женщины. Люди пришли, чтобы увидеть зрелище. Пришли, чтобы быть увиденными. Сегодня праздник, спектакль, и те, кто называют его играми, явно не осознают священности действа и нешуточную тяжесть возможных кровавых последствий.
День еще только занимается, когда в ложу ступает император, он откидывает капюшон туники, – статная фигура, крепкое сложение, заплывшая жиром шея, массивный профиль, знакомый каждому по изображениям на монетах. Как только император занимает место, подземелье открывают, на глазах у всех разверзается бездна, и из ее зева встает огромный, еще невиданный зверь: он бросается на арену, рысит вдоль ограды, прыгает на каменную стену, за которой сидят зрители, с грохотом обрушивает могучие лапы на железные ворота, идет на попятный, озираясь, и замирает, всего только на секунду, но эта секунда длится бесконечно долго.
Молва о чудовище, преодолев моря и горы, разнеслась уже давно: говаривали, будто родом оно из дремучих лесов Гиркании – вечнозеленого края, раскинувшегося на берегах Каспийского моря, с обрывистыми утесами и нетронутой природой. В его имени отзвук проклятия и в то же время мольбы. Стремительный, как стрела, неукротимый, как воды Тигра, самой исступленной из всех рек, в честь которой он назван. Алый мех точно пламя, закоптелые полоски как ветви, побывавшие в пекле, точеная морда, уши торчком, мощные баки, белые усы, под тяжелыми бровями искры зеленых глаз, на лбу лоснится темное пятно, предназначение которого никому не ведомо.
Зверь трясет крупной головой, скалится, показывая огромные страшные зубы, два острых клыка, мясистый зев. Проводит языком по гладкому носу. Из глотки вырывается урчание и пробегает по рядам – хрипящий звук, никем прежде не слышанный и до того пугающий, что публика мгновенно переходит на шепот. Разносится слух – фантастический, и всё же похожий на правду – будто остались в роду лишь тигрицы, ибо зверь жесток, как жестоки матери, у которых отнимают детей. И тут, словно в подтверждение, под хвостом, раскрашенным черно-бурыми кольцами, мелькает плодотворное лоно, однако лону этому, увы, уже не родить.
Зверь снова зашевелился, и теперь мерит бесшумными шагами арену, следует тени, которую отбрасывают стены, ищет место, обещающее укрытие, покой и защиту, – ищет и не находит. Вокруг только сальная серость частокола, зарешеченные дыры, белизна ниспадающих волнами тог, светлые пятна, голые лица, застывшие точно маски.
Они уже видели эту тварь, но вот где и когда? То было не в кошмарном сне, куда заявилась раз пожирающая людей мантикора – злобное детское личико, хищный оскал, зубы, способные разорвать на части любого, с шипами на кончике хвоста, – они узрели ее во плоти, в свите индийского посольства на берегах острова Самос. Тогда это тоже была тигрица, последняя из группы хищников-одиночек, кто пережил мучительно-долгое и полное лишений путешествие. Ее провели перед Августом на кованой цепи в знак уважения – страшное чудо природы, редкостное, наводящее жуть – как приставленный к ней отрок: полуобнаженный, натертый благовониями, безрукий по самые плечи – вылитый герма, искалеченный еще в младенчестве. Помнится, как стояли они на виду у мира: оскаливший зубы зверь и урод – два удивительных создания, странная парочка, для поэта – почти готовая эпиграмма о возвышенной природе отвратительного.
Через шесть лет эту зверюгу впервые показали в Риме. Выставили публике на потеху, в майские ноны по случаю долгожданного освящения театра, в компании с носорогом и узорчатой змеей длиной в десять локтей. Чудовище было не узнать, шершавым языком оно у всех на глазах, как заправский пес, лизало охраннику руки.
Империя римлян велика и по всем краям порядком обтрепана. Рим завоевал не только латинян, вольсков, эквов, сабинян и этрусков, но также македонцев, карфагенян и фригийцев, даже сирийцев одолел и кантабров, а теперь усмирил и это чудовище, будто племя варваров, – сломал его хищную натуру, орудуя плеткой и железной палкой, задобрил крольчатиной и козлятиной, заручился доверием – в обмен на пощаду, как обещал ее всем покоренным народам. Тигрица щурилась, парируя каждый луч света, но не в силах отделаться от навязчивых человеческих взглядов, – рабыня перед освобождением, которую вот-вот объявят гражданином империи. И вдруг невесть откуда – скорее в силу стихийного каприза, чем недоверия – раздался призыв к возмездию, тот самый, какой подхватывают при любых обстоятельствах, единогласный и вечно брызжущий слюной, колотящийся в приступе подозрительности и неожиданно вспыхнувшего недоверия. Люди, наверное, вообразили, что покорность тигрицы наигранная и ее миролюбие не более чем уловка. Что даже если хищник спрячет когти, повернется на спину и, подставив брюхо, склонит смотрителя к ласкам, он всё равно останется воплощением ужаса. Нет ничего живучее, чем страх перед противником, которого тебе удалось однажды повергнуть, но которому, невзирая на победу, ты явно уступаешь в силе. Есть правда, и ее нельзя не признать: природа осталась непокоренной, человек не сумел подчинить себе диких зверей. Каждый вздох тигрицы служил напоминанием о давних страхах и о грядущих несчастьях и только утверждал ее скорую смерть, неотвратимую, как жертвоприношение после одержанного в битве триумфа. Последовал единодушный приговор: да встретит кроткая тварь свою смерть на арене, как встречают ее враги Рима. Но когда дошло до выбора противника, ни один не вызвался с ней сразиться. Так в клетке и закололи.
Гремят цепи, лязгают мечи, открывается деревянный люк и ухает на песок. Земля отверзается. По рядам пробегает шепот. Из темноты выглядывает огненно-рыжая голова. На арену выходит лев: спокойный, хладнокровный, с поднятой головой, обрамленной черно-ржавой гривой. Темная шерсть покрывает не только плечи, косматый мех до самого живота. Лев видит хищную кошку, чужих кровей, отмечает идеальность форм. Они никогда не встречались и теперь стоят, разглядывая друг друга с безопасного расстояния. Ржет жеребец перед воротами, хлещет плетка. А так тишина. Трибуны подаются вперед, силясь что-то прочесть во взгляде бестий, в их немых позах, в оцепенении. Но те себя не выдают. Хоть бы проблеск покорности, один намек на молчаливое соглашение, какое устанавливается между хищником и добычей на общей территории, – ничего.
Лев садится, истый триумфатор, ни тени волнения, бока втянуты, грудь распирает от гордости, застыл точно памятник – отставной король. Теперь уже трудно сказать, с чего всё началось – с высочайшего сана или величественной стати. Мир, где бы его не почитали, невозможно представить. Фабулу, в которой лев не становится повелителем, нет смысла развивать. Алеет на солнце грива. Взгляд окаменевший. Глаза сверкают янтарным блеском. Пушистая кисточка хвоста бьет по сухому зернистому песку. Лев разевает пасть, с каждым разом всё шире, демонстрируя миру большие желтые зубы, вытягивает голову, прижимает уши, сужает глаза до щелок и издает грудной стон: сперва сдавленный, потом еще один и еще, и вдруг – леденящий душу рык, который рвется из глубин всё более и более глубинных, становясь громче и исступленнее, настойчивее и грознее. Так завывает ветер во время бури, говорят индийцы, так ревет наступающее войско, говорят египтяне, так изливает свой громоподобный гнев Иегова, говорят иудеи. Но быть может, то есть первозданный вопль творения, возвещающий о конце миров.
Тигрица пригибается, тетивой напрягает длинное тонкое тело, тычет потрепанной белой бородой в песок, вытягивает задние ноги, как настоящая кошка. На спине поигрывают мускулы, в которых заключена чистая сила. Она выпрастывает одну лапу вперед и, видно, делает это совершенно осознанно, подтягивает другую, ползет, подбирается всё ближе и ближе, замирает – держит льва на прицеле.
Лев следит за ее приближением, но сохраняет спокойствие. Про его храбрость не зря слагают пословицы. Страх неведом этому зверю. Он замирает и ждет, что же будет. Только хвостом поводит туда-сюда, выписывая на пыльной земле один и тот же полукруг. В глазах пылает жажда расправы. Быть может, правда то, что написано в книгах: его горячая кровь способна растопить даже алмазы.
Поднимается ветер, голубь попадает в силки парусины, но вскоре высвобождается и летит прочь. И вдруг тигрица срывается с места и, рассекая воздух, бросается на льва. Тот встает на задние лапы, раздается глухой удар – тела столкнулись, и по песку заметался ком из плоти и меха; он выделывает головокружительные пируэты, пока не обнажается дощатый настил. Храп, рев и пыхтение наполняют арену, сливаясь с хором улюлюканий и криков, набирают силу, постепенно перерастая в оглушительный вой, в котором смешано всё: жалобные крики измученного льва, сидящего в беспросветной яме, хриплый скулеж попавшего в сети тигренка, слабеющий клич изувеченного слона, стоны загнанной до изнеможения оленихи, жалкий визг супоросной свиньи, смертельно раненной в живот.
Они родом с окраин империи; пантеры, львы и леопарды из Мавритании, Нубии и Гетулийских лесов, крокодилы из Египта, слоны из Индии, кабаны с берегов Рейна, а лоси с северных болот. Они прибывают на весельных кораблях, под парусами, в ливень, зной или град: измотанные морской качкой и теснотой клеток из неотесанного вяза и бука, со сбитыми в кровь лапами и сточенными зубами, как пленники или осужденные преступники – в тяжелых неуклюжих повозках, запряженных волами, которые всякий раз – стоит им только повернуть склоненные под ярмом затылки и увидеть груз – фыркая и пыхтя, с белыми от ужаса глазами порываются стряхнуть дышло.
Под покровом высоких небес повозки катятся через дремучие леса и подернутые мерцающей дымкой равнины, через скудные и родящие обильный урожай земли, останавливаются на привал в самых убогих деревнях и городах, где, по закону, животных и погонщиков должны обеспечивать всем необходимым. Всё для Рима, недолговечного хворого центра империи, который кормится за счет окраин. Большинство умирает еще в пути. Выброшенные за борт, распухшие в воде, провяленные на солнце туши становятся поживой для собак и стервятников. Какая горькая судьба, но в сравнении с той, что уготована выжившим, она кажется завидной.
Они въезжают в Рим на высоких колесах, вместе с военной техникой, товар диковинный и ценный встречают с восторгом; кто как зовется и где добыт, подсказывают большие буквы.
Их держат за городскими стенами близ доков, в тесных клетках, готовят к выходу на арену, где охотник непременно становится добычей, разжигают ненависть, если присутствие духа слишком сильно. Если зверь излишне покладист, его обрекают на многодневное голодание, забрасывают колючками и горящими ветками, обвешивают лязгающим железом или дразнят соломенными куклами, обмотанными в красное тряпье. Кто отказывается сражаться на арене, кто щетинится, всячески открещиваясь от роли, которая написана для него другими, тот не жилец. Здесь, на играх, не до шуток. Как не до шуток, когда умирают все те мужи и жены, в память о которых игры устраиваются: непобедимые полководцы или ушедшие прежде срока наследники цезаря, мать императора или его отец.
Бой – это священно. Чтобы спектакль удался, животных связывают цепями: слонов с турами, носорогов с быками, страусов с кабанами, львов с тигрицами, – на полукруге арены сходятся те, кому на воле не сойтись никогда – их натравили друг на друга, принудили к вражде, лишили среды обитания, запугали, довели до бешенства, выставили у всех на виду, связав по рукам и ногам невидимыми путами, их обрекли на смерть, неминуемую и мучительную, ради которой им и сохраняли жизнь. Приговор очевиден, не очевидно только, в чем их вина.
Презрев древний обычай, здесь никто не натянет на голову тогу, дабы избавить себя от вида смерти. Ни одно божество не задобрят испускающими пар потрохами. Над мертвыми телами ни плача, даже могильного камня не будет, – тот, кому после невесть скольких боев посчастливится выжить, кто – смерти назло – даже бестиариев уложит в могилу и останется на арене последним, только тот удостоится имени и славы, как удостоились их однажды Медведица Иннокентия или Лев Керо II, позже растерзанный безвестным тигром на глазах у беснующейся публики.
Тигрица стряхивает противника, откатывается в сторону. Лев лупит вдогонку правой лапой, попадает в голову, сдирает с нее кожу, изрядный кусок. Он чует кровь, чует раненого, зовущего мать козленка, который однажды в пустынных Атласских горах заманил его в ловушку, чует удачу и крах. Он встает на задние лапы и всей своей мощью обрушивается на спину тигрицы, запускает когти в темя, пытается свернуть ей шею. Тигрица завывает, фырчит, показывает страшный оскал. Лев снова переходит в наступление, оттесняет соперницу, чей хвост уже касается стенки манежа, мнет, бросается снова, метит в горло, со всей яростью вонзается зубами в шею. Кажется, исход битвы решен. Тихий стон, точно вздох, вырывается из глотки тигрицы. Под левым ухом зияет кровавый треугольник. И тут она припадает к земле, извернувшись, освобождается, наконец, от захвата, прыгает на спину противника, бьет лапами по загривку, валит на землю, впивается когтями в шкуру, отскакивает назад и, подергивая кончиком хвоста, приземляется в клубах пыли, на расстоянии двух шестов. Трибуны захлебываются от восторга, всё тонет в рукоплесканиях, гремят фанфары.
Лев, словно в ступоре, хватает ртом воздух, поворачивает тяжелую голову и глядит на раны – две протянувшиеся по спине красные полосы. Потом встряхивает гривой, снова занимает боевую позицию, со стоном бросается на тигрицу, фыркая и завывая от боли. Та изготавливается к прыжку, целит в передние лапы. Оба встают на дыбы и обрушиваются друг на друга. Рыжие, желтые, черные клочья летят во все стороны. Толпа улюлюкает, скандирует хором, беснуется, вдохновляя на бой, который сама и развязала. Они называют это охотой, но здесь нет даже леса, входы и выходы перекрыты защитным валом, высокие стены как замурованные бойницы.
Скрестили два зрелища: казнь и драму. Грубая масса с чуткими нервами, привыкшая к непомерности: масштабов, цифр, жутких сцен. Всего, что доступно воображению. Пределы задаются затем, чтобы их преступить. К удовольствию примешано отвращение, а к отвращению удовольствие, порожденное банальным любопытством, настойчивым порывом сопроводить мысль действием. У них есть выбор, и они им кичатся, в конце концов потакая только инстинктам, точно малые дети, которые забивают камнями лягушек забавы ради.
Еще один вопрос любопытства ради: кто выйдет победителем, если запереть в песчаном зеве всех обитателей зверинцев и заставить их помериться силами? Такой спектакль обнажит любые страхи, но также поможет их побороть. То будет зрелище грандиознее игр, устроенных Августом в честь безвременно почившего наследника. Каков он, апофеоз дикости? Доведется ли им увидеть, как дрессированный тигр разрывает кроткого льва? Или льва, который гоняется на арене за зайцами, отлавливает и носит в пасти, будто плоть от собственной плоти, кровь от собственной крови, играется с ними и отпускает, чтобы снова поймать? А может, они станут свидетелями гекатомбы диких кошек, которых будут выводить на арену и истреблять до тех пор, пока женщины не лишатся чувств, а землю не покроют тела, уже на тела непохожие: растерзанные, порванные на куски, утопленные в крови, дергающиеся головы, надкусанные торсы, конечности, холодные и недвижимые?
Цирк нашего времени – наследие цирка античного. Идея, явившаяся однажды в мир, продолжает жить. Нынче хищники сидят на пьедесталах, выстраиваются в пирамиды, парами пляшут кадриль. Они готовы скакать на лошадях, крутить педали велосипедов, качаться на качелях, балансировать на канатах, прыгать через горящие обручи, служить барьером расфуфыренным псам и по знаку, когда свистнет хлыст, лизать сандалии ряженого гладиатором укротителя или кружить его по манежу в боевой колеснице: лев и тигрица – живущий в стае обитатель степей и одиночка, хозяйка влажных лесов – неравная пара, бок о бок в одной упряжке, рысят, словно перед повозкой Бахуса, изображенной на мозаиках древних жилищ: Africa versus Asia, Африка против Азии, выдержка супротив страсти. Что проку в героическом прошлом, в почетных титулах, каких удостаивают только цезарей? Если лев стал домашней кошкой императоров и святых. Если царство его разоряется, пока он исполняет сокровенные желания мучеников. Приобретая одни привилегии, мы лишаемся других. Города, страны, правители – льва малюют на гербах все кому не лень. В навязанной ему роли он забывает о своем происхождении, о бескрайних просторах и живительной силе солнца, о том, как охотятся в стае. А что же тигр, о котором Европа не вспоминала тысячу лет? Тигр всегда казался диковинкой, что, верно, его и уберегло. Он не стал нерушимым символом. Но населил страницы латинских бестиариев как экзотическое существо, из разряда змей или птиц, наделенное чужими добродетелями. Его поносили, обвиняя в трусости, которая скорее отдавала благоразумием. Он старался держаться от людей подальше, пока было возможно.
Перенеситесь далеко в будущее, узрите печальный конец: дом разорен, как дом Юлиев, род угас, из последних отпрысков понаделаны чучела и на веки вечные помещены в диораму, на фоне пыльной степи, смятого тростника – остекленевший взгляд, разинутая пасть, огромные клыки, будто шипит, угрожая или моля о спасении, как в минуту смерти. Жизнь под надзором человека, в заказниках, а то и за стеклом, среди фальшивых скал, в клетках, облицованных кафелем, и в окруженных рвом открытых вольерах, с мухами, облепившими голову, в вечном безделье – жуй и переваривай, больше ничего, посреди запахов баранины, конины, говядины и подогретой крови.
Публика безумствует. Но вдруг борьба прекращается. Звери, еле дыша, отпускают друг друга, замирают. С боков струится кровь. Тигрица, шатаясь, отступает, жмется истерзанным телом к ограде, жадно глотает воздух. Лев как вкопанный, мускулы судорожно дрожат, губы напитаны кровью, морда в пене. Во взгляде оцепенение и пустота, глаза бездонно глубоки. Грудь поднимается и опускается, вдыхая пыль. На арену ложится тень, облако закрывает солнце, только на секунду.
А потом всё вспыхивает, и сцена заливается удивительным светом. Похоже, это шанс, сродни чуду, но всё же шанс, возможность перекинуть мост в будущее, никем не учтенное обстоятельство, лазейка, съезд с предписанного пути на новый и экзотичный, где на скорую смерть нет и намека. В то же время это необходимость, продиктованная единственным желанием выжить, какое и в первом акте спектакля предопределило движение навстречу друг другу. Только теперь речь шла о насилии, утверждавшем не конец, но начало. Ритуал диктовался законом, старым как мир и нерушимым, который гласил: береги семью и, пока не угас твой род, делай всё для его сохранения. А если наступит жгучий момент, действуй немедля. Подводит один инстинкт, включай другой. Только живой испытывает голод. Только сытый думает о продолжении рода. Только тот, кто думает о продолжении рода, не погибнет. Пусть сигналы противоречивы, но послание, которое в них содержится, довольно прозрачно – мускус в моче зазывает к шалостям, чреватым последствиями: озлобление переходит в застенчивость, от прикосновения хочется бежать, и в следующую секунду – не ощетиниться, а покориться.
Звери трутся, ласково прижимаются друг к другу головами. Ударив, застывают на месте, с поднятой лапой, из глаз перекрестный огонь, оттягивают неотвратимое, уворачиваясь от желанного врага, распаляются, увлеченные до самозабвения, достигают точки, откуда уже нет возврата.
Рыже-черная кошка припадает к земле, ложится плашмя, лев заступает сверху, наваливается на нее белесым телом; и хотя (при всем-то родстве) чувство неловкости еще не отступило, порядок ритуала хорошо известен обоим: лев с ревом впивается в холку тигрицы и стискивает зубы, пока та не фыркнет и не ответит ударом, а потом, не устояв перед неестественной близостью, кошки – сознательно или нет – начинают совокупляться. И никакие силы мира уже не помешают тому, что должно свершиться. Противно ли это закону природы или согласно ему, не нам судить. Но разве не являют эти кошки пример биологической продуктивности? Пример предательства рода и в то же время его сохранения. О том, что соитие вынужденное, потомки даже не вспомнят.
Пройдет сто дней, и в мир, точно фантом, вернется существо, чье зачатие было таким феерическим, – химера во плоти, удвоенное и вместе с тем раздвоенное нечто, унаследовавшее от родителей их природу: хвост без кисточки, черный, бледное брюхо, короткую гриву и светлую, как песок, шерсть с красноватым оттенком, на которой полосками просвечивают пятна; фигура льва, профиль тигрицы, – два силуэта в одном: спина прямая – в отца, но выгнутая часть – от матери. Размеры чудовищные, амбивалентность во всем, легко раздражителен, как тигрица, отважен и вынослив, как лев, стадное животное, обреченное жить в одиночестве, превосходный пловец, робеющий перед водой, излюбленный, притягивающий взгляды аттракцион – бастард, лев-тигр, лигр.
Где только его не увидишь? Вот, к примеру, цветная гравюра: передвижной зверинец, хозяин англичанин, три котенка – всех отлучили от матери-тигрицы и подсунули на вскармливание сучке терьера, все умерли в первый год жизни. Еще одна аляповатая картина: смешанное кошачье семейство, в центре – ну чем не дитя – укротитель. На кинокадрах: лигр с песочным окрасом, рядом дама в серебристом купальнике, гигантский зверь, самая большая кошка в мире, самец с недремлющим инстинктом и иссякшей воспроизводительной силой.
Галерка взрывается воплем, люди вздрагивают, безотчетно отворачивают головы, но уже в следующую секунду снова обращают глаза к арене. Грезы моментально рассеиваются – потомкам, увы, не родиться. И чтобы даже мысль об этом не возвращалась, события начинают развиваться еще стремительнее. Земля, без края и конца, с ее каскадами миров сужается до полукруга, негостеприимного, открытого вольера, где только песок, человек и камень, где зудят мухи, а люди нервно обмахиваются в надежде на глоток прохладного воздуха.
Тигрица резко вскакивает и снова начинает кружить вокруг противника. Лев чувствует – его теснят, отбивается, но удары не попадают в цель. Рыжая кошка отступает, изготавливается к прыжку, бросается вперед точно снаряд, рассекая воздух, приземляется льву на спину. Мощные тела, испачканные в крови, закоричневевшие от пыли, катаются по арене. Рев переходит в хрип, лев сбрасывает тигрицу, он еле дышит и еле волочит ноги, падает. На спине – две зияющие раны, кровь струится на месте глубоких укусов. Тигрица снова срывается, прыгает на плечи противнику, вонзает в горло клыки. Верная смерть от удушья, если б не грива. Тигрица ослабляет хватку, разевает пасть, забитую клочьями львиной шерсти, глотает воздух. И тут лев поднимает лапу и лупит наотмашь, враг теряет равновесие, но овладевает собой и бросается в бой. Звери снова сцепляются. Тигрица атакует, вгрызается в плоть. Лев встает на дыбы, сбрасывает ее, открывает пасть, валится в песок с затихающим рыком. И остается лежать, недвижим.
Тигрица оглядывает свою работу, оседает на землю, дрожа всем телом, начинает зализывать раны. Полосы на шкуре размыты кровью.
Император Клавдий заходится смехом, громким, развратным. В уголках рта застывшая пена. Он встает, делает шаг вперед, с намерением произнести речь и восхвалить покойную свою мамашу – в ее честь и устроены сегодняшние празднества.
Но слова не идут с языка, молча Клавдий снова падает в кресло, в ушах зудит омерзительное прозвище «урод», которым когда-то наградила его мать. Злое слово не утихло и, сколько он себя помнит, преследует его словно проклятие. Но разве можно ее за это осуждать? Как получилось, что он оказался у власти? Всё предельно просто – он был живой, единственный наследник императора, последний из рода. Никто и никогда не принимал его всерьез – что взять с урода.
Высочайший пост достался ему по чистой случайности, роль благодетеля масс, повелителя над жизнью и смертью не ему была предначертана. Клавдий созерцает мраморные кресла сенаторов, пурпурные подолы на тогах всадников, чувствует на себе недоуменные взгляды. Управлять государством невелика мудрость, если б не страх. Пот течет по вискам.
Раздается звон колокола. Ворота открываются. Толпа вопит. На арену выступает воин, на теле ничего, кроме туники: ни доспехов, ни щита, только поножи, в левой руке уздечка, в правой копье, время от времени он воздевает его к небу, дирижируя толпой. Тигрица видит полуголую фигуру, подкрадывается ближе, изготавливается к прыжку, но прыгнуть не успевает – копье вонзается в грудь. Тигрица продолжает идти, извивается, пытаясь наугад стряхнуть инородную палку, голова ее никнет, но глаза, в которых ни капли доверия, еще блуждают, от обидчика к публике, которая беснуется как безумная, – и вдруг зверь оседает. Взгляд гаснет, цепенеет. Из ноздрей хлещет алая кровь, из открытой пасти пузырится красная пена. Между тем воин уже совершает почетный круг, с наслаждением принимает овации, упивается криками ободрения, пляшущими флажками, разнузданностью толпы. Дело сделано, порядок восстановлен, хаос временно побежден.
Трибуны редеют. Наступает тишина. Являются люди и очищают арену от трупов, волокут их вниз, в катакомбы, к останкам других зверей, сваленных в кучи сотнями. В воздухе запах тлена. После обеда начинается основная программа, бои гладиаторов.
Пеннинские Альпы
Единорог Герике
* Первое моделирование скелета животного из единичных фрагментов приписывают физику Отто фон Герике, известному прежде всего своими экспериментами с вакуумом. В его труде «Новые магдебургские опыты» (1672) содержится упоминание о «скелете единорога», который в 1663 году был якобы обнаружен в гипсовом карьере Зевеккенберге (горной гряды, рассекающей окрестности Кведлинбурга), однако в действительности Герике ничего подобного не находил и тем более не реконструировал. Две гравюры на меди, датированные 1704 и 1749 годами, свидетельствуют о том, что означенные останки принадлежали различным млекопитающим, жившим в эпоху ледникового периода, в том числе мамонту и шерстистому носорогу.
† Вызывавшие немало вопросов кости лежали на хранении в замке Кведлинбурга, пока постепенно не разошлись по рукам заинтересованных покупателей.
Сегодня в Магдебургском музее естествознания стоит почти трехметровая копия того самого «скелета единорога», воссозданная из синтетических материалов на средства местного Сберегательного банка и предоставленная музею в долговременное пользование.
Несколько лет тому назад я некоторое время провела в горах. Устав от бесконечного стресса, решила уединиться на пару недель в шале забытой богом альпийской деревушки, где мне любезно предложил пожить один приятель. В то время я носилась с идеей, по моему тогдашнему разумению, весьма оригинальной, – написать энциклопедию монстров, тех самых тварей, какие – как однажды во время презентации задуманного проекта неосторожно сорвалось с языка – хоть и являются по большей части порождением человеческой фантазии, тем не менее (вопреки всем фактам, опровергающим их существование) по-прежнему населяют наш мир, и это так же очевидно, как наличие реальных представителей фауны; в свете вышеизложенного, небрежно обронила я в присутствии потенциальных спонсоров, будет весьма целесообразно собрать всесторонние знания об этих созданиях: их нравах, характере, среде обитания, а также особенностях поведения и подвергнуть всё собранное систематизации. Нет нужды убивать драконов, их надо разбирать по косточкам, в патетическом порыве возгласила я, после чего, не слишком задумываясь о целевой аудитории книги, об объеме и оформлении, наскоро подписала договор и села в ближайший ночной поезд, идущий на юг.
К обеду следующего дня он причалил к вокзалу небольшого средневекового городка. Стояла середина апреля, в воздухе было еще по-зимнему свежо, солнце не грело, болтанка в автобусе казалась вечной, а последующий подъем от остановки к дому – крутым и каменистым, – в точности таким мне представлялся уход в затворничество. Петляя горной тропой по усыпанной галькой пустыне, я, помнится, забавлялась мыслью о том, что трусиха, которая в детстве больше всего на свете боялась фильмов ужасов и ни за какие коврижки не соглашалась оставаться одна, что сейчас именно она добровольно решила удалиться от мира и посвятить себя изучению самых отвратительных порождений человеческой фантазии. Восхождение затянулось и порядком меня утомило, а всё из-за несметного вороха взятых с собой книг.
