Читать онлайн В дороге. Боже, как грустна наша Россия! бесплатно
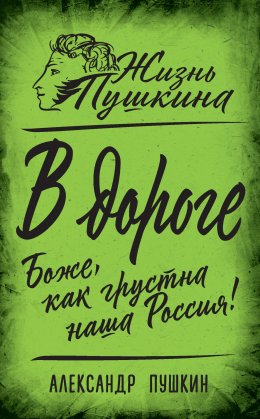
© А. Замостьянов
© ООО «Издательство Родина», 2023
* * *
Долго ль мне гулять на свете?..
Когда я начал читать Пушкину первые главы из «Мертвых душ» в том виде, как они были прежде, то Пушкин, который всегда смеялся при моем чтении (он же был охотник до смеха), начал понемногу становиться все сумрачней, сумрачней, и наконец сделался совершенно мрачен. Когда же чтенье кончилось, он произнес голосом тоски: «Боже, как грустна наша Россия!» Меня это изумило. Пушкин, который так знал Россию, не заметил, что все это карикатура и моя собственная выдумка! Тут-то я увидел, что значит дело, взятое из души, и вообще душевная правда, и в каком ужасающем для человека виде может быть ему представлена тьма и пугающее отсутствие света. С этих пор я уже стал думать только о том, как бы смягчить то тягостное впечатление, которое могли произвести «Мертвые души».
Николай Гоголь
Александр Пушкин
Александр Пушкин странствовал почти с рождения. Он был еще младенцем, когда его из отчей Москвы на два месяца увезли в «сельцо Михайловское Опочицкого уезда Псковской губернии» – родовое имение отца. Быть неблизкий, но, как начнешь жизнь – так она и покатится.
Всю жизнь трудясь над рукописями, он, несмотря на привязанность к своей библиотеке, всегда был легок на подъем. Пушкин признавался: «С детских лет путешествия были моею любимою мечтою».
Он жил в век долгих и не слишком скоростных путешествий и стал настоящим путешественником – вполне в духе времени. Во времена Пушкина русские моряки совершили несколько кругосветок. Армия дошла до Парижа и почти прорвалась к стенам Цареграда. Началось строительство первой железной дороги – из Петербурга в Царское Село. И Пушкин всерьез прокомментировал это начинание, считая наиболее необходимой «чугунку», которая соединила бы Москву с Нижним Новгородом. И даже отмечал, что в России главной проблемой для железнодорожников, для «пароходов» (слова «паровоз» тогда еще не было) станут снежные заносы. Вот что значит – опытный путешественник. Но до трассы в Нижний было далеко, а первую дорогу, соединившую императорские резиденции, запустили через девять месяцев после гибели поэта. Ее воспели Петр Вяземский и Нестор Кукольник, но не Пушкин.
Летом он путешествовал в телегах, отлично приспособленных для нашенских хлябей. Зимой – в утепленной кибитке. Свой экипаж у поэта и камер-юнкера появился только в последние годы жизни. Доводилось ему, конечно, путешествовать и верхом, и в удобном дилижансе, который курсировал между двумя столицами. Приходилось пересекать болота, заваленные бревнами для удобства путешественников, ночевать в случайных избах, вести разговоры с попутчиками. С чем только не случалось вечному страннику встречаться в пути. В дорожных злоключениях он находил прелюбопытные сюжеты. «Окоп с каждой стороны без канав, без стока для воды; таким образом дороги являлись ящиком, наполненным грязью; зато пешеходы идут весьма удобно по совершенно сухим тропам вдоль окопов и смеются над увязшими экипажам», – писал он в одном из посланий жене, Наталье Гончаровой.
Многим известно, что Пушкин никогда не покидал пределов России, за единственным исключением. В составе русской армии он побывал в Восточной Анатолии, на окраине Османской империи. Это было, несомненно, самое необычайное странствие Пушкина, в котором он коротко познакомился с русскими воинами, с горцами, с романтической южной стихией. Свои впечатления от поездки Александр Сергеевич описал в записках «Путешествие в Арзрум во время похода 1829 года», которые, конечно, вошли в эту книгу. К тому времени он уже написал несколько батальных стихотворений и поэм, но именно в путешествии познал армейскую жизнь без романтических прикрас. Многие ожидали, что он воспоет новые победы русского оружия в стихах – но в тот раз Пушкин смолчал. «Мы думали, что автор Руслана и Людмилы устремился за Кавказ, чтоб напитаться высокими чувствами поэзии, обогатиться новыми впечатлениями и в сладких песнях передать потомству великие подвиги русских современных героев. Мы думали, что великие события на Востоке, удивившие мир и стяжавшие России уважение всех просвещенных народов, возбудят гений наших поэтов, – и мы ошиблись», – ехидничал в своей газете «Северная пчела» постоянный недруг поэта, Фаддей Булгарин.
Некоторое время Пушкин страстно мечтал о путешествии в Европу. В письмах даже бросался отчаянными риторическими фигурами: «Мы живем в печальном веке, но когда воображаю Лондон, чугунные дороги, паровые корабли, английские журналы или парижские театры… то мое глухое Михайловское наводит на меня тоску и бешенство». Даже прибегал к хитрости, жалуясь императору: «Здоровие мое сильно пострадало в первой моей молодости, до настоящего времени я не имел возможности лечиться. Аневризм, который у меня уже десять лет, тоже требовал бы быстрой операции. Легко убедиться в правдивости того, что я сообщаю… Я умоляю ваше величество разрешить мне уехать куда-нибудь в Европу, где я не был бы лишен всякой помощи». Александр I остался глух. Пушкину дозволили только съездить во Псков. Он так и не увидел «священных камней Европы». Он, было дело, готовил своей побег – в большей степени в мечтах, нежели в реальности: «взять тихонько трость и шляпу и поехать посмотреть на Константинополь. Святая Русь мне становится невтерпеж». Потом эти мечты притихли в его душе.
Зато по громадной Российской империи проездился вволю. Биографы подсчитали, что Пушкин за свою недолгую жизнь проскакал и протрясся по России более 34-х тысяч верст. Это больше 36 000 километров. По русским хлябям он почти преодолел экватор Земли… Хроника и маршруты собственным путешествий он дарил своим героям – например, Евгению Онегину, который посетил те самые места, где странствовал поэт. А ямщики, а путешествие Гринева в «Капитанской дочке», а станционный смотритель? Всё это было ему близко и понятно.
В пушкинских стихах всегда много полета, пути. А как очаровательны дорожные советы другу Сергею Соболевскому:
- У Гальяни иль Кольони
- Закажи себе в Твери
- С пармазаном макарони,
- Да яишницу свари.
- На досуге отобедай
- У Пожарского в Торжке,
- Жареных котлет отведай (именно котлет)
- И отправься налегке.
- Как до Яжельбиц дотащит
- Колымагу мужичок,
- То-то друг мой растаращит
- Сладострастный свой глазок!
- Поднесут тебе форели!
- Тотчас их варить вели,
- Как увидишь: посинели —
- Влей в уху стакан шабли.
Он добавил к этим стихам еще такую репризу: «На каждой станции советую из коляски выбрасывать пустую бутылку; таким образом, ты будешь иметь от скуки какое-нибудь занятие». Написано со знанием дела. Как, впрочем, всё, что выходило из-под пушкинского пера.
Пушкин лучше многих знал, что такое русское бездорожье. И мечтал, что наступит время, когда:
- … Дороги, верно,
- У нас изменятся безмерно.
- Шоссе Россию здесь и тут,
- Соединив, пересекут.
- Мосты чугунные чрез воды
- Шагнут широкою дугой,
- Раздвинем горы, под водой
- Пророем дерзостные своды.
Тема странствий стала для него одной из главных и в стихах, и в прозе. В дороге он постигал жизнь. Кстати, об Александре I – своем гонителе – Пушкин писал не без иронии: «Всю жизнь свою провёл в дороге, простыл и умер в Таганроге».
Путешествия помогли Пушкину точнее рассказывать и об истории Пугачева, и о характере русского крестьянина или кавказского джигита. Он имел право сказать Гоголю: «Боже, как грустна наша Россия». Знал, о чем и о ком говорит…
Пушкинисты составили более-менее полный список путешествий Пушкина, мест, где он бывал.
Пушкин путешествует
До 1811 г. Москва и Захарово.
1811 г. Москва. Петербург, Царское Село.
1817 г. Царское Село, Петербург, Михайловское, Петербург.
1820 г. Петербург, Екатеринослав, Таганрог, Аксай, Новочеркасск, Георгиевск, Константиновск, Пятигорск, Железноводск, Кисловодск, Тамань, Керчь, Феодосия, Гурзуф, Бахчисарай, Симферополь, Кишинев, Каменка, Киев.
1821 г. Каменка, Кишинев.
1822 г. Кишинев, Тульчин, Аккерман, Одесса, Измаил.
1823 г. Кишинев, Одесса.
1824 г. Одесса, Николаев, Елисаветград, Кременчуг, Чернигов, Могилев, Витебск, Михайловское.
1824–1826 г. Михайловское, Тригорское, Псков, Лямово, Стехново, Вязье, Преображенское.
1826 г. Москва, Псков, Михайловское.
1827 г. Москва, Петербург, Михайловское, Боровичи, Петербург.
1828 г. Петербург, Малинники, Берново, Павловское, Старицы, Погорелое городище, Петербург, Москва.
1829 г. Москва, Калуга, Белев, Орел, Новочеркасск, Ставрополь, Георгиевск, Горячие воды, Екатериноград, Владикавказ, Ларс, Коби, Квишет, Душет, Тифлис, Гумры, Карс, Караурган, Керпиней, Кассанкале, Арзрум, Москва, Малинники, Берново, Петербург.
1830 г. Петербург, Москва, Захарово, Петербург, Царское Село, Тверь, Москва, Болдино, Платово, Москва.
1831 г. Москва, Петербург, Царское Село, Москва, Петербург.
1832 г. Петербург, Москва, Петербург.
1833 г. Петербург, Торжок, Ярополец, Павловск, Малинники, Москва, Нижний Новгород, Казань, Симбирск, Языково, Оренбург, Уральск, Болдино, Петербург.
1834 г. Петербург, Москва, Калуга, Полотняный завод, Болдино, Петербург.
1835 г. Петербург, Михайловское, Тригорское, Петербург.
1836 г. Петербург, Псков, Михайловское, Тригорское, Голубово, Петербург, Москва, Петербург.
География, быть может, не слишком разнообразная, но она дала поэту огромный материал. Россию он знал по-настоящему, от курных изб до императорского дворца. Известен и последний – скорбный – путь поэта. Из Петербурга, где его отпевали после гибели – в Святогорский монастырь, к своему последнему приюту. Это была почти тайная операция. Из друзей гроб Пушкина сопровождал единственный Александр Иванович Тургенев. Такова трагическая история зимы 1837 года.
В этой книге вы найдете самые известные путевые заметки Пушкина, вошедшие в классику этого жанра. И произведения, созданные по следам дорожных впечатлений. Михайловское и Крым, Кавказ и Турция, Бессарабия и выдуманное село Горюхино, в повествовании о котором вполне проявился пушкинский сарказм. Вошли в книгу и некоторые воспоминания, которые не отделить от его одесских и кишиневских похождений. Гениальная точность в каждой фразе, тревога за Россию под флером иронии, глубокое знание своей пестрой страны, в которой «и назовет его всяк сущий в ней язык» – вот что такое дорожный пласт в наследии Пушкина. Лучше него, трезвее него никто не знал свою страну, свое время. Читать Пушкина – значит, обогащать себя. Будем же прагматичны.
Арсений Замостьянов, заместитель главного редактора журнала «Историк»
Дорожные жалобы
- Долго ль мне гулять на свете
- То в коляске, то верхом,
- То в кибитке, то в карете,
- То в телеге, то пешком?
- Не в наследственной берлоге,
- Не средь отческих могил,
- На большой мне, знать, дороге
- Умереть господь судил,
- На каменьях под копытом,
- На горе под колесом,
- Иль во рву, водой размытом,
- Под разобранным мостом.
- Иль чума меня подцепит,
- Иль мороз окостенит,
- Иль мне в лоб шлагбаум влепит
- Непроворный инвалид.
- Иль в лесу под нож злодею
- Попадуся в стороне,
- Иль со скуки околею
- Где-нибудь в карантине.
- Долго ль мне в тоске голодной
- Пост невольный соблюдать
- И телятиной холодной
- Трюфли Яра поминать?
- То ли дело быть на месте,
- По Мясницкой разъезжать,
- О деревне, о невесте
- На досуге помышлять!
- То ли дело рюмка рома,
- Ночью сон, поутру чай;
- То ли дело, братцы, дома!..
- Ну, пошел же, погоняй!..
В дороге
Холера
В конце 1826 года я часто видался с одним дерптским студентом (ныне он гусарский офицер и променял свои немецкие книги, свое пиво, свои молодые поединки на гнедую лошадь и на польские грязи). Он много знал, чему научаются в университетах, между тем как мы с вами выучились танцевать. Разговор его был прост и важен. Он имел обо всем затверженное понятие, в ожидании собственной поверки. Его занимали такие предметы, о которых я и не помышлял. Однажды, играя со мною в шахматы и дав конем мат моему королю и королеве, он мне сказал при том: Cholera-morbus подошла к нашим границам и через пять лет будет у нас.
О холере имел я довольно темное понятие, хотя в 1822 году старая молдаванская княгиня, набеленная и нарумяненная, умерла при мне в этой болезни. Я стал его расспрашивать. Студент объяснил мне, что холера есть поветрие, что в Индии она поразила не только людей, но и животных и самые растения, что она желтой полосою стелется вверх по течению рек, что, по мнению некоторых, она зарождается от гнилых плодов и прочее – всё, чему после мы успели наслыхаться.
Таким образом, в дальном уезде Псковской губернии молодой студент и ваш покорнейший слуга, вероятно одни во всей России, беседовали о бедствии, которое через пять лет сделалось мыслию всей Европы.
Зимняя дорога
Спустя пять лет я был в Москве, и домашние обстоятельства требовали непременно моего присутствия в нижегородской деревне. Перед моим отъездом Вяземский показал мне письмо, только что им полученное: ему писали о холере, уже перелетевшей из Астраханской губернии в Саратовскую. По всему видно было, что она не минует и Нижегородской (о Москве мы еще не беспокоились). Я поехал с равнодушием, коим был обязан пребыванию моему между азиатцами. Они не боятся чумы, полагаясь на судьбу и на известные предосторожности, а в моем воображении холера относилась к чуме как элегия к дифирамбу.
Приятели, у коих дела были в порядке (или в привычном беспорядке, что совершенно одно), упрекали меня за то и важно говорили, что легкомысленное бесчувствие не есть еще истинное мужество.
На дороге встретил я Макарьевскую ярманку, прогнанную холерой. Бедная ярманка! она бежала как пойманная воровка, разбросав половину своих товаров, не успев пересчитать свои барыши!
Воротиться казалось мне малодушием; я поехал далее, как, может быть, случалось вам ехать на поединок: с досадой и большой неохотой.
Едва успел я приехать, как узнаю, что около меня оцепляют деревни, учреждаются карантины. Народ ропщет, не понимая строгой необходимости и предпочитая зло неизвестности и загадочное непривычному своему стеснению. Мятежи вспыхивают то здесь, то там.
Я занялся моими делами, перечитывая Кольриджа, сочиняя сказки и не ездя по соседям. Между тем начинаю думать о возвращении и беспокоиться о карантине. Вдруг 2 октября получаю известие, что холера в Москве. Страх меня пронял – в Москве… но об этом когда-нибудь после. Я тотчас собрался в дорогу и поскакал. Проехав 20 верст, ямщик мой останавливается: застава!
Несколько мужиков с дубинами охраняли переправу через какую-то речку. Я стал расспрашивать их. Ни они, ни я хорошенько не понимали, зачем они стояли тут с дубинами и с повелением никого не пускать. Я доказывал им, что, вероятно, где-нибудь да учрежден карантин, что я не сегодня, так завтра на него наеду и в доказательство предложил им серебряный рубль. Мужики со мной согласились, перевезли меня и пожелали многие лета.
1831
Путешествие из Москвы в Петербург
Шоссе
Узнав, что новая московская дорога совсем окончена, я вздумал съездить в Петербург, где не бывал более пятнадцати лет. Я записался в конторе поспешных дилижансов (которые показались мне спокойнее прежних почтовых карет) и 15 октября в десять часов утра выехал из Тверской заставы.
Катясь по гладкому шоссе, в спокойном экипаже, не заботясь ни о его прочности, ни о прогонах, ни о лошадях, я вспомнил о последнем своем путешествии в Петербург, по старой дороге. Не решившись скакать на перекладных, я купил тогда дешевую коляску и с одним слугою отправился в путь. Не знаю, кто из нас, Иван или я, согрешил перед выездом, но путешествие наше было неблагополучно. Проклятая коляска требовала поминутно починки. Кузнецы меня притесняли, рытвины и местами деревянная мостовая совершенно измучили. Целые шесть дней тащился я по несносной дороге и приехал в Петербург полумертвый. Мои приятели смеялись над моей изнеженностию, но я не имею и притязаний на фельдъегерское геройство и, по зимнему пути возвратясь в Москву, с той поры уже никуда не выезжал.
Вообще дороги в России (благодаря пространству) хороши и были бы еще лучше, если бы губернаторы менее об них заботились. Например: дерн есть уже природная мостовая; зачем его сдирать и заменять наносной землею, которая при первом дождике обращается в слякоть? Поправка дорог, одна из самых тягостных повинностей, не приносит почти никакой пользы и есть большею частью предлог к утеснению и взяткам. Возьмите первого мужика, хотя крошечку смышленого, и заставьте его провести новую дорогу: он начнет, вероятно, с того, что пророет два параллельные рва для стечения дождевой воды. Лет 40 тому назад один воевода, вместо рвов, поделал парапеты, так что дороги сделались ящиками для грязи. Летом дороги прекрасны; но весной и осенью путешественники принуждены ездить по пашням и полям, потому что экипажи вязнут и тонут на большой дороге, между тем как пешеходы, гуляя по парапетам, благословляют память мудрого воеводы. Таких воевод на Руси весьма довольно.
Из Тригорского в Михайловское
Великолепное московское шоссе начато по повелению императора Александра; дилижансы учреждены обществом частных людей. Так должно быть и во всем: правительство открывает дорогу, частные люди находят удобнейшие способы ею пользоваться.
Не могу не заметить, что со времен восшествия на престол дома Романовых у нас правительство всегда впереди на поприще образованности и просвещения. Народ следует за ним всегда лениво, а иногда и неохотно.
Собравшись в дорогу, вместо пирогов и холодной телятины, я хотел запастися книгою, понадеясь довольно легкомысленно на трактиры и боясь разговоров с почтовыми товарищами. В тюрьме и в путешествии всякая книга есть божий дар, и та, которую не решитесь вы и раскрыть, возвращаясь из Английского клоба или собираясь на бал, покажется вам занимательна, как арабская сказка, если попадется вам в каземате или в поспешном дилижансе. Скажу более: в таких случаях чем книга скучнее, тем она предпочтительнее. Книгу занимательную вы проглотите слишком скоро, она слишком врежется в вашу память и воображение; перечесть ее уже невозможно. Книга скучная, напротив, читается с расстановкою, с отдохновением – оставляет вам способность позабыться, мечтать; опомнившись, вы опять за нее принимаетесь, перечитываете места, вами пропущенные без внимания etc. Книга скучная представляет более развлечения. Понятие о скуке весьма относительное. Книга скучная может быть очень хороша; не говорю об книгах ученых, но и об книгах, писанных с целию просто литературною. Многие читатели согласятся со мною, что «Клариса» очень утомительна и скучна, но со всем тем роман Ричардсонов имеет необыкновенное достоинство.
Вот на что хороши путешествия.
Итак, собравшись в дорогу, зашел я к старому моему приятелю, коего библиотекой привык я пользоваться. Я просил у него книгу скучную, но любопытную в каком бы то ни было отношении. Приятель мой хотел было мне дать нравственно-сатирический роман, утверждая, что скучнее ничего быть не может, а что книга очень любопытна в отношении участи ее в публике; но я его благодарил, зная уже по опыту непреодолимость нравственно-сатирических романов. «Постой, – сказал мне, – есть у меня для тебя книжка». С этим словом вынул он из-за полного собрания сочинений Александра Сумарокова и Михаила Хераскова книгу, по-видимому изданную в конце прошлого столетия. «Прошу беречь ее, – сказал он таинственным голосом. – Надеюсь, что ты вполне оценишь и оправдаешь мою доверенность». Я раскрыл ее и прочел заглавие. «Путешествие из Петербурга в Москву». С. П. Б. 1790 году.
С эпиграфом:
Чудище обло, озорно, огромно, стозевно и лаяй.
Тилемахида. Кн. XVIII, ст. 514.
Книга, некогда прошумевшая соблазном и навлекшая на сочинителя гнев Екатерины, смертный приговор и ссылку в Сибирь; ныне типографическая редкость, потерявшая свою заманчивость, случайно встречаемая на пыльной полке библиомана или в мешке брадатого разносчика.
Я искренно благодарил и взял с собою «Путешествие». Содержание его всем известно. Радищев написал несколько отрывков, дав каждому в заглавие название одной из станций, находящихся на дороге из Петербурга в Москву. В них излил он свои мысли безо всякой связи и порядка. В Черной Грязи, пока переменяли лошадей, я начал книгу с последней главы и таким образом заставил Радищева путешествовать со мною из Москвы в Петербург.
Москва
Москва! Москва!.. – восклицает Радищев на последней странице своей книги и бросает желчью напитанное перо, как будто мрачные картины его воображения рассеялись при взгляде на золотые маковки Москвы белокаменной. Вот уж Всесвятское… Он прощается с утомленным читателем; он просит своего сопутника подождать его у околицы; на возвратном пути он примется опять за свои горькие полуистины, за свои дерзкие мечтания… Теперь ему некогда: он скачет успокоиться в семье родных, позабыться в вихре московских забав. До свидания, читатель! Ямщик, погоняй! Москва! Москва!..
Многое переменилось со времен Радищева: ныне, покидая смиренную Москву и готовясь увидеть блестящий Петербург, я заранее встревожен при мысли переменить мой тихий образ жизни на вихрь и шум, ожидающий меня; голова моя заранее кружится…
Некогда соперничество между Москвой и Петербургом действительно существовало. Некогда в Москве пребывало богатое неслужащее боярство, вельможи, оставившие двор, люди независимые, беспечные, страстные к безвредному злоречию и к дешевому хлебосольству; некогда Москва была сборным местом для всего русского дворянства, которое изо всех провинций съезжалось в нее на зиму. Блестящая гвардейская молодежь налетала туда ж из Петербурга. Во всех концах древней столицы гремела музыка, и везде была толпа. В зале Благородного собрания два раза в неделю было до пяти тысяч народу. Тут молодые люди знакомились между собою; улаживались свадьбы. Москва славилась невестами, как Вязьма пряниками; московские обеды (так оригинально описанные князем Долгоруким) вошли в пословицу. Невинные странности москвичей были признаком их независимости. Они жили по-своему, забавлялись как хотели, мало заботясь о мнении ближнего. Бывало, богатый чудак выстроит себе на одной из главных улиц китайский дом с зелеными драконами, с деревянными мандаринами под золочеными зонтиками. Другой выедет в Марьину Рощу в карете из кованого серебра 84-й пробы. Третий на запятки четвероместных саней поставит человек пять арапов, егерей и скороходов и цугом тащится по летней мостовой. Щеголихи, перенимая петербургские моды, налагали и на наряды неизгладимую печать. Надменный Петербург издали смеялся и не вмешивался в затеи старушки Москвы. Но куда девалась эта шумная, праздная, беззаботная жизнь? Куда девались балы, пиры, чудаки и проказники – всё исчезло: остались одни невесты, к которым нельзя, по крайней мере, применить грубую пословицу «vieilles comme les rues»: московские улицы, благодаря 1812 году, моложе московских красавиц, всё еще цветущих розами! Ныне в присмиревшей Москве огромные боярские дома стоят печально между широким двором, заросшим травою, и садом, запущенным и одичалым. Под вызолоченным гербом торчит вывеска портного, который платит хозяину 30 рублей в месяц за квартиру; великолепный бельэтаж нанят мадамой для пансиона – и то слава богу! На всех воротах прибито объявление, что дом продается и отдается внаймы, и никто его не покупает и не нанимает. Улицы мертвы; редко по мостовой раздается стук кареты; барышни бегут к окошкам, когда едет один из полицмейстеров со своими казаками. Подмосковные деревни также пусты и печальны. Роговая музыка не гремит в рощах Свирлова и Останкина; плошки и цветные фонари не освещают английских дорожек, ныне заросших травою, а бывало уставленных миртовыми и померанцевыми деревьями Пыльные кулисы домашнего театра тлеют в зале, оставленной после последнего представления французской комедии. Барский дом дряхлеет. Во флигеле живет немец управитель и хлопочет о проволочном заводе.
Обеды даются уже не хлебосолами старинного покроя, в день хозяйских именин или в угоду веселых обжор, в честь вельможи, удалившегося от двора, но обществом игроков, задумавших обобрать наверное юношу, вышедшего из-под опеки, или саратовского откупщика. Московские балы… Увы! Посмотрите на эти домашние прически, на эти белые башмачки, искусно забеленные мелом… Кавалеры набраны кое-где – и что за кавалеры! «Горе от ума» есть уже картина обветшалая, печальный анахронизм. Вы в Москве уже не найдете ни Фамусова, который всякому, ты знаешь, рад – и князю Петру Ильичу, и французу из Бордо, и Загорецкому, и Скалозубу, и Чацкому; ни Татьяны Юрьевны, которая
- Балы дает нельзя богаче
- От Рожества и до поста,
- А летом праздники на даче.
Хлестова – в могиле; Репетилов – в деревне. Бедная Москва!..
Петр I не любил Москвы, где на каждом шагу встречал воспоминания мятежей и казней, закоренелую старину и упрямое сопротивление суеверия и предрассудков. Он оставил Кремль, где ему было не душно, но тесно; и на дальнем берегу Балтийского моря искал досуга, простора и свободы для своей мощной и беспокойной деятельности. После него, когда старая наша аристократия возымела свою прежнюю силу и влияние, Долгорукие чуть было не возвратили Москве своих государей; но смерть молодого Петра II-го снова утвердила за Петербургом его недавние права.
Упадок Москвы есть неминуемое следствие возвышения Петербурга. Две столицы не могут в равной степени процветать в одном и том же государстве, как два сердца не существуют в теле человеческом. Но обеднение Москвы доказывает и другое: обеднение русского дворянства, происшедшее частию от раздробления имений, исчезающих с ужасной быстротою, частию от других причин, о которых успеем еще потолковать.
Но Москва, утратившая свой блеск аристократический, процветает в других отношениях: промышленность, сильно покровительствуемая, в ней оживилась и развилась с необыкновенною силою. Купечество богатеет и начинает селиться в палатах, покидаемых дворянством. С другой стороны, просвещение любит город, где Шувалов основал университет по предначертанию Ломоносова.
Литераторы петербургские по большей части не литераторы, но предприимчивые и смышленые литературные откупщики. Ученость, любовь к искусству и таланты неоспоримо на стороне Москвы. Московский журнализм убьет журнализм петербургский.
Московская критика с честию отличается от петербургской. Шевырев, Киреевский, Погодин и другие написали несколько опытов, достойных стать наряду с лучшими статьями английских Reviews, между тем как петербургские журналы судят о литературе, как о музыке; о музыке, как о политической экономии, т. е. наобум и как-нибудь, иногда впопад и остроумно, но большею частию неосновательно и поверхностно.
Философия немецкая, которая нашла в Москве, может быть, слишком много молодых последователей, кажется, начинает уступать духу более практическому. Тем не менее влияние ее было благотворно: она спасла нашу молодежь от холодного скептицизма французской философии и удалила ее от упоительных и вредных мечтаний, которые имели столь ужасное влияние на лучший цвет предшествовавшего поколения!
Кстати: я отыскал в моих бумагах любопытное сравнение между обеими столицами. Оно написано одним из моих приятелей, великим меланхоликом, имеющим иногда свои светлые минуты веселости.
Ломоносов
В конце книги своей Радищев поместил слово о Ломоносове. Оно писано слогом надутым и тяжелым. Радищев имел тайное намерение нанести удар неприкосновенной славе росского Пиндара. Достойно замечания и то, что Радищев тщательно прикрыл это намерение уловками уважения и обошелся со славою Ломоносова гораздо осторожнее, нежели с верховной властию, на которую напал с такой безумной дерзостию. Он более тридцати страниц наполнил пошлыми похвалами стихотворцу, ритору и грамматику, чтоб в конце своего слова поместить следующие мятежные строки:
Мы желаем показать, что в отношении российской словесности тот, кто путь ко храму славы проложил, есть первый виновник в приобретении славы, хотя бы он войти во храм не мог. Бакон Веруламский недостоин разве напоминовения, что мог токмо сказать, как можно размножать науки? Недостойны разве признательности мужественные писатели, восстающие на губительство и всесилие для того, что не могли избавить человечества из оков и пленения? И мы не почтем Ломоносова, для того, что не разумел правил позорищного стихотворения и томился в эпопее, что чужд был в стихах чувствительности, что не всегда проницателен в суждениях и что в самых одах своих вмещал иногда более слов, нежели мыслей.
Ломоносов был великий человек. Между Петром I и Екатериною II он один является самобытным сподвижником просвещения. Он создал первый университет. Он, лучше сказать, сам был первым нашим университетом. Но в сем университете профессор поэзии и элоквенции не что иное, как исправный чиновник, и не поэт, вдохновенный свыше, не оратор, мощно увлекающий. Однообразные и стеснительные формы, в кои отливал он свои мысли, дают его прозе ход утомительный и тяжелый. Эта схоластическая величавость, полуславенская, полулатинская, сделалась было необходимостию: к счастию, Карамзин освободил язык от чуждого ига и возвратил ему свободу, обратив его к живым источникам народного слова. В Ломоносове нет ни чувства, ни воображения. Оды его, писанные по образцу тогдашних немецких стихотворцев, давно уже забытых в самой Германии, утомительны и надуты. Его влияние на словесность было вредное и до сих пор в ней отзывается. Высокопарность, изысканность, отвращение от простоты и точности, отсутствие всякой народности и оригинальности – вот следы, оставленные Ломоносовым. Ломоносов сам не дорожил своею поэзией и гораздо более заботился о своих химических опытах, нежели о должностных одах на высокоторжественный день тезоименитства и проч. С каким презрением говорит он о Сумарокове, страстном к своему искусству, об этом человеке, который ни о чем, кроме как о бедном своем рифмичестве, не думает!.. Зато с каким жаром говорит он о науках, о просвещении! Смотрите письма его к Шувалову, к Воронцову и пр.
Ничто не может дать лучшего понятия о Ломоносове, как следующий рапорт, поданный им Шувалову, о своих упражнениях с 1751 года по 1757:
По ордеру вашего сиятельства ведено всем академическим профессорам и адъюнктам, чтобы рапортовали вашему сиятельству о своих трудах и упражнениях в науках с 1751 года поныне. В силу оного рапортую, что с того времени до нынешнего числа по моей профессии и в других науках я учинил погодно.
В 1751 году.
В химии. 1) Произведены многие опыты химические, по большей части огнем, для исследования натуры цветов, что значит того ж году журнал лаборатории на 12 листах и другие записки. 2) Говорил сочиненную свою речь о пользе химии на российском языке. 3) Вымыслил некоторые новые инструменты для физической химии.
В физике. 1) Делал опыты в большие морозы для изыскания: какою пропорциею воздух сжимается и расширяется по всем градусам термометра. 2) Летом деланы опыты зажигательным стеклом и термометром, коль высоко втекает ртуть в разных расстояниях от зажигательной точки. 3) Сделаны опыты, как разделять олово от свинца одним плавлением, без всяких посторонних материй простою механикою, что изрядный успех имеет и весьма дешево становится.
В истории. Читал книги для собрания материй к сочинению российской истории: Нестора, законы Ярославли, Большой летописец, Татищева первый том, Кромера, Вейселя, Гелмолда, Арнолда и другие, из которых брал нужные эксцерпты или выписки и примечания, всех числом 653 статьи, на 15 листах.
В словесных науках. 1) Сочинил трагедию, «Демофонт» называемую. 2) Сочинял стихи на иллюминации. 3) Собранные прежде сего материи к сочинению грамматики зачал приводить в порядок. Давал приватные лекции студентам в российском стихотворстве; а особливо Поповскому, который ныне профессором. 4) Диктовал студентам сочиненное мною начало третьей книги красноречия – о стихотворстве вообще.
В 1752 году.
В химии. 1) Деланы многие химические опыты для теории цветов, о чем явствует в журнале сего года на 25 листах. 2) Показывал студентам химические опыты тем курсом, как сам учился у Генкеля. 3) Для ясного понятия и краткого познания всей химии диктовал студентам и толковал сочиненные мною в физической химии пролегомены на латинском языке, которые содержатся на 13 листах в 150 параграфах, со многими фигурами на шести полулистах. 4) Изыскал способы и практикою доказал, как составлять мусию. 5) По канцелярскому указу обучал составлению разноцветных стекол присланного из канцелярии строений ученика Дружинина для здешних стеклянных заводов.
В физике. 1) Чинил электрические воздушные наблюдения с немалою опасностию. 2) Зимою повторял опыты о разном протяжении воздуха по градусам термометра.
В истории. Для собрания материалов к российской истории читал Кранца, Претория, Муратория, Иорнанда, Прокопия, Павла дьякона, Зонара, Феофана Исповедника, Леона Грамматика и иных эксцерптов нужных на 5 листах в 161 статье.
В словесных науках. 1) Сочинил оду на восшествие на престол ее императорского величества. 2) Письмо о пользе стекла. 3) Изобретал иллюминации и сочинял к ним стихи: на 25 апреля, на 5 сентября, на 25 ноября. 4) Оратории второй части красноречия сочинил 10 листов.
В 1753 году.
В химии. 1) Продолжались опыты для исследования натуры цветов, что показывает журнал того же году на 56 листах. 2) По окончании лекций делал новые химико-физические опыты, дабы привести химию сколько можно к философскому познанию и сделать частью основательной физики: из оных многочисленных опытов, где мера, вес и их пропорция показаны, сочинены многие цифирные таблицы, на 24 полулистовых страницах, где каждая строка целый опыт содержит.
В физике. 1) С покойным профессором Рихманом делал химико-физические опыты в лаборатории для исследования градуса теплоты, который на себя вода принимает от погашенных в ней минералов, прежде раскаленных. 2) Чинил наблюдения электрической силы на воздухе с великою опасностию. 3) Говорил в публичном собрании речь о явлениях воздушных, от электрической силы происходящих, с истолкованием многих других свойств натуры. 4) Делал опыты, коими оказалось, что цветы, а особливо красный, на морозе ярчее, нежели в теплоте.
В истории. 1) Записки из упомянутых прежде авторов приводил под статьи числами. 2) Читал Российские академические летописцы без записок, чтобы общее понятие иметь пространно о деяниях российских.
В словесных науках. 1) Для российской грамматики привел глаголы в порядок. 2) Пять проектов со стихами на иллюминации и фейерверки: на 1 января, на 25 апреля, на 5 сентября, на 25 ноября и на 18 декабря.
В 1754 году.
В химии. 1) Сделаны разные опыты химические, которые содержатся в журнале сего года на 46 листах. 2) Повторением поверены физико-химические таблицы, прошлого года сочиненные.
В физике. 1) Изобретены некоторые способы к сысканию долготы и ширины на море при мрачном небе. В практике исследовать сего без адмиралтейства невозможно. 2) Деланы опыты метеорологические над водою, из Северного океана привезенною, в каком градусе мороза она замерзнуть может. Притом были разные химические растворы морожены для сравнения. 3) Деланы опыты при пильной мельнице в деревне, как текущая по наклонению вода течение свое ускоряет и какою силою бьет. 4) Делал опыт машины, которая бы, подымаясь кверху сама, могла поднять с собою маленький термометр, дабы узнать градус теплоты на вышине, которая хотя слишком на два золотника облегчалась, однако к желаемому концу не приведена.
В истории. Сочинен опыт истории славянского народа до Рурика: Дедикация, вступление; глава 1, о старобытных жителях в России; глава 2, о величестве и поколениях славянского народа; глава 3, о древности славянского народа, всего 8 листов.
В словесных науках. 1) Сочинил оду на рождение государя великого князя Павла Петровича. 2) Изобрел фейерверк, который был представлен на новый 1754 год, и стихи сделал. Также делал проекты на иллюминацию и фейерверки: к 25 апреля, к 5 сентября, к 25 ноября.
В 1755 году.
В химии. Деланы разные физико-химические опыты, что явствует в журнале того ж года на 14 листах.
В физике. 1) Сочинил диссертацию о должности журналистов, в которой опровергнуты все критики, учиненные в Германии против моих диссертаций, в комментариях напечатанных, а особливо против новых теорий о теплоте и стуже, о химических растворах и упругости воздуха. Оная диссертация переведена господином Формеем на французский язык и в журнале, называемом: «Немецкая библиотека» (Bibliothique germanique), на оном языке напечатана. 2) Сочинил письмо о северном ходу в Ост-Индию Сибирским океаном.
В истории. Сделан опыт описанием владения первых великих князей российских Рурика, Олега, Игоря.
В словесных науках. 1) Сочинил и говорил в публичном собрании слово похвальное блаженныя памяти государю императору Петру Великому. 2) Сочинив большую часть грамматики, привел к концу, которая в нынешнем году печатью к концу приходит. 3) Сочинил письмо о сходстве и переменах языков.
В 1756 году.
В химии. 1) Между разными химическими опытами, которых журнал на 13 листах, деланы опыты в заплавленных накрепко стеклянных сосудах, чтобы исследовать: прибывает ли вес металлов от чистого жару. Оными опытами нашлось, что славного Роберта Бойля мнение ложно, ибо без пропущения внешнего воздуха вес сожженного металла остается в одной мере. 2) Учинены опыты химические со вспоможением воздушного насоса, где в сосудах химических, из которых был воздух вытянут, показывали на огне минералы такие феномены, какие химикам еще не известны. 3) Ныне лаборатор Клементьев под моим смотрением изыскивает по моему указанию, как бы сделать для фейерверков верховые зеленые звездки.
В физике. 1) Изобретен мною новый оптический инструмент, который я назвал никтоптическою трубою (tubus nyctopticus); оный должен служить к тому, чтобы ночью видеть можно было. Первый опыт показывает на сумерках ясно те вещи, которые простым глазам не видны, и весьма надеяться можно, что старанием искусных мастеров может простереться до такого совершенства, какого ныне достигли телескопы и микроскопы от малого начала. 2) Сделал четыре новоизобретенные мною пендула, из которых один медный, длиною в сажень, однако служит чрез механические стрелки против такого, который бы был вышиною с четвертью на версту. Употребляется к тому, чтобы узнать, всегда ли с земли центр, притягающий к себе тяжкие тела, стоит неподвижно или переменяет место. 3) Говорил в публичном собрании сочиненную мною речь о цветах.
В истории. Собранные мною в нынешнем году российские исторические манускрипты для моей библиотеки, пятнадцать книг, сличал между собою для наблюдения сходств в деяниях российских.
В словесных науках. 1) Сочиняю героическую поэму, именуемую: «Петр Великий». 2) Сделал проект со стихами для фейерверка к 18 декабря сего года.
Сверх сего в разные годы зачаты делать диссертации: 1) О лучшем и ученом мореплавании. 2) О твердом термометре. 3) О трясении земли. 4) О первоначальных частицах, тела составляющих.
5) О градусах теплоты и стужи, как их определить, основательно со мнением о умеренности растворения воздуха на планетах. К совершению привесть отчасти препятствуют другие дела, отчасти протяжным печатанием комментариев охота отнимается.
Сумароков был шутом у всех тогдашних, вельмож: у Шувалова, у Панина; его дразнили, подстрекали и забавлялись его выходками. Фонвизин, коего характер имеет нужду в оправдании, забавлял знатных, передразнивая Александра Петровича в совершенстве. Державин исподтишка писал сатиры на Сумарокова и приезжал как ни в чем не бывало наслаждаться его бешенством. Ломоносов был иного покроя. С ним шутить было накладно. Он везде был тот же: дома, где все его трепетали; во дворце, где он дирал за уши пажей; в Академии, где, по свидетельству Шлецера, не смели при нем пикнуть. Не многим известна стихотворная перепалка его с Дмитрием Сеченовым по случаю «Гимна бороде», не напечатанного ни в одном собрании его сочинений. Она может дать понятие о заносчивости поэта, как и о нетерпимости проповедника. Со всем тем Ломоносов был добродушен. Как хорошо его письмо о семействе несчастного Рихмана! В отношении к самому себе он был очень беспечен, и, кажется, жена его хоть была и немка, но мало смыслила в хозяйстве. Вдова старого профессора, услыша, что речь идет о Ломоносове, спросила: «О каком Ломоносове говорите вы? не о Михайле ли Васильевиче? То-то был пустой человек! бывало, от него всегда бегали к нам за кофейником. Вот Тредьяковский, Василий Кирилович – вот этот был почтенный и порядочный человек». Тредьяковский был, конечно, почтенный и порядочный человек. Его филологические и грамматические изыскания очень замечательны. Он имел о русском стихосложении обширнейшее понятие, нежели Ломоносов и Сумароков. Любовь его к Фенелонову эпосу делает ему честь, а мысль перевести его стихами и самый выбор стиха доказывает необыкновенное чувство изящного. В «Тилемахиде» находится много хороших стихов и счастливых оборотов. Радищев написал о них целую статью (см. собрание сочинений А. Радищева). Дельвиг приводил часто следующий стих в пример прекрасного гекзаметра:
