Читать онлайн Сопротивление большевизму. 1917-1918 гг. бесплатно
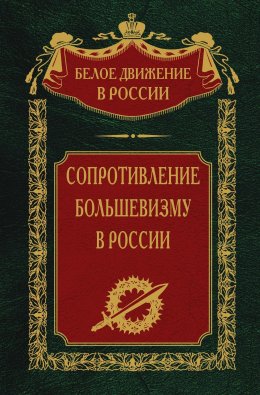
Охраняется законодательством РФ о защите интеллектуальных прав.
Воспроизведение всей книги или любой ее части воспрещается без письменного разрешения издателя.
Любые попытки нарушения закона будут преследоваться в судебном порядке.
© С. В. Волков, состав, предисловие, комментарии, 2023
© Художественное оформление серии, «Центрполиграф», 2023
* * *
Предисловие
Четвертый том серии «Белое движение в России» посвящен очагам сопротивления большевизму в России в 1917–1918 годах. Сопротивление большевикам имело место практически сразу после октябрьского переворота, но было представлено разрозненными выступлениями, зачастую начинаясь только тогда, когда создавалась прямая угроза для жизни представителей тех слоев, которые большевики считали своими основными противниками, или происходило в пассивных формах. Основная сила, способная противостоять большевикам, – офицерство, – была деморализована и дезориентирована политикой Временного правительства, попустительствовавшего травле офицерства в ходе «демократизации» армии, и от массы офицерства трудно было ожидать особого рвения в деле защиты непопулярной власти, тем более что большинство не представляло в полной мере сущности большевистской доктрины и считало большевиков явлением кратковременным.
В настоящий том включены материалы, касающиеся боев в Петрограде и Москве в октябре 1917 года, обороны Оренбурга зимой 1917/18 года и действий оренбургских партизан, а также восставшего оренбургского и уральского казачества до лета 1918 года, событий конца 1917-го – начала 1918 года в Крыму, Терского восстания лета – осени 1918 года, восстания на Тамани весной 1918 года, Ярославского восстания лета 1918 года и попыток сопротивления в ряде других городов, событий на Кавказе и в Средней Азии (в т. ч. Ташкентского восстания в январе 1919 года).
В решающем месте – в Петрограде – военными руководителями отпора большевикам было проявлено очень мало активности, а офицеры, остававшиеся лояльными Временному правительству, оставались в абсолютном большинстве пассивными зрителями происходящего. Но никаких попыток мобилизовать офицеров на защиту правительства сделано не было, и в Зимнем дворце находились лишь 310 человек 2-й Петергофской, 352 человека 2-й Ораниенбаумской школ прапорщиков, рота юнкеров Школы прапорщиков инженерных войск и юнкера Школы прапорщиков Северного фронта, а также 50–60 случайных офицеров и Женский батальон.
В Москве, где Совет офицерских депутатов еще утром 27 октября организовал собрание офицеров-сторонников правительства и разработал план борьбы, сопротивление приняло, как известно, более организованный характер и происходило успешнее. Оплотом его были Александровское (куда собрались созванные по инициативе полковника К. К. Дорофеева несколько десятков офицеров-добровольцев; из тысячи с небольшим защитников училища было 300 офицеров) и Алексеевское военные училища, три московских и Суворовский кадетские корпуса и московские школы прапорщиков. Большевикам потребовалось несколько дней, чтобы сломить сопротивление кучки офицеров и юнкеров. Но и в Москве в борьбе приняли участие лишь несколько сот (не более 700) из находившихся тогда в городе десятков тысяч офицеров. По условиям капитуляции, подписанной нерешительным и склонным к соглашательству полковником Рябцевым, офицерам оставлялось оружие и обеспечивалась личная безопасность. Но выполнены они, разумеется, не были: сдавшиеся были переписаны (причем некоторые сразу отправлены в тюрьму, а аресты остальных начались на следующий день) и многие расстреляны.
Борьба с большевиками в Оренбургской области началась приказом не признавшего их власти атамана А. И. Дутова по войску № 862 от 26 октября. Боевые действия велись с 23 декабря 1917 года. Положение Дутова осложнялось малолюдством в тыловом Оренбурге офицеров. Из Москвы к нему прибыло только 120 человек. В распоряжении атамана было военное училище (150 юнкеров) и остатки школ прапорщиков – 20 юнкеров с поручиком Студеникиным. 17 января 1918 года Оренбург оставили от 300 до 500 человек – остатки офицерских рот, Отряд защиты Учредительного собрания, юнкера и кадеты-неплюевцы. Часть офицеров, юнкеров и добровольцев во главе с генерал-майором К. М. Слесаревым ушла к уральским казакам. Многие офицеры в одиночку и небольшими группами укрывались в станицах, хуторах и киргизских аулах. Атаман Дутов (начальник штаба полковник Н. Я. Поляков) с войсковым правительством обосновался в Верхнеуральске. Единственной вооруженной силой его был партизанский отряд войскового старшины Мамаева и небольшие отряды подъесаулов Бородина, Михайлова и Енборисова – всего около 300 бойцов, преимущественно офицеров.
Восстание началось 23 февраля 1918 года в поселке Буранном под руководством хорунжего П.Чигвинцева и вскоре распространилось по всей территории войска. В марте офицеры, укрывшиеся по станицам в районе Оренбурга, подняли восстание и под руководством войскового старшины Лукина взяли 4 апреля Оренбург, но не смогли его удержать. После освобождения Оренбурга 17 июня там стала формироваться Юго-Западная (28 декабря переименованная в Отдельную Оренбургскую) армия А. И. Дутова. В Уральске борьба началась в начале 1918 года. Командующим войсками уральского казачества был генерал В. И. Акутин, а непосредственно руководил начавшимися в марте боевыми действиями М. Ф. Мартынов. Во главе илецких казаков стоял полковник К. И. Загребин. В конце декабря 1918 года из уральских частей была образована Уральская отдельная армия.
В Крыму, где местное офицерство в целях самозащиты вынуждено было примкнуть к частям образовавшегося в Симферополе крымско-татарского правительства, собралось до 2 тысяч офицеров. Но реально огромный штаб Крымских войск располагал только четырьмя офицерскими ротами около 100 человек в каждой. На базе вернувшегося с фронта Крымского конного полка (около 50 офицеров) была сформирована бригада (полковник Г. А. Бако) из 1-го и 2-го Конно-татарских полков (полковник М. М. Петропольский и подполковник О.-Б. Биарсланов), эскадроны которых поддерживали порядок в городах полуострова; в Евпатории в офицерской дружине было 150 человек. Тем временем большевики сосредоточили более 7 тысяч человек и двинули их на Симферополь, который пал с 13-го на 14 января 1918 года. В ходе боев было убито до 170 офицеров (погибли и почти все чины крымского штаба). После этого большевики сделались хозяевами всего полуострова.
Одним из наиболее ярких эпизодов сопротивления большевизму было восстание в Ярославле, где после демобилизации скопилось много офицеров из штабов и управлений 12-й армии, которые вместе с прибывшими членами «Союза защиты Родины и Свободы» и рядом офицеров, служивших в местных частях Красной армии, составили главную силу восстания под руководством полковников А. П. Перхурова и К. Г. Гоппера и генерала П. П. Карпова. Сюда же с начала июня стали прибывать группы офицеров – членов организации (около 300). 6 июля 105 офицеров во главе с Перхуровым захватили арсенал. Всего в Ярославле сражалось около 1,5 тысяч офицеров и около 6 тысяч добровольцев. Судьба их была трагичной. Не получив ниоткуда помощи, Ярославль, превращенный латышской артиллерией в груду развалин, 21 июля пал, и большинство его защитников погибло. Часть офицеров – около 500, сдавшаяся представителю германской миссии (восставшие провозгласили отмену Брестского мира и возобновление войны с Германией), была расстреляна в первый же день, как затем и остальные уцелевшие. Полковнику Перхурову с несколькими десятками офицеров удалось на катере прорваться и позже вступить в армию адмирала Колчака. Подпольные организации действовали и в целом ряде других городов.
Весной 1918 года разгорелось крупное восстание кубанских казаков на Таманском полуострове, а летом последовали выступления терских казаков, перешедшие к осени во всеобщее восстание под руководством генерала Э. А. Мистулова. В Дагестане центром консолидации антибольшевистских сил послужили остатки Кавказской Туземной дивизии, 6 полков которой, сведенные в Туземный корпус, были в конце 1917 года отправлены на Кавказ. Сопротивление возглавили командир 1-го Дагестанского полка полковник князь Н. Б. Тарковский и полковник Р. Б. Коитбеков. Последний и командир 2-го Дагестанского полка полковник А. Нахибашев возглавляли в начале 1918 года оборону от большевиков Петровска. В Темир-Хан-Шуре Н. Б. Тарковский приступил к формированию надежных частей из остатков обоих Дагестанских полков и примкнувших русских офицеров, державшихся до прихода Добровольческой армии.
В Ташкенте, где события начали принимать угрожающий характер еще в сентябре, из офицеров гарнизона и надежных солдат был сформирован отряд в несколько сот человек, располагавшийся в местной крепости. Однако в конце октября при начале боев командующим генералом П. А. Коровиченко не было проявлено должной решимости, и 1 ноября он капитулировал, после чего последовала расправа над участниками сопротивления. Восстание, поднятое в январе 1919 года, потерпело неудачу и также закончилось массовыми расстрелами.
Практически все эти эпизоды сопротивления протекали изолированно и почти все кончились неудачно. Тем не менее они продемонстрировали, наряду с недальновидностью и пассивностью основной массы, самоотверженность и мужество тех, кто с самого начала не питал иллюзий относительно природы новой власти и вступил с ней в бескомпромиссную борьбу. События эти в подробностях практически не известны, и публикация воспоминаний (почти всегда авторы приводимых воспоминаний – рядовые участники событий) поможет восстановить картину сопротивления большевизму в стране.
Материалы тома сгруппированы по разделам. В первом из них собраны материалы, посвященные обороне Зимнего дворца и боям под Петроградом в конце октября 1917 года, во втором – октябрьским боям в Москве, в третьем – борьбе оренбургского и уральского казачества, в четвертом – событиям в Крыму, в пятом – Ярославскому восстанию и эпизодам сопротивления в некоторых других городах России, в шестом – Таманскому и Терскому восстаниям и в седьмом – событиям на Кавказе и в Средней Азии.
Как правило, все публикации приводятся полностью. Из крупных трудов взяты только главы и разделы, непосредственно относящиеся к теме. Авторские примечания помещены в скобках в основной текст. Стилистика везде сохранена, исправлялись лишь очевидные опечатки и грамматические и синтаксические ошибки.
С. В. Волков
Раздел 1
Октябрьские события в Петрограде
К. де Гайлеш[1]
Защита Зимнего дворца[2]
Советский художник Кузнецов, выполняя правительственный заказ, изобразил на огромном полотне «Штурм Зимнего дворца». На этой картине изображены рабочие, солдаты и матросы, вооруженные винтовками, пулеметами, с развевающимися красными знаменами, атакующие в упор баррикаду перед Зимним дворцом. Борьба идет врукопашную. Пущены в ход приклады, штыки, ручные гранаты. Идет страшная свалка с юнкерами и офицерами, защитниками дворца и Временного правительства.
Зная способность советских правителей подтасовывать исторические факты, меня – одного из защитников Зимнего дворца – это не удивляет. На баррикаде перед дворцом не было рукопашного боя, и он не был взят фронтовым штурмом, как это изобразил Кузнецов. Но об этом я расскажу далее.
* * *
Тяжелые дни переживал город Петра в конце октября 1917 года. Тревожные вести неслись отовсюду. Немцами прорван фронт под Ригой. Рига эвакуируется. Солдаты митингуют и дезертируют целыми частями. В тылу – развал и все усиливающаяся большевистская пропаганда. Коммунистические газеты открыто призывают к восстанию.
Временное правительство решило вторично[3] арестовать большевистских главарей, но было уже поздно. В ночь на 6 ноября[4] оно закрывает типографию большевистских газет «Рабочий путь» и «Рабочий и солдат», конфискует напечатанные уже номера и начинает стягивать для своей защиты надежные части. Правительство не доверяет военным училищам Петрограда и ищет опоры в более демократических школах прапорщиков, укомплектованных частью из студентов. Этим и объясняется, что наша 2-я Петергофская школа прапорщиков была затребована в 3 часа ночи спешно отправиться в Петроград.
…Тревога. Заспанные юнкера натягивают второпях шинели и бегут строиться во двор. Идет перекличка, раздаются патроны, начальник школы объясняет создавшееся положение. По темным аллеям старого парка, мимо молчаливых дворцов, свидетелей уже многих исторических событий, мы двигаемся по направлению к вокзалу Старого Петергофа.
Можно ожидать, что большевистски настроенные части воспротивятся нашему передвижению, и поэтому идем в боевом порядке. Но все спокойно. Грузимся на поданный поезд и через час высаживаемся на Балтийском вокзале в Петрограде. Начался рассвет осеннего, пасмурного дня. Кое-где горят еще фонари, и освещенные полупустые трамваи идут к центру города. На улицах одиночные прохожие останавливаются перед свеженаклеенными афишами, призывающими население к восстанию.
Встречаем несколько казачьих разъездов на Невском и бронемашину с юнкерским патрулем. Вскоре мы достигаем Дворцовой площади, и перед нами встают величавые стены Зимнего дворца с его массивными чугунными решетками изящной, ажурной работы. Входим во внутренний двор, где уже дымят походные кухни. Узнаем от коменданта дворца, что здесь, кроме нас, находятся: 2-я Ораниенбаумская школа, Школа прапорщиков Северного фронта, 2 орудия Михайловского артиллерийского училища, одна рота Женского ударного батальона, 5 бронемашин, сотня уральских казаков и несколько десятков георгиевских кавалеров, т. е. всего около 1500 человек. Этими силами правительство считает возможным удержать все стратегически важные пункты Петрограда против 200-тысячного гарнизона, ставшего на сторону большевиков.
Взвод, в котором я нахожусь, назначается нести караул во внутренних залах третьего этажа, где находится кабинет главы правительства и где происходят заседания. То, что мы узнаем здесь, – малоутешительно. Сегодня утром большевистский Военно-революционный комитет послал две роты Литовского полка[5] и вновь открыл типографию «Рабочего пути» и роздал более двадцати тысяч экземпляров конфискованного вчера номера газеты.
Во вторник, 6 ноября, положение следующее: правительственные части занимают здания Центрального телеграфа и телефона, Государственный банк, Почтамт, все вокзалы, главнейшие правительственные учреждения, мосты на Неве, Мариинский и Аничков дворцы. Но начиная с полудня большевики оттесняют малочисленные, оторванные друг от друга отряды юнкеров. Из арсенала Петропавловской крепости целый день идет раздача оружия населению. Об этом все знают, но власти не предпринимают никаких мер.
Из Кронштадта прибывают все время матросские части на подкрепление большевикам. Легкий крейсер «Аврора» и миноносец «Забияка» вошли в Неву и отказались подчиниться Временному правительству. Они приближаются к Николаевскому мосту, который переходит в руки повстанцев. Правительство во главе с Керенским не покидает более Зимнего дворца, и его заседания чередуются одно за другим. Чувствуется растерянность и нерешительность во всех предпринимаемых действиях.
Залы дворца полны военных и штатских, которые без всяких пропусков шныряют всюду, входят и выходят беспрепятственно. Кто дает распоряжения и кто их отменяет – неизвестно.
Устанавливаются пулеметы под крышей, затем их снова спускают вниз. Из штабелей дров, заготовленных для зимнего отопления, юнкера инженерных войск строят перед дворцом баррикады.
Кое-где в городе слышатся одиночные выстрелы и короткие перестрелки. Время тянется в тягостном, напряженном ожидании.
Серый осенний день близится к концу. Вечером мы узнаем, что большевики заняли Балтийский вокзал и этим отрезали возможность прибытия подкреплений из Ораниенбаума и Петергофа, где остались 1-я и 3-я Ораниенбаумские и 3-я Петергофская школы прапорщиков.
Юнкерский патруль только что захватил трех штатских, увешанных пулеметными лентами. Из их допроса выясняется, что Ленин прибыл из Финляндии и находится в Смольном, чтобы лично руководить переворотом, который должен произойти раньше, чем начнется Второй Всероссийский съезд рабочих и солдатских депутатов.
От 12 до 2 часов пополуночи я занимаю караул у двери, ведущей в зал заседаний правительства, рядом с кабинетом Керенского. Каждую минуту входят и выходят его адъютанты. Слышны звонки телефонов и отрывки речи. Через полуоткрытую дверь я вижу хорошо знакомое, гладко выбритое лицо Керенского и его несменяемый коричневый френч. Сейчас, горячась и часто ударяя по столу, он принимает делегацию казачьих частей Петрограда. Слышатся обрывки слов: «…доверие… недоверие… присяга… дело революции…» и т. д. Я стараюсь понять сущность происходящего и с радостью узнаю, что делегаты, уходя, уверяют, что казаки по первому зову «прискачут на защиту правительства».
По подъемному лифту поднимается группа штатских, из которых один в цилиндре. Я узнаю (по газетным фотографиям) Терещенко[6], Кишкина[7], Коновалова[8] – министров Временного правительства, спешащих на экстренное совещание. У всех усталые, землистого цвета лица от бессонных ночей.
Когда, в шесть часов утра, я снова занял мой пост, через открытую дверь я видел, как царский лакей, в синей ливрее с красным воротником и золотыми галунами, накрывал большой круглый стол для утреннего завтрака Керенского. Тусклый рассвет осеннего утра обрисовывал белую скатерть с царскими вензелями и отражался на фарфоровой и серебряной посуде с черными двуглавыми орлами. Начался последний день свободной, демократической России.
Теперь события чередуются с кинематографической быстротой. Утром наши патрули принесли несколько номеров свежеотпечатанной газеты «Рабочий и солдат». В ней крупными буквами сообщалось, что Временное правительство свергнуто и вся власть перешла к Советам. Мы смеемся… но недолго.
Узнаем, что ночью большевики заняли Почтамт, центральные станции телеграфа и телефона и все вокзалы, что павловцы[9] воздвигли баррикады на углу Миллионной и Марсового поля и не пропускают сюда более никого. Дворцовый мост тоже был захвачен ночью врасплох.
Наш взвод был сменен и заменен для внутренних караулов 1-м взводом, мы отходим в резерв, и теперь у нас более свободного времени, мы можем заняться осмотром дворца. Большое впечатление производит на нас рабочий кабинет Императора Александра II, куда он был принесен после взрыва бомбы в 1881 году. Все осталось как в тот трагический час. На кресле брошена его серо-голубая офицерская шинель с темными пятнами. Вот кушетка, на которую его положили и на которой он умер. На письменном столе массивные бронзовые настольные часы остановлены в минуту его смерти.
Среди юнкеров разнесся слух, что в штабе Петроградского военного округа, недалеко от дворца, штатским и солдатам раздается оружие. Мы спешим туда, и действительно, солдаты штаба вытаскивали ящики с американскими надписями (военный заказ) и, разбивая их, раздавали кому попало кольты и патроны к ним. Офицеров штаба никого уже не было, и осталось лишь несколько телефонистов. Один из них с веселой усмешкой сообщил нам, что Керенский пробовал вызвать 5-ю казачью дивизию из Финляндии, так как три Донских казачьих полка Петроградского гарнизона отказались выступить на защиту правительства. «Утекайте, пока не поздно. Смотрите, все ваши броневики уже перешли к Советам!»
Мы его арестовали и повели к коменданту дворца, но здесь узнали, что, действительно, из пяти броневиков четыре не возвратились из патруля обратно и что пятая машина, установленная во входных воротах дворца, сегодня утром оказалась без обслуживающих и с испорченными механизмами.
Обещанные подкрепления с Северного фронта не прибывают, и положение ухудшается с часу на час. Железное кольцо суживается вокруг защитников правительства, многие тайно покидают дворец.
Около одиннадцати часов дня Керенский, сопровождаемый своими адъютантами, на двух машинах под американским флагом покидает дворец, по направлению на Гатчино, разыскивать неизвестно где застрявшие эшелоны с подкреплением.
Где-то близко, на Невском, вспыхивает беспорядочная стрельба и приближается к Дворцовой площади.
Вскоре распространяется слух, что Государственный банк и Мариинский дворец заняты большевиками почти без сопротивления.
После отъезда Керенского правительство под председательством Коновалова заседает беспрерывно, но оно фактически отрезано от внешнего мира, и его решения не могут изменить ход событий.
Юнкера Школы прапорщиков инженерных войск занимают баррикады из штабелей дров против дворца и устанавливают пулеметы. Сотня уральцев занимает посты со стороны набережной. Рота Женского ударного батальона, отбивая твердо ногу, как на учении, идет занимать позицию на Миллионной улице около Эрмитажа.
Вскоре со стороны Преображенских казарм показываются три парламентера с белым флагом и идут к нам. Это комиссар Чудновский (в свое время, позже, был расстрелян большевиками). Мы ведем его во дворец. По дороге он обращается к нам и говорит, что на последнем заседании Военно-революционного комитета при Петроградском Совете решено сделать последнее предложение о сдаче. В случае отказа снимается ответственность за возможную кровавую расправу.
Ультиматум Чудновского не принят, и его задерживают как заложника, отпустив сопровождавших его солдат.
Уже смеркается, и кое-где начинают зажигаться огоньки, но нам все же видно, как на противоположной стороне Дворцовой площади собираются группы вооруженных военных и штатских. Нам запрещено открывать огонь без команды. Штаб Петроградского военного округа очищен, и занимавшие его юнкера отведены к дворцу.
В последний момент мы узнаем, что оба орудия Михайловского артиллерийского училища приведены в негодность офицером этого же училища, который оказался большевиком.
Теперь кругом все тихо, как перед надвигающейся грозой. Нервы у всех напряжены. Не слышно больше смеха и шуток. И вот, в темноте, на противоположной стороне площади блеснуло несколько огоньков и раздалось 3–4 выстрела. Затем еще и еще. Не дожидаясь команды, со стороны нашей баррикады пошла ответная беспорядочная стрельба. Затрещали пулеметы. Я посмотрел на часы, было около шести часов вечера. Начался последний акт. Пули с визгом шлепались о стены дворца, отбивали штукатурку и барабанили по стали стоявшего в главном подъезде безмолвного броневика.
Теперь полная темнота покрывала Дворцовую площадь, но все окна дворца ярко освещены, и, что хуже всего, наши баррикады озарены несколькими висячими фонарями и представляют великолепную мишень. Чтобы потушить фонари, мы начинаем стрелять по ним, и вскоре они тухнут один за другим. Командный состав постепенно взял юнкеров в руки, баррикады вместо беспорядочной, нервной стрельбы отвечают теперь дружными залпами. Слышатся крики, требующие санитаров, – значит, есть уже жертвы. Среди трескотни ружейной и пулеметной стрельбы вдруг раздается несколько отдаленных орудийных выстрелов. Снаряды с воем проносятся над дворцом, не причинив вреда. Это крейсер «Аврора» и миноносец «Забияка» стреляют по нас. Из выпущенных семи снарядов только один задел карниз дворца. Щупальца прожекторов военных кораблей и Петропавловской крепости бороздят черное небо, и на фоне их зарева четко обрисовывается игла Адмиралтейства и мутно поблескивает купол Исаакиевского собора.
Около восьми часов к нам прибегают несколько стрелков женской роты и доносят, что сотня уральских казаков, занимавшая позицию вдоль набережной, перешла на сторону большевиков и оттуда матросы и солдаты проникли в один из внутренних дворов дворца. Командир роты посылает меня отыскать министра Кишкина, руководящего защитой, или же коменданта дворца и доложить о случившемся.
Внутренние залы дворца представляют взбудораженный муравейник, на который внезапно наступила нога человека. По коридорам снуют бледные растерянные военные и штатские. Окна верхних зал изрешечены пулями, и, проходя мимо, надо нагибаться низко к полу, т. к. окна освещены и представляют для нападающих прекрасную мишень. В поисках коменданта в нижней зале я наталкиваюсь на Чудновского, которого охраняют два юнкера. Он успокаивает встревоженных юнкеров и говорит, что не позволит ворвавшимся солдатам причинить им вреда.
В следующей зале я вижу мужчину средних лет, взгромоздившегося на стол и окруженного толпой юнкеров. Это инженер Пальчинский, помощник Кишкина, призывает окружающих не падать духом, т. к. с фронта идут верные правительству части.
Наконец я нахожу коменданта дворца. Перед ним стоит взволнованная сестра милосердия, только что прибежавшая с верхнего этажа (где с 1915 года был размещен госпиталь). Сестра сообщила, что все палаты запружены матросами и солдатами, проникшими, вероятно, со стороны Эрмитажа или внутреннего двора по черной лестнице, о существовании которой никто не догадался предупредить защитников.
Теперь верхние этажи заполнены большевиками. Картина борьбы резко меняется. Баррикады перед дворцом продолжают держаться. Против них ведется беспорядочная стрельба. Женский ударный батальон отбивает наседающих преображенцев и павловцев и по-прежнему держит доступы к дворцу на Миллионной улице.
Но в верхних залах дворца, куда пробрались матросы, идет спорадическая борьба. Слышатся взрывы ручных гранат, винтовочные выстрелы, крики. В желтоватом тумане пыли от падающей со стен штукатурки мутно белеют шары ламп и люстр. Теперь никто не знает, где нападающие и где защитники. Хаос невообразимый. В одной зале защитники разоружают нападающих, в другой – нападающие обезоруживают защитников. Понемногу защита оставляет верхние этажи со стороны Эрмитажа и концентрируется в нижних залах, где находятся министры Временного правительства. Я бегу по коридорам, усеянным матрасами, бутылками, пустыми консервными банками. Кое-где лежат какие-то военные, раненные или нет – не успеваю разобрать. Натыкаюсь на группу офицеров и юнкеров Ораниенбаумской школы, они бросают винтовки. Ввиду бессмысленности дальнейшего сопротивления, министры Временного правительства отдали приказ о сдаче дворца. Но сдаются лишь те, кого этот приказ может достигнуть, многие продолжают еще в течение долгого времени безнадежный бой.
Около двух часов ночи нас привели в солдатский клуб Преображенского полка. Конвоировавшие нас матросы делились с нами папиросами и были корректны. Не то ожидало нас у преображенцев. Столпившись у дверей клуба, солдаты грозили самосудом. Большой клуб пополнялся все новыми и новыми партиями бывших защитников. Бледные лица, пыльные шинели. Некоторые ранены. Со стороны дворца все еще слышна стрельба, но к трем часам она начинает умолкать. Последние прибывшие защитники сообщают, что дворец окончательно занят. Солдаты проникли в царские погреба, идет поголовное пьянство, насилуются женщины ударной роты, сдавшиеся последними, грабится ценное историческое имущество, рвут со стен гобелены, бьют ценный севрский фарфор. Все министры отправлены в Петропавловскую крепость, а также и часть юнкеров.
Как мы узнали позже, некоторые из юнкеров были прикончены по дороге или же сброшены с мостов в Неву. Количество жертв 7 ноября большевики никогда не опубликовали, да никто их точно не мог и знать.
Так кончилась защита Зимнего дворца и Временного правительства. Его растерянность в те дни трудно объяснить даже сегодня. Как понять, что оно не привлекло к защите восемь военных училищ и около десятка школ прапорщиков, расположенных в Петрограде и его ближайших окрестностях? Четыре дня позже, 11 ноября, группа социалистов-революционеров подняла восстание юнкеров Владимирского, Николаевского инженерного, Павловского и Михайловского военных училищ. Несколько сотен юнкеров начали неравный бой против большевистского гарнизона с целью облегчить передвижение к Петрограду казачьих частей генерала Краснова[10] под Пулковом. Это ненужное восстание кончилось поголовным избиением сотен юнкеров.
Слабовольное демократическое правительство сдало власть тем, кто сделал небольшое усилие ее захватить.
О. фон Прюссинг[11]
Защита Зимнего дворца[12]
25 октября 1917 года. Гатчина… Час ночи…
Я сидел у себя дома и разбирался в приказах, циркулярных постановлениях и другой бумажной волоките, так как всего три месяца назад, принял Школу прапорщиков Северного фронта. Неожиданный звонок. Я отворил дверь и увидел вестового канцелярии. Не дожидаясь моего вопроса, он подал мне бумажку, доложив:
– Телефонограмма Главковерха. Там сказывали, очень спешно.
Это был боевой приказ Главковерха: «Немедленно выступить с юнкерами школы в Петроград, Зимний дворец, на защиту Временного правительства».
Со 2-го на 3 июля того же 1917 года школа уже была вызвана в Петроград и подавила первое восстание большевиков[13].
Подняв юнкеров, я приказал построиться во дворе при полной боевой выкладке, а сам тем временем телефонами снесся с железнодорожниками о немедленном предоставлении воинского поезда. В это время ко мне в канцелярию вошел школьный комитет: председатель, поляк, юнкер Малиновский, латыш, не то литовец Балдамус и третий, эстонец, фамилии коего но упомню. Эти юнкера потребовали от меня немедленной отмены приказания, так как я якобы не имел права отдавать такового, без согласия комитета. Осадив этих голубчиков «боевым приказом», я повел роты, и в пятом часу утра поезд двинулся на Петроград, куда мы прибыли на Варшавский вокзал в начале седьмого часа утра, 25 октября.
Накануне, 24-го, еще в Гатчине, я слыхал, будто в столице ожидаются беспорядки, но слухи тогда были так обильны и противоречивы, что особого значения я им не придавал. Однако в поезде меня многое стало тревожить. Особенно упорно ходившие слухи о переходе гарнизона столицы на сторону большевиков. Поэтому, высадившись на Варшавском вокзале, я наметил маршрут к Зимнему дворцу, по возможности минуя казармы. Перейдя мост, через Обводный канал, мы свернули на Лермонтовский проспект, чтобы миновать Измайловские казармы, далее мимо Мариинского дворца и, наконец, по Морской, под аркой, вышли на площадь Зимнего дворца.
День был ненастный, сыро-холодный, слегка моросило, словом, типичное петербургское осеннее утро. Улицы почти пустые, одиночные пешеходы да несколько дворников, подметавших у ворот. Мы были не спавши, голодные и продрогшие.
Оставив свой батальон у Александровской колонны «оправиться», я вошел в штаб войск гвардии и Петроградского военного округа. Двери настежь открыты, внизу, в передней, груда бумаги, сломанные стулья, какие-то свертки и склянки. Впечатление разгрома. Я поднялся на первый этаж – там также никого и полный хаос. Стал окликать – ответа не было. Наконец мне почудились, где-то в конце коридора, голоса. Я – туда. Что ни дверь – то в комнате все перевернуто, до столов включительно, – но никого нет. Наконец в одном из последних покоев я нашел двух офицеров: полковника Полковникова[14] и, по-видимому, его адъютанта, штабс-капитана в штабной форме.
На мой вопрос – где бы я мог повидать командующего войсками округа? – полковник дрожащим, полузаикающимся голосом, как бы нерешительно сознался, что это он самый и есть. Когда я ему сообщил, что прибыл со школой Северного фронта на защиту правительства, мой полковник сразу успокоился и заговорил нормальным голосом. Оказалось, что все писаря и весь штаб ночью побросали работу и оставили его на произвол судьбы. На мой вопрос – куда же пристроить мою часть? – полковник, мне посоветовал ввести юнкеров в Зимний дворец.
Во дворце мы расположились в нижнем коридоре, что тянулся параллельно площади. Юнкера быстро применились к местности, нашли ход на кухню, сами растопили плиту и сварили чай. Во всем дворце ни одной живой души. Лишь в десятом часу показались два дворцовых лакея. От них я узнал, что имеется и дворцовый комендант, но он еще спит. Наконец комендант появился. Был 11-й час. Я ему представился. Это был полковник лейб-гвардии Петербургского полка, фамилии не помню, сильно изнуренный и, как мне показалось, нашим присутствием не особенно довольный. Обсудив положение и обстановку, комендант решил охранять дворец, высылая цепи наружу и тем самым преграждая в него доступ. Я возражал, так как, по-моему, цепи можно высылать только в виду противника, что в данном случае не соответствует положению.
– Разве нас не окружает противник? – спросил меня комендант. – Разве большевики не противник? Нам надо оградить себя, пока не подойдет помощь в лице всех военных училищ.
– А вы, господин полковник, уверены, что они придут? – спросил я.
– Вне всякого сомнения, меня Керенский телеграммой заверил, что даже извне придут школы прапорщиков, а здешние училища я ожидаю с минуты на минуту, – уверенно парировал комендант.
Мой штаб расположился в первом этаже, в угловой комнате, окна которой выходили как на площадь, так и на Александровский сад, благодаря чему было большое и удобное поле зрения.
Около часу дня движение на улицах значительно усилилось, хотя трамваи и не ходили. Между прочим, в нашем горячем споре с комендантом дело дошло до того, что я задал ему вопрос, как большевики выглядят?
– Я видал в Пруссии немцев, в Австрии – австрийцев, а как определить большевиков, не знаю…
– Большевик… большевик… Все, что на улице, то большевики, и их всех надо уничтожать, а пока удалить от дворца, – раздраженно ответил он.
Надо было во что бы то ни стало заставить коменданта отказаться от безумной затеи выслать цепь на улицу и тем самым «раздразнить» противника – большевиков или хотя бы выиграть время, пока подойдет помощь, если Керенский коменданта не обманул, и я продолжал надоедать коменданту своими, может быть, нелепыми, вопросами.
– Вы говорите, полковник, все, что на улице, – все большевики, а вот, посмотрите, вдоль ограды сада идет какая-то дама в шляпке и ведет за руку девочку – это тоже большевики?
Тут терпение начальства, что называется, лопнуло, и полковник раскричался:
– Тут я комендант, вы, полковник, мне подчинены, я нахожу вашу выходку дерзкой, я лишаю вас командования… Первая и вторая роты построиться! – крикнул он и через какие-нибудь 3–4 минуты вывел их из дворца.
Прошло с полчаса, пока он успел обе роты расположить поперек Дворцового моста, далее от набережной по Александровскому саду, до угла Невского (до Главного штаба), затем под аркою и далее до дворца. Я стоял у окна и скорбел душой за моих юнкеров. Едва была закончена эта расстановка, как со стороны Васильевского острова по Дворцовому мосту показался броневик, а вдоль Адмиралтейской набережной задвигалась солидная толпа матросов и красноармейцев с винтовками. Словно по чьему-то сигналу и броневик, и толпа открыли огонь по юнкерам. Разъяренная толпа на мосту поднимала юнкеров на штыки и бросала в Неву. В другом конце стали собирать юнкеров в группы и куда-то уводить. Два красноармейца повели нашего коменданта через мост, он сопротивлялся, но один из конвоиров ударил его прикладом по голове, и полковник остался лежать неподвижно. Оставшиеся в помещении 3-я и 4-я роты были всему этому очевидцами. Гробовое молчание наступило во дворце. Нас всех охватила жуть, и только мало-помалу мы стали приходить в себя. Члены комитета подошли ко мне и попросили принять командование, как прежде, они-де будут повиноваться моим приказаниям «без всякой оппозиции», как они выразились.
Между тем на улице все успокоилось. Ни броневиков, ни героев-красногвардейцев, зато много шатающихся солдат, грызущих семечки, да… трупы наших убитых юнкеров. Помощь не подходила. Ни одно училище не явилось ко дворцу, а ряды мои уменьшились наполовину. Что мне было делать? Как выйти из этого положения? И вдруг… о Боже… подошла помощь… И кто же? Женский ударный батальон, в составе 224 воинов-женщин. Мне доложили об этом и о том, что батальон стоит внизу в коридоре, в ожидании распоряжений. Я отправился вниз – приветствовать.
Не без волнения подошел я к фронту выстроившихся женщин. Было что-то непривычное в этом зрелище, и надоедливые мысли буравили мозг: «провокаторши».
Скомандовав «Смирно!», одна из женщин отделилась от правого фланга и подошла ко мне с рапортом. Это была «командирша». Высокого роста, пропорционально сложенная, с выправкой лихого гвардейского унтер-офицера, с громким отчетливым голосом, она мгновенно рассеяла мои подозрения, и я поздоровался с батальоном. Одеты они были солдатами. Высокие сапоги, шаровары, поверх которых была накинута еще юбка, также защитного цвета, волосы подобраны под фуражку.
В то время как я принимал подошедших нам на подмогу ударниц во дворе Зимнего дворца, раздалось подряд два разрыва снарядов. Оказалось, что крейсер «Аврора» подошел к Николаевскому мосту и произвел по дворцу два выстрела.
Наше положение становилось критическим: водопровод был кем-то и где-то закрыт, электричество выключено, и, по сообщению «разведчиков», красногвардейцы, матросы и солдаты Преображенского запасного батальона пробрались в чердачное помещение дворца. Вскоре мы ясно расслышали, что над нашей штабной комнатой сверху разбирается потолок. Я приказал во всех проходах и лестницах устроить баррикады из имеющейся в покоях мебели. В начале 4-го часа за баррикадами появились большевики. Начался форменный «комнатный» бой, длившийся более часу, пока окончательно не стемнело.
Нападавшие, которые оказались пьяной толпой, покинули дворец, и мы несколько вздохнули. Где-то нашелся ящик со свечами, и я стал обходить наши баррикады. Что представилось нашим глазам при тусклом свете мерцающих свечей, трудно описать. Пьяная ватага, почуяв женщин за баррикадами, старалась вытащить их на свою сторону. Юнкера их защищали. Груды убитых большевиков удвоили ширину и высоту баррикад, получился словно бруствер из трупов. Тем не менее большинство ударниц все же попали в лапы разъярившихся бандитов. Всего, что они с ними сотворили, я описать не могу – бумага не выдержит. Большинство были раздеты, изнасилованы и при посредстве воткнутых в них штыков посажены вертикально на баррикады. Обходя весь наш внутренний фронт, мы наткнулись в коридоре, у входа в Георгиевский зал, на жуткую кучу: при свете огарков мы увидали человеческую ногу, привязанную к стенному канделябру, груда внутренностей, вывалившаяся из живота, из-под которого вытягивалась другая нога, прижатая мертвым телом солдата; по другую сторону вытянулся красногвардеец, держа в зубах мертвой хваткой левую руку жертвы, а в руках оборванную юбку. Голову жертвы покрывала нога матроса, который лежал поверх. Чтобы разглядеть лицо женщины, нам пришлось оттянуть труп матроса, но это было нелегко, так как она в борьбе зубами вцепилась в ногу матроса, а правой рукой вогнала кинжал ему в сердце. Все четверо уже окоченели. Оттащив матроса, мы узнали командиршу ударниц.
Было уже около 8 часов вечера, когда мы окончили обход. Что нам было делать? Оставаться тут и ждать помощи, которая не шла? Я обсудил вопрос с нашим комитетом, и решил, чтобы два его члена отправились в Смольный, где, по слухам, заседал Революционный комитет, и спросили разрешения нашей школе возвратиться в Гатчину. Около одиннадцати часов они вернулись, имея пропуск за подписью самого Ленина. Я построил уцелевших юнкеров, оставшихся в живых 26 женщин переодел в юнкерскую форму и поставил в ряды юнкеров. В 11 часов мы покинули дворец.
На Мариинской площади, близ памятника Императору Николаю I, нас остановили матросы, которым мы показались подозрительными. Наши уверения, что идем с разрешения Революционного комитета, ни к чему не приводили, в подлинности подписи Ленина сомневались, и лишь когда я с матросом из Мариинского дворца снесся по телефону со Смольным и матросы лично услыхали, что пропуск действителен, нас отпустили. Однако с условием, чтобы мы винтовки составили в козлы и оставили на площади. Пришлось подчиниться силе. По Вознесенскому и далее по Измайловскому проспектам мы, во втором часу ночи, подошли к Варшавскому вокзалу, сели в вагоны и отбыли к себе в Гатчину.
Я не могу не помянуть подвиг женщин-ударниц, этих героинь, которые сознательно дрались и умирали и тем самым воздвигли памятник Русской Женщине, и пусть строки мои о их доблести и муках будут венком на их неизвестных могилах.
А. Синегуб[15]
3ащита Зимнего дворца
(25 октября – 7 ноября 1917 года)[16]
В восемь часов утра я был уже в школе и сидел в канцелярии, постепенно входя в свою тяжелую роль адъютанта школы. «Пройдут эти дни ожидания выступления ленинцев, наладится курс для государственной жизни Родины, и я тогда подам рапорт об отставке. В деревне моя работа будет полезнее, чем здесь, среди заговоров тех, кто сам не отдает себе отчета в последствиях, кто личное ставить выше народного благополучия… Как распинались в «Колхиде», сколько таинственности и верных доказательств! Смешно… Нет доверия друг к другу, а запрягаются в воз, должный вывезти Россию на светлый путь жизнедеятельности. Никакой самодеятельности, спаянности. А о любви к Родине и уж говорить нечего! Словно это – молодчики, тучами являющиеся в последнее время в школу для поступления в юнкера и цинично-откровенно объяснявшие свои побуждения, толкавшие их именно в нашу школу. Одни стоят других – одинаковые карьеристы тыла», – злобно размышлял я, почему-то припоминая случай третьего дня во время приема с предложенной мне взяткой… «А это что?» – прервал я невеселые думы во время механической подписи размноженных на гектографе повесток к педагогическому персоналу школы…
– Телюкин! – позвал я старшего писаря, так гордившегося, несмотря на свое нынешнее эсерство, бывшей службой в личной канцелярии Государя Императора.
– Что прикажете? – вырос с вопросом перед мною позванный унтер-офицер.
– Почему эта телеграмма из Главного штаба в очередном докладе, кто ее вскрыл и почему не доложена мне, как только я пришел? – задал я вопросы Телюкину, внутренне волнуясь и едва воздерживаясь от повышения тона, чтобы этим не привлечь внимания юнкеров, зашедших в канцелярию по делам службы, а главное, тех разночинцев, которые уже успели явиться за какими-то справками к дежурному писарю.
– Это дежурный офицер сюда положили: она исполнена, ваше высокоблагородие; сегодня ночью я дежурил, и когда пришла телеграмма, то я лично позвонил к начальнику школы и ее по приказанию начальника школы вскрыл и прочитал им в телефон. Так что вы не извольте беспокоиться, начальник школы лично приезжал сюда и сами отдали распоряжения. И сейчас в Главном штабе находятся наши юнкера для связи, также посланы юнкера в Николаевское инженерное училище, Николаевское кавалерийское училище, а двое из членов совета школы направлены в личное распоряжение товарища Керенского, – нагибаясь своей длинной фигурой ко мне, конфиденциально доложил Телюкин.
«А это что-нибудь да значит, если даже посланы юнкера непосредственно к главе Временного правительства. Значит, Главному штабу не особенно того», – читал я в его глазах. Но чтобы не показать виду, что я его понял, – а главное, что он правильно подчеркнул последние распоряжения начальника школы, – я задал вопрос о том, почему он, а не дежурный офицер принимал телеграмму из Главного штаба.
Ответ был, к сожалению, самый неожиданный и лишний раз обрисовывающий и нравы офицерства школы, и то падение не только военной дисциплины, но просто даже честного порядочного отношения к долгу и обязанностям… Дежурный офицер, поручик Б-ов, из прапорщиков запаса мирного времени, оказалось, ушел спать к себе на квартиру.
– Но почему же вы, Телюкин, не позвонили сперва мне, не послали за мной. Ведь я вас и всех писарей столько раз просил обо всем экстренном и внезапном немедленно уведомлять меня. Особенно вас, – попрекнул я своего друга.
Телюкин затоптался и, не выдерживая моего настойчивого вопросительного взгляда, зачесал свой несоразмерно длинный нос.
– Почему?.. Забыли, да?..
– Никак нет, я сперва хотел это сделать, но потом решил, что раз телеграмма из Главного штаба, да и курьер передавал, что она особой важности, вам все равно придется звонить к начальнику школы, и дежурный юнкер советовали прямо позвонить к начальнику, а к тому же они говорили, что вчера вы всю ночь провели в канцелярии и что и сегодня около двух часов ночи заходили в школу.
– Ну ладно, ладно, идите и пошлите горниста за дежурным офицером, да еще Панову прикажите составить список юнкерам, ушедшим в связь, и позвоните в 1-ю роту, чтобы сейчас прислали дневник нарядов.
И только Телюкин вышел, я снова впился в телеграмму. «Начинается», – заработала мысль. А ведь на улицах было тихо и движение было обычное. Вспомнил я Кирочную и Литейный проспект, до которых по обыкновению последних дней прошелся перед службой, чтоб взглянуть на Неву и на Выборгскую сторону. «Однако много думать не приходится», – заключил я свои размышления, вставая из-за стола, чтобы пойти в кабинет начальника школы и посмотреть на блокнот, в который он, в моменты моего отсутствия, вносил те распоряжения, которые должны были идти через меня. Но не успел я подойти к двери в коридор, как она отворилась, и передо мной появился юнкер 11-й роты Исаак Гольдман, с винтовкой в руках и патронной сумкой на плечо. По возбужденным глазам, молодцеватой выправке и учащенному дыханию я сразу догадался, что это один из юнкеров связи, явившийся, очевидно, с новостями, должными сыграть какую-то роль.
«Здравствуйте, юнкер! Закройте дверь. Откуда? С чем?» – «Из Главного штаба с запиской о немедленной готовности школы к выступлению… В штабе паника… Никто ничего не делает… Подобные же распоряжения посланы в другие школы и части. Петропавловка на нашей стороне. Там говорили, что у Финляндского вокзала сосредоточилась тяжелая артиллерия, перешедшая на сторону ленинцев. Но это ничего. Пехота и казаки объявили нейтралитет, но и это ничего. Если придут войска из Гатчины, Царского Села, то положение будет восстановлено быстро и без нас; но если они запоздают, то нам придется идти арестовывать Ленина, образовавшего какое-то новое правительство из коммунистов», – докладывал юнкер слышанное им в Главном штабе, пока я вскрывал и читал принесенное им приказание. «Прекрасно, можете идти, – отпустил я юнкера. – Вы были уже сегодня?» – справился я. «Никак нет, нас в четвертом часу отправили в связь. И товарищи просили, чтобы им прислали или смену, или пищу». – «Хорошо, идите в роту и передайте фельдфебелю, чтобы он послал смену, вы же оставайтесь в школе. Телюкин! – позвал я снова писаря. – Где же список юнкерам связи? Живо! Да идите сами сюда с машинкой». Через минуту я уже диктовал: «Приказание командирам 1-й и 2-й рот. По приказанию из Главного штаба немедленно…» Машинка стучала под длинными, тонкими пальцами виртуоза своего дела, и я едва успевал комбинировать те распоряжения, которые могли своим исполнением выполнить приказание штаба. «Пулеметы получить у заведующего оружием», – диктовал я, а в голове нарастало сомнение. А вдруг нестроевая команда, объявившая нейтралитет, на этот раз видя, что дело приняло характер разрешения для Ленина вопроса – «быть или не быть», переменит свое решение и перейдет в открытую оппозицию. Тогда пулеметы, револьверы и патроны командиры рот не получат. «Здравствуйте, Александр Петрович, – приветствовал меня поручик Шумаков, войдя в этот момент ко мне в кабинет. – Я получил записку поручика Б-ва. Он болен и продолжать дежурство он не может и просить меня заменить его. Вам это известно?» – «Нет, что за сволочь! – теряя хладнокровие и забывая присутствие солдата, выругал я нарушившего дисциплину поручика. – Не я буду, если он не полетит под суд. Спасибо, дорогой, что вы пришли. Сейчас же приступайте к дежурству. Ага! Хорошо, Панов. Позвоните на квартиру начальника школы, узнайте, где он; потом пошлите за капитаном Галиевским, он должен быть в первой роте. А полковник Киткин пришел? Да? Конечно, у него другого дела нет, как беседовать с юнкерами, – отнесся я уже к поручику Шумакову, после ухода являвшегося писаря. – Борис, наладь этот вопрос, ты знаешь, оказывается, Мейснер до сих пор не привел в порядок пулеметов, а револьверы у этого мерзавца Кучерова. Его второй день, подлеца, в школе нет. Запил. И нашел же время! Нет… я не могу дальше. Этак с ума сойдешь. Согласись, что это форменный бедлам; а тут у меня все болит», – начал я жаловаться на свои недомогания, как вошел Телюкин и доложил о приезде начальника школы. «Ну слава Богу! Борис, тебе Телюкин все объяснит по этому вопросу, а я к полковнику», – и я бросился из кабинета через канцелярию, чтобы бежать с докладом к начальнику школы. Канцелярия была полна юнкерами и штатскими разночинцами; едва я вошел в нее, как меня засыпали какими-то вопросами и просьбами. «Потом, потом, – отмахнулся я от них. – Господа юнкера, оставьте ваши личные дела и освободите канцелярию. Штатских сегодня не принимать. Все справки прекратить, – отдал я распоряжение экспедитору. – Вы господа, – обратился я к частным посетителям, – будьте любезны в следующий раз зайти», – говорил я уже у двери в коридор.
– Здравствуйте, закройте дверь; доклада не надо – все знаю; теперь не время. Я уже приказал портупей-юнкеру Лебедеву собрать Совет школы и комитет юнкеров. И сейчас должен идти туда. Вы же прикажите прекратить всякие приемы. В школе не должно быть никого из посторонних. Сделано? Отлично! О Мейснере, Б-ве – знаю. Все телеграммы знаю. Из Главного штаба? Одна проформа. У меня, повторяю, все ясно и налажено. Все изменилось. Рассказывать нет времени. Что выйдет – посмотрим. Я же решил выступить, если юнкера не переменили настроение. Во всяком случае, выступлю с желающими. Господам же офицерам приказываю последовать за мною. Считаю, что это вопрос долга и чести. Не сомневаюсь, что и вы будете там, где и я, – ровно, спокойно, без единой вибрации в тоне, твердо и без рисовки говорил начальник школы. – Итак, будьте более внимательным, а главное – выдержанным. Забудьте, пожалуйста, канцелярию и вспомните свои позиции и проявите себя тем офицером, каким вы были до этого проклятого времени, – продолжал, улыбаясь, он. – Ну, можете идти. Все распоряжения – после совещания. Сейчас никаких. Да приготовьте свое оружие. А, здесь? Ну, это прекрасно! – кончил свой прием, отпуская меня, начальник школы.
Я, щелкнув шпорами, повернулся и взялся за ручку двери, как легшая на мое плечо рука остановила меня. Я повернулся. В голове было пусто. Ни одной мысли…
– Вот что, Саня, – с грустью в своих больших голубых глазах тихо заговорил уже не начальник школы, а мой любимый старший брат. – Все пошло к черту! Кто-то предал. Временному правительству не удержаться. Только чудо может спасти его. Ни один из планов не применим, и через три дня также не сбросить большевиков. Они будут еще сильнее. Все должно быть постепенно иначе. И уже, конечно, не нами… Я простился с семьею и написал письма родителям… Ты тоже напиши… Они нас поймут. Мы с тобою должны погибнуть. Мне только жалко юнкеров. Но ты ведь понимаешь меня. Мы ведь дворяне и рассуждать иначе не можем. А там как Бог… С нами будет Галиевский. Ну, бодрись и иди. – И, поцеловав меня, он слегка подтолкнул к двери.
Я вышел словно в тумане, не понимая, где, куда и зачем иду.
– Капитан Галиевский, голубчик, постойте минутку! – наскочил я в полутемном коридоре на худощавую фигуру куда-то спешившего капитана. – Здравствуйте, послали смену юнкерам?
– А! Александр Петрович!.. Ну как же, как же, послал. Ну что, друг мой, повоюем нынче, а?
– Да, да, придется. Жаль только, что обстановка меняется.
– Плевать! Я очень рад, что не ошибся в вас при приеме вас в школу. Только мы, старого покроя офицеры, и можем еще что-нибудь делать. А Б-ов хорош! А? Недаром же я перестал подавать ему руку. Присяжный поверенный несчастный – туда же, в офицеры полез. Понимаю я его болезни. Трус! Начальник школы приказал ему явиться. Ах, голубчик, что я вам посоветую, – продолжал капитан, когда мы остановились у канцелярии. – Вы вот здесь не были в феврале, да и нестроевую команду хорошо не знаете, ведь в ней ни одного порядочного человека нет; так вот вам я и говорю – вы на всякий случай снесли бы к себе на квартиру что у вас поважнее есть, а главное, ничего собственного, ничего не оставляйте. Ну, бегу в роту. Надо к пулеметам замки наладить. Эти прохвосты мало того что ключи потеряли от склада, так что мне пришлось приказать взломать дверь, да еще замки с пулеметов поснимали и куда-то запрятали. Да, будьте, дорогой Александр Петрович, осторожнее с Мейснером. Он что-то крутит. Этот почище Б-ова будет, – шепотом закончил капитан и понесся дальше, а я вошел в канцелярию.
На этот раз в ней было пусто. Писаря, очевидно, пошли на собрание нестроевой команды, и только Телюкин складывал со стола бумаги в ящик. В кабинете я застал Бориса Шумакова, сидящего вразвалку и сладко позевывавшего.
– Вот, друг, как надо действовать! Надеюсь, доволен? – встретил меня он вопросом. – Дрянь дело, но я с наслаждением буду всаживать в эту провокаторскую мерзость пульки из моего любимчика, – снова заговорил он, поглаживая увесистый наган, болтавшийся сбоку в кожаном чехле на поясе. – Сами работать не хотят и другим не дают. Ну что ж, что сеют – то и пожнут. А ты чего копаешься со своим снаряжением? Тоже готовишься идти? Нет, нет, ты должен оставаться в школе. Тебе там не место. И без тебя, слава Богу, есть кому идти. Смотри, на что ты похож? – переменил мой друг резонерский тон на подкупающую убедительность.
– Ты не прав, Борис. Именно мне, тебе, Галиевскому, одним словом, нам, старикам, там место, и в первую голову. Я думаю, я надеюсь, что там все офицерство Петрограда соберется. Подумай, какая это красивая, сильная картина будет. Помнишь, я рассказывал, что когда я девятнадцатого числа ездил с докладом в Главный штаб, то перед Зимним и перед штабом стояли вереницы офицеров в очереди за получением револьверов.
– Ха-ха-ха, – перебил меня, разражаясь смехом, поручик. – Ну и наивен же ты. Да ведь эти револьверы эти господа петербургские офицеры сейчас же по получении продавали. Да еще умудрялись по нескольку раз их получать, а потом бегали и справлялись, где это есть большевики, не купят ли они эту защиту Временного правительства. Нет, ты дурак, да и законченный к тому же! Петроградского гарнизона не знает!.. – заливался Шумаков.
Мне стало весело от этой неудержимой молодой задорности друга, и вдруг я вспомнил, что ничего еще не ел, а потому предложил ему пойти позавтракать.
– Есть не хочу, а выпить не вредно, – решил он, подымаясь и беря меня под руку.
– Выпить? – переспросил я.
В столовой никого из собранской прислуги не оказалось, и так как до обеда еще оставалось около двух часов, то мы и решили пойти на кухню и что-нибудь высмотреть на закуску к вину.
– Здравствуйте!
– Здравствуйте, баре-голубчики. Добро пожаловать, – приветствовала нас кривоглазая Фекла, кухарка за повара.
– Здравствуйте, красавица, – пробасил Борис. – Ага, картошечка подрумянивается. Добро. Мы вот сейчас малость закусить хотим, красавица, и за ваше доброе сердце по стаканчику вина выпить, чтобы женишок поскорее к вам заявился, – продолжал он подшучивать над кухарницей.
– Сейчас, сейчас, батюшка. Уж для вас, как для сынков родных, – сладостно пела скрипучим тонким тоном Фекла. – Да вы извольте присесть, соколики мои ясные. И куда это парни девались? Совсем народ замутился. Все одна хлопочу. И дрова принесу, и картошку очищу, а они, черти, знай семки лузгают и лясы на собраниях точат. И что это, скажите мне, Христа ради, делается на нашей православной земле, – внезапно перешла на плаксивый тон Фекла, лишь только захлопнулась дверь за ушедшим ополченцем. – В нестроевой сказывали, что будто-сь вы юнкерей рабочий народ расстреливать вести хотите… Да я веры не дала… Да еще напустилась на смутьянов-то наших. Лодыри окаянные!.. Статочное ли дело, говорю, чтобы наши господа, мухи никто из них не обидел, да на душегубство пошли. Это им, треклятым, чужие погреба дай пограбить, как давеча Петровские вылакали – ироды… Лишь Павлуха мне шкалик дал… Я вот им и сказываю, что ежели да наши офицеры, уж если и пойдут, то правду одну с собой понесут, которая вам, дармоеды, глаза палит, – кипятилась Фекла, забыв о картошке и о цели нашего прихода.
Поручик Шумаков, не выносивший, в противоположность мне, болтовни на злободневные темы, начал уже рыться в ящиках стола, отыскивая штопор, как вбежал посыльный и подал записку от начальника школы. В ней нам приказывалось немедленно собрать всех наличных чинов школы в гимнастическом зале, для производства общего собрания, а также указывались некоторые меры на случай скорого выступления школы. Штопор не находился, тон записки быль очень категоричен, а поэтому терять время на то, пока Фекла сбегает за другим, – не приходилось. И мы, огорченные неудачей, несолоно хлебавши покинули кухню, оставив почуявшую что-то недоброе Феклу завывать… Выйдя в коридор школы, мы расстались. Поручик Шумаков, как дежурный офицер, отправился к телефону передавать соответствующие приказания дежурным юнкерам по ротам и господам офицерам, а я помчался в канцелярию писать допуск к запасным винтовкам, находившимся под охраной караула на внутреннем балконе гимнастического зала.
В 10 часов 45 минут огромная буфетная зала, с идущим вдоль внутренней ставни балконом, была запружена юнкерами, среди которых отдельными группами разместились чины нестроевой команды. Кое-кто из господ офицеров тоже уже находились в зале, стараясь держаться в стороне от возбужденных юнкеров, стремясь этим предоставить полную свободу фантазированию на злобу грядущих событий. Я, всей душою ненавидящий этот новый сорт собраний в среде военной корпорации, с чувством глубочайшей горести и боли ожидал начала парадного представления. Я сидел и, наблюдая, мучился. А вокруг – горящие глаза, порывистые разговоры, открытая прямодушность и страстные партийные заявления. Лишь две-три малочисленные группки держались в стороне и внимательно вглядывались то в колышущуюся массу юнкеров, то на двери, в которые должны вот-вот войти члены Совета школы.
– Что призадумались, Александр Петрович? – подсел ко мне с вопросом седовласый капитан Галиевский. – Не по нутру парадное представленьице? Что делать, голубчик; нам, очевидно, этого не понять. Но я так думаю, раз Александр Георгиевич это дает, значит, это надо. Да и трудно в наши злые дни. Эх, не война бы с немцами – я и минутки не остался бы в этом царстве болтологии. Однако долго что-то не идут, ведь еще масса работы. – И капитан начал перечислять, что ему надо еще сделать и что и как он уже сделал.
Мы так погрузились в беседу, что не заметили, как вошли члены Совета школы, а также остальные господа офицеры школы, успевшие прибыть к этому времени. И только последовавшая при входе начальника школы команда «Смирно, господа офицеры!», пропетая помощником начальника школы, вернула нас к сознанию горькой трагической действительности. В зале настала тишина и нависла всеобщая напряженность. Все смотрели туда, вперед, где перед лицом зала, на составленных подмостках от классных кафедр – располагались члены Совета и вошедший его председатель, начальник школы. Процедура открытия заседания быстро сменилась докладом о побуждениях, толкнувших Совет школы на производство такового.
Оказалось, что перед Советом школы встала дилемма разрешения вопроса об отношении к текущему моменту, требовавшему выяснения отношения школы к Временному правительству, к мероприятиям последнего в борьбе с новым выросшим злом в лице Ленина и исповедуемой им идеологии, все более и более увлекающей сырые рабочие массы Петрограда и войск. Конечно, Совет школы не колеблясь принял в принципе твердое решение следовать всем последующим мероприятиям существующего до момента открытия Учредительного собрания правительства. Ввиду особо необычного момента и положения правительства, Совет школы предложил комитетам юнкеров и нестроевой команды произвести совместное заседание по заслушанным Советом школы вопросам. Однако от означенного заседания комитет нестроевой команды уклонился, делегировав для информации своего председателя – старшего унтер-офицера Сидорова. Состоявшееся собрание приняло в принципе решения Совета, а равно постановило – произвести общее собрание школы для рассмотрения принятых резолюций. И вслед за докладом последовало чтение резолюции по подвергавшимся обсуждению вопросам. Во все время доклада в зале, собравшем в себя около 800 человек, царила жуткая по своей напряженности тишина. Ни звука одобрения, ни шелеста жестов отрицания, ничто не нарушало тишины со всасывающимся в нее мирным чтением ровного в своих нотах голоса секретаря Совета, портупей-юнкера Лебедева. Чтение кончено. Момент – и объявляется открытие прений. Вздох облегчения вырвался из сгрудившейся аудитории. Вот входит на кафедру первый оратор.
Это лидер кадетской партии школы юнкер X. И краткий, горячо-страстный призыв полился к слушателям. Оратор находил не только необходимым принятие резолюции Совета школы, но и всех возможных активных, немедленных мероприятий, которые не только войдут в школу с верха иерархической лестницы власти, но о которых сейчас же надо просить начальника школы и господ офицеров школы. Порывистые требования слепого подчинения лишь офицерству школы, лишь военным законам, стоящим вне всяких советов и комитетов, вызывает бурю аплодисментов и восторженный гул одобрения, за которыми оратора не слышно. Я оборачиваюсь на зал и весь ухожу в искание протеста. «Он должен быть! – говорю я себе. – Да, он там, – ловлю я легкое движение в обособившихся группах, еще ране замеченных мною. – Посмотрим и послушаем; это становится интересным», – летит мысль в голове и останавливается от звонка и от наставшего успокоения. Говорит уже новый оратор, тоже лидер, но уже эсер.
«Странное дело, – ловлю я себя на критике выступления оратора. – А где же стрелы в огород кадет? Что такое? И вы идете дальше решения объединенного заседания Совета школы и комитета юнкеров? И вы предлагаете с момента военных действий передать всю власть офицерству школы, запрещая какие-либо вмешательства членам Совета и комитета? Да, ведь это обратное явление августовскому собрание по вопросу конфликта Корнилова с Керенским, – припомнил я дико потрясшую меня речь юнкера князя Кудашева. – Ах да!.. Ведь Керенский – эсер. Он ваш. Да, да… Я теперь понимаю. Понимаю, откуда и почему теперь вы к нам, к офицерам!»
Следующее выступление вызывает гул в задних рядах зала и на балконе. Внезапно началось какое-то движение к дверям. Звонок председательствующего не помогает. И вдруг раздаются крики. Уходят чины нестроевой команды. Оборачиваюсь к кафедре. Что-то, понуря голову, говорит унтер-офицер Сидоров. Что – не слышно. Требования из залы: «Тише, тише, громче!» – грозят остаться гласом вопиющего в пустыне, как вдруг чей-то звонкий голос с балкона покрывает весь гам.
– Громче, так громче, – орет этот голос. – Товарищи солдаты нестроевой команды постановили соблюдать нейтралитет. А так как на этом собрании решается вопрос о братоубийстве, о борьбе за капитал против свободы рабочего трудящегося народа, против нашего защитника Владимира Ильича Ленина и, значит, образованного им настоящинского народного правительства, то мы, члены комитета нестроевой команды, решили вас, господ, оставить одних. Нам с вами не по дороге. Товарищи солдаты! И кто в Бога верит! Вон отсюда. И на товарища Сидорова, что там на кафедре слезки льет, не смотрите. Он враг пролетариата, так как продался буржуазии! – окончил греметь неожиданный голос.
«Чей это голос? – работала моя голова. – Я всех чинов команды знаю. О, неужели к нам сюда в школу успел проникнуть агитатор? Хотя, – вспомнил я наши порядки-непорядки, – ничего удивительного нет».
– Ай, как жалко. С собою револьвера нет. Капитан, милый, дайте свой револьвер, скорее… – обратился я с просьбой к соседу.
Тот недоуменно взглянул на меня и слегка отшатнулся. Но очевидно, затем поняв мои переживания, схватил меня за руку и начал упрашивать выйти из зала. Однако этот момент моего порыва, продиктованного ослаблением воли, также быстро прошел, как и налетел. И мое внимание среди бури гремевшего негодованием остального большинства зала уже снова было захвачено новой картинкой. «Что еще будет?» – неожиданно уверенно говорил я себе, видя, что от обособившихся группок юнкеров отделились фигурки, направившиеся к эстраде. Вот первый юнкер 4-го взвода 2-й роты, восемнадцатилетний юноша А-к, с матовым, тонким лицом, жгучий брюнет, поднялся на кафедру и с леденящим спокойствием на лице ждет прекращения в зале шума и крика. Но это кажется безнадежным. Крики: «Товарищи юнкера, смотрите, чтобы кто из юнкеров не ушел бы за молодцами! К столбу позора таких!.. Да здравствует Временное правительство! К нему!.. Ура!..» И это «Ура!» облегчило атмосферу зала, и стоявший на кафедре юнкер, поймав момент затишья, начал речь. Но хохот, покрывший первые слова оратора, анархиста-максималиста, начал расти, и он, вздернув плечами, так же спокойно сошел, как и поднялся. В этот момент вбежал в залу юнкер X. и, поднявшись на кафедру, закричал:
– Господа, сейчас я видел Родзянко. Он просит вас, заклинает встать на защиту Временного правительства от посягательства на него, на благополучие народа гостей из пломбированного вагона. Сам Родзянко занят мобилизацией общественных сил для оказания правительству моральной поддержки, – выпалил юнкер и так же быстро сошел о кафедры…
«Пустяки-занятие изобрел для себя господин бывший председатель Государственной думы, – вдруг снова заработала моя мысль, но уже в веселом тоне. – Тебя, милягу, эти господчики из кабинета Временного правительства оттерли от пирога власти, а ты, сердечный, хлопочешь за них. Или думаешь этим жестом поднять свой кредит? Не знаю, кто как, а я так предполагаю, что это дешевый способ. Мобилизовать для моральной поддержки! А если все станут на точку зрения оказания поддержки лишь в форме «моральной»? Тогда и я мог бы, пожалуй, нанять десятка два хулиганов, да и тешиться себе над вами так, как вы, вместе с Гучковым, потешились над всеми нами. Краснобаи проклятые!»
А в это время на кафедре стояло уже двое. Никто их не слушал. В зале творилось что-то невозможное. Кто хохотал, кто чуть не плакал от надрыва в тех призывах, которых и сам не понимал. Кто требовал порядка. Президиум тоже надрывался в призыве к порядку, но ничего не выходило. Нарождался хаос. Не знаю, в фарс или трагедию вылилось бы все это в дальнейшем, если бы выходивший было во время последних прений начальник школы не вернулся обратно и, с нескрываемой озабоченностью взойдя на кафедру, не пригласил бы жестом к молчанию. Как ни были перебудоражены все лучшие из господ юнкеров, это появление начальника школы сейчас же привело к порядку.
– Господа, есть новости. И я прошу спокойно отнестись к тому, что будет вам сообщено и что требует немедленного вашего решения, – начал говорить начальник школы, окончательно завладевая вниманием зала. – Помимо только что полученного приказания от Главного штаба явиться сейчас же в боевой готовности к Зимнему дворцу для получения задач по усмирению элементов восставших против существующего правительства, сюда прибыл юнкер Н. от Временного правительства с призывом к вам выполнить свой долг перед родиной в момент наитягчайших напряжений, в дни, когда заседает народившийся Совет Республики. При этом я считаю своим долгом перед вами подчеркнуть то обстоятельство, что момент крайне тяжелый, что обстановка складывается очень неблагоприятно для правительства, и поэтому для принявших решение честно продолжать нести свой долг перед родиной это может оказаться последним решением в жизни, – продолжал четко, твердо говорить начальник школы.
– Мы это решение приняли! Ведите нас туда. Мы идем за вами, и только за вами!.. – прервали начальника школы крики юнкеров.
– Прекрасно, господа, – среди вновь потребованного начальником школы спокойствия раздался его голос. – Прекрасно. Терять времени не будем, его у нас нет, и поэтому от слов к делу. Объявляю заседание закрытым. Совет школы и комитет юнкеров, впредь до распоряжения, объявляю распущенным. Приказываю: командирам рот немедленно отдать распоряжение о разводе рот по помещениям и приготовлении к выступлению. Форма одежды – караульная. Сборное место – двор. Сбор через 20 минут. Если обед готов, то накормить юнкеров, если нет, то пища будет выдана из Зимнего дворца. Дежурный офицер – пожалуйте ко мне. Господам офицерам через 5 минут собраться в помещении столовой Офицерского собрания, – уловил я последние распоряжения начальника школы.
Что он говорил далее – не мог услышать из-за раздавшихся команд и распоряжений, отдаваемых командирами рот и подхватываемых фельдфебелями и должностными юнкерами. «Вот это я понимаю, это я чувствую», – анализировал я свои переживания при виде систематизировавшейся массы юнкеров в компактные, организованные по слову военного искусства группы, носящие названия взводов. «Первый взвод, направо, шагом – марш!» – неслась команда, и мерный ритм возбужденного шага грузно повис над залом.
Через 2 минуты в зале никого не осталось, и я выходил из него с группой офицеров, окруживших начальника школы и выслушивавших различные приказания, однако не мешавшие острить и веселым смехом поддерживать легкость и ясность в настроении. Я внутренне торжествовал. «Это прекрасно, – говорил я себе, – бодрость залог благополучия; ну, сегодня уж постараюсь, пускай на фронте, в полку потом узнают, что я не подкачал чести мундира 25-го саперного батальона.
О, как хорошо бы или быть растерзанным штыками восставших после упорной борьбы, или стать ногою на горло вождей их и подсмеиваться им в физиономию над лицезрением ими того, как эти несчастные, обманутые ими люди будут восторженно приветствовать нас, своих избавителей, полные готовности, по первому нашему жесту, смести на нашем пути все, что только мы укажем. Дорогие Корнилов и Крымов[17], что не удалось вам, то, Бог милостив, может быть, удастся нам!»
В столовой уже все оказалось готовым к обеду, и горячие закуски дымились посреди стола; офицеры шумно располагались за столом, продолжая, остря, комментировать всевозможные сведения, уже проникшие в школу.
Не успели мы пообедать, как в столовую вошел дежурный портупей-юнкер и доложил, что юнкера уже оделись и ожидают приказаний.
– Ну что ж. Тогда идем без обеда, – сказал начальник школы. – Господа офицеры, пожалуйте к ротам. Вы, – обратился он к находящемуся тут же, по его приказанию, поручику Б-ову, – вы будете в моем особом распоряжении, и если вы последующим поведением не загладите сегодняшней ошибки, то вам придется пенять уже на самого себя. Поручик Скородинский и вы, – относясь ко мне, продолжал начальник школы, – будьте также при мне. В школе остаются: вы, господин полковник, и вы, поручик Шумаков. Надеюсь, что у вас будет все благополучно и нестроевая команда из-под вашего наблюдения не выйдет… Вы, доктор, – обратился к вернувшемуся из кабинета доктору, – пойдете с нами. Не правда ли?.. А теперь, господа, по ротам! Выводите юнкеров; стройте и пойдем…
Офицеры быстро и шумно, но без каких-либо разговоров, покидали столовую, стремясь к своим местам, к выполнению полученных приказаний. Даже вечно не умолкавший о всякого рода спекуляциях Николаев, с какой-то особой серьезностью, поправляя на ходу снаряжение, ни одним словом не обмолвился, пока мы вместе шли по коридору до канцелярии, где я и поручик Шумаков отстали от общей компании, направясь в нее.
Я передал Борису ключи, обнялся с ним, а затем мы вместе вышли из канцелярии, направляясь на двор… «Что-то будет дальше», – начинало сверлить в мозгу.
Через полчаса я шел впереди вытянувшегося батальона юнкеров на Литейный проспект. На меня было возложено командование авангардом батальона, командование которым затем принял вернувшийся капитан Галиевский, отлучавшийся к своей семье.
На улице было тихо – ничто не предвещало грозы, и если бы сзади не остались в школе трое юнкеров, отказавшихся выступить, двое – Дерум (латыш) и Тарасюк (хохол) – без объяснения причин и третий – юнкер Вигдорчик, открыто заявивший начальнику школы, через дежурного офицера, о своей принадлежности к коммунистической партии с довоенных времен, мы бы еще бодрее шли вперед. Но постепенно воспоминание об оставшихся изгладилось, и забота о внимании к окружающей жизни заняла доминирующее положение в направлении мыслей. Но все было обычно, буднично. И мысль невольно возвращалась к ранению самого себя поручиком Хреновым, о чем он прислал рапорт из дому, где это случилось при зарядке револьвера, за которым он было побежал.
«Черт возьми! Извольте вот теперь командовать его ротой! Странно – но бывает!» – сделал я вывод и принялся объяснять юнкерам принятую батальоном форму построения. Подходя к Сергиевской, я получил приказание от командующего батальном выслать вперед заставу с дозорами, которым приказывалось вступить в бой без всякого размышления. Это было кратко, но ясно, и поэтому, выделив 1-й взвод от своей 2-й роты, я, лично став во главе его, быстро, ускоренным шагом, значительно продвинулся вперед. Но вот снова получается приказание идти не к Марсову полю, а на набережную Невы, так как по донесениям разведчиков на Марсовом поле происходят митинги солдат Павловского полка.
Подходя к мосту, у меня от внезапно пробежавшего в мозгу вопроса: «А кто эти стоящие около него», – сильно запульсировало сердце.
– Будьте внимательнее и спокойнее, – сказал я вслух юнкерам. – Может быть, придется действовать.
– Слушаемся, – кратко ответили они.
Для придачи большего безразличия к окружающей обстановке и, значит, к стоящей на посту у моста группе часовых я, вынув из портсигара папиросу, небрежно зажал ее зубами и закурил… Поравнялись. От группы вооруженных и винтовками, и гранатами отошел один из солдат и, подойдя вплотную, справился, куда идем. В ответ я задал вопрос, что они тут делают.
– Мост от разводки охраняем! – ответил солдат-артиллерист из гарнизона Петропавловской крепости.
– Ага, прекрасно! – внутренне радуясь тому, что Петропавловка пока еще не потеряла головы, похвалил я солдата и сейчас же пояснил ему, указывая на приближающихся юнкеров авангарда, что Школа прапорщиков инженерных войск также выполняет свой долг перед Родиной и идет в распоряжение Временного правительства. – А как ведут себя павловцы? – справился я.
– Сперва митинговали, а потом в казармы зашли. Решили нейтралитет объявить, но караулы выставили. Вон гуляют! – указал в сторону Марсова поля артиллерист.
– Ну, всего вам хорошего, – пожелал я часовым, и мы направились дальше.
И скоро свернули на площадь перед Зимним дворцом. Представшая картина ландшафта этой огромной площади меня обидела. Площадь была пуста.
– Что такое! Отчего так пусто? – невольно сорвалось у меня с языка.
Юнкера молчали. Я взглянул на них. Легкая бледность лиц, недоуменная растерянность ищущих взглядов красноречивее слов мне рассказали о том, что родилось у них в душе. Ясно было, что они еще более меня ожидали встретить иную обстановку. Желая поднять их настроение, я воскликнул:
– Черт возьми, это будет очень скучно, если из-за опоздания мы останемся в резерве… Ну так и есть… Смотрите, у Александровского сада и там, у края площади перед аркой, бродят юнкерские патрули.
«Ясно, что части здесь были уже в сборе и сейчас уже выполняют полученные задачи… В окнах Главного управления Генерального штаба выглядывают офицеры. Значит, там происходят занятия, а следовательно, обстановка несравненно спокойнее, чем то обрисовывали на школьном собрании», – делал я выводы, впиваясь взглядом во второй этаж знакомого здания, где еще несколько месяцев назад я старательно корпел за столом.
– Что же наши не идут? Юнкер Б., взгляните на колонну и, если она остановилась, отправьтесь и доложите по цепочке, что все благополучно и что я ожидаю приказа. Я же буду перед памятником, – отдал я распоряжение одному из юнкеров.
Юнкер оживился и с энергичным поворотом отправился исполнять полученное приказание. В этот момент со стороны Александровского парка, перейдя дорогу, подошел юнкерский 2-й Ораниенбаумской школы прапорщиков дозор. Старший дозора остановил дозор, скомандовал «Смирно!» и направился ко мне. Я принял честь как должное приветствие в нашем лице мундира нашей школы и потому, желая ответить тем же, подал и своим двум оставшимся возле меня юнкерам: «Смирно!»
Легкая судорога удовольствия, промелькнувшая на крупных лицах юнкеров дозора, указала мне, что карта мною бьется правильно.
– Что хотите, портупей-юнкер? – спросил я вытянувшегося старшего дозора.
– Разрешите узнать, какой части и цель вашего прибытия сюда, – твердо, на густых нотах ответил вопросом старший дозора.
– Передовой дозор идущего сюда в распоряжение Временного правительства батальона Школы прапорщиков инженерных войск, – с чувством бесконечного сознания всего веса, должного заключаться в названии и значении той части, в которой протекает служба Родине, твердо, но фальцетом ответил я. – Скажите, портупей-юнкер, – сейчас продолжал я свой ответ, переходя на вопрос, – скажите, вы давно здесь? Ваша школа? И какие еще части и школы были тут и куда они делись? Мы, к сожалению, кажется, запоздали. Вообще, что слышно нового?
– Никак нет, вы не опоздали. Плохо… – с набегавшей улыбкой горечи начал было портупей-юнкер, но сейчас же, спохватившись, желая, очевидно, скрыть мучившие его душу сомнения, в искусственно бодром тоне продолжал: – Очевидно, еще соберутся. Слава Богу, что вы пришли, это подымет настроение. И во дворце говорили, что казаки сюда идут и войска из Гатчины… А покамест у нас тут сперва стояли одиночные посты, но так как утром у Александровского парка группа рабочих обезоружила и избила двоих, то теперь мы несем дозоры.
– Вот оно что. Прекрасно. Мы быстро устроим границы должного поведения для господ хулиганствующих. Эх, черт возьми, разрешили бы арестовать Ленина и компанию, и все пришло бы в порядок. Ну, всего вам хорошего, господа. Надеюсь, совместной работой останемся довольны, – уже на ходу закончил я свою случайную беседу со встретившимся дозором, направляясь к памятнику, чтобы собою обозначить правый фланг расположения для имеющего в каждый момент подойти батальона нашей школы.
Действительно, только мы подошли к памятнику, как из-за оставленного нами угла показались первые ряды юнкеров. Спокойствие и гордость от начавшей обрисовываться в воображении картины встречи с представителями власти и руководства судьбой Родины сразу захватили меня. И то обстоятельство, что площадь была пуста, что около парадного главного входа во дворец нелепо лежали неизвестно откуда свезенные поленницы дров, что около этого входа и у подъезда в здание Главного штаба стояли малочисленные группы людей частью в военной форме, частью в штатских костюмах – как-то эти перечисленные обстоятельства уже иначе укладывались в моей голове, рождая в ней представление о солидности в отношении к совершающемуся со стороны правительства. Холодное спокойствие в принятии мер воздействия – лучшая ванна для протрезвления умов заблудших. В этом спокойствии есть своеобразная красота.
При появлении на площади головной части нашего батальона группы людей у подъездов начали увеличиваться. Кое-кто из одной группы перешел в другую. Это дало новый поворот моим мыслям. «Наше прибытие обсуждается. Значит, положение серьезнее, чем это было бы желательно. Очевидно, мы им нужны как воздух, – повторял я оценку возникшим новым соображениям по отношению неведомого мне положения в городе. – Что же, очаровательно! За нами дело не станет. Пускай скорее дают задачу и полномочия, а там будет видно, на чьей улице будет праздник», – гордо думал я, любуясь чистотой передвижения втянувшегося на площадь батальона и принимавшего построение в развернутый фронт, лицом к Зимнему дворцу и правым флангом к Главному штабу Петроградского военного округа.
Построения закончились. Раздалась команда: «Стать вольно». Наблюдавшие за построением начальник школы с поручиками Ск. и Б. направились к Главному штабу. Ко мне, на правый фланг фронта, перешел капитан Галиевский… Меня потянуло к нему.
– Не густо… – встретил он меня замечанием.
– Образуется, – в тон, лаконично ответил я.
– Равняйсь! – неожиданно скомандовал он, поворачиваясь к линии фронта.
Я быстро взглянул по направлению к штабу.
К нам приближалась группа лиц, в центре которой, часто беря руку под козырек, отвечал на чьи-то вопросы наш начальник школы. Было ясно, что с ним идет «начальство». «Интересно, выйдет ли Керенский», – не находя знакомой фигуры в приближающейся группе, мелькнул вопрос.
– Господа офицеры, пожалуйте сюда! – вслед за командой «Вольно!» раздалось приказание начальника школы, отрывая меня от размышлений.
Офицеры покинули свои места в строю и, окружив полукольцом озабоченное «начальство», строго официально вглядывались в их лица.
Подошедший в этот момент один из офицеров Главного штаба, обращаясь к начальнику школы, попросил его отойти в сторону Главного штаба.
– За начальника школы ухватились! – прошептал кто-то сзади меня свое впечатление.
– Это мы сделаем карьеру! – также шепотом произнес другой голос.
– Господа, господин военный комиссар при Верховном Главнокомандующем поздоровается с юнкерами, – почти сейчас же, возвращаясь обратно в сопровождении очень высокого, худощавого штатского, бросил нам начальник школы. – Нет, нет, вы оставайтесь здесь, – остановил начальник школы попытавшихся было направиться в строй офицеров, лично же направляясь к юнкерам, в сопровождении все того же штатского. – Батальон, смирно! – скомандовал начальник школы. – Сейчас вас будет приветствовать господин военный комиссар при Верховном командовании, поручик Станкевич[18]. Господин комиссар… – обращаясь к поручику Станкевичу, начал было соответствующий уставу рапорт начальник школы.
Но продолжение церемонии рапорта военный комиссар отклонил и, приподымая штатский головной убор, обратился к юнкерам школы:
– Я счастлив видеть вас, товарищи-граждане, здесь, в момент напряжения всех усилий членами Временного правительства на пользу великой нашей революции. Я рад, что некоторым образом родная мне школа… Старший курс должен помнить меня… Я был в вашей школе в числе ваших офицеров, пока революция не позвала меня к новому делу… в армии. Я сейчас приехал из армии. И я свидетельствую вам, что вера армии в настоящий состав правительства, возглавляемого обожаемым Алекс. Федор. Керенским, необычайно сильна. Дело борьбы за Россию с немцами также в армии сейчас стоит на должной высоте. И вот, в этот момент под стройное здание величайших усилий правительства обезумевшими демагогами, помнящими лишь свои партийные расчеты, подводится предательская мина. Везде царит вера в ясную будущность России, ведомой стоящим на страже революции правительством к победе, без аннексий и контрибуций, над сдающим уже врагом. И только здесь, в столице, в красном Петрограде, готовится нож в спину революции. Я рад и счастлив приветствовать вас, так решительно и горячо, без колебаний, отдающих себя в распоряжение тех, кто единственно имеет право руководства жизнью народа до дня Учредительного собрания. Да здравствует Учредительное собрание! Ура!
Когда стихли вызванные речью военного комиссара крики «Ура!», комиссар, отирая платком капли выступившего на лбу пота, продолжал свое приветствие.
Но продолжение было уже значительно короче. В нем военный комиссар высказал уверенность, что товарищи-граждане юнкера окажутся такими же доблестными защитниками дела революции, какими оказались на фронте те товарищи-граждане офицеры, которые раньше кончили эту родную ему школу.
– Да, да, вы правы, господин военный комиссар, – согласился я с ним в этой части его речи.
– Александр Петрович! – обратился ко мне капитан Галиевский, – я вижу, вам очень нравится речь; вы знаете, кто это? Это – один из бывших преподавателей полевой фортификации у нас в школе. Величайшая бездарность, сумевшая, однако, быстро сделать карьеру. Вам, наверное, приходилось слышать также об учебнике по полевой фортификации, недавно изданном Яковлевым, Бартошевичем и им. Он в этой книжечке яковлевской стряпни срисовал несколько где-то на фронте позаимствованных чертежиков. И после этого вообразил себя чуть ли не профессором академии…
– Ну, поехали, капитан! – вмешался в разговор поручик Скородинский. – Я хорошо знаю поручика Станкевича – это удивительно милый и чуткий человек. Правда, он очень увлекающийся, но зато искренний. А что он сделал карьеру – это не удивительно. Теперь его партийные друзья на верхах власти и, конечно, своих приспешников, чай, не забывают, – закончил Скородинский, отходя от нас.
– Тоже карьеру сделает, – мотнул головою в его сторону мой собеседник и, видя, что я никак не реагирую на его сведения, замолчал.
– Очень приятно встретиться с вами, господа, – между тем, мягко улыбаясь и порывисто пожимая руки некоторых из бывших своих сотоварищей по деятельности в школе, просто и искренне здоровался военный комиссар. – Я прямо из Ставки, – продолжал он. – Какая разница с вашим питерским настроением. Но это ничего… я полагаю, мы быстро уладим все шероховатости и вам снова можно будет вернуться к более мирному продолжению вашей продуктивной, полезной работы. Ваши бывшие питомцы отличаются на фронте, и пехота их высоко ценит… Владимир Станкевич, – протянул, наконец, и мне руку военный комиссар.
– Александр Синегуб, – в тон представился я.
– Это наш новый офицер, недавно с фронта, – зачем-то нашел нужным прибавить поручик Б.
– Да, у вас, я вижу, есть новые лица! – ответил ему военный комиссар.
– Александр Петрович! – окликнул меня поручик Скородинский.
– Что скажете? – обернулся я к спешившему ко мне поручику.
– Начальник школы вас требует. Работа есть. Счастливчик! – ласково улыбаясь, передал он мне приказ начальника школы.
– А где начальник? – обрадованно заторопился я.
– Вон там, около группы Багратуни у Главного штаба, – указал мне поручик на местонахождение начальника школы. – Явитесь к военному комиссару при Верховном командовании, поручику Станкевичу, – подчеркивая титул служебного положения поручика, мягко, но с особой, свойственной ему манерой отдавать так приказания, что они, для получающего таковые, приобретали значение сверхстепенного значения, проговорил он. – Ах, вы здесь! – продолжал он, уже обращаясь к подошедшему в этот момент военному комиссару. – Вот, согласно вашего желания и приказания Главного штаба, я предоставляю в ваше распоряжение полуроту юнкеров, под командой поручика Синегуба. Я вам даю самого опытного офицера, недавно только прибывшего к нам в школу с фронта. Надеюсь, поручик, – снова отнесся начальник школы ко мне, – вы учтете всю серьезность значения оказываемой вам чести предоставления выполнения тех задач, которые вы будете получать непосредственно от господина военного комиссара и исполнять которые будете как мои личные приказания… – в упор смотря мне в глаза, добавил начальник школы.
– Слушаю-с, господин полковник; а какую полуроту прикажете взять?
– Капитан Галиевский получил приказание, и он вам предоставит таковую!
– Слушаю-с! Разрешите идти?
– Да, с Богом! – весело ответил начальник школы, протягивая мне руку и делая шага два вперед, приблизился вплотную ко мне и вдруг, понижая голос, быстро проговорил: – Дело крайне серьезно. Соберите все внимание. И чаще присылайте донесения мне и капитану Галиевскому. – И, переходя на обычный тон, продолжал: – Все указания испрашивать у господина военного комиссара. Ну, в добрый час! Берегите юнкеров! – отпустил меня начальник школы.
– Господин военный комиссар, – обратился я, поворачиваясь к комиссару и беря руку под козырек, – поручик Синегуб, по приказанию начальника Петроградской прапорщиков инженерных войск школы, представляется по случаю назначения в ваше распоряжение.
– Очень приятно, – принимая честь, любезно ответил военный комиссар, – я попрошу вас немедленно выступить. И так слишком много времени потеряно, – нервно смотря на часы, бросил замечание военный комиссар.
– Слушаю-с! Разрешите построить и куда прикажете вести и какое будет назначение?
– Я буду с вами. Мы пойдем в Мариинский дворец на охрану заседающего в нем Предпарламента, так как по имеющимся сведениям готовится обструкция и выступления против заседающих. Скорее стройте юнкеров, – нервно закончил комиссар.
– Слушаюсь! – заражаясь необходимостью спешить, я бегом направился к батальону юнкеров.
– Александр Петрович, – встретил меня поручик Мейснер, – ваша полурота готова. Я назначен командовать второй полуротой, в качестве резерва для вас, голубчик, если надо, вызывайте меня скорее, – весь оживляясь, попросил поручик.
– Спасибо, хорошо, обязательно. Подождите, еще много будет дел. А что, патроны будут выдавать? – вдруг с ужасом вспомнил я отсутствие этой соли нашей сущности.
– Патроны? Во дворце их надо получать. Там большой запас. Я сейчас доложу капитану Галиевскому, – бросаясь к командующему батальоном, ответил поручик.
– Полурота, равняйсь! – принялся я между тем отводить свою полуроту от батальона.
– Послушайте, поручик, – подходя ко мне, заговорил военный комиссар, – постройте мне так юнкеров, чтобы все могли слышать меня без повышения мною голоса.
«О, черт возьми, опять разговорчики. Да ведь вам спешить надо… Хотя это на руку – патроны поднесут…» – промелькнуло успокаивающее соображение.
– Слушаюсь! – уже вслух ответил я и принялся строить полуроту в каре.
Военный комиссар выждал эволюцию фронта и начал говорить:
– Господа, в данное, исключительно тяжелое время для Революции и страны свершилось событие огромной исторической важности. В залах Мариинского дворца заседает цвет нашей мысли и гордость наших чаяний – Совет Республики. Я был там и видел их святую работу над укреплением завоеваний Революции и выводом страны на тот путь величественного шествия к счастью, которого только достойна демократия мира. Я видел, как, забыв все личное, забыв даже о еде, сидят над разрешением вопросов те, кто не только является гордостью нашей мысли, но и творцом дела дружественного, творческого сожительства демократий всего мира. И их работа, верьте мне, еще священнее, чем защитников нашей великой страны, выбросившей впервые миру такие лозунги, как война до победного конца, без аннексий и контрибуций. И вот, товарищи-граждане, в этот момент демагогическая злобность, посеянная Лениным и разжигаемая врагами революции и страны, готовится стать катастрофичной для Революции. Опьяненные демагогией отбросы рабочего мира готовятся произвести срыв происходящего заседания Совета Республики. Спокойствию в творческой работе, в часы ее максимального напряжения, грозит опасность. А между тем дорог каждый час этого труда, результаты которого в бесконечном волнении ожидают и армия, и демократия. И вот, дорогие товарищи-граждане юнкера, вам предоставляется высокая честь охранить спокойствие работы Совета Республики. Я счастлив, что могу вас поздравить с назначением в караул Мариинского дворца. И я убежден, что это будет лишь почетным для вас служением Революции и стране и что дело до применения оружия не дойдет, так как, если массы хулиганствующих увидят вас на постах у дворца, они только побурлят и разойдутся… – застенчиво улыбаясь, закончил свою речь военный комиссар.
«Разлука ты, разлука, чужая сторона», – навязчиво ныло у меня в ушах при вслушивании в речь оратора. – Ей-ей, вы житель какой-то подлунной планеты, но не земли. У вас нет времени, а вы продолжаете его тратить на то, что, право, удивительно просто и ясно. К чему?»
И как бы в ответ на мои мысли, сзади раздалось обращении ко мне:
– Господин поручик, разрешите доложить, что мы хотим есть, а там у дворца юнкера получают хлеб.
«Ага! Сейчас кончит комиссар говорить, я попрошу разрешения запастись хлебом».
– Вот что нас губит, – вдруг обратился ко мне юнкер N.
– Тише! Бросьте! Вы же строю! – оборвал я не выдержавшего юнкера. – Пускай делают что хотят, лишь бы мы сами не забыли о Родине, – уже смягчаясь, добавил я.
– Господин военный комиссар! – как только последний кончил говорить, обратился я. – Разрешите получить хлеб – его здесь рядом выдают, юнкера сегодня еще не ели.
– Да, да, только скорее! – дал согласие военный комиссар с несколько озабоченным выражением лица, очевидно от мелькнувшей мысли, что слушать и прекрасные песни на пустой желудок не особенно весело.
Пока юнкера получали хлеб, я получил ответ о патронах. Патроны действительно были, но на выдачу требовалось распоряжение из Главного штаба. От кого же это должно было изойти и кто должен был их выдать, пока, несмотря на все усилия поручика Мейснера, выяснить не удавалось.
«Вы не можете себе представить, какой там внутри царит кавардак, – указывая на дворец и здание Главного штаба, рассказывал поручик. – Я ни от кого не мог добиться ни одного путного указания. Начальник штаба посылает к адъютантам; те к коменданту дворца, а последний к начальнику штаба. Черт бы их всех драл, сволочь штабная!» – вспылил поручик. «Хороши гуси. Не беда. Я доложу Станкевичу, пускай распорядится, на то он, кстати, и комиссар, чтобы за порядком наблюдать». Военного комиссара уже осаждала какая-то группа из военных и штатских.
– Ну что, готовы? – встретил он меня вопросом.
– Так точно. Хлеб получен. Вот не могу получить патронов.
– Патронов? Зачем? – перебил меня комиссар.
– У нас мало. По пятнадцати штук на винтовку. Пулеметов и гранат совсем нет. Обещали выдать здесь, но добиться…
– Это лишнее; дело до огня дойти не может. И пятнадцати штук за глаза довольно. Идемте, ведите роту. Дорогу знаете во дворец? Прямо по Морской. А придя во дворец, вы хорошенько ознакомьтесь с постами и решительно прикажите огня без самой крайней необходимости не открывать. Я буду сам все время там, так что вы можете быть спокойным. А если и подойдет к Мариинскому дворцу какая-либо хулиганствующая толпа, то, право, для укрощения ее достаточно одного вида юнкеров, стоящих на постах с винтовками. Вот внутри дворца надо быть начеку. Я боюсь, чтобы кто не устроил обструкцию в зале заседаний и не произвел паники. Стройте во вздвоенные ряды и идемте, – подойдя к полуроте, распорядился военный комиссар.
Мы двинулись. Юнкера, сперва молчаливые, теперь вполголоса делились впечатлениями. Только военный комиссар весь ушел в какую-то беседу с сопровождавшими его офицером, штатским и двумя юнкерами из членов Совета школы, зачем-то ему понадобившимися.
«Не выслать ли вперед разведку? – подумал я, выйдя на Морскую. – Хотя это зачем же? Ведь достаточно же ясно заверил военный комиссар, что с боевой точки зрения – все спокойно. А кроме того, если впереди и окажется что-нибудь скверное, то ведь, слава Богу, какая у меня силища, вы, мои хорошие господа юнкера, плохо владеющие винтовками, и вы, господин военный комиссар».
– Раз, два!.. Тверже ногу!.. Ноги не слышу! – словами команды попытался я оторвать себя от легкомысленных дум и вдруг рассмеялся – у одного из юнкеров выпал из-под мышки несомый им хлеб. Смущенный своею неловкостью, юнкер выскочил из строя за покатившейся по серому глянцу цементной мостовой буханкой хлеба.
– Куда? – завопил отделенный командир. – Из строя, без разрешения? На место!
«Ха-ха-ха…» – смеялись юнкера. «Ха-ха-ха!» – заливались, обрадовавшись случаю, остановившиеся на тротуаре две девушки, по костюмам и кричащим манерам определенно принадлежавшие к категории заблудших созданий.
– Да, посмяться есть отчего, – говорил я фланговому юнкеру, – юнкера в боевой готовности, и с хлебами под мышками, и на Морской.
– Остановитесь! – догоняя меня, быстро отдал распоряжение военный комиссар. – Оставайтесь здесь, я зайду на телефонную станцию попытаться произвести смену находящегося там караула, который, по полученным сведениям, перешел на сторону ленинцев, – сообщил мне свое намерение военный комиссар.
Я остановил полуроту. Пока военный комиссар переходил улицу, к нам подошел какой-то офицер и стал возмущенно рассказывать о том, что сегодняшней ночью у Петроградского коменданта из стола выкрали пароли и отзывы караулов Петроградского гарнизона. И вот сегодня в час смены на телефонную станцию проникли большевики. Но они еще скрывают это для того, чтобы перехватывать телефонные разговоры правительственных органов и членов Совета Республики.
Возбужденное описание нервно настроенным офицером казалось хотя и интересным, но крайне сомнительным. Особенно меня настраивал против рассказа вид рассказчика. Бегающие глаза, тонкий, визгливый голос, резко подчеркивавший простоту стиля фраз, и приказчичьи ухватки, заменявшие ему манеры, буквально били по нервам.
«Что-то нечистое здесь, – закопошилось в голове в результате интуитивного отрицания навязчивой убедительности особы в офицерской форме. – Не от вас ли узнал такую необычайную новость, господин военный комиссар? Боже мой, надо скорее его предупредить. Ведь он – сама наивность!»
– Они отказываются добровольно освободить телефонную станцию, – озабоченно проговорил военный комиссар. – И я решил произвести смену силою. Оставьте половину юнкеров с офицером здесь, приказав следить за воротами и окнами, а с другой половиной вы продвиньтесь вперед и уже с той стороны ворот ведите наблюдение за нею. Отделите мне нескольких юнкеров, и я попытаюсь с ними проникнуть на станцию. Землячки увидят, что с ними не шутят, и сразу сбавят тон. Там караульный начальник какой-то прапорщик; очевидно, он все и мутит, – высказал свои соображения военный комиссар.
«А кто ему подал пример и кто его этому научил?» – подумал я, услышав тон глубочайшего пренебрежения, с которым было произнесено: «какой-то прапорщик». Но забота выполнения полученного приказания оказалась сильнее всяких философствований, и я, отделив первое отделение 1-го взвода в распоряжение военного комиссара, начал производить по улице соответствующее передвижение для получения лучшего надзора за зданием телефонной станции, а в случае надобности и ее обстрела.
Прапорщик Одинцов-младший, оставаясь на том же расстоянии от здания телефонной станции, построил свой 2-й взвод 2-й роты поперек Морской, во всю ее ширину фронтом к Мариинской площади. Я же, перейдя с тремя отделениями 1-го взвода фасад телефонной станции, принял то же построение, но фронтом в обратную сторону, в сторону Невского проспекта.
Из безвинтовочных юнкеров я создал команду связи. Между тем военный комиссар с юнкерами 1-го отделения 1-го взвода подошел к воротам станции, но они оказались уже запертыми. И я, стоя на тротуаре, впереди правого фланга своего взвода, старался предвосхитить у военного комиссара выход из создавшегося положения, которое, наконец, меня убедило, что на телефонной станции действительно находятся приверженцы Ленина и КО. «Вот у кого надо, оказывается, учиться энергии. И откуда только у них такое руководство? Интересно, как бы вы объяснили это теперь? – мысленно обращался я к всплывшей в памяти картине ночного совещания 19-го в «Колхиде». – Начало не дурное, – просмаковал я решительность действий господ подпольщиков. – Теперь дело за нами. Однако что же предполагает предпринять военный комиссар», – в нетерпении вглядываясь в окна и ворота станции, топтался я на месте.
Та-та-та-та – вдруг резко разрезался воздух визгливо стучащим свистом, родившим представление о железных, зелено-темных и красно-бурых крышах домов, которые с силою полили металлическим градом, отчего переливающиеся дробью отзвуки становились коротко-сухими. Та-та-та-та – поплыла вдоль Морской новая волна дробящих отзвуков, отвеивая от себя какой-то захватывающий дыхание мысли холодок.
«Что такое? – пришел я в себя от мгновенной внезапности ударивших по нервам звуков. – Пулеметный огонь! Откуда? По нас?» И я быстро обернулся, ища пешего или конного врага в том конце Морской, который выходил на Мариинскую площадь. «Там бой», – мелькнула мысль, но под ощущением уловленных слухом новых, более близких, знакомых звуков, – представившаяся было в воображении картинка расстрела Мариинского дворца уплыла вдаль, а на месте ее родилась большая тревога, колко жавшая сердце. «Это стреляют по юнкерам. Стоять так нельзя. Слишком большая цель…» – работала мысль.
– К стенкам домов! Далеко не распространяться! – крикнул я приказание юнкерам.
Тревожное недоумение, сковавшее было юнкеров, мгновенно прошло, и они, повинуясь словам команды, вмиг рассылались по тротуару, становясь спинами к стенкам домов.
– Зарядить винтовки! – вслед отдал я приказ, в то же время соображая, куда лучше стать самому, чтобы не выпустить из рук командование полуротой.
«Никто не упал – значит, стрельба демонстративная и в воздух. Но где же военный комиссар и его юнкера?» – окидывая взглядом улицу, точно по мановению волшебного жезла ставшую жутко пустою, спрашивал я себя. Но в первые секунды осмотра сторон улицы я его фигуры не находил. «Что такое? Неужели я так растерялся, что не вижу военного комиссара», – мелькало в голове. Но, замечая в то же время, как нервно прижимались некоторые из юнкеров к каменным стенам домов и стальным жалюзи, спустившимся на окна витрин, что придало этому участку Морской впечатление глубокой, холодной могилы, – во мне проснулось чувство дикой обиды и злобы.
«Воспользоваться горячностью порыва молодых сердец и без сожаления принять их безрассудочное самопожертвование. Ужасно! Ведь некоторые не умеют заряжать винтовки, – содрогалась мысль при виде, как один юнкер тщетно старался утопить патроны в магазинную коробку винтовки. – Как куропаток перестреляют нас из окон и с крыш, если только окажется это им выгодным и если есть достаточно для этого средств. Проклятие! Какое жалкое, унизительное положение! Хотя бы открыли настоящий огонь и убили бы меня», – со злобой вглядываясь в чердачные окна, смалодушничал я.
– Ах, вот и комиссар! – И я пошел навстречу к нему, идущему ко мне. – Я все не могу определить, откуда и где стрельба. Боюсь, что на Мариинской площади бой идет. Не отправиться ли туда? Здесь сейчас ничего так не сделаешь! – обратился я к нему.
– Ничего, это пустяки. Вы приведите в больший порядок юнкеров и продолжайте осаду станции. Огня не открывайте, пока они сами не станут стрелять по вас. А я отведу ту часть юнкеров к углу Невского, чтобы не допустить сюда могущих явиться на выручку караулы красногвардейцев. Я убежден, что на станции сейчас переполох, так как не могут они знать, кто открыл стрельбу и кто берет верх, а видя, что здесь находятся юнкера, они даже скорее решат, что их дело проиграло и они сдадутся, – говорил мне военный комиссар.
– Слушаюсь! – отвечал я с радостью, черпая в словах военного комиссара уверенность, что эта стрельба идет со стороны верных долгу частей, выполняющих, очевидно, порученную им задачу.
«Наверное, гвардейский экипаж или семеновцы очищают Мариинскую площадь от демонстрирующих толп, – заработало мое воображение. – Надо будет и в сторону площади принять меры предохранения. И если сюда бросятся бегущие толпы, то заарестовать. А чтобы было удобнее и планомерно это выполнить, займу углы Гороховой», – принял я решения и пошел передавать соответствующие распоряжения начальникам отделений.
Через несколько минут стрельба затихла. А еще спустя немного времени на улице появились любопытствующие и случайные прохожие. Юнкера с винтовками наготове бодро обменивались замечаниями, внимательно глядя со своих мест на углах улиц Морской и Гороховой вдоль них и следя за воротами и окнами станции. Я же с гордостью расхаживал по цементной мостовой. «Больше непринужденности в виде! – говорил я себе. – На тебя смотрят не только юнкера, но и землячки караула. И чем ты спокойнее и довольнее, там страшнее им», – продолжал я кокетничать с собою.
«Но, черт возьми, какая гладкая мостовая. Вот бы наши кирки-мотыги, и устроить бы здесь окопчики для пулеметов. Ах да, пулеметов. Надо послать донесение к начальнику школы, что мы перешли к боевой задаче, и попросить прислать пулеметы и пироксилиновых шашек для взрыва ворот телефонной станции». И я, вызвав юнкера связи, передал ему написанное донесение для доставки в Зимний дворец.
Эта моя мера вызвала еще большее оживление у юнкеров, и я с наслаждением наблюдал за все растущим усвоением создавшегося положения. «Молодцы друзья», – созерцая выражения лиц, мысленно подбадривал я их, по временам произнося те или иные замечания.
Расхаживая таким образом по улице, я одновременно не упускал из внимания закрытых ворот станции. «Что-то там творится. Пожалуй, военный комиссар прав, и там теперь каются в своем промахе и обсуждают, как исправить свой поступок. Не хотел бы я быть на вашем месте, – всматриваясь в окна, соображал я. – Ага, отворяется дверца в воротах – уж не делегация ли?» – мелькнуло радостное предположение, и я сделал несколько шагов вперед к воротам, приглашая юнкеров к усилению внимания.
Юнкера, стоявшие по сторонам ворот, взяли винтовки на изготовку. Я потихоньку расстегнул кобуру, а затем руки засунул в карманы.
«Ну-с, выходите», – внутренне торопил я, жадно впиваясь в расширяющуюся щель отворяемой вовнутрь двора двери. Наконец высунулась круглая голова на короткой шее. Глаза напряженно забегали, осматривая улицу. Затем голова на мгновение обернулась назад, показав коротко подстриженный затылок, и снова повернулась к нам, подавшись вперед, обнаруживая плечи с офицерскими прапорщичьими погонами.
– Выходите, прапорщик, – любезно предложил я, – юнкера стрелять не будут, – предупредительно добавил я, видя, как глаза его косились то вправо, то влево на винтовки юнкеров.
– Посмотрел бы я, как вы стали бы стрелять! – задорно крикнул он. – Ступайте вы лучше по домам, пока не поздно, а то будет худо! – продолжал он.
– Тише, прапорщик! Больше спокойствия. Вы же видите, что с офицером разговариваете! Нечего дурака ломать! И поверьте мне, право, лучше будет и более достойно для вас, если вы добровольно впустите нас на станцию. Подумайте хорошенько над тем, что вы делаете и куда ведете людей!
– Что вы хотите? – меняя тон, задал он вопрос.
– Нести караульную службу на станции.
– Я ее несу…
– Я не знаю, как и почему вы ее несете, но мне приказано военным комиссаром при Верховном командовании армией сменить ваш караул.
– Дайте пароль и приказание коменданта – я не знаю, кто вы? – прищурился прапорщик. Сзади него раздался смех. – Тише, товарищи, мешаете разговаривать! – осторожно оборачиваясь, сказал он.
– Вы, очевидно, только сегодня налепили на себя погоны! – съязвил я.
– Неправда, я их получил на фронте, а не в тылу! – презрительно окидывая взглядом надетое на мне мирного образца пальто с серебряными погонами, съехидничал юный прапорщик.
– Жалею вас, что теперь вам приходится их пачкать изменой присяге!
– Неправда, я не изменяю присяге, и я иду за народом, а это вы продались прислужникам капитала, одевшимся в социалистическую тогу. Эта вы губите народ. Э, да что с вами толковать! Убирайтесь подобру-поздорову, а то мы вам пропишем, где раки зимуют! – возбужденно махая револьвером, снова закипятился прапорщик.
– Послушайте, – не вытерпев, прикрикнул я на него, – я раз сказал уже, чтобы вы приличнее разговаривали… Что за хамская манера махать руками, – вынимая из кармана руку с портсигаром и беря из нею папиросу, продолжал я. Мое внешнее спокойствие подействовало на него, и он опустил револьвер.
– Вот что, – заявил он, – я даю вам пятнадцать минуть на размышление. И если через 15 минут вы со своими юнкерами не уйдете, то пеняйте на себя! – закончил он и исчез за дверью.
Я закурил вынутую папиросу. «Что же, однако, делать? Так стоять – это скучно. А любопытно, что делается сейчас на Мариинской площади? Пулеметы молчат и лишь идет одиночная ружейная стрельба. Черт возьми! Наверное, много убитых. Эх, Ленин!.. А еще идеалист. Идти к осуществлению земного рая по трупам людей и лужам человеческой крови! Ничего тогда твой рай не стоит! Шулер ты политический, а не идеолог!» – снова вернулось философское настроение ко мне.
– Ну, что у вас? – подходя ко мне, задал вопрос военный комиссар.
– Да вот, пробовал убеждать караульного начальника согласиться на смену; но он, в свою очередь, требует, чтобы мы ушли, и дал четверть часа на размышление. А что, нового ничего не слышно? – в свою очередь заинтересовался я.
– Не важно. Многие части держат нейтралитет. Некоторые же примкнули к восставшим. Рабочие Путиловского и Обуховского заводов идут в город. Надо станцию скорее взять. Во что бы то ни стало ее надо занять, а то операционный штаб восставших слишком широко пользуется телефонной сетью, и наоборот – правительственные органы лишились этой возможности. А стрельба затихает, – заметил в раздумье военный комиссар.
В этот момент появился юнкер связи от прапорщика Одинцова и доложил, что на Невском появились какие-то патрули и что на Мойке у мостов рабочие начинают строить баррикады.
Услышав доклад, военный комиссар сразу оживился.
– Продолжайте убеждать сдаться – а я пойду узнаю, в чем дело, – заторопился он.
– Слушаюсь. Разрешите потребовать на всякий случай из Зимнего дворца подкрепление, по крайней мере вторую полуроту. Пулеметы и пироксилин я уже вытребовал! – доложил я.
– Попробуйте. Не думаю, чтобы было что присылать. Смотрите же, первыми огня не открывать. Это может все дело испортить. Потом будут кричать, что мы первые открыли стрельбу и что мы идем по стопам старорежимных городовых: стреляем в народ, – закончил военный комиссар и быстро зашагал к Невскому.
«Это черт знает, что за двойственность! Там – стрельба, а здесь не смей, а то кто-то какие-то обвинения предъявит. Да ведь раз мы введем порядок, то кто же откроет рот? Или как после июльских дней будет?! Комедианты проклятые!.. Там стрельба, а здесь жди, чтобы тебя сперва убили… Что за чертовщина – ничего не понимаю! Ну ладно, пришлют пироксилин, на собственный страх взорву всю станцию к черту! – злобствовал я и принялся писать новое донесение начальнику школы и капитану Галиевскому. Донесения на этот раз я написал в двух экземплярах. – Черт его знает, что творится, – заработало во мне сомнение. – Может, и донесения еще не должны попадать по адресу? Пошлю двумя дорогами двух юнкеров: это будет надежнее». Сказано – сделано!..
Через минуту юнкера связи, получив категорическое приказание передать донесения в собственные руки по назначению, уже скрывались вдали: один в направлении Невского, а другой в обход, по Гороховой, через Александровский сад.
Прошло еще несколько минут, и из одного из окон станции раздался голос прапорщика:
– Слушайте, убирайтесь! А то нам надоело ваше присутствие. Смотрите, если через три минуты вы не уйдете, то перестреляем вас, как собак!..
– Ах ты, сволочь этакая! – вскричал я и, выхватив револьвер из кобуры, взмахнул его на взвод.
Но прапорщик скрылся.
«Черт его знает, что такое, – нервничал я, шагая по тротуару. – Черт, а хочется есть! – замечая валяющиеся на дороге куски хлеба, брошенные юнкерами, вспомнил я о еде. – Ведь я сегодня так ничего и не ел. Даже рюмки водки не успел выпить!.. А что сейчас в школе творится? Шумаков, пожалуй, спит в дежурке, а нестроевые пьянствуют и жарят в карты. Хорошенький результат дала революционная дисциплина!» И размышления поплыли одно за другим…
На улице, через наши цепи хотя и редко, но все же продолжала проходить публика. Видно было, что улица уже привыкла к нам: мы уже достаточное время болтались на ней.
Но вот со стороны Невского показался броневик.
– Броневик идет!.. – раздалось несколько возгласов доклада с места.
– Вижу, – отвечал я. – Это, наверное, наш. У Зимнего дворца, когда мы уходили, я видел, как появились две матицы. Очевидно, одну из них и посылают нам на поддержку!
– Никак нет; это броневик восставших – это я хорошо знаю. Я видел сегодня брата из броневого дивизиона. И он говорил, что часть дивизиона объявила нейтралитет, а часть перешла на сторону восставших, – сообщил неприятную новость один из юнкеров.
В этот момент подбежал юнкер связи от взвода, отошедшего к углу Невского и Морской, и доложил о том, что приближающийся броневик пришел со стороны Невского и что военный комиссар требует спокойствия.
– Внимание! – крикнул я юнкерам, выслушав доклад. – Если я выстрелю, открыть по нему огонь. Без этого же моего сигнала Боже сохрани стрелять! Возможно еще, что это наш!
Броневик приближался.
«Если откроет огонь сейчас, то подрежет колени. Значит, пускай юнкера стоят, – работала напряженная мысль. – Чего он едва тащится? Нет, это не наш! Наш был бы с офицером, а офицер не позволил бы продолжать напряжение в наших рядах и дал бы о себе знать. Да, да… нет сомнения – это восставшие. Черт! Что он хочет? Неужели откроет огонь по верхней части туловища! Ох, успею ли положить юнкеров? О, мука какая! Стрелять в него нет смысла – не прошибешь! Снять юнкеров и увести от бессмысленного расстрела», – мелькнуло раздумье.
«Что ты? Обалдел? Бежать будешь? Стыдись! Но как он медленно ползет! Сволочь, издевается! Ладно, издевайся, а я покурю, но остановись и выйди кто только из машины – застрелю», – затягиваясь папироской, давал я себе обещание.
Броневик приблизился. Глазки были открыты, оттуда велось наблюдение.
«Ладно, смотри, не смотри, а с места не сойдем!» – с трудом удерживаясь от желания вести наблюдение за дулом пулемета, твердо говорил я себе, попыхивая папиросой.
Но вот броневик поравнялся с воротами телефонной станции и остановился. Через секунду из ворот выскочил прапорщик и, подойдя к машине, о чем-то переговорил в боковой глазок с находящимися внутри машины. Переговоры продолжались не долее минуты. Кончив говорить, прапорщик исчез, а машина, вздрогнув, снова тихо поползла вперед… к нам.
«Пройдет мимо нас, повернется – и тогда…» – начали было наслаиваться в голове комбинации возможных действий бронемашины, как ее новая остановка оборвала их. «Ну, начнется, – решил я. – В живот или в голову?» – вырос вопрос, и я взглянул на дуло пулемета. Оно было накрыто чехлом.
– Сволочи! – выругался я. – Насмехаетесь вы, что ли? – И я было шагнул к машине с желанием выяснить, что же, наконец, они собою представляют, как скрип передовых рычагов и начавшийся ход машины назад с заворотом зада корпуса в ворота станции остановил меня.
Вот открылись ворота, и машина медленно вошла под арку. «Почему они медлят? Хорошо медлят! – сейчас же ответил я себе. – Заняли уже станцию своим караулом. Прислали на помощь броневик и строят на улицах баррикады. Вот мы медлим. Мало того – идиотов-ротозеев из себя изображаем!» – негодовал я на пассивность действий военного комиссара и Зимнего, откуда все еще не присылали просимый пироксилин. «Скорее бы его получить, тогда машину подорву уближенным снарядом, приспособленным хотя бы к штыку винтовки, которую и подсуну под броневик», – размечтался я, как ко мне подошел портупей-юнкер Гаккель, бывший студент Института путей сообщения, и попросил разрешения высказать свои соображения.
– Пожалуйста, говорите, я слушаю вас, – дал я согласие.
– Разрешите доложить, что юнкера очень смущены нашей бездеятельностью. Сколько времени мы стоим здесь, и дождались того, что уже броневик прибыл. Некоторые опасаются, что здесь кроется провокация.
– Что за вздор! Вы же видите, что я связан повиновением военному комиссару. Он распоряжается здесь! – с негодованием, горячо запротестовал я против усмотрения в моих действиях чего-то нечистого.
– Ради Бога! Господин поручик, ваше поведение, наоборот, только и поддерживает настроение и повиновение вам, – торопливо ответил портупей-юнкер. – Я к вам потому и подошел, что знаю вас. Вы же тоже знаете, что я был на фронте и георгиевский кавалер и что, конечно, поэтому мне непонятна малодушная тактика какого-то комиссара, который сперва нас поздравил с почетным назначением в караул Мариинского дворца, а затем, зная об отсутствии патронов и неопытности наших юнкеров, держит нас уже столько времени перед станцией. Если он не решался занять ее раньше, то как же он займет ее теперь, когда там броневик? Нет, здесь если не зло скрывается, то глупость, господин поручик, – серьезно и резонно докладывал портупей-юнкер.
«Черт вас возьми! – неслось у меня в голове. – Что вы мои мысли читали, что ли?..»
– Но что же делать, дорогой, – надо ждать, – дружественно заговорил я. – Я послал четыре донесения с просьбой о высылке пироксилина и подкрепления, которое думаю послать на Мойку для снятия баррикад. И я думаю, что скоро мы получим и то, и другое, а тогда я буду действовать на свой страх и риск.
– Вот, это прекрасно, господин поручик; простите, что беспокоил вас, – довольно ответил портупей-юнкер.
В этот момент вдруг Морская заголосила на всевозможные лады.
– Что такое? – повернулся я в сторону визга и истерического крика. – Женщины? Откуда они взялись? Ах, с телефонной станции!
– Это телефонные барышни. Очевидно, их выпроводили в намерении открыть уже боевые действия, – высказал свое соображение портупей-юнкер Гаккель.
Между тем вой, истерический вой, вырывавшегося из ворот станции потока барышень все усиливался. А почти пустынная Морская сразу запестрела различными бегущими, прыгающими нарядами и шляпками.
Юнкера, наблюдая картинку печального бегства, искренне захлебывались от смеха, на который более пожилые барышни отвечали кто усовещанием, а кто карканьем беды.
– Нашли над чем смяться! – кричали одни. – Вы бы посмотрели, как с нами обращались! Это не люди!..
– Уходите вы поскорее отсюда. Вас губят нарочно. Весь город в руках Ленина. Все части перешли на его сторону. А вам здесь готовят западню.
– Господин офицер, – принялась тормошить меня одна длинная и сухая, как палка, барышня. – Вся станция полна ими. Они через какой-то ход с Мойки, что ли, набираются. А что они делают с проводами! Многие войсковые части не знают, в чьих руках телефонная станция, а нам запрещено говорить… за каждой по солдату стоит. Военная часть просит телефон Главного штаба, или коменданта, или Зимнего дворца, а они какой-то свой дают. Поэтому многие части не знают правды. Я сама слышала, как они смеялись, что одно военное училище убедили в том, что Ленин и его компания уже арестованы и что юнкеров можно отпустить в городской отпуск. Одна барышня передала знакомым, что у нас большевики, так ее чуть не убили!.. Уходите отсюда и юнкеров спасайте – все равно ничего не сделаете. Продали Россию! – рыдая, кончила барышня и побежала дальше.
Я стоял как истукан.
– Господин поручик, – подбежал ко мне портупей-юнкер Гаккель, – с вами хочет говорить один француз!
– В чем дело? Кто хочет говорить? Какой француз? Давайте его сюда! – ответил я.
– Господин лейтенант, – подходя ко мне и приподымая котелок, заговорил элегантный штатский на французском языке, – господин лейтенант, я секретарь второго атташе французского посольства, – отрекомендовался он. – Я сейчас иду с Садовой по Гороховой. На Гороховой и на Мойке, у Государственного банка, много рабочих, и они сейчас идут на баррикады, которые их товарищи начали строить перед мостом через Мойку на Гороховой. Рядом лежат и пулеметы. А когда я вышел на угол Морской и увидел юнкеров и спросил, что они делают, то я понял, что вам с тыла грозит опасность. Я только хотел из чувства любви к вашему прекрасному, но больному сейчас народу предупредить вас об этом. Будьте осторожнее, и дай вам Бог всякого благополучия! – пожимая мои руки, протянувшиеся к нему с благодарностью, кончил он свою медленную, видя, что я с трудом вникаю в смысл, речь. – Можно мне пройти здесь? Мне надо на Невский, – спросил он, указывая рукою вдоль Морской.
Я предупредил его, что это теперь небезопасно, так как поток барышень кончился и над Морской висело уныние пустоты.
– О, ничего! Я не боюсь. Я очень спешу, и у меня нет времени обходить!
– В таком случае, пожалуйста, разрешите просить вас все, рассказанное вами мне, передать офицеру, находящемуся на углу Невского. И скажите, пожалуйста, ему, чтобы он доложил об этом в Зимний дворец и военному эмиссару. Спасибо еще раз, – поблагодарил я его.
– О, пожалуйста! Счастлив быть полезным. Я ваше поручение выполню, господин лейтенант. Можете быть спокойным. До свиданья! Всякого успеха! – И, приподняв котелок, он быстро засеменил по Морской к Невскому. Пройдя последнего юнкера, он опустил котелок на голову, а затем и скрылся.
«Что делать? Что делать?» – стучало в висках. Мысли путались, и голова горела. «Пропали! Бедные вы, – сквозь слезы смотря на юнкеров, думал я. – Увести вас я не могу. Делать что-нибудь тоже не могу, потому что не знаю, что мне с вами делать, такими жалкими и бесполезными. Бедные ваши жены, дети и матери!» И я, если бы снова не подбежал портупей-юнкер Гаккель, наверное, разрыдался бы; так была сильна спазма, сжавшая горло…
– Господин поручик, с Мариинской площади идет грузовик с рабочими. Разрешите его задержать. Я сниму шофера, сяду за руль и подведу его к воротам станции. Загорожу дорогу броневику! – восторженно сияя от пришедшей идеи, выпалил портупей-юнкер.
– Прекрасно! Спасибо! Скорее!
– Стой, стрелять буду! – Наперерез грузовику бросился я и портупей-юнкер.
Юнкера тоже взяли винтовки на изготовку. Грузовик остановился.
– Слезай! Живо! – начал дальше распоряжаться портупей-юнкер, а я снова вернулся на свое место, чтобы наблюдать за воротами станции.
Рабочие слезли без сопротивления. Шофер же начал ругаться, но портупей-юнкер ударом приклада в плечо лучше слов убедил в безнадежности его положения, и он с извинениями стал слазить со своей машины.
Менее чем через минуту машина проплыла мимо меня под тихое и внешне спокойное приветствие юнкеров. Еще несколько секунд, и огромный грузовик, въехав правыми колесами своей тележки на тротуар, почти вплотную к стенам домов, закрыл собою вход в ворота и остановился. Остановив машину, портупей-юнкер Гаккель спокойно сошел с нее и, что-то покрутив в коробке скоростей, со скромностью, достойной скорее институтки, чем боевого солдата, направился ко мне.
– Господин поручик! Ваше приказание исполнено! – мягко и легко останавливаясь передо мною, бодро и весело доложил портупей-юнкер Гаккель.
– Сердечное спасибо, славный и чуткий друг! – растроганно поблагодарил я его.
– Рад стараться, господин поручик! Господин поручик, разрешите я эту машину туда же, – снова попросил портупей-юнкер.
– Где? Какую? – озадаченно спросил я.
– А вот вторая идет. Черти, флаг красного креста нацепили, а сами, наверное, оружие перевозят.
– А, черт с ним, с флагом. Арестуйте и эту машину, и туда же! – в восторге от набежавшей мысли, что начинает везти, отдал я приказ.
Так же чисто и быстро была поставлена рядом с первой, но перпендикулярно к ней и вторая машина.
Эта комбинация с машинами дала мне возможность произвести некоторую необходимую перегруппировку моих малочисленных сил.
А когда я кончал производить ее, ко мне явился юнкер связи из Зимнего дворца с сообщением от капитана Галиевскаго. Сообщение было радостное, и я им поделился с юнкерами.
– Капитан Галиевский выслал нам подкрепление, которое, по получении пулемета и пироксилина, уже скоро явится сюда. Теперь и взорвать станцию будет много легче, – показывая на машины, говорил я юнкерам.
– Затем во дворце получены сведения, что в город вошли казачьи части генерала Краснова. Первые эшелоны уже заняли, кроме Царскосельского вокзала, еще и Николаевский вокзал, – докладывал юнкер связи, мой любимец, юнкер 2-й роты И. Гольдман.
– А сейчас, когда я проходил через Невский на улицу Гоголя, – я слышал стрельбу по направлению Казанского собора, – очевидно, это с Николаевского вокзала ведут наступление казаки, – с довольным видом докладывал свои соображения юнкер в ответ на мою справку, что за стрельба доносится со стороны Невского.
«Ага, теперь понятно, почему так долго не показывается милейший прапорщик. Ну-ну, посмотрим, что будет!» – работала мысль.
– А что, не видали вы военного комиссара, поручика Станкевича?
– Никак нет, господин поручик!
– А как же вы прошли? Ведь он должен быть на углу Морской и Невского!
– По маршруту, данному капитаном Галиевским: Александровский сад, улице Гоголя и Кирпичному переулку, – отвечал юнкер связи, на мгновение озадачивая меня сообразительностью хитрого капитана.
«Так, так, капитан что-то чует, что дает кружной путь. Эх ты Господи, что-то будет дальше?»
– А что, начальника школы не видали? – снова поинтересовался я.
– Никак нет. Его страшно рвут. То зовут на заседание правительства, то в Главный штаб.
– Броневик идет со стороны Мариинской площади! – раздался доклад с места.
«Новое дело!» – ударила по мозгам мысль, и снова стало тепло под левым соском.
– Внимание! Приготовься! – крикнул я юнкерам.
На этот раз машина шла быстро. В глазки двойной башенки осмотрели дула пулеметов. Пройдя мимо нас, машина замедлила ход. Дула пулеметов задвигались.
«Ну, теперь каюк», – струсил было я, но машина, продолжая двигаться, молчала. Доползя до наших заграждений, машина остановилась.
Вслед за этим со стороны Невского подошла вторая машина. Из этой последней машины выскочило трое человек и, обойдя наши заграждения, подошли к первой. Переговорили. Двое направились в ворота станции. Дверь в воротах открылась, и эти двое вошли в нее.
«Что же теперь будет? Пока казаки генерала Краснова дойдут, от нас ничегошеньки не останется. А, черт, что будет, то будет!» – тупо работала уставшая мысль. Болела голова, ныли ноги. Хотелось сесть. Закрыть глаза и так сидеть. И, поддавшись чувству бесконечной усталости, я уперся плечом в стенку, лениво смотря на броневики и на ворота станции.
Снова вышли из ворот те же люди.
– Гей, юнкера, отпустите шоферов, да живо! – крикнул один из них.
Шоферы, никем не охраняемые, так как я и не думал их арестовывать, а только отобрать у них машины, болтались тут же. И теперь, когда услышали зов, со всех ног бросились к своим машинам.
Побитый шофер попытался было начать какие-то разговорчики с одним из распоряжавшихся, но моментально отказался от пришедшего намерения. Причина, которая его побудила к этому, – был увесистый кулак, поднесенный к его подбородку.
– Живо поворачивайся, скотина. Тебя ждут там, а ты прохлаждаешься, сволочь! Ну-ну, живо! – И шофер бомбой отпрыгнул к своей машине.
Через минуту грузовики исчезали в направлении Невского. Броневики продолжали стоять. На нас не обращали внимания.
«Что такое? – недоумевал я. – Они ждут, очевидно, приказаний. Но почему не трогают нас? Да я бы за проделку с грузовиками давно уже расправился бы, да так, что никто ноги не унес бы, – злился я за пренебрежете к нам. – Нет, они нам что-то готовят, но что? А не все равно тебе что? Они в данном случае господа положения. А ты свою роль окончил. Как глупо начал, так глупо кончил. Ну, затянул Лазаря! Подожди, авось что-нибудь изменится». И в этот же момент первый броневик начал идти к Невскому.
А вслед за его уходом на тротуаре показалась штатская фигура военного комиссара.
«Что такое? Ты мило гуляешь? Или я с ума сошел! Ничего не понимаю! Что за чушь творится?!» – гудело в голове.
– Соберите юнкеров и постройте их, да быстрее. Я согласился прекратить осаду. За что получил свободный проход для юнкеров, – проговорил, подойдя ко мне, не смотря на меня, комиссар.
Я не ответил ни одного слова.
Через 2–3 минуты мой оставшийся взвод уже равнялся, строясь на Гороховой улице. С баррикад на мосту через Мойку на нас смотрели пулеметы.
– Смирно. Направо. На плечо! – ровно командовал я, как будто это обычное занятие на дворе школы. – А второй взвод тоже уже ушел? – задал я вопрос.
– Не знаю, но я думаю, они сами догадаются это сделать, увидя, что мы ушли, – ответил наш злой гений.
– Шагом марш! – скомандовал я. Взвод пришел в движение.
– Если бы юнкера не были бабами, все дело пошло бы иначе, – вдруг бросил злое, глубоко несправедливое, недостойное обвинение достойный друг главноуговаривающего.
Чтобы не отяготить своей души, я, вместо ответа, стал подсчитывать ногу.
Пересекая улицу Гоголя, я чуть было не вздрогнул: поперек улицы стояла команда матросов с винтовками на изготовку.
– Раз, два!.. Ногу тверже!.. – с упорством крикнул я слова команды, маршируя дальше, чутко вслушиваясь в воздух в стремлении услышать щелканье затворов.
Но в воздухе стояло мерное отсчитывание шага моего взвода.
– Левое плечо вперед! – выходя к Александровскому скверу, подал я команду, с облегчением уводя взвод от тяжело-нудной атмосферы Гороховой, принесшей столько разочарования, стыда, и боли.
Поравнявшись с Невским, я, все же боясь, что 2-й взвод, может быть, продолжает стоять на Невском, отправил к прапорщику Одинцову юнкера связи с приказанием идти в Зимний дворец.
Еще несколько минут, и мы вышли на площадь. Разнообразные чувства волновали душу, когда мы направлялись к Зимнему дворцу, где мерещились упреки, насмешки, и чувство горечи к виновнику наших напрасных переживаний неудачи сразу выросло в дикую ненависть и презрение. Вот и памятник, уходящий в густоту нависших сумерек спустившегося на город вечера, а несколько дальше к Миллионной стоят каких-то два броневика.
Увидев нас, броневики вздрогнули и мирно поплыли к нам. «Наши – не наши? Э, разницы нет. Обнюхаете нас и вернетесь на свои места. Сегодня игра в кошки с мышками – ведь здесь военный комиссар!» – проиронизировала мысль серьезно-сосредоточенный осмотр машинами нас. Однако юнкера, задетые за живое тактикой поведения машин, обратились с вопросами, что они делают, на чьей стороне. Ответ был самый неожиданный: «Мы держим нейтралитет. Но выехали в город с целью препятствия боевым стычкам между обеими сторонами. Войска драться между собою не должны. Пускай правительство и штаб Ленина идут на соглашательство или дерутся между собою. Таково наше, бронедивизиона, решение. И вы можете себе идти во дворец, но если будете нападать первыми, то мы будем против вас».
Но вот мы подошли и к дворцу.
Я остановил юнкеров и послал связь к капитану Галиевскому с докладом о нашем прибытии, поручив также узнать, явился ли уже прапорщик Одинцов-младший со своим взводом, – на площади его не было, а по времени он должен был бы тоже подойти. Вообще, на площади было тускло и пусто, как и в момент нашего прихода. Также продолжали нелепо-разбросанно лежать дрова перед дворцом, наводя мысль на воспоминания о баррикадах. «Но почему не видно приготовлений к устройству наружной обороны? Вот из этих брусьев можно сделать отличные баррикады. Великолепно можно использовать слева решетку сада. Затем все окна первых этажей. Кроме дворца, безусловно занять и привести к оборонительному состоянию Главный штаб, Министерство финансов и иностранных дел, прорыв под аркой к Невскому глубокую канаву, и заложить мину, если не взводный окоп устроить. Затем надо использовать и здание Главного управления Генерального и Главного штабов. Где же офицерство этих всех учреждений? Или оно уже на выполнении какой-либо задачи? А дадут ли нам еще какую-нибудь задачу или теперь мы останемся за флагом? Конечно, военный комиссар будет делать доклад правительству, и совершенно ясно, что доклад будет неблагоприятен для юнкеров и вреден для освещения обстановки момента», – мучительно рвали голову печальные выводы о знакомстве с деятельностью и способностями представителя правительства при Верховном командовании.
– Господин поручик! – раздалось обращение, заставившее вернуться к ощущению мелкой действительности, окружавшей нас. – Господин поручик! Капитан Галиевский приказал ввести юнкеров во двор и присоединиться к батальону, а затем вам явиться к нему, а где он находится – я вас провожу. Прапорщика Одинцова с юнкерами во дворце нет. Их, по докладу убежавших юнкеров и некоторых офицеров штаба, очевидцев, окружили солдаты Павловского полка, рабочие и броневики, и взяли в плен. Причем страшно издевались и били юнкеров. Куда их увели – неизвестно… – возбужденный печальной новостью о судьбе товарищей, торопливо доложил вернувшийся юнкер связи.
Вздох горести и краткие восклицания, вырвавшиеся у юнкеров, разрядили было нависшую атмосферу молчания, в которой мы ожидали возвращения из дворца связи.
Гул голосов рокотом переливался под аркой, посреди которой стоял броневик.
– Это уже наш! – оживленно прокомментировали юнкера.
«Да, здесь все уже наше, – тускло мелькнула мысль. А где-то в глубине застонал червячок тоски: – Здесь и преступление наше, здесь и его искупление». Простонал и исчез. Дух бодрой решимости захватил меня при выходе из-под арки во двор, где, между высокими рядами сложенных в кубы дров, стояли козлы винтовок, с разгуливающими перед ними часовыми, а слева и справа торчали холодные черные дула трехдюймовых скорострелок. Весь двор говорил. И в этот говор вносилось резким диссонансом ржание лошадей. Налево от входа во двор, перед длинным рядом дров, оказалось место, отведенное для нашего батальона, куда я и подошел с юнкерами.
Наши юнкера в большинстве находились тут же: кто сидел на дровах, а кто прямо на цементной мостовой двора. Из офицеров никого не было видно. Когда я, поблагодарив своих юнкеров за их прекрасную службу, разрешил им разойтись из строя, мне сейчас же было сообщено окружившими нас юнкерами, что они не надеялись уже видеть нас. Это было трогательно, и я не замедлил использовать этот момент для подлития масла в огонь настроения борьбы, и борьбы активной.
– Не имеем права мы заниматься разговорчиками с теми, кто бил, а сейчас, может быть, умерщвляет наших товарищей, только за то, что те, будучи такими же детьми русского народа, как и рабочие и крестьяне, отличаются от них существенно знаниями, расширяющими кругозор миросозерцания, а потому во имя светлой истины великой правды берутся за оружие, но берутся не как за цель, а как средство отрезвления загипнотизированных ложью слова диких слуг безумного фанатизма нелепого учения, ведущего в ярмо кошмарного рабства.
Вы извините, что я, заболтавшись с вами, оторвал вас от вашего отдыха! – поставил я точку над своею беседою с юнкерами, которые, к моему большому внутреннему удовлетворению, слушали меня с большим вниманием. – А где господа офицеры? – спохватился я, видя, что беседа может затянуться, а между тем надо идти с докладом к капитану Галиевскому, о чем мне напоминала стоящая тут же фигура юнкера связи.
– Господа офицеры с некоторыми из наших юнкеров в Белом зале на митинге.
– Митинг? На каком таком митинге? – как ужаленный подскочил я с бревна, на котором с наслаждением сидел после нескольких часов стояния на ногах.
– Так точно. Самый настоящий митинг. Во дворец явились, для защиты Временного правительства, школы прапорщиков из Ораниенбаума, Петергофа, взвод от Константиновского артиллерийского, наша школа, и ожидается прибытие казаков. Сперва все шло хорошо. Но бездеятельность и проникшие агитаторы, а в то же время растущие успехи восставших вызвали брожение среди ораниенбаумцев и петергофцев. Их комитеты устроили совещание и потребовали к себе представителя от Временного правительства из его состава для дачи разъяснений о цели их вызова и обстановки момента. А когда разъяснения были выданы Пальчинским, то они объявили, за недостаточностью таковых, общее собрание для всего гарнизона Зимнего дворца. И вот уже с час митингуют в Белом зале, куда вышли все члены Временного правительства во главе с Коноваловым. Там такая картина стыда, – горячо докладывал портупей-юнкер Мащевский, – что я, сперва заинтересовавшийся причиной собрания, убежал оттуда. Друг друга не слушают, кричат, свистят. Не юнкера, не завтрашние офицеры, а стадо глупого баранья. Вы вот увидите, господин поручик, что за физиономии этих юнкеров: тупые, крупные и грубые. Уже по виду на них вы догадаетесь, что все это от сохи, полуграмотное, невежественное зверье… Быдло!.. – с дрожью в голосе едва сдерживал набежавшее желание разрыдаться от гнета впечатлений дикости картины, еще продолжавшей мучить этого стройного, хрупкого, нежного юношу. – Говорит Коновалов – председатель Совета министров Временного правительства, какое бы то там ни было правительство, но оно правительство твоего народа. И что же? Он говорит, а его перебивают. Коновалов так и бросил. Затем Маслов[19] выступил, ведь старый революционер; Терещенко принимался – вот этот красиво, хорошо говорил, а результат тот же. Ни к кому никакого уважения. Тут же и курят, и хлеб жуют, и семечки щелкают.
Я слушал с закрытыми глазами; меня шатало, тошнило; мысли путались… Наконец, забрав себя в руки, я справился о Керенском.
– Господь его ведает! Сперва скрывали от юнкеров даже пребывание Временного правительства. Говорили, что оно заседает в Главном штабе. Потом объявили, что находится здесь. И что принято решение вести оборону Зимнего дворца, так как восставшие предполагают его занять, как уже заняли весь город. О последнем, конечно, не говорят, а наоборот, усиленно лгут, что идут войска, что авангард северной армии в лице казачьих частей корпуса генерала Краснова вошел в город. Сперва объявили, что занят Царскосельский вокзал и Николаевский, что дало возможность прибыть эшелонам из Бологого и станции Дно. Затем, это было в три часа дня, – что казаки двинулись по Невскому и что только задержались у Казанского собора. Пока вы, господин поручик, были у телефонной станции, мы еще верили в правдивость этих сообщений. Но когда пошедшая к вам на подкрепление полурота, увидев, что на углу Невского и Морской происходит какая-то стычка, под охраной броневиков вернулась назад, нам стало ясно, что происходившая стрельба говорит о торжестве восставших и что здесь по инерции продолжают лганье. А вас мы было уже похоронили. И слава Богу, что вам удалось вернуться! – тихо, утомившись от возбуждения, закончил свое тяжелое описание портупей-юнкер.
Наступило молчание. Сгустившаяся темнота не позволяла видеть выражения лиц. И только звуки пощелкивания где-то выстрелов, оседавших во дворе, напоминали о необходимости действия, но тяжесть впечатления о взаимоотношениях членов Временного правительства и юнкеров, их защитников, – обволакивала туманом серых вопросов душу, сердце и нервы.
– Ну а пока, друзья, я пойду к капитану Галиевскому. Поручик Скородинский, – позвал я поручика, вышедшего под освещенную арку, справа из дворца.
– Кто меня зовет? – оборачиваясь, задал вопрос к нам в темноту длинный, изящный поручик.
– Это я, Александр Синегуб!
– А, здравствуйте, поздравляю с благополучным возвращением, – приветствовал он меня, как только я вошел в полосу света.
– Чего уж благополучнее, когда взвод юнкеров потерял. Зря время потеряли и людей! – повторил я. – Черт знает, голова кругом идет; вот что, поручик, останьтесь, пожалуйста, около юнкеров – мне надо явиться к капитану Галиевскому. Черт знает, ведь мы не в школе. Никого из офицеров нет около них. Мало ли какая сволочь начнет им засорять мозги, – попросил я поручика.
– Да, да, Александр Петрович, мне это самому в голову пришло, я и ушел с митинга. – Что, он все еще продолжается?! Безобразие, неужели никто его не догадается разогнать? Ну и правительство! – говорил я. – Удивительно слабое, хотя это понятно.
– Но в конце концов все же договорились, и юнкера обещали остаться, если будет проявлена активность и если информация событий будет отвечать действительности. Правительство обещало, и юнкера теперь расходятся, – сообщал поручик.
– А где начальник школы?
– Его рвут. Сейчас он в Главном штабе. Его правительство назначило комендантом обороны Зимнего дворца, и ему подчинены все, находящиеся в Зимнем дворце силы.
– Да, что вы говорите?! Слава Богу! Теперь я опять начинаю верить, что мы не погубим зря наших юнкеров и что что-нибудь да вытанцуется у нас. Ну, я бегу к Галиевскому. Где капитан?
– В комендантской комнате, первая лестница наверх, во втором этаже, сейчас же рядом с выходом, – ответил поручик, направляясь в темень двора.
«Броневик есть, а около него ни души», – почему-то вспомнил я, когда стал подниматься по ступенькам в темный вход. Юнкер связи, нащупав ручку двери, открыл ее. Перед глазами оказался длинный, сравнительно узкий коридор первого этажа.
В коридоре пахло тем запахом, который так присущ стенам казарм.
– Здесь караул помещался до революции, – сообщил юнкер связи, очевидно заметив, что я повел носом.
– А теперь где? – улыбнувшись наблюдательности юнкера, справился я.
– В Портретной галерее. Но часть и здесь. Здесь, от наружных ворот. А здесь налево – патроны выдают, – указал он первую дверь левой стороны.
– Постойте. А нам уже выдали?
– Никак нет. Патронов не хватило! Но теперь новые доставлены и их будут выдавать.
Но вот и капитан Галиевский. Я подошел с докладом.
– Александр Петрович! Очень рад, милый, вас видеть. Хорошо еще, что хоть так кончилось. С этими представителями власти у меня уже опухла голова. Но в добрый час теперь назначен комендантом обороны Зимнего. Вы уже знаете это? Да? Я очень успокоился душою, когда узнал, что назначили Ананьева[20]. Лишь бы не оказалось поздним это единственно разумное до сих пор мероприятие со стороны правительства и Главного штаба. Сколько и чего только, дружок, я вам не перескажу потом, вы диву дадитесь. Одним словом, я пришел к заключению, что Керенскому надо было передать власть Ленину. Но как это сделать? Подождите, вы сами в этом убедитесь! А ведь сам исчез, оставив несчастных дураков сотоварищей расхлебывать кашу, которой, пожалуй, подавятся, а никак не расхлебают. Правительство – это какие-то особенные люди. В частности, многие на меня произвели сильное впечатление. Я убежден, что их здесь обрабатывают самым бессовестным образом. Около них все время вертятся какие-то темные личности, да кое-кто и в среде их далеко от этих не ушел. Но все же оно дитя перед улизнувшим главноуговаривающим. Еще вчера, мороча людей в Совете Республики, в этом сборище козлищ, клялся умереть на своем посту, а сегодня, переодевшись, как рассказывают наши, сестрою милосердия, удрал из города. Учуял, что его песня все равно к концу идет. Так хоть бы чести хватило слово сдержать, других не подвести, так нет, он и товарищей предал. А те и сейчас все еще верят в него, а может быть… знают, да считают за лучшее молчать. Ну да я решил их по совести защищать. Александр Георгиевич тоже того же мнения. У нас решения не меняются, не правда ли? А если дать восторжествовать Ленину без сопротивления, то народ никогда не разберется, где черное и где белое, кто его друг и кто ему готовит ярмо беспросветного рабства. И вот для этого мы должны погибнуть здесь. И теперь я уже вижу, что это неизбежно, что нашим прежним расчетам не осуществиться. Что же делать, не мы – так другие, но начать мы должны. Да, тяжелая расплата за наш невольный грех. Это тяжело говорить. Лучше идемте, посмотрим, не пришел ли Александр Георгиевич, – вставая с диванчика комендантской комнаты, закончил Галиевский.
– Да, да, дорогой капитан, именно все так, как вы говорите. Вот если останемся живы, я расскажу вам о своих наблюдениях и выводах. А если бы Бурцеву[21] об этом рассказать. Старик стал бы волосы рвать за свое проклятое дело благословения революции. И хотя он начинает опоминаться последнее время, но это еще далеко от искренности: до нутра у него еще не дошло сознания. Ну да провались они все в болото. А вот мне патронов надо, господин капитан. У кого их можно потребовать?
– У вас полевая книжка есть, так вы напишите требование и получите в караулке, а я побегу посмотреть, что делается на площади у ворот. Место встречи – комендантская, – уже на ходу крикнул капитан.
