Читать онлайн Жизнь в России в эпоху войн и революций. Биографическая повесть. Книга первая: отец и моя жизнь с ним и без него до ВОВ и в конце ВОВ. 1928–1945 годы бесплатно
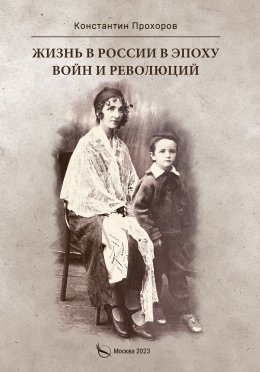
Предисловие
Приблизившись к последнему рубежу довольно длинной и многообразной жизни, я стал задумываться о ее результатах. Подумаешь, какая великая заслуга дожить до более 90-летнего возраста и даже не побывать на вой не. Да, мне лично не пришлось побывать на полях сражений из-за возрастных ограничений, но в молодости я был профессиональным военным и планировал посвятить свою жизнь защите Родины. Некоторые мои родные, друзья и знакомые прожили гораздо более трудную жизнь и раньше времени покинули этот мир, не оставив почти никакого следа.
Однажды мои сын или дочь, не помню, кто раньше, посоветовали: «Почему бы тебе, отец, не записать на бумаге всё то, что ты так увлекательно рассказываешь?» Я им рассказывал редкие увлекательные эпизоды, хотя ничего особо увлекательного, т. е. развлекательного, в жизни моего отца и моей не было, скорее просто выживание и преодоление постоянно возникающих трудностей. Однако я задумался и решил попробовать. Жизнь завершалась с ее неблагополучным началом и таким же продолжением почти до 40 лет, а потом после некоторой стабилизации она стала вполне терпимой на общепринятом среднем уровне и казалась мне после всех моих передряг даже вполне удовлетворительной и иногда даже довольно счастливой в некоторые периоды. Всё постигается в сравнении. В голод или в вой ну даже черствый кусок черного хлеба вкуснее пирожного.
Не избалованный жизнью человек даже обычную среднюю трудовую жизнь часто считает удавшейся и иногда даже счастливой в определенные ее периоды. Достигнув одного из таких периодов и перешагнув его, когда уже стал глубоким стариком-пенсионером, не привыкшим проводить свое время в праздности, я начал постепенно раскручивать жизнь отца, глубоко сожалея об утраченных мной возможностях в молодости ещё при его жизни в Москве до 1940 года расспросить его, когда он ещё иногда бывал со мной и мог бы гораздо больше рассказать мне.
Или после ВОВ, когда у меня ещё были некоторые бумаги, документы, рукописи, фотографии, переписка отца, которыми я так и не сумел как следует распорядиться или просто не знал, как. Не до этого было. Где та большая корзина и папки с бумагами отца? – задавал я потом сам себе вопрос, и отвечал – большая часть пропала в вой ну, когда я был в эвакуации.
Вообще, я не во всём виноват, и пришло время начать исправлять упущенное, если мои сын, дочь, внук и другие родственники так хотят видеть плоды моего труда и узнать, наконец, судьбу своих предков. Они тогда смогли бы узнать что-то о жизни своих ближайших предков: прадедов, дедов, прабабушек, бабушек, своих ближайших родственников и т. д. Только я, как единственное звено, связывающее их с отдаленным прошлым, мог бы предоставить им такую возможность.
Я долго колебался, следует ли мне начать эту трудную работу, но всё же решился и начал разыскивать у себя полузабытые бумаги отца, которые, возможно, ещё не были выброшены, нашел некоторые из них и начал изучать и расшифровывать, так как часть их была написана карандашом в тюрьмах, в пересылочных пунктах на случайных листках или клочках бумаги.
Вообще то, я считаю настоящей литературой только дневники, мемуары, воспоминания, автобиографии, рассказы, и пьесы, основанные на реальных событиях в жизни их авторов, а всё остальное выдумкой, фикцией (как кстати называется художественная литература на Западе – Fiction). Научная, учебная и техническая литература, конечно, занимает особое место.
В последние десятилетия после выхода на пенсию я с особым интересом читал именно дневники и воспоминания наших современников в России. Западные мемуары меня интересовали гораздо меньше.
После того, как я приступил к работе над художественной биографией отца и его окружения, я ее первоначально назвал «Воспоминания», но потом решил назвать биографической повестью с более широким охватом временного периода. Затем прошло значительное время – два или три года, прежде чем я, наконец, снова приступил к работе.
Здесь я хотел бы сделать некоторое отступление, чтобы покаяться в том, что из-за своей несобранности и некоторой слабости воли допускал значительные перерывы в несколько месяцев в работе над «Воспоминаниями», а потом уже превратил их в библиографическую повесть «Жизнь в России в эпоху войн и революций», включив туда и мою собственную жизнь, опять по совету моих детей, которые пристально следили за моей работой, часто помогая дельными замечаниями и исправляя допущенные ошибки.
Это были большие перерывы, учитывая мой теперешний возраст – более 95 лет. После последнего перерыва в 6 месяцев я вновь приступил к работе с 5 декабря 2019 года со сравнительно низкой производительностью около одной машинописной страницы в день.
В таком возрасте слабеет память и забываются подробности событий, а без подробностей события, всё равно, что еда без соли. Бездна забвения всё поглощает и некоторым средством против этого является работа в ночные часы (этого я не мог себе позволить), а также прокручивание событий в уме также ночью, когда ничто не отвлекает и всплывают в памяти забытые имена, поступки, дела…
Именно по последнему пути пришлось мне идти, чтобы мое описание жизни и событий не было пресным. Однако это не легко. Приходится жертвовать качеством сна. Может быть, мне надо было бы свой труд начать на 10 лет раньше, но на всё воля Господа…
В этой связи мне вспомнились слова Пушкинского летописца, «Но близок день. Лампада догорает. ещё одно последнее сказанье…» Лампада это та же коптилка, которую применяли люди в годы бедствий, войн и революций в деревнях и даже городах. Но средневековые и древнерусские летописцы – монахи исполняли «Долг, завещанный от Бога». Лучше, чем Пушкин об их мотивации не скажешь: «Недаром многих лет свидетелем меня Господь поставил и книжному искусству вразумил…» и «Когда-нибудь монах трудолюбивый найдет мой труд усердный, безымянный. Засветит он, как я. свою лампаду и пыль веков от хартий отряхнув, правдивое сказанье перепишет». Хотелось бы здесь подчеркнуть слово «правдивое».
В ночные часы трудились не только монахи-летописцы, но и некоторые известные писатели в современную эпоху, так как ночью не отвлекают мирские дела и оживляется память. Вот и я оживлял свою память, когда плохо спалось ночью, особенно перед рассветом, прокручивая в голове некоторые прошлые годы, вспоминая фамилии, имена, поступки и пр.
К чему я это всё пишу, а просто, чтобы напомнить, что древнерусский монах воспринимал свой труд, как подвиг во имя Господа. Для него написать правдивое сказанье было всё равно, что отдать свой долг Богу. Ему было легче и духовно, и возможно физически, так как это делалось во имя высшей цели – служения Господу, и прославление или даже поношение некоторых князей и воевод, как ведущих себя неподобающе, и они отдавалось им на суд Божий. Так мне всё это представлялось…
Современный человек, как я (непрофессиональный писатель), не движим столь высокими помыслами, и он может просто полагать, что его свидетельства о событиях, делах и жизнях конкретных людей в России в такую сложную, трудную, кровавую и переломную эпоху войн и революций, как 1900–2000 годы в России, могут быть интересны для историков, поучительны и полезны для современников и будущих поколений, независимо от их взглядов и предпочтений.
20-й век был таким сложным, противоречивым и кровавым, что в нем до сих пор не могут разобраться даже честные историки, что уж тогда говорить о простых и даже образованных смертных. Крестьяне, рабочие и та часть народа, которая не имеет хорошего общего образования, вообще блуждает в потемках и легко пойдет за любым краснобаем во власти, который пообещает лучшую жизнь без особого труда. усилий и образования, сплошные радости и развлечения. Конечно, всё это может быть преподнесено умело, иногда даже завуалированно и иносказательно. Попробуй, разберись, за кем идти, кому верить?
Книги воспоминаний и подобные труды современников, живших в эту эпоху или переживших ее, могут быть поучительны и интересны для людей, вступивших в 21-й век и не имевших четкого представления о прошлом. Они могут совершать такие же ошибки, как и их предки. Зачем менять шило на мыло? Может быть надо подождать, посмотреть, сравнить, а не бросаться за краснобаями и авантюристами. Конечно, иногда приходиться выбирать, не имея выбора.
В современном цивилизованном (капиталистическом) обществе, к сожалению, многое уже не зависит от воли народа и его чаяний… Всё теперь решают деньги, деньги и ещё раз деньги, а также политтехнологии, разработанные многочисленными преимущественно американскими научными институтами и успешно опробованными на практике, например, на Украине, в Грузии, в некоторых арабских странах и не только в них.
Вот так я понимаю свою цель, хотя и не очень уверен в возможностях народных масс в ближайшем будущем самим решать свою судьбу, учитывая, как мне кажется, их слабеющую роль в историческом процессе в перспективе.
Хочу особо подчеркнуть, что в основу повести положены биографии Якова Васильевича Прохорова 1870 года рождения, уроженца Калужской губернии, деревни Пожарки бывшей Российской Империи, его сына Константина Яковлевича Прохорова 1928 года рождения, уроженца Минска и Москвы в бывшем СССР, а также их ближайших родственников, друзей и знакомых.
Я также особо хотел подчеркнуть, что эпоха войн и революций, как я назвал период времени с 1900 по 2000 год, чрезвычайно неблагоприятно отразилась на генетическом фонде народов и прежде всего русского народа, естественно включая в него украинцев и белорусов. Не стоит забывать, что в войнах и революциях, хаосах и смутах всегда погибают лучшие представители народов и наций и их генофонд и численность катастрофически снижаются. Это касается в равной степени национальной аристократии, дворянства, духовенства, крестьянства, рабочего класса, а также, возможно, буржуазии и интеллигенции. На примерах отдельных представителей этих классов, с которыми я соприкасался по жизни, хотел бы продемонстрировать этот процесс, но это сложная задача и требует подкрепления научными исследованиями, хотя вообще, это само собой разумеется и явно понятна любому мыслящему и наблюдательному современнику.
Пролог
(Довольно известная песня советского периода. Композитор М. Дунаевский, поэт Л. Дербенев)
- «Вновь о том, что день уходит с земли
- В час вечерний спой мне
- Этот день быть может где-то вдали
- Мы не однажды вспомним
- Вспомним, как прозрачный месяц плывет
- Над речной прохладой
- Лишь о том, что всё пройдет
- Вспоминать не надо
- Всё пройдет, и печаль и радость
- Всё пройдет, так устроен свет
- Всё пройдет, только верить надо
- Что любовь не проходит, нет»
Я хотел бы начать описание жизни со своего раннего детства, когда отец со мной посетил свою родную деревню Пожарки около Малоярославца летом 1935 или 1936 года после смерти моей матери. Деревня расположена недалеко от села Недельное – большого села в Калужской области вблизи города Малоярославца с рекой Лужей. Между прочим, очень хорошая речка с пескарями и прибрежными заливными лугами, на которых тогда паслись лошади расположенного рядом цыганского табора.
В селе Недельном возвышалась очень большая церковь на высоком холме и. конечно, она была разграблена и превращена в склад в то время.
По пыльной сельской дороге вблизи села Недельное тащились на закате дня худощавый старик с небольшой бородой, обремененный поклажей, и его сын – худенький мальчик шести-семи лет с большими синими глазами на бледном тонком лице, напоминавший иноков на картинах Нестерова. По-видимому, из-за его внешности мальчика часто приглашали художники попозировать, а при сьемке заключительных кадров картины «Александр Невский» он стоял в толпе вместе с своим отцом на паперти собора вблизи князя, когда мимо них проводили пленных рыцарей-крестоносцев.
После съемки этих сцен отец уединялся с князем – артистом Николаем Черкасовым, игравшим Александра Невского, который уже тогда был знаменитым. Они о чём-то долго беседовали в тени большой колокольни древнего собора, было очень жарко от яркого солнца, а также от теплой зимней одежды того времени, которая была на всех актерах, а других людей там не было, так как снимались сцены, в реальности, происходившие в зимнее время, а на самом деле летом где-то на окраине Москвы у какого-то древнего собора, но об этом потом. Вместо снега использовали массу белого нафталина, которым посыпали дороги и все места, где проводились репетиции и съемки. Жара и запах нафталина всех очень сильно раздражали и затрудняли работу.
На короткое время на прогоне сцен появлялся главный режиссер кинофильма Сергей Эйзенштейн с маленьким сыном. Эйзенштейн в темно-сером костюме с жилеткой, несмотря на летнюю жару, с кудрями и круглыми полными щеками сильно напоминал постаревшего ангела с картин Рафаэля, но он был совсем не ангел. Всё сразу приходило в движение, актеры и статисты торопились, напрягались, выполняя его указания. Зато его сыночек 5 или 6 лет был очень похож на ангелочка, одетого во всё заграничное с цепочками и блестящими молниями…
Родители отца – крестьяне из деревни Пожарки около Малоярославца
В усталом покрытом пылью старике, бредущем с маленьким сыном по проселочной дороге в деревню Пожарки, с трудом можно было узнать когда-то известного в музыкальных кругах Петербурга и Москвы в начале века и довольно популярного в то время композитора-этнографа, почетного члена Императорского Русского Географического Общества, собирателя и исследователя песенных напевов и устного творчества народов России, автора-аранжировщика некоторых песен, исполняемых Плевицкой и другими исполнителями, одного из любимых учеников Римского-Корсакова, Глазунова, Лядова и Балакирева.
Добирались они на исходе лета 1935 года до деревни Пожарки, родной деревни отца, где ещё были живы его престарелые родители, от самой Москвы сначала поездом до Малоярославца, затем попутной подводой до села Недельное и, наконец, пешком до родной деревни, куда попали уже на закате дня, когда стало совсем темно. Несколько черных изб и всё. Отец с трудом достучался до знакомой избы. Это было совсем не то, что он ожидал. Голодуха, разруха и безлюдье.
Отец думал подкормить меня у родителей, и может быть даже оставить у них на лето, чтобы легче ему было пережить свои беды и что-то предпринять, а там уже оказалось много детей других их сыновей, которых было, как я помню, пять, включая Якова, моего отца.
Наши предки – великороссы и их жизнь в начале ХХ века
Мой дед, Василий Козьмич Прохоров был уже очень стар, перешагнув рубеж в 87 лет, а бабушку, 85-летнюю сгорбленную старушку, я почти не помню, деревенские жители считали ее колдуньей. Она жила почему-то на отшибе, одна в низкой почти подземной избушке, заполненной засушенными травами, банками и бутылками с разными настойками и ещё чем-то. Она была знахаркой и умела заговаривать и лечить болезни, помимо всего прочего. Оба родителя отца были работящими потомственными умелыми земледельцами, имевшими многочисленную семью. К сожалению, я застал эту семью в состоянии распада и запустения после всех революций и вой н.
Подробности их жизни я почти не помню, я их мало знал, и был тогда слишком молод, чтобы интересоваться их жизнью. Из своего пребывания у деда в памяти остались только отдельные эпизоды. Например, мы бежим детской ватагой по горячей песчаной дорожке к речке, конечно. босиком, или сидим за темным длинным столом на лавках, человек 7 мальчишек, и ждем, когда дед подаст овсяный кисель в большой деревянной миске, одной на всех, но у каждого была своя ложка. Тянемся своими ложками, стараясь соблюдать очередь, к общей миске.
Мало, кто помнит, что такое овсяный кисель. Он получается, если долго варить горсть или две овса в котелке с водой и в результате образуется полупрозрачная полужидкая масса. Это и есть овсяный кисель. Он считался полезным, и нам, голодным, всегда казался даже вкусным. Другой еды у деда просто не было. Иногда отец доставал из консервной банки немного прогоркшего, потемневшего от ржавчины сливочного масла и тайком в углу подкармливал меня (кстати, возможно, эта ржавчина создавалась специально, чтобы излечивать детей от малокровия посредством насыщения крови железом в виде примеси окиси железа в масле, так как тогда некоторые в это верили, или иногда даже специально протыкали, например, яблоко много раз гвоздем или пером для ручки, чтобы там появились темные дырки с окисью железа, и после этого яблоко ели, как лекарство).
Малокровие считалось основным недугом детей в те времена, т. е. истощенность, плохая кровь с низким содержанием гемоглобина, а у взрослых – чахотка (туберкулез). Многие взрослые постоянно кашляли, а некоторые постоянно носили с собой пузырьки с крышкой и туда отхаркивались. И ещё одно воспоминание от деревни: встали с отцом очень рано, почти темно, солнце только восходит, и идем вдвоем за семь или больше верст в село Недельное за хлебом, где давали полбуханки черного хлеба на человека из какого-то фонда помощи голодающим. Потом солнце взошло и стало жарить. Видим издалека длинную очередь к церкви в виде толстой змеи, поднимающейся и опускающейся по холмистой дороге к храму, превращенному в склад. Долго стоим, изнывая от жары и жажды. На исходе дня, получив буханку на двоих, съев хрустящую корку и запив ее водой после кратковременного отдыха в тени от колокольни собираемся в обратную дорогу.
К вечеру, почерневшие от зноя и жажды, возвращаемся с целой буханкой в свою деревню. Конечно, приходилось со всеми делиться.
Так как отец не смог получить помощи от родителей в связи с их старостью и голодом, он поспешил вернуться в Москву, пока дорога назад ещё не совсем раскисла от начавшихся осенних дождей. Она казалась ещё труднее из-за наступившей осени и грязи. Мы долго пешком шли по раскисшей дороге, с трудом наняли подводу до станции и потом уже, наконец, сели в переполненный поезд до Москвы. Электрички Москва – Малоярославец тогда ещё не ходили. Больше я с отцом в деревню к его родителям не ездил, а отец возможно ездил.
Когда мы уже благополучно сели в вагон и поехали, я всё время боялся, что отец отстанет от поезда из-за своего непонятного мне желания почти на каждой станции выбегать из вагона, чтобы набрать кипятку для чая у самого паровоза, так как без чая он не мог обойтись. Я боялся, что он отстанет от поезда и я останусь один в вагоне среди массы чужих людей и неизвестно где. Когда поезд трогался, и отец не появлялся, я начинал дрожать от страха и от безысходности, и тут он всегда появлялся с полным чайником кипятка и иногда ещё с чем-нибудь, и так было всегда, и было невозможно привыкнуть к этому.
Детство и юность отца из старого крестьянского рода Прохоровых. Его выход в люди в Петербурге
Достоверно рассказать о детских годах и юности отца довольно трудно. О его младенчестве и детстве я ничего не знаю. Но здесь не может быть ничего особенного. Обычная жизнь крестьянского ребенка, мальчика и подростка в многодетной крестьянской семье в Российской нечерноземной деревне в 70-е и 80-е годы 19-го века. Вся русская литература 19 века заполнена подобными описаниями и историями. Различия начинались только с юности и молодости. Так и с моим отцом.
От кого-то я слышал, что отец якобы в 16-17 лет убежал из деревни Пожарки под Малоярославцем в Петербург. Это маловероятно. Петербург был далеко, а Москва близко. Зачем ему было куда-то бежать? Мне кажется, он уже был подготовлен любящими родителями к уходу в большую жизнь. Они просто не могли прокормить такую ораву сыновей. Это не было принято в деревнях. Они желали для сыновей лучшей доли. Пускай попытаются найти счастье на чужбине. Всегда в подобных случаях в России в многодетных семьях сыновья разлетались из родного гнезда, как оперившиеся птенцы, а дочери почти всегда оставались дома и выходили замуж здесь же или поблизости… Но, к сожалению, у Василия Козьмича, моего деда и бабушки дочерей не было.
Вполне вероятно, что у родителей отца был в Петербурге какой-то друг, родственник или земляк и одного из своих сыновей, в данном случае Якова, они решили отправить в этот город, поручив его заботам и опеке близкого им человека. А может быть не только его одного.
Очевидно, они возлагали на Якова большие надежды из-за того, что он, возможно, хорошо учился в своей деревенской школе и обладал какими-то другими качествами, достоинствами и чертами характера, которые давали основания для этого. Как бы он смог благополучно добраться до Петербурга, работать и жить там без помощи и присмотра родных и близких и, хотя бы земляков? Это, конечно, было возможно, но чрезвычайно трудно и опасно без протекции, опеки и помощи.
Такие деревни как Пожарки в Великороссии (в 19 веке и даже раньше было общепринято считать, что Россия состоит из Великороссии, Белоруссии и Малороссии) в течение многих десятилетий пополняли ряды рабочих, мещан и разночинной интеллигенции в быстро растущих городах России. Не напрасно деревню назвали Пожарки, ее регулярно разоряли пожары и все, кто только мог собрать в себе силы и решительность, спешили покинуть ее. Не только сыновья родителей отца, но и сыновья их соседей постепенно разбредались кто куда и разъезжались в разные стороны. Когда я с отцом посетил родную деревню в 1935 году, там никого из жителей среднего возраста и молодежи не осталось – одни вымирающие старики и старухи в разрушающихся избах.
Некоторые из 5 братьев отца возможно погибли на фронтах Первой Мировой и Гражданской войны, или даже оказались за границей и следы их затерялись.
Я смутно помню, что отец в разговоре с кем-то упомянул о том, что все его братья вышли в люди ещё до Революции, т. е. нашли себя в другом деле, кроме крестьянского. Кажется, он что-то говорил о коммерции.
Уцелевших братьев отца следует искать в Малоярославце, Москве или даже в Петербурге. Никого из его братьев я не видел, хотя трудно сказать, потому что многое забыл. Может быть тот человек, в доме которого в Малоярославце отец всегда останавливался со мной или без меня, и был одним из его братьев. В его саду я лазал по вишневым деревьям в поисках так называемого вишневого клея – прозрачных темно-красных наростов на стволах, которые я отколупывал и с аппетитом съедал. Они были пресные, но вкусные. Из этого дома мы отправлялись в долгий путь к родителям отца в деревню Пожарки через село Недельное.
Жизнь отца в Петербурге и его первые попытки определиться со своим творческим призванием
Уже тогда в ранней молодости в отце зажглась божественная искра творчества, которая гнала его куда-то, к каким-то целям, как и других его некоторых современников. Отдельные клочки воспоминаний у меня сохранились от его коротких рассказов. Он рассказывал, что когда попал в Петербург, то сначала работал в какой-то лавке. Потом, когда ему исполнилось приблизительно 20 лет, он оказался в актерах, так как вечерами после работы в лавке ходил в соседний театрик, куда его иногда пускали бесплатно. Отсюда и его первоначальная тяга к актерству и увлеченность театром. Он оставил мне в наследство большую библиотеку, которую начал собирать уже тогда, в актерские годы, а также очень большое количество театральных афиш со своим именем, мешок писем от известных актеров, от известных музыкальных деятелей того времени, а также ящики с красивыми морскими камнями, которые он также начал собирать в те времена. Это его увлечение мне до сих пор непонятно. Он находил какую-то красоту в этих камнях. Их я впервые обнаружил в лестничном шкафу нашего дома в Трубниковском переулке в 1939 или 40 году. Это увлечение стоило ему больших усилий и достаточно больших денег по их отправки в посылках в Москву и началось оно в его актерские годы, когда он выезжал с труппой в Крым с постановкой «Под солнцем Юга».
Актерская молодость отца и его стремления к песенному творчеству
Если судить по многим сохранившимся театральным афишам, то отец в начале своей самодеятельной театральной молодости играл первоначально в постановках труппы актеров-любителей в крупных селах, например, сохранилась афиша, которую я целиком воспроизвожу здесь на современном русском языке, а фотокопию ее привожу на фотографии
29 июня, Село Недельное. 1901 год.
С позволения Начальства.
Правлением Неделинской Вольно-Пожарной Дружины.
При Участии Любителей Драматического и Музыкального Искусств
С Целию усиления средств Дружины
В Частной Нежилой Деревянной Постройке
Дан будет спектакль.
Представлено будет:
НОЧНОЕ (Летняя сцена в одном действии)
ПРЕДЛОЖЕНИЕ (А. Чехов. Шутка в одном действии)
УГНЕТЕННАЯ НЕВИННОСТЬ
(Комедия-шутка в одном действии)
Исполнители ролей: Я. В. Прохоров; П. Я. Виноградов; В. М. Нефедьева и другие
(следуют фамилии почему-то без Гнъ или Гжъ, как было тогда принято, значит ещё не заслужили).
Цена местам: 1 и 2 ряды 1,50 руб ля; 3 и 4 ряды: 1,25 руб.; 5 и 6–1 руб ль; 7, 8 и 9–75 коп. 10–15 ряды – 50 коп.; Галерея – 20 коп.
(это довольно высокие цены для того времени и ещё в селе)
Во время антрактов хором дружинников исполнены будут русские народные песни
НАЧАЛО РОВНО В 8 ЧАСОВ ВЕЧЕРА. БИЛЕТЫ ПРОДАЮТСЯ В ЛАВКЕ ГЛАЗУНОВА
В С. НЕДЕЛЬНОМ
Ответств. Распорядитель спектакля Почетный Попечитель Неделинской Вольно-Пожарной Дружины И. И. Велигоцкий Афиша типографски напечатана на плотной желтоватой бумаге и разрешена Малоярославецким Исправником Леонутовым
Другая афиша уже для другого места и для другого спектакля была отпечатана на тонкой розовой бумаге размером в обычную газетную страницу и гласила следующее:
Театр «Сакулино». «Дер. Ново Веси» 1895 год.
В субботу 18 июня 1895 года состоится 2-й спектакль труппой артистов и любителей под режиссерством артиста Я.В. ПРОХОРОВА. Представлено будет: ПОД СОЛНЦЕМ ЮГА.
В этом спектакле главную роль генерала играл, как было написано в афише, Г-нъ Прохоровъ, т. е. отец. Остальные 9 ролей, главных и второстепенных также играли господа (Г-нъ) и госпожи (Г-жъ). Наверное, в основном любители. Я воспроизвел полностью стиль афиши, кроме старой орфографии.
Отец преимущественно играл и режиссировал в театрах пригородов Петербурга: Ораниенбаума, Гатчины и пр. Скорее всего, это были помещения Дворянских собраний, Музыкальных обществ и т. д.
Однако сохранились афиши и театров в Петербурге, где он играл сам и режиссировал пьесы. Например, в известном Петербургском Театре фон Дервиза на Среднем проспекте.
Увлечения отца и их влияние на меня
Ко времени актерской и режиссерской деятельности отца относится и оставшаяся после него толстая тетрадь в клеенчатом переплете. В ней он записывал всё самое любимое для него. Преимущественно он записывал накопленные им и тщательно отобранные сокровища Русской поэзии и песенного творчества. Видимо тогда он уже начал читать некоторые стих и петь песни в своих дивертисментах и какие-то песни исполнял со сцены. В тетрадь каллиграфическим почерком были переписаны тексты некоторых песен и стихи, начиная с Державина, Пушкина и кончая малоизвестными поэтами его времени вплоть до Блока. Я долго хранил эту тетрадь, перечитывал ее, и она меня заразила духом отца. К сожалению, эта тетрадь пропала во время моих многочисленных переездов с 1949 по 1957 год. Это была большая пропажа для меня. В 1947 году, также, как и отец, я завел себе толстую тетрадь, даже тетради и стал просматривать сборники русской и иностранной поэзии, отбирая и переписывая наиболее понравившиеся стихи и отрывки. Потом всё это было сведено мной в одну тетрадь, и она до сих хранится у меня. Однако там осталось только часть из отобранной мной перлов поэзии в предшествующие годы.
Когда я впервые столкнулся с трудоемкостью переписывания понравившихся стихов в тетради, я понял, что это большое препятствие с излишней потерей времени. Я читал, размечал и начинал переписывать, и во мне постепенно слабела эта увлеченность. Я хотел все эти сокровища сохранить при себе всегда, не только сегодня, теперь, но и завтра, и через 10, 20 лет и дальше, если Господь позволит. Я хотел, чтобы записи были в компактной форме.
Прослышав о преимуществах стенографии, я купил учебник стенографии Соколова в 1948 году и в течение нескольких месяцев практически освоил ее в достаточной степени, чтобы решить свои проблемы. Дальше я просто совершенствовал свое умение в направлении повышения скорости записи и применения многих особых сокращений, ускоряющих запись. Однако об этом потом.
Практически овладев стенографией, я уже дальше смог продолжать пополнять свои тетради новыми стихами более легко и компактно. Эти тетради с моими записями любимых шедевров мировой и русской поэзии хотелось бы оставить при себе до конца жизни. Но, к сожалению, я не учел удел старения, глаза и память ослабли, и я понял, что стенография меня подвела. Она рассчитана на молодость, на хорошие память и зрение, на решения сиюминутных трудностей, но не для хранения в течение долгой жизни для себя и может быть для других. Мне потом пришлось повозиться довольно долго, чтобы расшифровать хотя бы часть своих стенографических записей и свести их в отдельную тетрадь, как у отца.
Самообразование отца и начало создания своей библиотеки
Возвращаясь к тетради отца, мне трудно себе представить, где отец мог приобрести такой каллиграфический почерк, Может быть кто-то ему помогал, переписывал стихи по его просьбе? Может быть, его первая жена Раиса Федоровна Чигина, разделявшая его увлечения? Едва ли он мог приобрести такое умение в своей деревенской школе, если он вообще там учился.
По своей натуре отец был самоучкой, читал новейшую научно-популярную и антирелигиозную литературу (тогда это было модно и прогрессивно), много читал художественной литературы, покупал книги, собрал солидную библиотеку. Даже в одно время был корреспондентом антирелигиозного и научного журнала Битнера, известного в то время деятеля в области просвещения.
Когда я стал более или менее духовно развиваться под влиянием и при некотором наставлении отца в разных областях науки и искусства, мне стали понятны пристрастия и склонности отца. Это прежде всего были книги о природе, животном и растительном мире земли, психологии и философии таких авторов как Брем, Гексли, Элизе Реклю, Камилл Фламмарион, Герберт Спенсер, Чезаре Ломброзо и др.
Затем он собирал книги об искусстве, в том числе прежде всего у него была роскошно иллюстрированная История Искусств Гнедича в нескольких томах, многочисленные сборники русской и мировой поэзии, книги о музыкантах и музыке. Всего и не перечислить, но кругозор впечатляет. И отец всё это читал, судя по многим его маленьким заметкам, вложенным между страницами большинства книг.
В области музыки он был фанатичным любителем песенного народного творчества, опер и романсов Даргомыжского, Глинки, конечно, Римского-Корсакова, а из Западной музыки – творчества Моцарта, Бетховена и особенно песен и романсов Шуберта и мечтал сочинить ряд романсов на стихи немецких поэтов-романтиков. Например, от него осталась плохонькая фотография, на обратной стороне которой были написаны его характерным почерком два куплета песни об елке и снизу подписано «из Шуберта». Я привожу их здесь:
- «Деревья весело шумели,
- Когда вернулась к ним весна.
- И только ель одна меж ними
- Была сурова и мрачна.
- Деревья жалобно шумели,
- Когда настали холода.
- Лишь ель молчала равнодушно
- И зеленела, как всегда.»
Когда отец писал, что эти стихи «из Шуберта» на обратной стороне фотографии какого-то Сибирского городка, в котором он был тогда в ссылке, он, конечно, имел ввиду романс Шуберта, который усиливал эмоциональное воздействие этих простых слов со скрытым смыслом.
На другой подобной бумажке я прочитал другие записанные им стихи, которые не были снабжены ссылкой на автора, и были слишком личными. Я подозреваю, что это были его собственные стихи. Судите сами:
- Когда в последнее свиданье не удержались мы от слез,
- И это грустное прощанье лишило нас любимых грез.
- Теперь, когда судьбы свершения и бедствия прошедших дней,
- Не дали мне принять решенье, и стало жить ещё трудней.
- В последней раз я умоляю, не сгинь в далекой стороне.
- Не добавляй своих несчастий к моей теперешней беде.
- Пока надежда в сердце тлеет любви и счастья впереди,
- Мечта моя меня согреет на этой горестной земле.
- Пускай все беды, огорченья пройдут над нами стороной.
- Наступит время возрожденья и долгой жизни срок земной.
- И долгой жизни срок земной.
Таких небольших бумажек у него было много. Он записывал тексты услышанных им песен и романсов, которые ему особенно нравились, а музыку и мелодии он всегда запоминал без особого труда. Слова песен и романсов он (или кто-то другой) переносил тогда с бумажек в толстую черную тетрадь, о которой я писал выше. В частности, одним из самых любимых его романсов был романс Шуберта «Лесной царь» на слова Гёте.
Особенно поражают его литературные вкусы и прежде всего его любовь к гениальному английскому романисту и гуманисту Чарльзу Диккенсу, с одной стороны, и к талантливому обличителю общественных и человеческих пороков и недостатков Салтыкову-Щедрину, с другой. Об этом можно долго говорить и много писать, но я ограничусь этим, как достаточно характеризующим высокий уровень самообразования отца и многообразие его интересов.
Творческие устремления отца и его попытка разработки собственной социальной структуры российского общества
Отец не был пассивным потребителем чужих знаний. Будучи творческой натурой, сам пытался что-то добавить в сокровищницу общемировых знаний. В соответствии с направлением своей творческой деятельности в 1920-х годах, а может быть несколько раньше, он начал трудиться над своей теорией возникновения речи и пения у различных народов мира, прежде всего народов России. Он считал, что пение (а возможно и речь) зародилось у первобытных людей, как подражание звукам, издаваемым животными, и прежде всего птицами, особенно пению птиц, и собирал данные в доказательство своей теории. Это был серьезный труд. Довольно большой задел в виде рукописи этого труда, возможно, удастся найти в архиве или Музее музыкальной культуры в Минске.
Более того, увлеченный теориями Чезаре Ломброзо, он в черновом виде разработал свою морально-этическую и социальную структуру Российского общества, как более близкого ему.
Возможно, он начал усовершенствовать эту структуру, когда находился в тюрьмах и ссылках или на нарах пересыльных пунктов уже в советское время, используя уже свой новый жизненный опыт. Коротко, эта его теория (структура Российского общества) заключалась в следующем.
В отличие от Чезаре Ломброзо, который, например, всех гениев и талантов помещал в одну группу и затем много усилий потратил, чтобы доказать их некоторое сходство с сумасшедшими и умалишенными, отец выделил гениев и талантов в отдельную группу, хотя и отделил гениев от талантов, считая гениев чем-то вроде Божественных посланцев, хотя он в Бога открыто не верил.
Он считал, что человеческое сообщество можно условно подразделить на несколько массовых групп или категорий: 1. Группу правильных людей, или упорядочных (порядочных) людей; 2. Группу неупорядоченных людей; 3. Малочисленную подгруппу очень правильных (упорядоченных) и здравомыслящих людей; 4. Категорию преступников и злодеев; 5. Категорию сумасшедших и умалишенных; 6. Талантливых людей, доля которых сравнительно мала (не следует путать просто со способными людьми) И, наконец, 7. Гениев.
Общество в основном делится на две основные группы: группу правильных людей или лучше сказать упорядоченных людей и группу неупорядоченных людей. Их суммарная доля в народе (обществе) составляет приблизительно 95–97 %, в том числе:
Группа упорядочных людей – 46-47 %. Эту группу, конечно, лучше называть группой упорядоченных людей, т. е. более или менее стабильных людей, стремящихся к достижению определенного статуса в своей жизни и порядка в обществе и народе. Это прежде всего религиозные люди разных вероисповеданий, имеющие определенную профессию, не обязательно интеллектуальную, преимущественно семейные, имеющие детей и определенное местожительство, уважающие законы, или по меньшей мере, старающиеся их соблюдать, и преимущественно консервативных взглядов. Сюда отец, наверное, включил бы представителей так называемого теперь среднего класса, учитывая их значимую долю в современном ему обществе. В зависимости от неблагоприятных жизненных обстоятельств и случайных событий, а также от социальных и материальных условий и политической обстановки, эта группа количественно может уменьшаться или увеличиваться и люди в ней могут перемещаться в другие более низкие или более высокие категории, преимущественно на более высокий уровень в своей группе или даже опуститься в группу неупорядочных людей, при этом обратно в свою первоначальную группу они возвращаются редко или с большими трудностям. Как всегда, подниматься или возвышаться гораздо труднее, чем опускаться.
Эта группа упорядоченных людей всегда является фундаментом и оплотом для всего общества и даже существующей власти и достаточно стабильной при существующем укладе общества и государства. В разные эпохи и времена эта группа или увеличивалась, или уменьшалась качественно и количественно в зависимости от силы и благополучия страны проживания или ее регионов, а также от географического расположения и многих других факторов.
Далее по своей значимости следует группа неупорядоченных людей – 48–50 %. Она самая массовая, непредсказуемая в своем поведении и самая нестабильная группа людей с различными политическими взглядами, в том числе коммунистическими и либеральными. Она включает в себя представителей более молодого поколения преимущественно атеистических и радикальных взглядов или вообще не установившихся взглядов, часто без общего или профессионального образования, без прочных семейных связей и привязанностей. Она делегирует своих членов в более высокие группы, категории и уровни и, конечно, в более низкие категории. Это самая сложная и непредсказуемая группа людей, которые могут принести и много пользы, и много вреда и неприятностей всему сообществу в зависимости от влияния тех или иных факторов, в том числе и трудно предсказуемых. В эту группу также входят люди, называемые в 21-м веке маргиналами, которые чаще всего представляют собой людей с довольно радикальными политическими взглядами и обычно с низким культурным и образовательным уровнем, иногда имеющих преступных связи и наклонности. Последние часто пополняют ряды преступников (крайние маргиналы).
Затем идет малочисленная подгруппа очень упорядоченных и здоровых (здравых) людей – 0,5–1,0 % или даже меньше. Эта категория одна из самых загадочных из придуманных отцом. Она диаметрально противоположна такой категории, как Злодеи и Преступники, но количественно гораздо меньше, отражая любимый отцом закон единства противоположностей в диалектике, о которой он узнал, читая работы Спенсера, Огюста Конта или даже Энгельса. В эту категорию входят многие святые и подвижники, некоторые служители церкви (опять любых конфессий), просто очень способные и здравомыслящие люди, государственные и общественные деятели, видящие свою цель в служении обществу, народу и стране и делающие всё, что в их силах, чтобы принести пользу стране и народу. Также сюда могут входить яркие представители «корневых» людей, т. е. здравомыслящие люди из глубинки, не испорченные цивилизацией и не разложившиеся под влиянием массовой «культуры», пьянства, курения, наркомании, безнадежности и бесперспективности существования при растраченном при такой жизни здоровье.
Люди в этой подгруппе, как правило, обладают отличным физическим и психическим здоровьем, что позволяет им сохранить свой здравый смысл и придает им дополнительную уверенность в себе и стабильность в поведении в критические моменты. К этой подгруппе отец также относил людей из любых сословий, которые могут сплотить или возглавить народ или отдельные его группы, объединения или партии в важнейшие периоды истории, например, такие, как поражения в вой не, смуты, революции, экономические и политические кризисы и пр. Такие люди на любых уровнях: деревни, села, небольших и больших городов и даже стран, способны в критические моменты сплотить и объединить людей, благодаря своему здравомыслию, умению убедить в своей правоте не только словами, но даже личным примером, поведением, действиями и поступками. Благодаря этому они могут объединять усилия всех сословий народа или большей части народа в едином порыве, что помогает им даже в обстановке бедствий и лишений добиваться улучшения положения народа и страны в целом, несмотря на неблагоприятные обстоятельства. Их без преувеличения можно называть «поводырями народа».
Категория Преступников и Злодеев составляет приблизительно – 0.5–1,0 %. Категория, общеизвестная и не требующая расшифровки. Единственным спорным вопросом является ее количественная доля. Отец считал, что это приблизительно один взрослый человек на несколько сотен жителей. Это не обязательно люди, сидящие в тюрьмах и лагерях, и неисправимые преступники. Они также могут быть так называемыми крайними маргиналами, жить и работать среди нормальных людей до поры до времени и находится среди разных сословий, и их преступная и злодейская натура начинает ярко проявляться в обстановке войн, революций, смут, брожений и мятежей и в условиях слабой власти и особенно во время безвластия и разрухи.
Категория Сумасшедших и составляет приблизительно – 0,5–1,0 %. Это также довольно латентная категория людей, т. е. часто мало заметная для окружающих, особенно в условиях спокойной упорядоченной жизни, но в конфликтных и напряженных ситуациях представители этой группы выявляют себя, благодаря своему неадекватному поведению или бессмысленной и нелогичной речи, или даже благодаря своим преступным действиям, которые очень трудно отличить от преступлений, совершаемых настоящими преступниками, находящимися в здравом уме и отвечающими за свои поступки. Опять же, это не обязательно пациенты сумасшедших домов и больниц. Они могут находиться среди нас и никак себя не проявлять, пока какое-нибудь обстоятельство не выведет их из сравнительно стабильного состояния. Отец здесь не имел ввиду умалишенных людей с самого своего рождения, но последние, безусловно, также входят в эту категорию.
В эту категорию я бы также включил искренних и реальных фанатиков какой-либо идеи, которая полностью заполняет их воспаленный мозг, лишая их чувства реальности. Такие люди иногда обладают способностью заражать своей идеей массы людей и повести их за собой чаще всего по дороге зла и гибели, а не добра. Это не отпетые злодеи и преступники, так как они фанатично и искренне верят в добро своей идеи, по меньшей мере в начале своего пути. А по степени одержимости и отсутствию чувства реальности они ближе к сумасшедшим и умалишенным, но их доля в обществе чрезвычайно мала, и слава Богу.
И, наконец, сравнительно малочисленная категория таких людей как Таланты и совсем уж редкая категория таких людей, как Гении. Эти люди входят в самую боготворимую и обожаемую отцом разновидность представителей человеческого (Российского) сообщества, если, они, конечно, не являются гениальными злодеями и талантливыми преступниками, которых во Всемирной и даже в Российской истории было не так уж мало. Но известно также, что реальная гениальность считается несовместимой со злодейством, хотя это ещё требует научного доказательства.
Для лучшего понимания всего изложенного лучше было бы создать схематическое изображение структуры современного человеческого общества в рамках отдельного государства (т. е. России в данном случае) в соответствии с теорией отца, но мне кажется текстовое ее описание достаточно для понимания.
Гении, которые чрезвычайно редки: один на десятки миллионов населения, и таланты, которых один на тысячу или десять тысяч взрослого населения, а также особо упорядоченные и здравые люди, которых гораздо больше, образуют совместно так называемую соль земли, которая определяет прогресс народа или страны, а в глобальном масштабе – прогресс всего человечества, т. е. позитивное материальное и духовное развитие человечества. Для этого, конечно. должны быть определенные условия, при которых гении, таланты и особо упорядоченные и здравые люди могли бы проявить в полной мере свою гениальность, таланты, способности и здравомыслие. Эти категории в любых обстоятельствах сыграют свою позитивную роль, но скорость прогресса, обусловленная в значительной степени их усилиями, может замедлиться при неблагоприятных климатических, географических, исторических, экономических и политических условиях и, конечно, наоборот.
Вся эта структура применима только к Российскому обществу своего времени, как я понял из рукописных записок отца, которые, к сожалению, мною были утеряны вместе с его черной толстой тетрадью уже в послевоенное время (после 1950-х годов) во время моих многочисленных переездов на армейской службе. Почему он считал, что его теория применима только к Российскому обществу, я до сих пор не понимаю. Возможно, потому, что он никогда не бывал заграницей и считал, что не имеет право распространять свою теорию на другие страны, о которых он ничего не знает.
Далее отец полагал, что не следует считать Гениев, Талантов и особо упорядоченных и здравомыслящих людей единственным ценным продуктом человеческого рода. Он предлагал сравнить весь народ с большим развесистым деревом, корни, ствол, ветки и листья которого являются упорядоченными и неупорядоченными людьми, а Гении, Таланты и группа особо упорядоченных и здравомыслящих людей являются его плодами с разной степенью ценности и полезности, Развивая это сравнение, можно в определенной степени считать, что преступники и злодеи, сумасшедшие и умалишенные являются болезнетворными образованиями на всех частях дерева, а также вирусами, микробами и бациллами, поражающими в разной степени организм здорового дерева и вызывающими заболевания, которые даже могут привести к гибели дерева, т. е. народа или страны.
Отец здесь ничего не сказал о Героях (очень редкая разновидность человеческой личности) и Подонках (которых, как всегда в этом мире, многократно больше). Как я понял из его записок, Герои являются продуктом эпохи, времени и обстоятельств. Они неожиданно и ярко появляются среди народов и совершают свои героические и мифические подвиги, память о которых обрастает мифами и долго хранится в летописях истории. Их можно в какой-то степени условно отнести к таким категориям как Таланты и даже Гении, чтобы они не выпадали из общей схемы.
О Подонках даже не хочется говорить. Это результат полного нравственного и духовного падения и разложения личности, которое часто сопровождается и физической деградацией.
В последние годы я испытывал некоторый стресс, пытаясь оживить в моей памяти потускневшие воспоминания о давно прошедших временах и людях. Наверное, в связи с этим мне недавно приснился сон. Было начало весны, я шел по довольно безлюдной улице, немного расстроенный чем-то. Вдали впереди меня появилась темная колонна людей, шедшая навстречу мне. Когда первые ряды колонны поравнялись со мной, они буквально ослепили меня своими добрыми, милыми и приветливыми улыбками, хотя и немного грустными. Колонна шла и шла мимо, и каждый ряд озарял меня своими улыбками. И это были все мои родные, друзья и враги, знакомые, сослуживцы, молодые и старые, добрые и злые, хорошие и плохие люди, и все они по-доброму, но грустно улыбались мне. И все шли и шли, по мере того как моя скрытая память выхватывала их из своего хранилища, которое довольно сильно заполнилось за мою долгую жизнь. Я стоял, ошеломленный, пока эта длинная колонна не прошла мимо, потом обернулся, чтобы проводить колонну взглядом, но ее уже не было. Я медленно и грустно пошел дальше, повторяя в душе: куда они все делись, почему ушли и оставили меня одного. И тут я проснулся и сильно обрадовался, что у меня всё ещё есть и родные, и друзья, и знакомые…
Сон, конечно, печальный, но мне он кажется вещим, если связать его со структурой общества, предложенной отцом, о которой я тогда думал и несколько развил ее. Поэтому сон можно довольно справедливо истолковать в том смысле, что все человеческие группы и категории, включая даже такие как Преступники и Злодеи, Сумасшедшие и Умалишенные, нужны в человеческом сообществе для выработки возможного противоядия от них, важно только, чтобы их относительная доля не превышала какой-то определенной величины.
Наверное, есть люди, которые могут хранить в своей активной памяти факты о всех встреченных ими в жизни знакомых, друзьях и врагах, сослуживцах и товарищах, не говоря уже о родных и близких, независимо от своего отношения к ним.
Знакомство отца с М. Балакиревым и Н. А. Римским-Корсаковым и учеба в Петербургской консерватории
Меня всегда интересовал вопрос, как отец попал в Петербургскую Консерваторию и в класс композиции Римского-Корсакова, когда он уже был личностью, вполне сформировавшейся профессионально и духовно. Как вообще они могли встретиться и познакомиться, находясь в разных социальных средах? Где, когда, и кто помог им встретиться? Я до сих пор не представляю, как это произошло. Отец об этом не рассказывал, а я его и не спрашивал, голова была забита другим. Его любимые ученики и друзья, из тех, которых я довольно хорошо знал, тоже мне не рассказывали об этом. Можно только предположить, что окружающие его люди: актеры, знакомые и друзья, зная об увлечении отца народным песенным творчеством, о его записях песен и вообще о любви его к музыке, кому-то сообщили из окружения Римского – Корсакова, Глазунова и Лядова о таком увлеченном молодом человеке из народа. Эти композиторы всегда находились в поиске самородных талантов из народа. Они пригласили отца к себе, посмотрели, послушали и помогли ему уже дальше пойти по выбранной им дороге.
Другой возможностью было его знакомство с Милием Балакиревым, с которым отец часто общался и находился в переписке долгое время (в свое время я убедился в большом количестве писем с обеих сторон), а Балакирев был очень близок к кругу Римского-Корсакова. Милий Балакирев был наставником и проводником по музыкальной жизни многих таких, как мой отец, и часто оказывал им помощь. В этом можно убедиться, прочитав биографию этого большого музыканта и человека. Отец может быть даже какое-то время учился в бесплатной музыкальной школе, созданной Балакиревым, и последний уже представил его Римскому-Корсакову, как самородка из народа. Я являюсь сторонником этой версии.
Еще актером, не имея формального музыкального образования, он как-то умудрялся записывать не только тексты, но и мелодии песен (наверно запоминал), и это помогло ему оказаться в классе композиции Римского – Корсакова и Глазунова. Наверное, у него всё же было какое-то общее образование, чтобы выдержать некоторые вступительные экзамены. Или он просто с лихвой компенсировал недостаточное школьное образование своим колоссальным самообразованием во времена своей актерской и режиссерской деятельности.
Среди его коллег и товарищей по классу композиции Римского-Корсакова следует упомянуть, таких его товарищей и коллег, как:
К. Блаукопф, М. П. Дулов, Г. П. Прокофьев, Е. А. Молчанова, Д. Адами, К. Н. Путилов, Э. Адамич, Н. А. Бугмюллер, М. М. Карякин, и другие.
Музыкально-этногафическая и педагогическая деятельность отца до революции (1904–1917 годы) и в первые годы после революции
После окончания Петербургской Консерватории в 1904 году отец в соответствии со своими склонностями и талантами и по совету своих великих учителей стал композитором – этнографом, что очень ценилось в то время, так как считалось ещё со времен Глинки и Даргомыжского, что музыку создает народ. Все великие русские оперы, симфонии и вообще все виды музыкальных произведений тогда, да и раньше, создавались с использованием мотивов, мелодий, песен и танцев разных народностей России и даже мира. Изучением и использованием в своих произведениях песенного творчества народностей России занимались тогда почти без исключения все крупные композиторы России. Потом после Революции всё это направление Российской музыкальной культуры постепенно утратило свою важность и даже забылось. Конечно, это можно, наверное, как-то объяснить, но это тема для специалистов.
Отец по заданиям и по командировкам Российского Географического Общества ездил по различным губерниям России с фонографом Эдисона и записывал в деревнях и селах песни и другие образцы устного музыкального творчества народов России: русских, татар, башкир, чувашей, белорусов и других народностей России.
За свою композиторско этнографическую деятельность отец был награжден в 1914 году серебряной медалью Российского Императорского Географического Общества под председательством академика Шахматова.
Между прочим, когда перед Отечественной Вой ной в 1940 году я заинтересовался содержимым большого сундука, на котором покоилась моя кровать в комнатке при кухне, я обнаружил кроме теплой дореволюционной одежды отца, его шикарной шубы, костюмов и обуви, также и сам фонограф Эдисона, сложный и дорогой инструмент с большим количеством валиков – трубок из парафиноподобного материала достаточной твердости с записями всех вышеперечисленных песен. Я это понял по этикеткам, наклеенным на каждый из них. После возвращения из эвакуации в 1943 году я всего этого уже не обнаружил. Не представляю себе, кому мог понадобиться в разгар войны старый фонограф Эдисона с валиками?
В 1924 или 25 году, возможно по рекомендации комиссии по сохранению интеллектуальных сил России, к которой имел отношение Горький, отец получил очень большую комнату площадью больше 35 метров в центре Москвы в Трубниковском переулке в доме 26 в районе Арбата. Это был дом для научных работников, так как отец имел большие заслуги ещё до Революции в деле исследования народного творчества и музыкальной культуры народов России и получил признание Российского Императорского Географического Общества (медаль) и Академии Наук России за свой вклад в науку и искусство (имел благодарственные письма от знаменитого академика Шахматова и других известных деятелей науки и культуры того времени и различные награды).
Период времени между 1904 и 1920 годом был затрачен отцом на успешную творческую, исследовательскую и педагогическую деятельность: разъездам по губерниям, селам и деревням, записям песен на фонограф, транспонированием некоторых из них для исполнения известными и малоизвестными певцами и певицами, например, Плевицкой, а также их изданием в виде сборников песен, которые быстро раскупались и использовались в своем творчестве композиторами того времени. У отца появились обширные знакомства в среде композиторов, музыкантов – исполнителей, певцов и литераторов, не говоря уже об общении со своими товарищами и друзьями по Петербургской Консерватории и, конечно, со своими бывшими коллегами-актерами.
У него также появились последователи, поклонники и поклонницы и талантливые ученики, а также его не обходили вниманием довольно красивые женщины из его творческой среды. Я нашел в его архиве много их фотографий с очень личными дарственными надписями.
Его музыкально-этнографическая и педагогическая деятельность после революции (1920-е и 1930-е годы)
После 1917 года он некоторое время продолжал свою композиторско-этнографическую и педагогическую деятельность, но в более скромном масштабе в соответствии с запросами нового времени, но всё же довольно активную.
В 1920-х годах отец довольно долго преподавал теорию музыки и другие музыкальные дисциплины в Восточной Консерватории в Казани. В 1922 году ездил с экспедицией по селам Татарстана с целью записи самобытных татарских песен.
Из его научно-исследовательских работ этого времени следует прежде всего упомянуть такие как «Музыкально-творческие корни Русской женщины-крестьянки», а также «Элементы народности в творчестве Н. А. Римского-Корсакова». Я не специалист в этой области, работ было, конечно, гораздо больше.
В конце 20-х годов отец работал совместно со многими другими. известными композиторами-этнографами в Государственном Институте Музыкальной Науки (ГИМН). Эта Московская организация объединяла музыкантов, ученых, композиторов и исследователей в различных областях истории и теории музыки. В ГИМНе были огромная научная библиотека, акустическая лаборатория, опытно-исследовательская мастерская народных и профессиональных инструментов и много другого. ГИМН имел большую этнографическую секцию. На приведенном дружеском шарже «Этнографический хор ГИМНа» Якова Богатенко, также члена этой секции, показаны многие ее члены, активные собиратели и исследователи народной музыки: Н. Н. Миронов, А. В. Затаевич, А. В. Никольский, П. И. Сеница, Я. В. Прохоров, С. Л. Толстой, В. В. Пасхалов и др. Рисунок относится к 1927 году, а сам ГИМН просуществовал с 1921 по 1931 год и затем был разогнан, его этнографическая секция была ликвидирована даже раньше.
Печальна была судьба многих известных этнографов ГИМНа в 1930-х годах, в том числе и автора дружеского шаржа, Якова Богатенко, который, как известно, скончался в тюрьме в годы ВОВ. Он был чужд и неприемлем для музыкальных властей Москвы того времени.
Однако всё, что я выше писал о деятельности отца, получило признание ещё до Революции и в основном после окончания консерватории и после сближения его и долголетней дружбы с уже тогда знаменитым создателем Русского народного хора крестьян Митрофаном Пятницким, а уже при Советской власти отец плодотворно сотрудничал с композитором Ипполитовым-Ивановым и с композитором Асафьевым и многими другими известными композиторами того времени.
В моей памяти сохранились некоторые воспоминания о том, как я, разбирая мешок писем отцу, который нашел в лестничном шкафу (надеялся найти что-то ценное: деньги или фотографии) наткнулся на большое количество писем от многих известных композиторов того времени Балакирева, Римского-Корсакова (записки к отцу) и Лядова, а также от Митрофана Пятницкого, в которых последний обсуждал различные взаимно интересные для них обоих творческие темы и пр. Также в мешке было много писем и от других известных и даже знаменитых деятелей искусства и литературы, например, от сына Льва Толстого Сергея Львовича, а шарж на отца и на Сергея Львовича Толстого висел в рамке на стене моей комнатки долгие годы, а потом был похищен кем то. На нем был изображен Сергей Львович Толстой за роялем, аккомпанируя, а отец стоял рядом и пел. Автором шаржа тоже был Яков Богатенко. Это был тот же 1926 или 1927 год.
Сергей Львович Толстой был профессором Московской Консерватории по классу этнографии и народного песенного творчества, т. е. коллегой отца и сдружились они на почве общих творческих интересов ещё до Революции.
Мне все эти письма и рисунки были не интересны. Я засунул письма обратно в мешок и забросил его обратно в лестничный шкаф, откуда он потом после войны куда-то исчез.
Наряду с мешком писем и некоторыми хозяйственными вещами в этом шкафу я обнаружил несколько ящиков камней с морского побережья, вероятно Черноморского. Как я понял, отец, блуждая по берегу моря и думая о своем, собирал понравившиеся ему красивые камни, приносил их туда, где жил, и перед своим возвращением направлял большую часть их посылкой на свой московский адрес. На фанерных почтовых ящиках был написан адрес: Трубниковский 26–12. Мне трудно объяснить эту его странность 1920-х годов. Он посылал эти ящики с морскими камнями в Москву несколько лет подряд, по одному ящику в год. Камни были красивые, но ничего в них не было необычного, просто продолговатые отшлифованные водой камни с морского побережья. Сколько это стоило ему денег, хлопот и сил таскать их на почту, посылать, получать в Москве, тащить домой. Ящики были тяжелые и для меня неподъемные.
Эти эпизоды относятся к 1940 году или к первой половине 41 года, мне было тогда всего 12-13 лет. После войны мешка с письмами ящиков с камнями и прочих вещей в стенном шкафу на черной лестнице уже не оказалось.
Переезд отца в Минск и работа в музыкальном училище (консерватории). Знакомство с моей будущей матерьюи мое рождение 28 января 1928 года
В 27 году отец по причинам, которые мне только теперь стали ясны и понятны, переехал в Минск преподавать в Минском Музыкальном Училище (затем Консерватории). В этом же год умер его друг и творческий единомышленник Митрофан Пятницкий и отца мало что связывало с Москвой, кроме квартиры в ней. Скорее всего, он был приглашён туда одним из своих друзей и старых коллег по Петербургу, например, Василием Золотаревым, (также учеником Римского-Корсакова), который уже жил и работал в Минске, а также возможно отец потом пригласил с собой своих бывших учеников, так как некоторые в конце 1920-х годах переехали жить и работать в Минск, и также преподавали в Минском музыкальном училище. Может быть, всё было наоборот, и отец был приглашен в Минск с некоторыми из своих бывших учеников, например, Николаем Ильичом Аладовым, который был на 20 лет моложе. Я склоняюсь к этой версии. Николай Ильич Аладов в своей молодости был очень талантливым, но необычно скромным и застенчивым человеком, погруженным в мир музыки, чтобы самостоятельно куда-то отправляться. Конечно, причины переезда отца в Минск я могу теперь вполне объяснить. Там открывались для него большие перспективы творчества и научно – педагогической деятельности из-за планов новых белорусских властей сделать Минск городом, который был бы не хуже Москвы, Ленинграда или Киева.
Возможно он также хотел быть подальше от всех смут и бурлений в музыкальном мире Москвы того времени, имея неудачный опыт своей работы в этнографической секции ГИМНа и вспоминая судьбу некоторых своих несчастных коллег-этнографов.
В Москве все перспективные места были уже заняты своими московскими кадрами и приезжими кадрами с революционными заслугами из провинции, близкими к тогдашней власти. Отец же был из Петербурга и к тому же являлся великороссом, как он гордо писал в своей автобиографии, наивно полагая, что это положительная характеристика, а оказалось совсем наоборот.
Возможно, отец также приехал в Минск не только со своим любимым учеником Н. И. Аладовым из Петербурга (тогда уже Ленинграда), но также пригласил в Минск другого бывшего своего ученика Алексея Ковалева из Москвы и некоторых других, или они сами решили к нему приехать, мне это, к сожалению, не известно. На фотографии Минского периода отец показан в кругу своих бывших учеников и новых студентов, среди которых был Алексей Ковалев, Любан и другие.
Конечно, как я теперь думаю после погружения в атмосферу того времени – какой молодой человек в те смутные времена решился бы поехать в чужой город без приглашения такого авторитетного для него человека, как мой отец. А они, напоминаю, все были ещё сравнительно молодыми людьми в возрасте 30–35 лет, фанатики своей профессии и в основном мало приспособленные к суровой жизни того времени. К тому же они все были преимущественно из так называемых «бывших», опасающихся неприятностей. Отец вынужден был взять на себя роль их опекуна и наставника по жизни, помогая им устроиться в новом для них городе. Они уже были сравнительно опытными профессионалами по специальности Теория музыки и композиции, но мало приспособленными к суровому быту конца 20-х годов. Перед своим приездом в Минск они обменивались с отцом письмами, в которых обсуждались важные житейские и профессиональные вопросы. У некоторых его бывших учеников ещё были живы родители и другие родственники, которые опасались за них, боялись разных случайностей и неприятностей. К тому же в провинции, которой считался Минск, было сытнее и спокойнее, чем в голодных и небезопасных в то время столицах.
Впоследствии отец возглавил учебную часть Минского Музыкального Училища и стал также вести ещё один класс композиции. Он постепенно обрастал всё более серьезными обязанностями на работе, а также новыми учениками, будучи не обремененным, как большинство преподавателей, семейством с детьми и родственниками. К тому же он имел блестящее профессиональное образование, большой опыт работы и авторитет в музыкальных кругах России того времени. Однако этот счастливый период в его жизни продолжался недолго.
Во время преподавания в Минском Музыкальном Училище у отца завязался роман с одной из своих уже взрослых учениц Евгенией Петровной Керножицкой. Ему тогда было уже 58 лет, а ей около 30, они полюбили друг друга и в результате этой любви в 1928 году 28 января в Минске появился на свет я. Хочу особо подчеркнуть, что мой отец был глубоко нравственным и порядочным человеком, хотя и был активным атеистом. Он никогда не пил алкогольных напитков и не курил. Помогал духовно и материально своим ученикам, как это было, наверное, принято в то время, а к некоторым из них относился с отцовской любовью и заботой. Он очень переживал в связи с отсутствием детей у своей постоянной подруги по жизни Раисы Федоровны Чигиной, о которой я расскажу ниже.
Политические последствия аполитичности отца. Доносы. Возвращение в Москву
Душевные и профессиональные качества отца не могли не привлекать к нему людей и учеников. У него было много друзей, учеников и знакомых, как в Москве, так и в Петербурге-Ленинграде. В своих беседах и разговорах он тщательно избегал разговоров о политике властей, отмалчивался и не вступал в споры. Для него критериями были прежде всего призвание, талант и трудолюбие его учеников. С этих позиций он и подбирал себе студентов. Однако он забыл о существовавших у большевиков лозунга: «Кто не с нами, тот против нас» Аполитичность ему не помогла. В 1928 году начались неприятности с руководством Консерватории и с властями города из-за доносов на него. Эпидемия доносов после Москвы и Ленинграда докатилась и до Минска.
Итак, из-за доносов своего ученика Любана, что отец не уважает комсомольцев, начались расследования, мучительные для отца. Он не привык к таким обвинениям, так как считал, что основной обязанностью студентов является учеба и если студент талантлив, то ему многое следует прощать, даже неприсутствие на комсомольских собраниях, неучастие в различных политических мероприятиях и пр. Главное для него учеба и усердие.
Такое тогда не прощалось, и Любан воспользовался этим, только непонятно зачем. Он был многим обязан моему отцу, кто или что толкнуло его на этот поступок? Очевидно революционный фанатизм молодежи того времени. Наступило мирное время и партийные органы в своей борьбе за власть призывали молодежь бороться с пережитками, выявлять скрытых врагов, активно участвовать в строительстве нового светлого будущего…
Отца заставляли оправдываться, писать объяснительные записки, обещать исправиться. Он этого не смог выдержать. Всё взвесив с учетом того, что у него родился только что сын, не было своей квартиры в Минске и получив поддержку матери, отец решил завершить все свои дела в Минске, быстро собраться и уехать в Москву со своей новой семьей, опасаясь, по опыту своих друзей и знакомых, что ему напоследок «пришьют» какую-нибудь политическую статью и он не сможет так просто отделаться. Он поспешно оформил все необходимые документы и переехал с семьей в Москву, где у него уже была очень большая комната со всем необходимым для жизни и работы: мебелью, книгами, нотами, роялем, картинами и комнатными цветами, которые он заботливо и умело выращивал. Это был скорее небольшой зал, разделенный двумя колоннами пополам, где можно было устраивать даже камерные музыкальные вечера. В этой же квартире из десяти комнат жила масса других людей, каждая семья в своей комнате, в том числе и недоброжелатели, и завистники, а также многолетняя бездетная подруга отца Раиса Федоровна Чигина, скромная тихая старушка, обожавшая моего отца и также полюбившая меня и мою мать. У нее никогда не было своих детей. Носились слухи, что отец в своей буйной актерской молодости похитил ее из обеспеченного родительского дома совсем юной. Она помогала меня воспитывать, кормила, стирала пеленки и гуляла со мной, а после смерти матери в 1935 году заменила мне мать, хотя и ненадолго.
Жизнь в Москве в условиях новой обстановки в стране в 30-е годы
Завершающиеся 1930-е годы не принесли отцу облегчений и в Москве. Время было жестокое и не только для отца. На фоне ожесточенной схватки за власть между группировкой Сталина с его сторонниками и группировкой Троцкого с его последователями, происходили малозаметные для окружающих схватки за жилье, работу, должности и места под солнцем на всех уровнях и всеми средствами, в том числе с помощью доносов, в которой сторонники Троцкого были большими мастерами.
К чему я клоню. В определенной степени отца погубила его огромная комната в современном доме в центре Москвы, предоставленная ему за дореволюционные «старорежимные» заслуги, как некоторые тогда считали. Возможно, он бы уцелел, если бы его жизнь со мной пошла по другому пути. Например, остался бы он в Минске, пойдя навстречу претензиям комсомола и руководства Консерватории. Мне трудно встать на его место в его обстоятельствах. Соблазн был очень большой вернуться в Москву и осесть в своем благополучном гнездышке и переждать бурю, как он возможно думал.
Однако в Москве наступили ещё более жестокие времена, чем раньше. Массово сыпались доносы в органы по самым разным поводам. Доносы в те времена были самым модным и эффективным средством достижения своих скрытых целей у определенного рода людей. Наверное, в этой связи вспомнили и о доносе И. И. Любана из Минской Консерватории.
Когда отец со мной возвращался из деревни в Москву приблизительно в начале 30-х годов, там в это время было ненамного лучше, чем в деревне, но всё же была возможность что-то продать, чтобы немного и скудно прокормиться. Отцу приходилось продавать все свои ценности, которые он приобретал в годы своего процветания и благополучия в Петербурге после окончания Консерватории в 1904 году.
Наверно, он унаследовал какие-то черты предвиденья от своей матери, которую в деревне считали колдуньей и всегда ходили в ее погреб лечиться.
Эти предусмотрительно накопленные им ценности, а не бумажные Российские деньги, которые потом обесценились, возможно, спасли нам жизнь в те трудные времена. Я имею ввиду под ценностями золотые кольца, золотые монеты, серебряные ложки и другие изделия из серебра и золота, даже валюту, которая, наверное, также была у отца, т. е. всё то, что можно было продать в Торгсинах, чтобы прокормиться.
Все эти ценности постепенно продавались за советские руб ли преимущественно в так называемых Торгсинах – государственных органах по скупке всевозможных ценностей, имеющихся у населения, и здесь же на полученные деньги закупались продукты питания. В другом месте в те годы их купить было невозможно или только у спекулянтов по бешеным ценам. В 1928 году и в начале 30-х годов скорее всего ходили в Торгсины мать и Раиса Федоровна Чигина, бывшая подруга отца. Отец занимался работой – преподаванием, занятиями со своими учениками, которые у него были даже в то время, и своими профессиональными делами. К этому времени значительная часть отцовских ценностей, которые котировались в Торгсинах, по – видимому, уже была почти вся распродана.
Я хотел бы здесь подтвердить большую вероятность наличия у отца даже долларов для того, чтобы доказать его великую прозорливость и выразить свое удивление тем, что человек от искусства мог так хорошо разбираться в экономических вопросах. Возможно, у него были хорошие советники. Скорее всего, это были его родные братья-коммерсанты, или по меньшей мере, один из них мог помочь ему своим советом. Жаль, что о них я ничего не знаю. Некоторые из них вполне могли осесть после Революции в Малоярославце.
Да и большинство его тогдашних знакомых, друзей и приятелей были не лыком шиты. Тогда все быстро учились реальной экономике.
Возвращаясь к возможности некоторого запаса долларов у отца после Революции, я привожу лишь одно доказательство их наличия (сам не знаю, зачем я это делаю, возможно, чтобы оттенить пагубную роль соседа Цингова в судьбе отца, о чём я более подробно расскажу ниже).
В 1946 или 47 году я в своей комнатке при кухне рылся в книгах, наложенных толстыми стопками поверх книжного шкафа почти до самого потолка, и при этом из них вылетали иногда бумажки, и одна зеленая бумажка почему-то привлекла мое внимание. Посмотрел, а это 100 долларов США 1919 года выпуска! Подумал, что уже старая, негодная. А оказалось, что в США все деньги, и старые, и новые, одинаково котируются. В связи с этим я вспомнил, что до войны в 1940 или 41 году, когда жил уже один и не запирал свою комнатку при кухне, когда уходил куда-нибудь (вот такой был растяпа), я довольно часто видел, как Цинга (так за глаза прозвали Цингова соседи), который всегда был дома, торопливо выходил из моей комнаты, и при моем появлении, объяснял свое пребывание там желанием проверить порядок в моей комнатке. Однажды я его застал стоящим там на высоком стуле и копающимся в книгах на том же шкафу. Я оторопел от неожиданности, а он смутился и сказал: «Костя, я хотел поправить эти книги, тобы они не упали на тебя, когда ты спишь».
Моя кровать стояла под шкафом, но книги могли упасть на меня только при очень сильном землетрясении. Возможно, Цинга ограбил отца и меня именно тогда, и та 100 доллоровая банкнота досталась мне лишь потому, что я его спугнул. Он слишком увлекся и не успел ее прихватить. Раньше он был очень осторожным и успевал выйти из комнаты при моем возвращении. Я ещё вернусь к этому врагу своего отца в соответствующем разделе своего повествования.
Кстати, уже после войны в 1947 или в 48 году я обменял эти 100 долларов в Центральной Сберкассе Москвы и получил за них целых 60 руб лей, т. е. обменный курс тогда был 60 копеек за доллар. Удивительно! Я при этом был в военной форме, другой одежды у меня просто не было, и ужасно боялся ареста за мои, как мне казалось тогда, противоправные действия.
Советские евреи – новая правящая элита в 20-х и 30-х годах
После революции евреи в России приобрели не только политическую, но и экономическую власть. Даже можно сказать, что превратились в новую правящую элиту в Советской России, так как приобрели огромное влияние и власть почти во всех областях жизни страны.
Учитывая свои большие заслуги в победоносном завершении Октябрьской Революции и Гражданской Войны, евреи в массовом порядке стали покидать свои прежние места расселения и оседлости на Украине, Белоруссии, на юге России, даже в Прибалтике и стали сотнями тысяч, а может быть миллионами переселяться в большие города России, а также в ее обе столицы, фактически заменив в Советском правительственном аппарате на местах и в столицах старорежимное чиновничество среднего и высшего уровней. (Напомню, что их численность в дореволюционной России с учетом Польши, входившей тогда в состав империи, составляла около 6 млн человек в первое десятилетии 20 века).
Кроме своих революционных заслуг евреи, по меньшей мере их молодое поколение, имели достаточно высокий уровень образования в сравнении с общей массой русской молодежи, которая мобилизовалась преимущественно в Красную армию, и работала в сельском хозяйстве и промышленности. К тому же евреи обладали высоким революционным порывом и энергией в своем стремлении создать новый социалистический строй, при этом они пользовались в то время абсолютной поддержкой высшего политического руководства страны. Представители этого народа занимали высшие посты не только в Партии и Правительстве, но и в НКВД, милиции, армии, разведке и контрразведке, дипломатии, внешнеторговых организациях, торговле и пр., не говоря уже об искусстве, науке и образовании. Например, вся область киноискусства, важнейшего средства пропаганды и влияния на массы, полностью была монополизирована еврейскими мастерами этого вида искусств. Они также абсолютно преобладали в журналистике, в шахматах (все Советские гроссмейстеры до Войны были евреями), в судебных органах (судьи, юристы и адвокаты) и в руководстве ГУЛАГами (Главное управление лагерями).
В этой связи хотелось бы упомянуть нашего современного известного и популярного прозаика и публициста Юрия Полякова, который обладал большим талантом по созданию новых русских слов и терминов. Например, он широко применял в своих повестях слово еврист, которое расшифровывается как сокращение из двух слов еврей + юрист, причём не в пренебрежительном смысле, а скорее с юмористическим подтекстом. Этот пример из литературы можно привести в качестве свидетельства о подавляющем количестве юристов-евреев по меньшей мере среди лиц этой профессии в обеих столицах России.
Евреи, возможно, вполне заслужили такой статус и авторитет своей самоотверженной борьбой с царизмом и контрреволюцией. Здесь следует вспомнить о колоссальном влиянии комиссаров в Красной Армии в Гражданскую вой ну и даже потом в Отечественную Вой ну, а они все почти без исключения были евреями.
Можно довольно уверенно утверждать, что без активного участия Российского еврейства в начале 20-го века в Революции, а также в первые десятилетия после Революции отстоять и построить новое Социалистическое государство едва ли было бы возможно. Только они обладали бескомпромиссностью, достаточной революционной жесткостью и решительностью для удержания и укрепления завоеванной власти, опираясь при этом часто на криминальные элементы и деклассированные элементы, как якобы жертвы капиталистической эксплуатации, по крайней мере в первое десятилетие Советской власти.
Степень присутствия евреев во всех ветвях власти и управления страной в 20-х и 30-х годов совершенно не соответствовала их относительной численности среди населения России, даже после того, как Польша, Прибалтийские страны, Финляндия и другие регионы бывшей России вышли из состава СССР. Даже сравнительно большая эмиграция заграницу зажиточных и богатых евреев во время Гражданской Войны и в первые годы после нее не слишком снизили их долю в общей численности населения Советской России. Они сразу поняли, какие блестящие перспективы открываются для них в этой стране и не стали терять время на пустую болтовню, учитывая их прагматизм. Эта их гегемонное положение в стране не могло не вызвать скрытое недовольство остального народа.
Этот краткий экскурс был дан для объяснения того факта, что, если доносы поступали от граждан еврейской национальности, то им всегда давали ход, и граждане, объекты доносов, в данном случае мой отец, как, впрочем, и многие другие, в подобных обстоятельствах не имели никаких шансов оправдаться и осуждались на различные сроки.
Жизнь и работа отца в Москве в предвоенные годы. Аресты и ссылки. Его записки о том времени
Когда отец принял поспешное решение о переезде из Минска в Москву, ему явно изменила его способность к предвиденью, унаследованная от его матери. Уж лучше бы он не торопился и нашел бы пути к примирению с властями Минска, и их можно было найти, так как его уважали и ценили в Консерватории, как очень хорошего педагога в области композиции и песенного творчества. Но слишком уж большим был соблазн всё бросить и уехать, как это сделал его учитель Глазунов в подобных обстоятельствах, когда комсомольцы и молодые честолюбивые преподаватели в Ленинградской консерватории хотели насаждать там свои новые порядки, не считаясь с его мнением. Глазунов просто отказался от директорства, всё бросил и уехал за границу, якобы лечиться. Глазунов был всемирно известным композитором, его лично знал Горький и творческая интеллигенция Запада. Он мог себе это позволить. Отец, к сожалению, не сразу это понял и не осознал разницу между собой и Глазуновым, поэтому и поплатился за это.
Всё это оказалось не так безболезненно для отца, как он сначала думал. Я многое забыл из событий того времени. Всё же донос Любана и независимое поведение отца не остались без последствий, и он получил свой первый срок ссылки, но по-видимому краткосрочный, однако усугубивший его дальнейшую судьбу. В конце 20-х годов и в начале 30-х новая власть ещё не была так жестока, как после 1937 года, и он сравнительно легко отделался, но уже попал в поле зрения органов, как неблагонадежный, и это потом сказалось на всей последующей его жизни.
Вот как сам отец описал всё, что с ним произошло после бегства из Минска со своей новой семьей и в начале 30-х годов.
«В 1931 году надо мной разразилась гроза, жизнь моя кончилась и начались бесконечные несчастья. Я был вызван из дома повесткой в ГПУ (17-й отдел по делу СПО), как свидетель по делу Яновича. К этому делу я не имел никакого отношения и связь моя с ним состояла только в том, что я работал в антропологическом отделе Тимирязевского института на Пятницкой и потому иногда бывал у него, а он бывал у меня. По тайному доносу какого-то негодяя (по-видимому, Цингова) меня допросили и так как я не мог указать, кто бывал у Яновича, меня задержали и продержали 3,5 суток в «собачнике» на Лубянке, а потом 21 апреля заключили в Бутырскую тюрьму, где предъявили мне обвинение по статье 58–10. Когда я спросил, что это значит, следователь ответил: «Агитация против Советской власти». «А когда это было?», – спросил я. «Это не важно», – ответил следователь (Изукатуков М.О). «Распишитесь, что обвинение вам предъявлено.»
«Я расписался и этим закончилось следствие. Мне было объявлено, что я высылаюсь на 3 года в Восточную Сибирь. Никакого расследования и суда не было, никаких судей я не видел, и они меня не видели. Каторжники и убийцы, обвиняемые в преступлениях, имеют возможность сказать что-то в свое оправдание, мне же этого права не дали, не дали также проститься с женой и сыном и полураздетым с 3 руб лями в кармане отправили за 5000 верст в Иркутскую тюрьму.
Подробности о моей первой ссылке и работе там я могу написать, если суд пожелает ознакомиться, они изложены в некоторых моих заявлениях и жалобах. Я был бы счастлив, если бы нарсуд их востребовал и лично убедился в несправедливости постигшей меня кары. Ответы этих учреждений на мои ходатайства и жалобы имеются в моем деле.
В Иркутске я работал в клубе ГПУ членом-консультантом Восточно-Сибирского радиоцентра, руководителем художественного радиовещания. Через несколько месяцев меня с группой заключенных перевели в Красноярск, где я также работал на радио, как художественный руководитель радиовещания (прикладываю удостоверение № 114 Красноярского радиоцентра 1932 г.). Я занимался концертной деятельностью в качестве певца и артиста и давал частные уроки музыкальной теории.»
Мать после переезда в Москву некоторое время работала в школе учительницей музыки или пения. Она дружила с Раисой Федоровной. Отец, когда вернулся в Москву с матерью и мной, с помощью своих друзей выхлопотал для Раисы Федоровны маленькую комнатку для прислуги в 5 кв. м. (тогда это было крайне трудно), где она стала жить отдельно от нас, хотя постоянно ежечасно и ежедневно общалась с нами, составляя как бы одну семью. Она перенесла всю свою нерастраченную материнскую любовь на меня и ее жизнь буквально приобрела новый смысл. Отец, мать и я ей многим обязаны.
Чувствуя свою ответственность за свою старую подругу, отец делал всё, что мог, чтобы скрасить ее дни, но в 1937 году она умерла после непродолжительной болезни и была похоронена на Дорогомиловском кладбище Москвы недалеко от Киевского вокзала. Это кладбище давно уже снесли ещё до начала войны. Сохранилась фотография начала 20-х годов с изображением отца и Раисы Федоровны на Кавказе в Мацесте, где отец и Раиса Федоровна лечились водами и на фото выглядели уже старыми. Тогда рано старились.
Следует упомянуть, что в 1930 или 31 году у матери в Москве родился ещё один ребенок, мой младший брат Варлам, который через несколько месяцев умер. Соседи и подруги матери и Раисы Федоровны считали, что этому поспособствовал Цингов, старший по квартире, работавший преподавателем по общеобразовательным предметам в Московской Консерватории. Он был мало занят на работе и почти всегда находился дома и не давал сушить пеленки в ванной, везде открывал форточки даже зимой для проветривания. Варлам сильно простудился и вскоре умер, как говорили соседи и подруги матери, в значительной степени из-за недоброжелательных отношений Цингова (Цинги) к моей матери и отцу.
Выселение нашей семьи из квартиры отца во время его пребывания в ссылке
Вот как сам отец описывал жизнь моей матери и своей жены в Москве в своей жалобе в прокуратуру на несправедливый приговор народного суда (сентябрь 1939 года):
«После моего ареста и высылки в Сибирь жизнь моей жены в Москве превратилась в сплошное страдание. Она с маленьким мальчиком оказалась без всяких средств к существованию. Нужно было его кормить, смотреть за ним и пр. Как опытная учительница она поступает на работу в школу для глухонемых. С утра она была на работе и оставляла сына на попечении соседей. Когда возвращалась с работы в 1 час дня, Цингов всячески преследовал ее. Все дети одинаково мочатся и матери стирают и сушат пеленки дома. Цингов запрещал ей это делать, видя повешенные пеленки, он сбрасывал их или выкидывал их в мусорный ящик. В то же время пеленки его собственной дочери стирались и сушились здесь же и беспрепятственно. Были случаи, когда пеленки ее сына зимой и осенью не сохли на чердаке (ей пришлось сушить их там), тогда жене приходилось их сушить дома. Жена стала стирать и сушить пеленки ночью после 12 часов. Цингов запретил и это. Он специально вставал ночью и их выбрасывал. Не имея сухих пеленок и подвергаясь сквознякам, сын опасно заболел воспалением среднего уха. Лишенный ухода со стороны матери, он был помещен в ясли, но там его чем-то заразили. Он ещё сильнее заболел и лишь чудом выжил после нескольких месяцев болезни, благодаря круглосуточному уходу за ним жены.»
«Жена, лишенная мужа, измученная болезнью сына и преследуемая Цинговым, получила сильнейшее нервное расстройство, не спала ночей, стала плохо соображать. Цингов при помощи каких-то таинственных связей с милицией сумел добиться того, что от нее милиция стала требовать, чтобы она освободила занимаемую площадь. Наша комната была очень хорошая и все бросились хлопотать, чтобы захватить ее и впереди всех сам Цингов. Домоуправление поддерживало мою жену, рекомендовала ей никого не слушать и не выезжать (Домоуправ Ильин Борис Петрович из кв. 20 этого же дома). Школьная администрация тоже заступалась за жену. Но, терроризируемая Цинговым, который каждый день вызывал милицию, жена в таких условиях впала в полную прострацию и ничего уже не могла делать, и, конечно не могла бороться с таким опытным крючкотвором и казуистом, как Цингов.
Кончилось дело тем, что он так запугал ее, что она вообразила, что у нее могут отнять сына и в припадке временного умопомрачения решилась бежать с ребенком ради спасения к своей матери в город Чериков. Она начала с помощью соседей кое-как упаковывать вещи, кое-что продала по дешевке, чтобы были какие-то деньги, при этом много вещей было разворовано при такой суете. Цингов всё время руководил этими сборами, везде вынюхивал и высматривал, где что лежит. В этой спешке и неразберихе пропали многие мои рукописи, документы, письма, нотные материалы и пр. Всё это ворохами валялось на полу, затем выбрасывалось. Таким образом была уничтожена большая часть моей переписки с рядом известных писателей и композиторов, драматургов и ученых, с Пятницким, Рыбаковым, Добровольским, а также с академиком Шахматовым и с многими другими видными деятелями Российской культуры, имевшая большую биографическую ценность.
Таким образом, жена, устрашенная таким погромом и бросив всё, с малолетним сыном уехала к своим родителям в г. Чериков в Белоруссии, при этом Цингов усиленно ей в этом содействовал, так как надеялся получить эту комнату, но домоуправление и жилищное управление ни ему, ни другому претенденту комнату не отдали. Заперли ее на замок и опечатали. Однако это ее не уберегло.»
В решение о вселении в нашу большую комнату «более достойных претендентов» в отсутствии отца и матери вмешались более высокие инстанции. Однажды в квартиру вошли милиционеры, взломали замок и вселили в нашу комнату А. Иванову и П. Шатона. Отец в это время был в Сибирской ссылке, а мать со мной в Белоруссии у родителей в городе Черикове.
Правление жилтоварищества научных работников пробовало их выселить по суду, но они оказались сильнее и у Правления ничего не получилось.
Далее отец пишет: «Цингов, обозленный тем, что моя комната опять ему не досталась, перенес свою злобу на мою жену, когда она спустя некоторое время вернулась из Черикова за некоторыми вещами и обратилась в 6-е отделение милиции, чтобы узнать, почему в ее комнате живут чужие люди. Цингов уже по телефону предупредил начальника отделения о ее возвращении и тот принял соответствующие меры».
«Вместо ответа на этот вопрос, ее посадили там в кутузку с воровками и проститутками и прочими обитателями таких мест. Скромная женщина, провинциалка из патриархальной семьи, с расстроенной психикой после событий последних недель, очутившаяся в таком аду, совсем потеряла представление о реальности и когда ее отпустили, с трудом добралась до соседей, забыв о цели своего посещения милиции» Ей пришлось срочно вернуться в Чериков, так ничего и не добившись и опасаясь даже за свою жизнь.
При жизни матери мы несколько лет подряд из Москвы ездили отдыхать на лето в Чериков. Я рос там до пяти или шести лет в большом доме, окруженном обширным яблоневым садом и пасекой.
Властная бабушка, хозяйка большого дома и огромного сада, не любила моего отца, и я это чувствовал. Она считала его слишком старым и чуждым ее семье. Ее мужа я не застал в живых, а братьев матери видел, знал и любил.
Мой дед по матери Петр Петрович Керножицкий был основательным человеком, хорошим садоводом и пчеловодом. Зажиточно жил до Революции. Он не выдержал всех бед и неприятностей нового времени, заболел и довольно скоропостижно умер в 1925 или 26 году. Он своевременно послал своего сына Арсения Петровича на курсы бухгалтеров. Этого его сына я хорошо знал и любил. Он прошел две войны: Гражданскую и Отечественную, и умер в 1965 или 66 году в Черикове, в Белоруссии. Уже после окончания Отечественной Войны, вернувшись с фронта в Чериков и получив участок земли на берегу реки Сож для строительства дома, мой дядя в возрасте приблизительно 50 лет женился на очень молодой местной девушке, которая ему родила в течение нескольких лет трех дочерей и двух сыновей. В то трудное послевоенное время он должен был тяжко работать, чтобы прокормить всех, при этом в свободное время занимался также ловлей рыбы в Соже, которая сильно размножилась за годы войны. Рыбой эта семья преимущественно кормилась и обменивали ее на другие продукты.
Маму мою, свою дочь Евгению, дедушка Петр Петрович в соответствии с ее склонностями отправил учиться в Минское музыкальное училище, о чём я уже писал.
Почему моя бабушка и ее подруги невзлюбили отца, как мне тогда казалось? А почему они должны были его полюбить, довольно старого и чуждого им по всему своему складу и духу. Жители захолустного Черикова и наши соседи знали друг друга многие годы, судачили, сплетничали и злословили, как обычно. Ничего нового и необычного. Семье моей мамы доставалось, как теперь говорят, по полной программе. Семья была сравнительно зажиточная с большим домом, обширной пасекой и огромным фруктовым садом и, следовательно, владела большим участком земли. Однако Советская власть всё конфисковала, оставила только приусадебный дом, небольшой участок с 10–15 яблонями и грушами и часть пасеки и это только после долгой юридической борьбы моего отца за права этой семьи с захватившим ее собственность местным колхозом. А тут еще, как бабушка считала, неудачный брак ее любимой и единственной дочери, которую она считала красавицей, талантом и умницей.
Далее отец вспоминает в своих записках: «После отбытия срока моей ссылки я немедленно из Красноярска поспешил к моей семье в г. Чериков. Я нашел ее в страшной бедности, жена была больна, и все голодали. Рядом с ними поселился колхоз. Он всё разорил, сжег ограду, продал строения, захватил фруктовый сад и гнал их всех из семейного дома, где он хотел разместить свое правление. Два брата жены ничего не могли сделать, чтобы помочь сестре и матери, хотя жили и служили здесь же в городе. Путем невероятных усилий мне удалось вернуть им родной жилой дом и часть сада, но бедная жена моя совершенно обессиленная всеми гонениями, заболела и 28 февраля 1035 года скончалась у меня на руках в городской больнице, оставив у меня на руках нашего малолетнего сына Костю.
После долгого раздумья я решил всё же оставить Чериков, так как после смерти жены меня с ним мало что связывало и отправиться с Костей к своим родителям в деревню Пожарки – мою родину, надеясь оставить Костю на некоторое время у них и затем отправиться в Москву по делам о снятии судимости»
В начале осени мы с отцом вернулись в Москву, должен был пойти в первый класс школы. Из разговора отца с родителями, который мне запомнился, я узнал, что мать умерла от отравления крови из-за флюса, который прорвался и отравил организм. Это была роковая случайность в ее несчастной судьбе. Ее болезнь и смерть были скоропостижны и неожиданны для родных и знакомых. Она была похоронена на городском кладбище Черикова. На ее могиле был поставлен большой деревянный крест и посажен большой куст жасмина – ее любимый цветок. Сохранилось свидетельство о ее смерти на белорусском языке.
После смерти матери мы с отцом больше уже не ездили в Чериков к теще и ее сыновьям.
Это была последняя фотография матери с мной, сделанная по просьбе отца в отца в письме из сибирской ссылки. В 1935 году ее уже не стало. Сохранилось и последнее письмо матери к отцу, в котором она извещает его об этом.
Жизнь с отцом в Москве после смерти матери. Продолжающиеся преследования отца судебными органами
Похоронив жену, отец прожил в Черикове до весны и затем, взяв меня, решил поехать к своим родителям в деревню Пожарки в Калужской губернии около г. Малоярославец. У родителей отца мы прожили до октября 1935 года. (Этот эпизод более подробно описан в начале книги).
Далее отец пишет: «Вернувшись в октябре в Москву, я оставил сына на попечении подруг моей жены в Трубниковском пер., дом 26, кв. 12 в маленькой комнатке, а сам выехал за город, так как меня в Москве не прописали. Когда я посещал Москву и заходил проведать сына, Цингов и Иванова, захватившая нашу комнату, немедленно извещали милицию о моем появлении в квартире. Я подал заявление в прокуратуру о возврате мне незаконно отнятой комнаты, но мне отказали, говоря, что я не имею права жить в Москве. Прокурор Евзирихин грубо накричал на меня, называя контрреволюционером, из чего я заключил, что он кем-то был против меня настроен, при этом он даже не заметил, что, если я этого права лишен, то этого права не лишен мой сын».
Тогда я обратился к тов. Холщевникову (Кузнецкий мост, 24) с просьбой пересмотреть мое дело. Тот ознакомившись с делом, ответил, что в сущности ничего страшного нет, пересмотр не нужен, только нужно подать заявление о снятии судимости и тогда всё остальное само собой отпадет. Я немедленно подал такое заявление в Комиссию по делам частных амнистий и приложил оригинал справки, выданной мне Красноярским ОГПУ, где было указано, что мне разрешено свободно проживать на всей территории СССР и другую справку о том, что Красноярский Горсовет в связи с отбытием мной административной ссылки, восстановил меня во всех гражданских и политических правах.»
«Более двух лет я не имел ответа на это ходатайство, несмотря на несколько повторений и напоминаний. Наконец, мне ответили, что моя просьба осталась без удовлетворения. Об этом ответе узнал и Цингов и с милой улыбкой преподнес его мне на простой открытке. Вся моя корреспонденция по Московскому адресу им просматривалась и подвергалась его «цензуре». Многие письма, как я потом узнал, он просто утаивал, например, письма друзей и знакомых, вызовы на работу и пр.»
«Этот отказ прокуратуры в моем ходатайстве его страшно обрадовал, и он сочувственным тоном дал мне совет взять сына и куда-нибудь уехать, хотя бы в Калугу. На это я ответил «Я не хочу!». «Тогда тебя нужно расстрелять» – воскликнул он злобно. На что я ответил, что не известно, кого из нас Советская власть расстреляет, может быть не меня, а его.»
После выселения нас из большой комнаты (отец был в ссылке) маленькая комнатка при кухне оказалась полностью забита книгами, столом, одним или двумя стульями, большим сундуком на котором была устроена постель для меня и отца.
Еще отцу удалось потом втиснуть в нее фисгармонию – маленькое пианино, но с другим принципом извлечения звука. У нее были меха, как у гармоники или аккордеона. Вот так мы с отцом сразу оказались в очень стесненных обстоятельствах в прямом и переносном смыслах.
Отец пишет: «В настоящее время он (Цинга) старается во что бы ни стало выжить из этой квартиры моего 11-летнего сына Константина – ученика 593-й школы на Новинском бульваре и музыкальной школы в Советском районе. Вследствие его доносов по телефону в 5-е отделение милиции, там создалось против меня известное предубеждение, и с чем бы я не обращался туда, мне всегда решительно отказывали. Таким образом, 5-е отделение, доверяя доносам Цингова, допустило в своем показании ряд неправильностей и ошибок, для выяснения которых я бы мог сообщить суду подробности моих взаимоотношений с Цинговым… (Начальник милиции сам боялся за свое место в случае доноса на него такого опытного крючкотвора, как Цингов, если бы он не делал то, что требовал от него Цингов. В противном случае последний обратился бы к вышестоящему начальству с жалобой на этого начальника, как не реагировавшего на сигналы «честного гражданина, члена партии»).
Далее отец продолжал: «В 1926-27 годах жилищное правление секции научных работников под председательством академика Чаплыгина при участии членов-юристов Ю. Соколова, Волошнявича и др. членов правления, выделило комнату для моей семьи, состоящей из жены, моего сына Константина 28 года рождения (в 1930 году родился мой второй сын Варлам).»
«На этом заседании присутствовал отв. съемщик квартиры 12 А. Цингов, который сам рассчитывал получить эту комнату. Он стал энергично опротестовывать предоставление ее мне и членам моей семьи, уверяя, что квартира переселена, но на его протесты и возражения не обратили внимание. Комната была предоставлена мне и членам моей семьи.» Цингов также добивался выселения проживавшей в квартире 12 семьи Деминых (главой семьи был бывший царский офицер), с которой Цингов находился и находится в ссоре. Демины не подают Цинге руки и называют его за глаза презрительной кличкой Рыжий.
Пока его ненависть выражалась в мелких каверзах и придирках. Так, например, у него была сумасбродная привычка раскрывать в кухне настежь все окна зимой, невзирая на то, что там в это время находились женщины, готовившие еду на общей газовой плите, а также дети, для которых внезапное охлаждение сильными порывами холодного воздуха представляло смертельную опасность. Поэтому все были против его своеволия, даже его собственная жена. В результате такого самодурства моя бывшая жена Раиса Федоровна Чигина, проживавшая в комнате при кухне, получила сильнейшее воспаление легких и была отправлена в больницу, где она пролежала больше двух месяцев. Никакие возражения против этого бесчинства и просьбы не открывать окна, когда в кухне много людей, не помогали.
Такие как Цингов, были довольно распространены в начальный период Советской власти. В этой связи можно вспомнить роман Каверина «Два Капитана». Писатель в нем прозорливо выявил типичный образ приспособленца, который ловко использовал возможности нового времени, чтобы благополучно устроиться в Советской среде.
Последние годы отца на свободе (1937–1940 годы). его и моя жизнь в это время
Все годы после возвращения из ссылки отец жил в Малоярославце, возможно на частной квартире, а может быть даже у одного из своих братьев. Он это осторожно умалчивал по известным причинам. В Москву он выезжал один или несколько раз в неделю, боясь задержаний. Он не мог уложиться в один день, чтобы вернуться назад и ночевал, где придется. Часто у своих друзей. В Москве у него было несколько учеников, которым он давал частные уроки. Возможно, он ночевал у них. Я знал таких его учеников как Николай Пушечников, Геннадий Прошкин (Провоторов), Алексей Ковалев, Виноград с Арбата и ряд других, но о последних я мало знаю. Уроками он в основном зарабатывал на жизнь и на содержание меня в Москве.
Отец всё время пытался найти постоянную работу и к нему поступало много выгодных и интересных предложений, но все они оканчивались ничем, когда узнавали, что у него нет московской прописки. Говорили, приходите в любое время, когда вы получите московскую прописку. Это место остается за вами. Когда же он обращался в административные органы, ему говорили, что дадут ему московский прописку, когда он устроится на работу. Заколдованный круг, из которого не было выхода.
Вот как отец дальше пишет в своем документе о том времени, когда он тщетно пытался устроиться на работу в Москве и получить московскую прописку.
«Мой сын в это время жил в кухонной комнатке вместе с Р. Ф. Чигиной, очень редким и совершенно безответным человеком, не имевшим никого из родных и близких, кроме меня. Она была полностью запугана Цинговым и боялась его, как ядовитого скорпиона. Он пытался выжить и ее с моим сыном из квартиры, но домоуправление сдерживало его, не давала ходу его ходатайствам. В отместку он добился, чтобы выбросили из большой прихожей наши вещи, которые там лежали аккуратно уложенные и никому не мешающие, после того как нас выселили из большой комнаты. В той же прихожей много места занимали ненужные ему книги, но это ему не помешало добиться выброса наших вещей, которые жена там поместила, когда ее с сыном выселили беззаконно из большой комнаты. Комендант дома послушался Цингова и перенес их в незапираемый подвал, где их сразу же разворовали, принеся нам ущерб в несколько тысяч руб лей. Я хотел немедленно подать на Цингова в народный суд, но Раиса Федоровна слезно умолила меня не делать этого, так как он тогда вообще сживет ее со света с сыном. Скрепя сердце, я отложил это дело до более удобного времени».
«Осенью 1937 года, приехав из Малоярославца в Москву, я застал Раису Федоровну больной. По своему обыкновению, Цингов раскрыл на кухне окно, несмотря на холода, и она получила сильнейшее воспаление легких, уже третье за последние годы, и ее ослабленный организм на этот раз не выдержал, и она скончалась.
Похоронив ее, я через некоторое время обеспокоенной судьбой моего сына Кости, обратился в Управление жилищного товарищества научных работников с просьбой, чтобы эта комната была закреплена за моим сыном. Моя просьба была удовлетворена и у сына оказалась комната.
Цингов был в бешенстве, так как он имел собственные расчеты на эту комнату и надеялся, что если комнатки при кухне у нас не будет, то я возьму сына и куда-нибудь уеду.
По советам знакомых адвокатов, я обратился в соответствующую администрацию с ходатайством прописать меня в комнате моего сына, как его родного отца и естественного опекуна, но в этой законной просьбе мне было отказано.»
Далее отец пишет: «Я обратился напрямую к тов. Крупской, чтобы она помогла мне жить вместе со своим родным малолетним сыном и воспитывать его. Однако секретарь Крупской переслал мою просьбу в канцелярию тов. Калинина, где она и находилась без движения долгое время. Никакого ответа я на свое обращение не получил и пришлось срочно уехать из Москвы в Малоярославец из-за возможности задержания милицией.
Подруги покойной жены хотели помочь мне и присмотреть за сыном в мое отсутствие и даже взять на себя опекунство, так как некоторые из них были одинокие и бездетные женщины. Однако они отказались, когда представили себе перспективы своего ежедневного общения с Цинговым. Они просто боялись, что он обязательно сделает им какую-нибудь подлость.
Я всё-таки подобрал сыну опекуна и, торопясь уехать, попросил домоуправление временно прописать его в комнате сына, но домоуправление решило, что мужчина не подходит в качестве опекуна мальчику и рекомендовала мне временно прописать в качестве опекуна лифтершу этого дома Агафью Агапову, безграмотную грубую женщину, которая на этих условиях соглашалась и дальше работать лифтершей в доме. Ей очень была нужна прописка, чтобы закрепиться в Москве.
Я совершенно не знал Астахову и думая, что ее хорошо знает домоуправление, в спешке дал свое согласие и, конечно, попал ещё в одну беду.
Когда я весной вернулся в Москву навестить сына, хозяйкой комнаты оказалась Астахова, много вещей было выброшено, чтобы ей было удобней жить, шкафы были взломаны и многое пропало, сын был согнан со своей постели и его место заняла Агафья. Сын спал, где придется по ее усмотрению. Когда мне ее рекомендовали, то обещали по первому моему требованию Астахову удалить из комнаты. Когда я ей сказал, что она больше не нужна, и я прошу ее выехать, она отказалась это делать. Пришлось мне с ней в течение полгода судиться о ее выселении, при этом Цингов притих, так как он понял, что лучше ему иметь моего сына в этой прикухонной комнатке, чем Агафью, с которой ему было бы трудно справится, да и все жильцы квартиры были против нее. При этом выяснилось, что домоуправление также ее совершенно не знало и ее рекомендовал новому домоуправляющему именно Цингов.
Мы с сыном были совершенно замучены судебной волокитой. Суд был долгим и трудным. Только в январе 1938 года суд, к счастью, завершился в пользу сына, и я смог выехать в город Чебоксары, где мне предложили интересную и хорошо оплачиваемую работу. И, конечно, здесь же появился донос на меня со стороны недоброжелателей, наверное, Цингова. Но он не имел для меня последствий и был просто подшит к моему делу.»
Суд над отцом, приговор и отправка в тюрьму в Сибирь в 1940 году
Как отец пишет, «В конце мая 1938 года я вернулся в Москву и явился в отдел педагогических кадров ГУУЗ, чтобы стать на учет и получить новое назначение на работу. Начальник отдела порекомендовал мне обратиться в 5-е отд. Милиции, чтобы получить разрешение на временную прописку в комнате сына, пока не получу назначение на работу. Когда я явился в милицию, то ходатайство мое не только не удовлетворили, а наоборот задержали меня, оштрафовали на 25 руб лей за незаконное появление в Москве и взяли подписку о немедленном выезде.»
Вообще, дело обстояло более трагично для отца, но я не захотел об этом писать, слишком уж тяжело. К отцу в Москве в отделении милиции относились как к ссыльному, пораженному в правах, а отец считал себя восстановленным в правах, ссылаясь на документы, выданные ему местными ОГПУ при освобождении, как свободному гражданину, отбывшему ссылку, разрешающие ему проживание по всей территории СССР. В очередной раз отец проявлял наивность, считая, что он действительно стал свободным. Он не знал и не мог учитывать, что уже тогда у милиции Москвы были свои ведомственные документы, инструкции и указания, в соответствии с которыми его, как бывшего ссыльного, потенциально опасного для власти, надлежало выдворять из Москвы за 101 км, как минимум.
Получив распоряжение милиции и уплатив штраф 25 руб лей (это приличная сумма по тем временам), отец поспешно покинул Москву, опасаясь более серьезных мер, и направился, как он пишет, на свою родину, т. е. в Малоярославец и может быть даже в деревню Пожарки. Изредка он посещал Москву по неотложным делам и меня, но тайком. Каждое его посещение грозило ему новыми доносами со стороны Цингова. Однажды в конце июля 1938 года милицию предупредил Цингов, что отец должен скоро появиться, и его встретил в квартире участковый с дворником (так тогда надлежало) и снова отвел его в милиции, где с него взяли подписку о выезде в 24 часа. Отец выполнил предписание и выехал в Малоярославец, взяв с собой меня и заперев комнату. Однако милиция извратила этот факт и утверждала в протоколе, что отец не выполнил предписание. Однако всё обошлось, благодаря тайной помощи сочувствующего паспортиста из милиции.
Когда отец со мной вернулся в Малоярославец, то решил, по совету упомянутого паспортиста, срочно временно прописаться там, но город и так был переполнен в это время дачниками, поэтому ему не удалось быстро там найти жилье и прописаться. К тому же собственники жилья боялись прописывать отца, как бывшего ссыльного, опасаясь неприятностей со стороны властей. Поэтому отец ютился со мной, где придется. В свою деревню к родителям он не мог отправиться, так как он в это время был занят частыми поездками в Москву для хлопот по устройству меня в музыкальную школу. В это же время отец ждал решения органов о снятии судимости и его уверяли, что всё в порядке, скоро будет положительное решение. Однако время шло и ничего не менялось.
В это время отца постигло ещё одно несчастье. В магазине из заднего кармана брюк у него украли паспорт, думая, что это деньги, а также мою метрику и другие документы. Таким образом, он был вообще лишен возможности где-нибудь прописаться, работать, вести какие-либо дела. Он обратился в стол находок, но безрезультатно. Положение его осложнилось. Осталась одна возможность – устроиться на работу в Москве. Только 29 августа 1939 года отцу была выдана путевка на работу в Московских музыкальных курсах для взрослых при Моссовете. 31 августа отец был зачислен на работу директором Музыкальных курсов и заведующим учебной частью и получил удостоверение о работе в Москве. Всё как будто налаживалось. Органы по трудоустройству ему сказали, что дальше ему нужно обратиться в милицию, чтобы там оформили на него паспорт и временно прописали в комнате сына.
Здесь мной был подмечен интересный момент, характерный для того времени – всевластие органов правопорядка нижнего уровня на местах. Они, руководствуясь своими интересами, могли легко игнорировать устные указания вышестоящих начальников среднего уровня, особенно, если они давались по телефону. Отец, окрыленный тем, что, наконец, всё решится, явился в свой районный отдел милиции, не взяв с собой ничего, но там его задержали, составили протокол, обвинили в незаконном проживании в Москве и посадили в подвал, заполненный уже сидевшими там ворами, грабителями и пр., где ему, 69-летнему старику, уже больному склерозом, пришлось мучиться в спертом воздухе подвала, пропитанном табачным дымом и запахами уборной, которая находилась здесь же.
Каким-то образом он смог оповестить меня о своем задержании и попросить, чтобы я ему принес кое-что и передал в окно подвала какие-то вещи, что-то поесть, я уже подробностей не помню. Помню лишь, что передал ему какие-то вещи и продукты, а он передал мне через полуподвальное окно какое-то грязное белье, терпкий запах которого пропитал мою комнатку и потом долго преследовал меня. Вообще потом этот запах грязи, уборной, страданий и мучений людей, я всегда связывал с запахом всех тюрем России и, наверное, тюрем всего остального мира.
Возможно, это был последний раз, когда я видел отца живым через окно подвала отделения милиции в одном из переулков Арбата. После отсидки в подвале милиции его поспешно осудили и куда-то сослали в Сибирь.
Дальше я не стал развивать тему пребывания моего отца в ссылках и тюрьмах из-за отсутствия у меня сведений, так как писем и записок от отца я больше не получал. Новая советская литература полна записок бывших ссыльных и заключенных до войны. Некоторым из них посчастливилось уцелеть и выйти на свободу до войны или даже во время войны.
Свою завершающую позорную роль после возвращения отца из сравнительно кратковременной второй ссылки в начале 30-х годов сыграл сосед Цингов, проживающий в одной квартире с отцом, о котором я уже писал выше, своими регулярными доносами в органы о нарушении бывшим ссыльным предписанного режима (т. е. жить не ближе, чем 101 км от Москвы), когда отец тайком приезжал из Малоярославца, чтобы кратковременно навестить меня и иногда оставался на ночь, чтобы ранним утром скрытно уехать обратно. Цинге каким-то образом это удавалось обнаруживать, и он сообщал в милицию, что отец опять приехал и нарушил запрет на посещении Москвы бывшими ссыльными. Отца задерживали и в лучшем случае высылали обратно в Малоярославец, а в худшем случае помещали в изолятор и оформляли на него дело с ожидаемыми тяжкими последствиями, Отец, как я помню, сидел в подвале с разными ворами и бродягами, дожидаясь своей участи. Я приносил ему какие-то передачи и даже кое-что передавал ему в подвальное окно. После этого он уже не появлялся у меня дома, хотя я получил одно или два письма (записки) от него, а перед самой вой ной он совсем перестал давать о себе знать, просто исчез в бескрайней Сибири.
