Читать онлайн По волчьему следу бесплатно
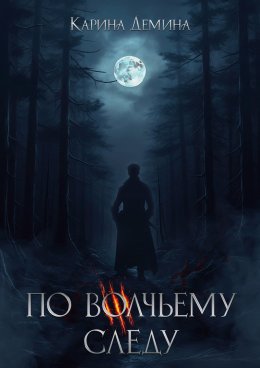
Пролог
От пальцев пахло кровью. Этот запах был приятен и неприятен одновременно, как и ощущение липкой жижи, что уже начала подсыхать, схватывая кожу черною пленкой.
Человек поднес руку к лицу и лизнул.
Зажмурился, прислушиваясь к тому слегка солоноватому металлическому привкусу, что остался на языке. И вздохнул.
Не то.
Совсем не то.
На какое-то время и этого хватит, конечно, да и выбора особо нет.
Раздражение накатило и было таким острым, что он вцепился себе в руку, сдерживая крик. Так и сидел минуту, может быть, две, пока не отпустило.
Надо вставать.
Надо что-то делать.
Думать.
Человек не собирался сдаваться просто так.
Он сжал кулак, силой воли унимая дрожь в пальцах. Вот так. Справится. Обязательно. Поднялся, медленно, превозмогая легкую судорогу, что прошла по телу. Несколько мгновений просто постоял, контролируя дыхание. Глубокий вдох и долгий медленный выдох. И снова. Пока в голове не прояснится. На негнущихся ногах человек подошел к дереву и вытер измазанные кровью ладони о ствол.
Пальцы пробежались по зарубкам.
Он хмыкнул.
Человек помнил каждую из них. Не именами, нет. Вот эта, самая первая, почти уже стерлась. Тогда человек был слаб, впрочем, как и его добыча. Вторая и третья – не лучше. Это даже охотой назвать нельзя было. Так… случай.
Везение.
Тогда повезло ему. И потом снова и снова, пока везение не сменилось мастерством. Он становился сильнее. Раз за разом, раз за…
Пальцы впились в длинную глубокую полосу. Она начиналась раньше остальных, да и сама была длиннее, а в конце нож и вовсе соскользнул.
Ничего.
Он снова заставил себя дышать правильно. Справится. Надо лишь найти правильную добычу.
Где?
Нынешняя висела, подцепленная на крюк. Человек уже выпотрошил её. Кишки он отнес в яму, чуть прикрыв ветками и клочьями мха. Лисам и хорькам он не помеха, но и пускай. Настоящий хищник на требуху не позарится. А вот печень человек вытащил и бережно завернул в свежие листья лопуха. Надо бы поспешить, еще пару часов и пользы в ней не останется.
Нож лег в руку, и человек занялся привычным делом.
Разделку он никогда-то не любил, но умел. Правда, сейчас его мысли занимало иное. Добыча… нынешняя была молода. Сильна. Но не настолько, чтобы этой силы хватило. Легче ведь не стало.
Почему?
Пальцы вдруг соскользнули с рукояти, и нож, вывернувшись из них, полетел во мхи.
– Чтоб тебя! – выругался человек. Мох успел пропитаться кровью, а значит, мелкий сор налипнет и на клинок, и на рукоять, и на пальцы.
Грязь.
Очередной приступ ярости накрыл человека с головой и, не способный справиться, он застыл, чувствуя, как сводит болью мышцы, как делаются они деревянными, как трещат кости, готовые меняться, но…
Из горла вырвался хрип.
Он сменился стоном. А стон – воем. Лес содрогнулся, услышав этот отчаянный зов и плач. С шумом взлетела сорока, а со старого дуба сорвалась пара медных листьев.
Сколько все продолжалось, человек не знал.
Боль просто отступила, а тело вот не вернулось. Человек пытался шевельнуться, но снова не смог. И приступ все длился, длился. Он казался бесконечно долгим, хотя наверняка прошло пару мгновений, прежде чем чувствительность начала возвращаться.
Покалыванием.
Судорожным подергиванием лицевых мышц. Наверняка, гримасы были ужасны, но… главное, тело возвращалось. Когда-нибудь – человек знал это совершенно точно – он так и останется заперт внутри его.
Если не найдет лекарство.
Вдох.
Выдох.
И наклон. Такой медленный, потому как воздух кажется плотным, и даже не воздух это – вода. Но человек дотянулся до ножа. Вытащил его. Вытер о штанину. Посмотрел.
На нож.
На тело, что висело на крюке. На вереницы муравьев, уже проложивших дорожки по бурым пятнам крови. Они копошились, подбирая крохи его добычи, доказывая, что прав он.
Кровь – это жизнь.
Он снова поднес нож к губам и слизал. Кровь. Муравья, прилипшего к ней. Мусор. Кровь – это жизнь… основа основ.
И в голове снова зазвучал тихий голос учителя:
– Помни, что волк жив, пока может идти по следу.
Он может.
Пока.
И будет мочь дальше. Он сумеет… справится. Потому что выбора нет. А значит… единственное, что хорошо было в приступах, так это то, что мысли после них становились донельзя ясными.
– Сила, – шепот учителя снова порождал дрожь. Если закрыть глаза, он снова увидит руку, темную, с отросшими ногтями, под которые забилась грязь, с царапинами и оспинами, а еще с кровью, что стекает меж пальцев. И куском мяса, что лежит в руку. – Сила твоего врага перейдет тебе.
И вкус этот он тоже помнит.
До сих пор.
Впрочем, как и иной…
Человек повернулся к дереву. Пальцами нашел лестницу из зарубок, вновь задержавшись на первой, самой слабой. А потом поднялся чуть выше. Смахнул лишайник, расчищая место. Учитель заслуживал памяти. Пусть и такой.
Острие клинка пробило кору.
Чуть надавить.
И в сторону.
Вот так.
Сила… ему нужна сила. И не та, которую человек искал. Он оскалился.
– Я понял, учитель, – сказал он тому, кто вряд ли его слышал, все же человек давно уже не верил в сказки о вечной жизни. Но иногда ему нужно было поговорить с кем-то. С кем-то таким, как он сам. – Теперь я все правильно понял.
Повернувшись к жертве, он поморщился.
Мяса много, это да. Нынешний больше остальных. И крепче. И здоров был. Гордился, что силой, что здоровьем, только… на самом деле он был слабым.
Нужна иная сила.
Совсем-совсем иная.
И человек задумался, почти позабыв об остывшей печени. И о том, что запах крови привлечет не только муравьев и мух, которые уже роились над телом. В ветвях наверняка прятались вороны, осторожные хитрые птицы дождутся, когда человек уйдет.
Он всегда оставлял им мясо.
И не только…
Человек же отчаянно перебирал тех, кто мог бы дать ему силу. И понимал, что их нет. Что все-то, кого он видел когда-либо, не годятся.
Слабые.
Люди в принципе слабые. А потому задача усложняется. Человек прислонился лбом к дереву, успокаиваясь. Не хватало еще третий подряд приступ поймать.
Если рядом нет никого подходящего, то…
Взгляд снова уперся в тело.
Нужно пригласить.
Губы сами растянулись в улыбке. И он точно знал, как отправить приглашение, чтобы на него откликнулись.
Глава 1. Охотники
«Придет серенький волчок и ухватит за бочок…»
Добрая детская колыбельная
Человек, сидевший напротив Бекшеева, не выглядел опасным. Напротив, был он невысок и пухловат, и всем обликом своим вызывал лишь недоумение. Как возможно, чтобы этот, потеющий растерянный мужичок, совершил нечто подобное.
Вот и Одинцов хмурится.
– Уверены? – ему неловко спрашивать.
Я хмыкаю.
– Послушай.
Комната, отделенная стеклом, кажется глухой. Но стоит активировать артефакт, и раздается тихий извиняющийся голос.
– …вы же понимаете, что они сами виноваты! Сами.
– Конечно, – вот чего у Бекшеева не отнять, так это выдержки. Я бы этому поганцу давно шею свернула. И потому держу руки за спиной, пусть даже отделяет меня от урода стекло.
Но стекло тонкое.
– Вот… я не виноват! Не виноват я… так получалось… – он отчаянно потеет, этот человечек, и спешит вытереть пот платком, который мнет в пальчиках.
Платок в них смотрится куда как органичнее чулка.
– В конце концов, я ведь приносил пользу обществу! – он хватается за эту спасительную мысль. – Истреблял разврат… какой пример они подавали?
– Ужасный, – Бекшеев снова соглашается.
А потом будет жаловаться, что ему тошно. И что голова опять болит. У меня же появится желание взять его за эту самую болящую голову и постучать по столу, чтобы у нее действительно повод болеть появился. И глядишь, до хозяина головы дошло бы, что не во всякую грязь соваться стоит.
Хотя… нет.
Не постучу.
Просто заварю травок, из тех, что прислала Отуля, вернее ныне уже княжна Аделаида Михайловна Сапожникова. И заставлю выпить.
А он выпьет. И настолько уставшим будет после этого разговора, что даже на горечь не пожалуется.
Да уж.
– …она на меня посмотрела. Понимаете? Никто никогда не смотрел на меня вот так. Мама моя, она была правильной женщиной…
– Очень властной, – тихо сказала я, хотя там нас не могли слышать. – Соседи говорят, что с нею было невозможно ужиться. Она всех стремилась подчинить.
Одинцов молчит.
По лицу его сложно понять, о чем он думает.
– …и женщина не должна так смотреть на мужчин! Она меня завлекала! А потом стала смеяться. Выговаривать… всякое. Непотребное. Я и разозлился.
Настолько, что задушил.
Нина Первязина, девятнадцать лет. Круглая сирота. Работала на ткацком комбинате, при котором ей выделили комнатушку в общежитии. Девушка веселая, скромностью и вправду не отличавшаяся. Любительница ночных прогулок, дружеских посиделок и вина.
Бутылку нашли рядом с телом.
– Очень разозлился…
– Вас можно понять, – у Бекшеева получилось это сказать даже с участием. Еще немного и сама поверю, что он сочувствует. А вот господин Петров, мещанин сорока семи лет отроду, он и вправду поверил. Закивал часто, так, что все подбородки затряслись. – Такой солидный серьезный мужчина. Любая приличная девушка была бы рада…
– Как он это выдерживает? – Одинцов отвернулся от стекла.
– С трудом. Но…
Заменить Бекшеева некем.
То есть, я могу попытаться. Но не получится. Не вот так, чтобы добровольно и искренне, чтобы под запись, которая ни у одного суда не оставит сомнений, что признание именно добровольное.
– Ты обещал найти кого, – напоминаю, раз уж их сиятельство соизволили заглянуть в нашу нору.
– Я ищу.
– Долго.
– А ты думаешь, так просто это, – он потер голову.
– Еще скажи, что нас закрыть хотят.
– Хотят, – не стал спорить Одинцов.
– Но…
– Не закроют. Их Императорское величество видят, насколько полезен такой вот отдел. Вы остановили семерых.
Восьмерых, если считать Лютика. Но считать не выйдет, потому что Лютика как бы не было. Никогда. И женщин пропавших. И всего остального. Был мелкий локальный конфликт с незаконной добычей альбита. А все остальное – государственная тайна.
Ибо если не тайна, то слишком многое придется объяснять.
Пухлый человечек в шерстяном костюме, шитом на заказ, продолжал говорить. О которой рассказывает? О третьей? Или четвертой? Или о той, о которой мы не знаем? Хотя вряд ли. Этот тела прятать не удосуживался, оставлял прямо там, где и убивал.
– Извини, я помню, что обещал людей. И желающих попасть в ваш отдел хватает.
– Так в чем дело?
– В том, что почти половина – чьи-то ставленники, которые попытаются перехватить власть. И вреда от них будет больше, чем пользы.
– А вторая?
– Еще часть хотят карьеру сделать, а значит, легко пойдут под чью-либо руку, если уже не пошли… да и карьера – это продвижение. Если умны, будут двигать вас. Если не особо – тоже. Есть те, кто ищет надбавок, званий, известности. Есть… много кого есть. Подходящих нет.
– Или кто-то слишком переборчив, – ворчу для порядка.
– А сама-то? – Одинцов открыл дверь и отступил, пропуская меня. – Со сколькими ты работала? И многих позвала?
Я вздохнула, потому что прав он.
Желающих хватало.
И тех, кто полагал, что мы тут, в особом отделе, дурью маемся. Работу себе придумываем, тем самым мешая остальным делать то, что они всегда делали. Были те, кто пытался притвориться друзьями.
Лез настойчиво с этой выдуманной дружбой.
Настырно.
Те, кто глядел искоса и огрызался.
Те, кто шептался за спиной, обсуждая… да чего только не обсуждая, благо, поводов хватало. Бывший муж и нынешний любовник, который, может, любовником не был, но кто ж тому поверит-то? И я, вся такая… роковая некрасавица.
На хрен.
Вот и вышло, что здание нам выделили приличное, да так и осталось оно пустым. Ну, почти. Марьяна Степановна, вдова почтенных лет и строгого воспитания, взялась следить за документами и порядком, да пара человек подвизались на жандармских должностях. С ними я так и не нашла общего языка.
Меня они опасались.
Бекшеева жалели и, кажется, презирали за слабость и тросточку, которую он в Петербурге вовсе не оставлял. Девочки боялись, как огня, а Софьи, когда изволила она нанести визит, и того больше. Кто-то пустил слух, что она смерть то ли предсказывает, то ли приваживает.
– Ты чего приехал-то? – поинтересовалась я, потому как пусть и был господин Петров человеком мерзейшим, но не настолько, чтобы признанием своим отвлечь Одинцова от дел текущих.
Марьяна Степановна, встретившая Одинцова хмурым взглядом, – почему-то она его крепко недолюбливала – поинтересовалась:
– Чайник ставить?
– Через полчаса, – сказала я. – Допрос еще потянется. И за обедом кого пошлите.
Величественный кивок.
И можно не сомневаться. Будет и чайник, и обед, который в Бекшеева придется запихивать силой. Он всегда после этих допросов голодать начинает, а ему нельзя.
– Мне кажется, – заметил Одинцов, прикрыв за собой дверь. – Она меня недолюбливает.
– Тебе не кажется. Она тебя в самом деле недолюбливает.
Кабинет мне тоже выделили.
Большой такой.
С окном огромным, правда, решеткою забранным. С лепниной на потолке и зеркалом, что обреталось в кабинете с незапамятных времен, а потому убрать его рука не поднималась. Хотя вот… ненавижу зеркала.
Девочка, тихо дремавшая у стены, подняла голову, делая вид, что только сейчас Одинцова увидела. Еще притворщица.
Шевельнулся хвост.
И Девочка мило оскалилась, приветствуя начальство. В глазах мелькнула надежда, и Одинцов не обманул. Вытащил из кармана кусок сахара и посмотрел на меня, разрешения испрошая.
– Разбалуешь ты её… – я кивнула и разрешение дала. Девочка поднялась и, цокая когтями, подошла. Угощение она брала аккуратно, а взяв, зажмурилась. Силы в сахарок Одинцов не пожалел. Он же потрепал мою красавицу по загривку, сказал.
– Кстати, ты не передумала?
– Нет.
Глупый вопрос. Дежурный. Он задает. Я отвечаю. Часть ритуала, которая позволяет не то, чтобы отношения восстановить – я не настолько глупа, чтобы надеяться, что все будет как прежде, в счастливые военные времена – скорее уж так мы можем делать вид, что эти отношения почти нормальны.
Обыкновенны.
Как у людей.
Почему-то в большом городе очень важно, чтобы все-то было «как у людей». Даже если мы сами не совсем люди.
– Если передумаешь, то за такую вот… такого вот зверя заплатят и прилично.
– Знаю.
Не в деньгах дело. Денег у меня как раз-то хватает. И не только денег. Одинцов вон и дом прикупил, пусть небольшой, но рядом с Управлением. И обстановкой озаботился. И машиной. И волю дай, он вовсе мою жизнь устроит.
Сообразно своему о ней пониманию.
Поэтому волю я не давала. Но от дома не отказалась, тем паче и Софке он понравился.
Но… не в деньгах дело. А в том, что слишком много это забирает сил. Да и получается… то, что вышло однажды, не факт, что получится вновь. И зверь может не выжить. И я. А если и выживет, то как его, своей душой примученного, кому-то да отдать?
Да и страшно.
Звери своевольны. И не всякий с ними справится. Тут до беды даже не полшага, куда как меньше. Так что… нет.
– Тут… дело такое, – Одинцов сам себе стул подвинул, а Девочка плюхнулась у него в ногах. Она за прошедшие полгода вытянулась еще больше, и теперь при желании могла развалиться от стены до стены. Что и делала, особенно, когда Велесов заглядывал.
Он её как-то особенно боялся.
А она чуяла.
– Новости две… будет вам пополнение. Тихоня, надеюсь, устроит?
Я почувствовала, как губы мои растягиваются в улыбке. Тихоня, конечно, писал. Да только писатель из него, как и из меня, еще тот.
– Значит, допустили?
Операцию ему еще тогда, зимой сделали и вроде как удачно. В том смысле, что прогнозы были хорошие. Но не настолько, чтобы на службу вернуться. Писал ведь, что уходят, мол, на заслуженную пенсию и все такое. Злился очень.
Стало быть…
– Пришлось, – Одинцов вздохнул. – Поговорить кое с кем. Конечно, ограничения выставили, но в целом… будет секретарем.
Тихоня?
Секретарем?
Я засмеялась. Громко. Пожалуй, даже слишком.
– Личным. Бекшеева, – уточнил Одинцов. – Заодно и приглядит, чтобы тот шею раньше времени не свернул.
И поморщился, буркнув.
– Когда он уже наиграется.
А я ответ знала. И сказала:
– Никогда.
Тем более, что Одинцов сам все прекрасно понял. Дело ведь не в том, что заменить Бекшеева некому. Хотя и вправду некому, аналитики подобного уровня – редкость редкостная. И к Бекшееву, сообразив, что он восстанавливается, приходили с интересным предложением.
Даже не с одним.
Только он от всех предложений отказался.
– Вот именно… – Одинцов наклонился и потрепал Девочку по загривку, и та счастливо зажмурилась. Одинцов ей нравился. Впрочем, как и Бекшеев. – Ладно, не суть… Тихоня прибудет сегодня. И оформят его. А завтра выезжаете.
– Куда?
До того выезд у нас был один, да и тот в Подмосковье, где все решилось довольно просто и быстро, ибо оказалось, что далеко не все больные уроды столь же хитры, как Лютик.
– Считай, на твою родину. Не совсем, но рядом… Северо-Западный край, – Одинцов повернулся к стене и проворчал. – Повесь себе уже карту, что ли.
– У Бекшеева есть. Погоди, сейчас закончит, – я бросила взгляд на часы. – Тогда и расскажешь.
– Времени нет, – Одинцов бросил взгляд на часы. – Мне к трем в министерство.
– Мог бы позвонить. Послать кого…
– Вот, – он вытащил из внутреннего кармана снимок, который подвинул ко мне. – Качество не особо, но понять в целом можно.
А то.
На снимке была голова.
Человеческая.
Мужская. Явно не слишком свежая, хотя, конечно, качество и вправду так себе. Размыто все, расплывчато. Только и можно понять, что голова стоит на пеньке.
– И кто это?
– Вот это – следователь Селюгин. А это предположительно Митрофан Музин, – Одинцов выложил еще один снимок, тоже с головой, но эта была в совершенно неопознавабельном виде. Нет, может, вне снимка она выглядела на мутным белесым пятном, но очень сомневаюсь. – Нашли головы близ Бешицка, это Городенская губерния. Небольшой городок, в целом довольно тихий.
Только головы в лесу попадаются.
Или это не лес?
– И как… получилось? – я положила два снимка рядом.
– Лесник отыскал голову. Первую. Вроде бы как пропавшего пару недель тому парня. Голова стояла на пеньке и явно появилась там не медвежьими стараниями. Вот он и сообщил о находке, как должно.
– Тело?
– Не обнаружили, хотя искали. И лесник клялся, что участок свой знает. Но не то, что тела. Костей не нашли, а это, сама понимаешь, возможно лишь в одном случае.
Если тело лежит где-то за пределами участка.
– Странно.
– Именно, – согласился Одинцов. – Парень пропал, но там леса, там… случается, что люди пропадают. Зверье. Ловушки еще с войны. И мало ли вообще. Так вот, искать его искали, но…
Без особого рвения. Это тоже, если не нормально, то почти.
Киваю.
– Голову выставили нарочно, – я снова смотрю на снимок. Руки бы оторвать тому, кто его сделал. – Он хотел, чтобы её нашли. Иначе оставил бы лежать там, где лежит тело.
И парень просто пополнил бы список без вести пропавших.
– Именно. Селюгин пришел к такому же выводу. Кстати, был вполне толковым, как понимаю. Начал со списков пропавших. Обнаружил два десятка молодых парней, которые вроде бы как тоже взяли и без вести…
Ох ты ж…
– Составил докладную.
– И?
– И начальство решило, что он дурит. Что времена пусть и спокойные, но все одно люди пропадают. И что может, не пропали они, а уехали куда. Сбежали в поисках новой жизни. И что Селюгин из одной головы целую историю заговора притянул. Вот.
Тоже знакомо. И даже понять можно, потому как наверняка нормальному человеку все эти теоретические изыскания кажутся глупостью. Если тел нету, то и дело об убийстве заводить не к чему.
– Он мне письмо написал. Есть… у меня адрес канцелярии.
– Еще один эксперимент?
– Вроде того. Практика показывает, что большое количество информации до нас просто-напросто не доходит, – Одинцов постучал ногтем по столу. – Я и решил дать открытый адрес. Письма шлют… много шлют. Большей частью хлам. Жалобы там всякие. На соседей… на знакомых. Да сама понимаешь. Но иногда случается и такое вот.
Я поглядела на снимки. А ведь с одного ракурса сделаны. Пеньки, правда, разные, насколько можно судить, но ракурс один.
– Он письмо отправить не успел, – произнес Одинцов.
– А кто тогда?
– А вот это и выясните, – Одинцов подвинул фото и добавил к ним конверт. – Мои с него пытались снять, но ни следов, ни отпечатков. Пришло позавчера. Но до меня добралось только вот… извини, писем и вправду приходит много, а штат ограничен.
Я подвинула конверт поближе.
Обычный. Такой в каждом почтовом отделении есть, за пару копеек. И марки тоже не коллекционные. Подписано аккуратным почерком. Внутри – сложенный вдвое и загнутый с краю лист. Почерк тот же. Буквы крупные, но стоят близко друг к другу. Хотя нельзя сказать, что наползают.
Нет, просто стоят.
Близко.
Лист уже разворачивали. Он пахнет Одинцовым и еще кем-то… цветочный легкий запах. Женский. Секретаря? Тогда мне её жаль. Фото с отрезанными головами это не то, что поднимет настроение.
Читаю.
«Имею основания предположить, что на вверенной мне территории орудует злостный душегуб…»
Ни приветствия.
Ни расшаркиваний. Спокойно и четко.
Теория.
Список пропавших с датами подачи заявлений. Надо будет перепроверить, но это к Бекшееву и, полагаю, в местный архив заглянуть придется. Прав Одинцов, до центра доходит далеко не вся информация. Но статистику такое количество пропавших должно было бы попортить.
Года рождения тоже указаны.
Самому старшему сорок пять, самому юному – шестнадцать.
– Интересно… – я дочитываю список, который настолько длинный, что становится не по себе. – Ни одной женщины.
– Именно, – Одинцов уже встал. Ему и вправду пора, это не отговорка. Скорее уж странно, что он снова явился сам, а не отправил того же адъютанта. Их у него трое. – И не просто мужчины, а молодые. Стало быть, скорее всего здоровые сильные мужчины.
С которыми справиться куда сложнее, чем с женщинами.
И что это значит?
Ничего.
Разве что вещи собрать надо.
Я еще подумала, что возвращаться на родину вот совершенно не тянет.
Глава 2. Вабельщик
«Вабельщиком именуют охотника, коий обладает удивительным умением подражать голосу птицы или зверя. Вабельщик побуждает оных отзываться и тем самым выдавать себя. Или же вовсе зовет, подвод под выстрел».
«Толковый словарь юного охотника»
После таких разговоров Бекшеев чувствовал себя даже не грязным. Он словно пропитывался гнилью чужих душ, и она оседала где-то там, внутри, куда ни одному целителю не добраться.
Хуже всего, что гниль эта никуда не уходила.
Она таилась. Она копилась. И Бекшеева не отпускала мысль, что когда-нибудь её станет настолько много, что он и сам уподобится этим…
Господин Петров, мещанин, тихо плакал, закрыв лицо ладонями. Слезы текли сквозь пухлые пальчики, падали на лист, на котором не появилось ни слова. От слез на листе оставались влажные пятна. И плечи Петрова вздрагивали.
Наконец, громко всхлипнул, он вытащил из кармана платок и высморкался.
– Меня расстреляют, да? – поинтересовался он жалобно.
– Это решит суд.
– Врете, – Петров вытер лицо рукавом. И прикосновение жесткой ткани оставило на коже красный след. – Расстреляют… я читал, да, читал… был суд… над Коломийцевым. Его уже расстреляли?
– Приговор пока не приведен в исполнение. Всегда возможна подача апелляции. И суд учтет вашу готовность сотрудничать.
Общие слова.
Да и нужны ли они? Может, проще подтвердить, что все так и будет? А Петров прав. Так и будет. Есть показания, а помимо них – улики. Те же чулки погибших девушек, заботливо сложенные в самодельную шкатулку из открыток. И каждый – подписан.
У Петрова почерк аккуратный, буквы кругленькие, с завитушечками. Одна к другой.
Да и взяли его при очередной попытке…
И трупов на нем семь, а потому надеяться на снисхождение глупо. Петров, которого отпускало, мелко дрожал. И дрожь эта отдавалась в пальцах. Вот он скомкал платок. Огляделся в поисках урны и не нашел. Выдохнул резко и совсем иным тоном поинтересовался.
– Что вы со мной сделали?
– Ничего.
– Вы на меня воздействовали! – эта мысль показалась ему спасительной. – Конечно! Вы на меня воздействовали! Магически! И принудили рассказать все это!
Бекшеев поморщился.
– Я буду жаловаться!
– Ваше право.
Бекшеев посмотрел на Сёмушкина, который тихо сидел в углу с бумагами. Пусть вызывает конвойного. Они свое дело сделали. Так что дальше пусть следственный комитет с этим дерьмом разбирается.
– А я не подпишу! – взгляд не остался незамеченным. – Я не подпишу все это вранье! Вы мне внушили! Да, да… мама говорила, что магам верить нельзя! Вы мне в мозги залезли! Вы…
Петров повел головой и, упав на четвереньки, выгнулся, завыл во весь голос. А потом начал биться лбом о пол, впрочем, как-то неестественно, осторожно, сдерживая силу удара.
– Не сочтите за критику, – Бекшеев оперся на стол и поднялся. Нога опять разболелась. И голова тоже. – Но вы несколько недотягиваете. Не хватает экспрессии…
Петров крутанулся и попытался укусить себя за руку.
Будет и дальше отыгрывать безумца в надежде, что таковым его и сочтут. Пускай… актерские данные у него так себе. Так что суда не избежит. И Петров, кажется, понял. У самой двери Бекшеева настиг его тонкий дрожащий от нервного напряжения голос.
– Я знаю, почему ты меня нашел!
– Потому что ты был неаккуратен.
– Нет… потому что ты такой же, как и я! – в голосе теперь звучало торжество. – Такой же… такой! Разница лишь в том, что я охотился за потаскухами, а ты…
Бекшеев аккуратно закрыл дверь и постарался не морщиться от боли, которая стала почти невыносима. Настолько, что, дверь прикрыв, он позволил себе просто постоять. Недолго. Несколько ударов сердца. Но и этого хватило, чтобы стало легче.
– Уводить? – Туржин, дежуривший за дверью на всякий случай, отвернулся. Но на лице его скользнуло выражение легкой брезгливости.
– Уводите. И оформляйте, – Бекшеев сделал шаг. И еще. На чистом упрямства. Зимы нет, что заставило нервничать. Обычно она держится рядом. Он и привык.
А теперь чувствовал себя обманутым.
Глупо.
Туржин нехотя посторонился, пропуская начальство. Сам он, приехавший в Москву откуда-то из-под Мурома отличался статью и силой, и потому на людей слабых, каковым полагал Бекшеева, смотрел сверху вниз. С недоумением. Особенно недоумевал он тому, как эти люди могут ходить в чинах.
Командовать.
Распоряжаться. И не чураться слабости своей.
Это вот несоответствие, никак не укладывавшееся в голове Туржина, несказанно злило его. Как и Бекшеев, который по мнению Туржина, занимал чужое место. Еще и с психами возился. Разговоры разговаривал зачем-то, когда понятно, что там не разговоры, там двинуть пару раз под дых, он все-то и расскажет, и покается, а не это вот.
Надо избавляться. От Туржина.
Или нет?
Все же известное зло. А кого на его место взять? Желающих много, да вот подходящих нет…
– Знаешь, – Зима все-таки нашла Бекшеева, на кухоньке, где уже дымил самовар, а рядом, на подносе, прикрытый чистым полотенчиком, ждал обед. – С каждым разом мне все больше хочется тебя прибить. Просто, чтобы ни мучился.
Она говорила это не впервые.
И постоянство успокаивало.
– Он сказал, что я такой же, – пожаловался Бекшеев, принимая чашку с травяным отваром. Чашка была фарфоровой, красивой формы, с узким донцем и ручкой вычурной формы. Ко всему ручку покрывала позолота, а на дне чашки имелось клеймо Кузнецовской фабрики.
И потому отвар казался не таким уж горьким.
– Тебя это огорчает? – Зима села на скрипучий стул в углу.
Она всегда садилась так, чтобы видеть и окно, если оно было, и дверь. И стол сдвигала, чтобы между ней и дверью не оставалось препятствий. И кажется, сама не замечала этого, как и многого другого.
– Не знаю. Такое вот… гадостное.
– Ну так а чего ты хотел? – Зима пожала плечами. – Проще остальных в дерьмо макнуть, чем признать себе, что ты в нем до самой макушки измазался. Ешь, давай, пока горячее.
Борщ и склянка со сметаной. Гора пюре. Котлета по-киевски. А есть не хочется. И Зима знает, но смотрит так, что приходится брать ложку. Вкуса по началу вообще не ощущается.
– К нам Тихоня едет, – сказала Зима, когда Бекшеев почти доел суп. Боль отступала. И то гадостное чувство гнили там, внутри, тоже проходило.
– Это хорошо, – Бекшеев понял, что действительно рад. Не то, чтобы они успели близкое знакомство свести, но… лучше Тихоня, чем эти вот.
– Ага. А еще у нас выезд наметился, – она чуть наклонилась, уперев сцепленные руки в ноги.
– Куда?
– Северо-Западный край, как поняла, где-то около Городни. Это…
– Представляю. Примерно. И что случилось?
Котлета была отменной, с хрустящею корочкой. Стоило проломить её, и на тарелку вылилось озерцо сливочного масла.
– Голову отрезали. Следователю. А до того – еще одному парню. Пропал без вести. И не он один. Список прилагается. Прислали.
– Кто?
– А вот это… – Зима скорее оскалилась, чем улыбнулась. – Нам и предстоит выяснить…
Тихоня прибыл в половине восьмого. Он легко спрыгнул с верхней ступеньки вагона и огляделся.
– Эй! – Зима помахала рукой. – Мы тут… Слушай, он же ж еще поганей тебя выглядит!
Это было почти комплиментом. Правда не Тихоне.
– Эй… а я говорила, что надо Девочку брать… людей… и куда все прутся-то?
И Тихоня услышал. Обернулся. Взгляд его, скользивший по толпе, разномастной, суетливой, зацепился за Зиму. А губы растянулись в улыбке.
Он и вправду похудел и сильно.
Шея вытянулась и некрасиво торчала из ворота старой шинели, которую Тихоня накинул поверх старой же, застиранной добела, гимнастерки. Кожа обтягивала череп, отчего подбородок и нос Тихони казались несуразно огромными, а лоб, напротив, узким.
– Живой, – сказала Зима и хлопнула по плечу.
– А то, – Тихоня оскалился и во рту блеснул золотом зуб.
– Откуда…
– Да так… – он потрогал коронку языком. – С одним там… не сошлись характерами. Я ему в морду двинул. Он мне… случается. После вон оплатил коронку. Красивая?
– До одурения. Вещи?
– Все мое тут, – Тихоня хлопнул по мешку. – Куда поедем? Мне тут адресок один подкинули, чтоб на первое время остановиться…
– У меня остановишься, – сказала Зима жестко. – Все одно завтра отбываем. Скажи?
– Скажу, – Бекшеев протянул руку, которую Тихоня пожал осторожно, словно опасаясь сломать. И от этой осторожности снова резанула душу обида.
Вовсе он не инвалид.
– Тогда лады. Только я бы еще пожрал чего. Мне теперь жрать почти все время хочется. Госпожа… – это было произнесено с привычной Бекшееву почтительностью. – То есть ваша матушка говорит, что это нормально. Процесс восстановления и все такое.
Тихоня хлопнул себя по животу.
– Но жрать охота страсть.
– Будет, – пообещала Зима. – Софья что-то там заказала. И Сапожник подъехать обещался. Правда, один. Отуля уже не в том положении, чтоб по гостям разъезжать. Хотя от госпиталя, куда её все упрятать норовили, отбилась…
Зима что-то говорила.
Про Сапожника, который вроде как отказался идти в высший свет, но и пить бросил, и вовсе сделался на человека похож к превеликой радости его родителей. Про Отулю, принявшую очередные перемены судьбы то ли со смирением, то ли с радостью, по ней не понять.
Про Янку, как раз-то быстро на новом месте освоившуюся.
Про себя и дом нынешний, к которому она честно пыталась привыкнуть, а оно все не выходило. И с городом тоже тяжко.
Софью.
Только про дела не говорила, и Бекшеев молчал. Шел рядом, благо, Зима не спешила, да и Тихоня подстроился под чужой шаг. Так что просто шел.
И слушал.
Уже в машине, которую пришлось оставить близ вокзала, Тихоня глянул на Бекшеева и сказал:
– Ваша матушка сказала, что вы писать почти перестали. Очень расстраивается.
И упрек в глазах.
– Исправлюсь.
Тихоня кивнул и поинтересовался неожиданно:
– Тяжко?
– Да как сказать…
– Тяжко, – ответила за него Зима. – Я еще ничего. Я по следу только… а… он с ними беседы беседует. И как-то от так, что от этих бесед они и выплескивают, чего накипело.
– Подпороговое воздействие, – Бекшеев счел нужным пояснить. – После… пещеры. Не то, чтобы дар открылся и заработал, скорее уж одна из граней получила развитие. И практикуюсь вот…
– Ага. Практикуется… – Зима отвернулась, пряча выражение лица. Но и по голосу понятно, что практику эту она категорически не одобряла. Хотя, не одобряя, понимала, что нельзя иначе.
Нельзя.
А потому вздохнула едва слышно и продолжила:
– Ты бы знал, сколько в мире ненормальных. И главное, они ж нормальными людьми кажутся. До последнего. До… вроде и взял ты его, и доказательства есть, и сам не отпирается. А все одно поверить тяжко, что… что в голове человека такая… такое.
И рукой махнула.
А Тихоня кивнул и ответил:
– Потому-то нас и оставили тут… ну, на земле, стало быть. Я, пока в госпитале валялся, все думал и думал… про то, как оно раньше… потом… про Дальний. И Лютика. И… Молчуна… про все это дерьмище… раньше ж как, казалось, война закончится и заживем. А она закончилась, только ни хрена не легче стало. И я живу… живу-живу… помирать должен был бы, а все одно живу. На кой? А там и помереть не дали… и оказалось, что и сроку мне свыше отсыпали, душе грешной.
– Уверовал?
– Не знаю, – Тихоня покачал тяжелой головой. – В церковь заходил. Молиться пробовал, а не выходит. Как… как рука за горло держит. И снова злость. Такая от… кровавая, прям до безумия. Я и ушел. От греха, стало быть. Но не думать не выходит. Может… может, церковь – это для тех, у кого душа дерьмом не измарана. Но и такие как я, Господу нужны?
Бекшеев снова промолчал.
– Затем и нужны, что руки у нас, – Тихоня руки эти поднял, шершавые уродливые даже теперь, когда суставы вздулись, а ногти отливали лиловым, – крови не боятся. И привыкшие мы к ней. И стало быть, сумеем… сделать мир почище. А ты что думаешь?
Зима фыркнула и ответила:
– Думаю, что подкормить тебя надо бы, воин господень, а то не понять, в чем там душа держится.
И в этих словах была своя правда.
Глава 3. Правила охоты
В процессе проведения указанных выше охот разрешается добыча волка, шакала, лисицы, енотовидной собаки, вороны серой и сороки при любом законном нахождении охотника в охотничьих угодьях в целях охоты.
«Выписка из правил законной и безопасной загонной охоты на копытных и пушных животных…»
За карты Софья взялась ближе к полуночи.
Сперва ушел Сапожник, который вроде бы и был рад видеть, что меня, что Тихоню, и в то же время будто стеснялся этой радости, что ли. Или не её, но собственного преображения.
И того, что он вроде бы тут, но больше не с нами.
От и маялся мучительно.
Отпустили.
За ним Бекшеев откланялся, как всегда делами отговорившись. Мол, с Одинцовым надо бы связаться, проверить, что нам там на командировку выписано и выписано ли. И ждать ли адъютанта с командировочным. И вовсе вещи собрать, а заодно тысячу одну проблему решить, навроде той, кто туточки за начальство останется…
– Не мучала бы ты мужика, – сказал Тихоня, который уходить не стал.
Без шинели, в рубахе одной да штанах, что несмотря на пояс норовили съехать, он казался ожившим мертвецом. И я не могла отделаться от мысли, что нельзя его с собой тащить.
Что ему еще бы в госпитале месяцок побыть.
А то и два.
– Я не мучаю, – буркнула я. И уточнила. – А ты не помрешь в дороге?
– Не дождешься, – Тихоня дружелюбно оскалился. – Это я еще хорошо… видела бы ты меня раньше…
Не видела.
К счастью.
Письма писала, это да, хотя выяснилось, что донельзя муторное это дело. Что, вроде бы как в голове знаешь, чего написать надобно, а слова попробуй-ка подбери.
– Вы, когда отбыли…
– Тебя готовили к операции.
– Ага, Бекшеева какого-то своего… поклонника притянула, из самого Петербурга.
– Поклонника?
– Давнего весьма, мыслю. Как он её обхаживал… но ничего вроде мужик. Толковый.
Интересно, а Бекшеев знает про поклонника? Должен, особенно если поклонник давний. Хотя… сам Бекшеев из тех людей, которые до последнего не видят, что под носом творится.
Но говорить не стану.
Не мое это дело. И неправильно лезть в чужую жизнь, особенно людей, которым ты обязан.
– Он меня скоренько на стол определил. Порезали. Вроде махонькое что-то там отчекрыжили, а хреново было так… словами не передать. Думал, кончусь я там, в госпитале.
– Ты не писал.
– А на кой? Ты бы приперлась. И чего? Села бы у постельки? За руку держала бы да сопли со слезами бы роняла?
Это вряд ли. И Тихоня сам все понимает распрекрасно.
– Там… чего-то с этим… ну, с альбитом. То ли много его было, то ли мало, то ли вычерпал я… в общем, сами они разбирались. На двоих, с профессором. Он и уговаривал не помирать. Еще письма твои читали… всей палатой. Я ж там не один такой. Подопытный.
Вот же! Знала бы, три раза подумала бы, о чем писать.
– Я еще подумал, что если выживу, то к вам пойду. Что в этом смысл-то… ну и вот. Перевезли в пещеры те, там оно и легче пошло. Одно к одному. И не только мне. Там сейчас этот… – Тихоня поскреб себя за ухом. – Санаторий будет. Экспериментальный пока, но чуется, ненадолго…
– На тебе тоже…
– Экспериментировали? А то… оказалось, что если этот альбит в раствор, а после в кровь, то он, чего от заразы осталось, душит… правда, не только её. Тогда я второй раз чуть кони не двинул. Но ничего. Выжил с Божьей помощью.
Он сказал это очень серьезно. А после добавил:
– Раз выжил, то и послужу еще. Людям и… ему тоже.
А после сменил тон.
– Тебе Медведь пишет?
– И он. И Ниночка… все у них хорошо.
Только она все одно боится, что Медведь заскучает, что захочет вернуться к нам. И что Бекшеева скажет, что можно, что, мол, сердце она подлатает и все такое. Только не скажет.
И не допустит.
Но страх этот я понимаю. И Ниночке тоже письма пишу. Стараюсь. Злит, конечно, но… почему-то больше злит, когда ответного письма приходится ждать долго.
Надо будет черкануть пару строк, предупредить про отъезд.
– С твоим-то как? Бывшим. Уживаетесь?
– С Одинцовым? – я почесала за ухом Девочку, пристроившую голову на колени. – Никак. Мы тут. Он там. Заявляется порой. Доносит… всякое. В командировки отправляет.
– Ты ж не думаешь…
– Женат он, – сказала я. – Давно уже. И дети у него. И разошлись мы. И сходиться точно не станем. В прошлом это. А прошлое… пусть прошлым и остается.
Я уже научилась жить с этой мысль. И даже отделять себя от этого самого прошлого.
– От и ладно… пойду я, прилягу, пока можно, – Тихоня поднялся. – Вернемся, квартирку подыщу. А то не дело это…
– Места много, можешь…
– Могу, – отозвался он с лестницы. – Но не буду. Чего хорошего человека нервировать.
Вот и этот туда же.
Да с какого перепугу Тихоня решил, будто у нас с Бекшеевым что-то да есть? Такое, выходящее за рамки дружеских отношений? И главное, отрицать бесполезно.
– Да и бабу не приведешь… – донеслось с верхней ступеньки.
Это да.
Чужие бабы в нашем с Софьей доме не нужны.
– А ты уже о бабах думаешь? – крикнула я в ответ. И Девочка, подняв голову, присоединилась, тявкнула вопросительно.
– О бабах я думаю всегда! Но сейчас – исключительно на перспективу.
Вот же.
И почему улыбаться тянет? Может, потому что теперь я могу не опасаться за спину.
А потом Софья разложила карты. Пробежалась пальцами по разноцветным картинкам – одни потускнели, выцвели почти, другие радовали яркостью красок, и значит, недавно их создала. А она замерла, читая что-то, понятное лишь ей.
Дорога.
Это понятно, выезжать уже завтра, а сумку я не собрала.
Висельник. Неприятная карта, не помню, что означает, но явно ничего хорошего. Вон, вытянулся под деревом, согнув одну ногу в колене.
Дама какая-то.
И рыцарь ощетинился мечами, будто от нее заслоняясь.
– Я еду с вами, – Софка взмахом руки смешала карты, будто надеясь тем самым переменить судьбу.
– Нет.
– Да.
– У тебя клиенты!
– Надоели, – она чуть поморщилась.
– Сильно?
– Не представляешь… там, на Дальнем, как-то оно проще было. Приходили карточки, я делала прогноз, его записывали и отсылали.
– А тут?
– Являются сами. И требуют чего-то. Требуют, главное так… нагло. То одно не нравится, то другое… я им говорю, что не вижу вместе, а мне в ответ – посмотрите получше! – её раздражение было вязким, как густеющий мед. И Девочка заворчала. А мне стало совестно. Я ведь Софкиными делами не интересовалась. Вот совсем.
То есть сперва пыталась, конечно.
И секретаря ей наняли. Одинцов нанял, нашел тихую милую девушку. Как нашел и горничную, и кухарку, и садовника даже, потому как к дому сад прилагался, пусть и маленький. И с секретарем Софья разговаривала о своих раскладах да клиентах.
И мне показалось, что этого достаточно.
– Потом вообще заявляют, что все это чушь, что у меня лицензии нет и дар заблокирован, а потому ничего толкового я увидеть не способна.
– Идиоты.
– Не в этом дело. Я просто понять не могу, зачем они вообще идут? Если не верят, не слушают… зачем?
– Затем, что люди – вообще странные существа. Эти надеются, что ты скажешь, будто их брак будет счастливым, что дашь гарантию на это вот счастье. А когда ты гарантию не даешь, то проще обвинить тебя, чем признаться, что ошибаются. Люди… не любят совершать ошибки.
– Я еду с вами.
– Софья… если ты устала, я скажу Одинцову, он отправит тебя на…
– Сам пусть отправляется «на», – перебила Софья. И снова раскинула карты. Дорога. Висельник. И дева, что лежит на камне, а из пронзенной груди её течет кровь. И ниже, из крови, прорастают цветы. – Не в усталости дело. Вы едете в очень плохое место.
И новая карта легла поверх старых.
– Смерть, – Софья коснулась её. – Там ждет смерть.
Спала я хреново.
После таких-то предсказаний. Нервы же и у меня имеются, что бы кто ни думал. И снились похороны. Сперва в гробу лежал Тихоня, такой вот как сегодня, изможденно-тощий да в старой гимнастерке. Я пыталась докричаться, звала его, потому что точно знала – он не умер, а просто спит.
И надо, чтобы проснулся.
А все никак.
Потом Тихоня исчез, и в гробу оказалась голова Бекшеева.
В общем, проснулась я не в самом лучшем настроении. И в управление прибыла на взводе, чтобы увидеть Бекшеева, к счастью, совершенно живого и о чем-то вполне себе мирно беседующего с Одинцовым.
– Утро, – сказала я мрачно. – Отбываем или все отменяется?
– Нет. Я вчера запрос дал. Там новая голова.
– Чья?
– Завийского. Это следователь по особо важным. Приехал расследовать исчезновение Селюгина. Там и полагали, что найдет убийц, потому и не спешили докладывать. Вот…
– А нашли его? Голову?
– Именно.
– А остальное?
– Ищут. Третий день уже как.
Стало быть, шансов, что найдут немного. Интересно. Настолько, что раздражение отступает, а я чувствую азарт.
Охота.
Снова.
И с трудом сдерживаю улыбку. В ней изрядно безумия, и потому меня здесь тоже опасаются, чуть меньше Девочки.
– Софья с нами хочет.
– Хорошо, – Одинцов думает недолго. – Она при управлении не числится. Разрешить не могу. Запретить тоже.
Вот врет. Не краснея врет. Мог бы и запретить, и уговорить. Софья его слушает.
– Мне будет спокойней, что она с вами… и вот.
Одинцов вытащил связку одинаковых белесых камней.
– Носить, не снимая. В случае если ситуация выходит из-под контроля – разбить. Распоряжения начальнику жандармерии я отправил. Так что помощь придет. Но…
Особо рассчитывать на нее не стоит.
То есть, дураков нет нарушать прямой приказ, но и выполнить его можно по-всякому. Может, не нарочно, но Одинцов прав – всякое случиться может. Особенно там, близ границы.
– Альбит? – Бекшеев взял белесый кругляш в руку. На камешек-голыш похож, из тех, рекой вылизанных, что порой попадаются.
– Несущий контур – да, сердцевина – измененное серебро. Последняя разработка. В капсуле – заряженная пыль. Осядет на коже, на одежде, волосах. Этот маяк далеко не работает, но на сотню миль направление даст.
Хорошая штука.
И я молча протянула руку.
– Как-то вот… – Одинцов вложил камень. – Не знаю. Осторожней там, что ли… хоть самому отправляйся. Веришь, нет, предчувствие у меня на редкость поганое.
Верю.
Еще как верю.
Я ведь сон снила. И потому смотрю на Бекшеева, а вижу треклятую голову в гробу. И главное, гроб-то плохонький, наспех сколоченный. Не по чину такой.
Дрянные мысли. Несуразные. Но и отделаться от них не выходит. А потому предлагаю:
– Может, останешься? Там связь наверняка нормально работает. В Городне так точно. Да и села окрестные давно на проводах. Будем созваниваться. Тебе ехать ни к чему.
– Да… нет. Устал я тут.
И улыбнулся виновато.
Одинцов же отворачивается. А ведь может приказать. Может. Но не станет. И спасибо ему за это.
– Туржина возьмите, – взгляд у Одинцова тяжелый. – И думайте. Надо расширяться. Заявок приходит столько, что… не справитесь сами.
В этом он тоже прав.
Надо.
– Подумаю, что можно сделать, – к счастью, начальником у нас все-таки Бекшеев – я на сем чудесном посту две недели только и продержалась, едва на Дальний не сбежала. Бекшеев тоже не больно-то рад, но он в отличие от меня ответственный и отказываться от работы не умеет. Пока. А значит, ему и заниматься кадровым вопросом. Мы же с Девочкой так вот. Подсобим, если вдруг. Но нам не кабинет.
Нам бы в поле.
– Хорошо, – Одинцов кивает. – Я подберу пару десятков из тех, кто вроде толковый. А там поговорите… когда вернетесь.
– Обязательно.
Это обещание звучит странно. Неуместно.
Но…
Мы пожимаем друг другу руки. И Одинцов уходит. А мы с Бекшеевым остаемся. И еще Тихоня, который утром приехал со мной, а потом пропал где-то там, в необжитых глубинах особняка.
– Петрова забрали, – Бекшеев снова заговаривает первым.
– Ты уверен…
– Что забрали?
– Что тебе надо ехать.
– Надо, – Бекшеев смотрит прямо и слегка щурится, потому что свет в глаза бьет, слепит. – Я вчера пролистал, что есть. Записку эту вот. Снимки. Попытался данные поднять, да нечего пока. До наших архивов не дошло, а местные…
– На месте, – завершила я.
– Именно. Так что, приедем, может что-то да прояснится. Тем более вы есть… следы там и все такое.
Ну да.
Хотелось бы.
Иногда ведь бывает, что и вправду просто. Как Игоркиным, который промышлял у старого рынка. Свежее тело. Девочка. След. И сторожка с ведром, в котором нашелся и топор, и кровавые тряпки. Только вот предчувствие у меня дерьмовое.
На редкость.
И голова из головы не идет. Та, которая в гробу.
Глава 4. Волчьи тропы
«…а потому следует признать, что огромные лесные пространства на севере и востоке нашей страны, богатые пушным зверем и крупной дичью, фактически не посещаются охотниками, а потому и остаются неиспользуемыми. И перед государством стоит задача организовать промысловую охоту таким образом, чтобы…»
Из доклада князя Свержина, прочитанного на открытом заседании Думы перед Его императорским Величеством.
Поезда Бекшеев, говоря по правде, недолюбливал. Из-за тесноты, запаха и этого вот мерного убаюкивающего грохота. Из-за того, что вагон покачивается, и с ним покачивается столик, и чай, что стоит на этом столике. Серебристая ложечка вяло дребезжит, сталкиваясь с краем стакана.
И вообще что-то есть такое, на редкость раздражающее.
Нервы.
И голова, что второй день болит. Нехороший признак. И сказать бы. А то и вовсе отправиться бы к целителю, благо, Бекшеева в любое время приняли бы. И боль бы сняли. И вовсе бы здоровье поправили, то, что осталось.
Правда…
Бекшеев посмотрел в окно. Сумерки. И лес в них глядится сказочным, мрачным. Еще немного и вовсе на землю опустится тьма, укрыв и лес, и дорогу.
Целитель наверняка сказал бы, что Бекшеев перенапрягся. И ладно, если бы только самому Бекшееву. Так позвонит же матушке в лучшем случае, а в худшем – Одинцову, потребовав, чтобы его, Бекшеева, от службы отстранили ввиду плохого здоровья.
И тогда…
Он потер шею.
– Я дома с самой войны не была, – Зима устроилась напротив. И чай свой держала на коленях, обеими ладонями обняв подстаканник. – Честно говоря, и не тянет особо.
Девочка свернулась клубком, но уши её подрагивали. Она явно прислушивалась к каждому слову. А еще ей категорически не нравился поезд. И по тем же причинам, что Бекшееву – запахи, звуки.
И люди.
Людей в вагоне было много. пусть и отделенные тонкими перегородками, укрывшиеся в купе-норах, но они все же присутствовали.
– Правда, это не совсем дом. Мы дальше жили… от границы если. Или ближе? Сложно теперь разобраться. Смотря откуда считать. И в Городенской волости мне бывать не приходилось. То есть, может и случалось забрести во время охоты, но это так… а чтобы осознанно, так и нет.
– Расскажи, – попросил Бекшеев, ослабляя узел галстука.
– Да сними ты его вовсе, – она поставила чай на столик и потянулась. – Дай сюда. Вот так… голова давно болит?
Соврать бы. Но почему-то не получается.
– Второй день.
– К целителю ты не пошел.
– Нет, – странно, но сейчас Бекшеев чувствует себя на редкость глупо.
– Дурак ты…
– Какой уж есть, – пальцы у нее теплые. И с пуговкой на рубашке справляются быстро. Даже чересчур. Дышать и вправду легче. Может, дело в том, что воротничок тугой?
– Боишься, что отстранят? – взгляд внимательный. И руку не убирает. Правда, дверь вдруг идет в сторону и в купе просовывается голова Туржина.
– Звиняйте, – хмыкает он. И дверь закрывает. А Зима морщится.
– Слухи пойдут, – Бекшеев опять чувствует себя виноватым. И пытаясь загладить, скатывает галстук в комок, который отправляет в карман пиджака. А потом, поддавшись моменту, и сам пиджак снимает, чтобы пристроить на крючке.
– Одним больше, одним меньше, – Зима отмахивается. – Они и так уверены, что мы любовники. Так что… хочешь, попрошу Тихоню, чтоб он ему морду набил?
Бекшеев представил.
Хмыкнул.
И рассмеялся.
– Это окончательно убедит всех, что я слабак и мамочкин сынок. И еще инвалид. Хотя… справедливости ради, все так и есть.
– В жопу справедливость, – Зима забралась на полку с ногами. – А к целителю заглянуть надо. Приедем и найду кого… это не дело, Бекшеев. И отстранить тебя не отстранят. Скорее уж возьмут в штат кого, чтоб по пятам ходил и давление тебе мерял.
Бекшеев представил и содрогнулся.
– Схожу, – пообещал он. – Вот как только найду… а ты не увиливай.
– Я не увиливаю!
– Увиливаешь. Рассказывай.
– Я там не была…
– О том, где была, – он чай пригубил. Тот, несмотря на зачарованные подстаканники уже начал остывать, но зато был сладким-сладким. – Информация, Зима. Чем больше информации, тем мне легче.
– Информация… – протянула она. – Как-то вот…
И замолчала.
Повернулась к окну, за которым тьма сгустилась. Поезд и пошел как-то мягче, что ли, будто задавшись целью убаюкать всех, кто был.
– Эти головы могут быть частью какого-то ритуала? – Бекшеев ощутил, как сумрак пробирается внутрь вагона. И ему не помеха желтый свет фонарей. – Их выставили довольно демонстративно, и в этом есть свой смысл, но… какой?
– Нет.
– Смысла нет?
– Богам давно не приносят в жертву людей, – Зима отвела взгляд от окна. В сумерках черты лица её становились мягче. И кажется, еще немного и Бекшеев увидит ту девочку, которая навсегда осталась в лесу где-то под Менском. – Когда-то давно… да и то сейчас споры идут, насколько знаю, правда это или выдумка. Главное, что давно… да… и не все боги таким жертвам рады. Старуха… была у нас одна, жила при доме. Она говорила, что иногда люди сами идут к богам. Несут им свою жизнь в дар. Если хотят попросить о чем-то… о ком-то. Скажем, за ребенка больного, чтобы поправился. За… пропавшего… не знаю, за что. Главное, что дар должен быть добровольным. Именно решением самого человека, а не когда его там покупают или вынуждают. Что если за деньги или вынуждают, боги видят. И не примут. А еще и наказать могут тех, кто… нельзя врать богам.
Она опять замолчала.
Впрочем, ненадолго.
– А вот скотину порой подносили. По праздникам там или тоже когда поклониться хотели. Попросить. И головы отрезали…
– Как этим?
– Не знаю, – Зима покачала головой. – Смотреть надо. Хотя… что я там высмотрю? Мне тогда и было-то… да и девка. Кто девку к серьезным делам пустит? Нет… надо попросить кого из жрецов. Если, конечно, там вообще община будет.
– А может и не быть?
– Может. Война по губернии прошлась мелким гребнем. А таких, как мы, выкашивали… выискивали. Не уверена, что вовсе хоть кто-то да уцелел.
– Поищем.
– Да и потом… церковь язычников не жалует.
И это тоже верно. Пусть Император и даровал свободу веры, но одной свободы недостаточно.
– Приедем – посмотрим… головы вот только. Не получается.
– Что с головами?
– Их оставляли. Богам отдавали кровь. И оставляли головы. На капище. И даже потом, когда один череп оставался, его вешали на частокол. Там все-то вокруг в костях было…
Именно поэтому язычников побаивались.
– Но унести голову с капища… это оскорбить богов. Так что нет, думаю, язычники тут не при чем, – Зима все-таки села и покосилась на дверь. – Пойду я. Тебе отдохнуть надо.
Бекшеев тоже поднялся.
– Провожу.
– До соседнего купе?
– Мало ли…
Лениво поднялась Девочка, потянулась, всем видом показывая, что прекрасно и без Бекшеева они обойдутся. Во всяком случае здесь. Впрочем, взгляд у нее был по-женски лукавый.
– Спокойной ночи, – сказал Бекшеев уже у двери.
И ему ответили:
– И тебе. Травы не забудь выпить… и целитель! Завтра же!
А потом дверь закрылась, и Бекшеев остался один в длинном узком коридоре. Под потолком горели светильники, причем ближайший подмигивал, и этот, мерцающий свет, порождал новую боль. Чтоб вас всех… и главное, чувствует себя Бекшеев редкостным дураком.
Сна же ни в одном глазу.
И в купе возвращаться желания нет. Одно на троих. И значит, весьма быстро появится Туржин. Говорить ничего не скажет, но достаточно будет и ухмылки…
Чтоб вас…
Заниматься надо.
Упражняться. В зал вот сходить спортивный. Или тренера нанять, который, раз уж Бекшеев сам не способен, проследит за распорядком, графиком и иными важными вещами.
Бекшеев похромал к выходу.
Из приоткрытой двери донеслось:
– …с любовницей своей едет… только, девочки, я вам так скажу… ей до вас далеко… страшная до жути. Прям смотришь и…
Кулак сжался.
И разжался.
И Бекшеев, стараясь двигаться тихо настолько, насколько возможно, прошел дальше. В тамбуре было пусто, а через откинутое окно проникал свежий воздух. Он пах тем же раскаленным железом, дымом и еще самую малость – распаренным за день сосновым лесом.
Бекшеев просто стоял и дышал, чувствуя, как отпускает.
Головная боль.
Страхи.
И все-то, что в душу нанесло…
…но головы, как бы парадоксально ни звучало, не шли из головы. Тел ведь не нашли. Следовательно, кто бы ни убивал, он знал, как избавиться от трупа. А это не так-то просто. Впрочем, там ведь, судя по карте, леса кругом… и болота есть, и озера, и болотные озера, которые почти врата в бездну.
Это не город, где покойника поди-ка пристрой. Вот и пристроил ведь.
Но что мешало избавиться и от голов?
Ничего.
Тем паче, если хотя бы часть списка из того письма действительно жертвы, то прежде убийца и избавлялся от тел целиком. Следовательно, выставлены головы были нарочно. Во устрашение? Нет… иное… будто приглашение?
Своеобразное.
Или даже вызов?
В ушах зашелестел голос Сапрыгина. Тихий бледный человечек, кладбищенский сторож, который жил тут же, при кладбище. И на кладбище высматривал жертв.
– …пойми, это сильнее меня, – он раскаивался и вполне искренне плакал на допросе, и каялся, каялся, то начиная неистово креститься, то спохватываясь, что к таким, как он, небеса не проявят милосердия. – Оно внутри сидит. То молчит, молчит… долгехонько молчать может. Будто засыпает. Забаюкивает его смертушка.
Сапрыгин выбирал всегда молоденьких хрупких блондиночек.
Вторая странность. Пусть пока информации по таким убийцам собрано и немного, но все, с кем доводилось сталкиваться Бекшееву, предпочитали жертв слабых.
Женщин.
Детей.
Подростков на худой конец. Или стариков. Тех, с кем легко было справиться. А тут…
– …но проснется и давай душу мучить. Сперва даже думаешь, что уж на этот раз справишься, ан нет… день за днем, день за днем… и оно все сильней да сильней. И в голове уже одна мыслишечка остается – как бы унять, убаюкать вовнове.
Он был худым, изможденным даже, будто собственное безумие, раз за разом толкавшее Сапрыгина на убийство, высасывало соки и из него.
– И всякий раз уже после, как оно очухаешься, поймешь, чего утворил, так прямо выть охота… а оно, там, внутрях, унимается. Засыпает. И всяк раз божишься, что теперь уже насовсем.
Здесь же мужчины.
Мужчины.
Молодые. Физически сильные? Могло ли статься так, что сильными они не были? Прошедшая война оставила глубокий след. Раненые. И… нет, возраст не тот, разве что те, кто постарше. Что до других, то… голод? Болезни? И то, и другое ослабляло организм. И вполне могло статься, что те мужчины были не так уж сильны…
Хотя…
Нет. Слишком уж натянуто. Там, в списке, тридцать шесть имен. Даже если поделить список пополам – наверняка, некоторые попали в него случайно, остается много. Слишком много, чтобы рассчитывать, что все они слабы.
Нет… и головы эти.
Колеса поезда уже не грохочут, стучат мягко, убаюкивая, успокаивая. И все-таки слышен все тот же голос.
– Веришь, господин начальник, я даже радый премного, что меня вот… – Сапрыгин поднимает руки, стянутые наручниками. Браслеты их выделяются на загорелой дочерна коже. Пальцы полусогнуты, скрючены будто. – Что остановили меня.
– И что мешало сдаться? – спросил тогда Бекшеев.
А Сапрыгин поглядел на него, как на дитя малое.
– А то и мешало. Я ж живой-таки… я ж знаю, что теперь мне дорога одна, да… а не охота. Пулю в башку не охота, господин начальник. И помирать тоже.
Вздох.
И за окном мелькает тень. Дерево подобралось к дороге слишком уж близко. Черное в черной ночи оно появилось и исчезло.
А мысли остались.
Тягучие, как эта вот дорога. Но голову отпустило, и значит, не все так плохо? Или все-таки…
А может ли статься, что головы эти – молчаливая просьба? Как у того же Сапрыгина? Что убийца устал убивать? Но сам не имеет сил остановиться? И таким вот, своеобразным образом, он подает сигнал? Просьбу о помощи?
Бекшеев поморщился.
С точки зрения нормального человека его теория отдавала безумием. Но тот, кто оставил эти головы, нормальным определенно не был.
Скользнула дверь, тугая, отворялась она с трудом, тем более человек, её отворивший, изрядно утратил былой силы.
– Прячешься? – осведомился Тихоня.
– Думаю, – поправил его Бекшеев. – Головы эти… зачем? Если убивал давно. Если никто ничего не понимал. Дел не заводили. Точнее какие-то были, о пропавших, но… их ведь не объединяли. И о существовании серийного убийцы никто не знал.
– Как-как? Как ты его назвал?
– Не я. Термин просто удачный. Так назвали одного безумца, который жил в Америке. В прошлом веке. Он не просто убивал людей. Он выстроил отель. В несколько этажей. Внизу были аптеки и магазины. Имелись и номера для постояльцев. И нормальные, и те, из которых живым не выйти. Он устроил настоящий лабиринт. Лестницы, что ведут в никуда. Двери, что открываются лишь снаружи. Комнаты изолированные, которые можно наполнить газом. Или иные, с хорошей звукоизоляцией, где люди просто умирали от голода и жажды. Были там и желоба, чтобы спускать тела в подвал.
– М-да, – Тихоня поежился и поднял руку к шее.
Крестик?
Тот самый, подаренный им и вернувшийся? Спрашивать неудобно.
– Взял, – пояснил Тихоня. – Все же отца. Да и… он бы не был против. Пусть в доме Божьем нет места, таким как я, но как-то оно… спокойнее. Так что с этим стало?
– Арестовали его. Сперва за кражу лошадей. Потом – за мошенничество. Дальше все вскрывалось потихоньку. Хотя… количество убитых им людей до сих пор не известно[1]. В конце концов его повесили. И умирал он долго… ну а когда описывали преступления и применили термин. Мне он кажется подходящим.
– Повесили – это хорошо…
– Есть мнение, что подобные люди больны, – заметил Бекшеев, глядя в окно, впрочем, темнота за стеклом стала вовсе кромешной и разглядеть что-либо не представлялось возможным. – И что необходимо их лечить. И что сами они глубоко внутри осознают свою болезнь. И желают, чтобы кто-то остановил их.
– Серийный, значит, – повторил Тихоня. – Убийца…
Он оперся на стену. И замолчал.
Так и молчали, глядя в темноту. Долго? Кто его знает. Может, и вечность. Но навряд ли дольше пары минут.
– Был у нас… один… я уж на что злой, а он и вовсе… то есть он-то как раз не злой. Только… нравилось ему это дело. Допрашивать. Так нравилось, что наши его боялись, – Тихоня оперся на стену и голову запрокинул. – Я-то от ярости разум терял. А он… он всегда спокойный. Вежливый. Улыбается. И никому-то дурного слова не скажет. Со всеми такой… и с девками ласковый. Цветочки, конфеты или хотя бы сахар… паек у нас особый был. Но если уж дело… ломались у него быстро. Только он все одно не останавливался. Потом… ушел. Поговаривали, что особисты забрали. Уж не знаю, работать или же… в общем, и знать-то не хочу особо. Дело в другом. Мы… однажды в рейд пошли. Глубоко… в смысле, далеко и долго. Земли еще те, занятые. И языков с собой таскать не станешь. Выпотрошил и в расход. Он сам попросил, чтобы ему оставляли. Сперва он убирал за собой. Только волос прядку на память брал. Оборачивал так ниточкой. Аккуратненько. В бумажку. И подписывал. Номерочком… и прятал, да. В кисет. У всех в кисетах табак, а у него – волосья мертвых фрицев. Ну так вот. Уже как назад пошли, он повадился руки отрезать. Мертвякам. И выставлять, так, чтоб видно.
– Зачем?
– И галочку рисовал. Кровью. Типа знак его. Мы тоже спросили, мол, на кой? А он ответил, чтоб знали, стало быть. Что его дело. Чтоб его и искали. И взять попробовали… если смогут. У них же ж тоже свои специалисты имелись. Так вот… он не хотел, чтоб его поймали. И останавливаться не хотел. Он вызов кидал. Вроде как…
Вызов?
Мысль была не то, чтобы неожиданной. Скорее уж обидно, что пришла она в голову не Бекшееву. И от этой обиды голова вновь разболелась, намекая, что время-то позднее. И отдыхать надо.
– Спасибо, – сказал Бекшеев. – На вызов, пожалуй, похоже… отсюда и наглость.
И то, что погибли оба следователя.
Не пропали, отнюдь.
Их и выбрали именно для того, чтобы внимание привлечь.
Тогда и письмо мог прислать… нет, это уже чересчур. Бекшеев остановил себя. Завтра. Он доберется до места, осмотрит лично все. Тогда и решит…
– Этот ваш… Туржин, – Тихоня отлип от стены. – Мне не нравится. Громкий. И болтает много. Еще и дурак.
Почему-то слышать подобное было весьма приятно.
Глава 5. Место
«Стоит помнить, что пышный рукав в сочетании с кружевной отделкой по-прежнему в моде, однако следует отдавать предпочтение кружеву узкому, мягких оттенков. Да и вовсе избегать излишней вычурности, отдавая предпочтение прямым и простым, чистым линиям…»
«Мода Петербурга»
Софья осторожно оперлась на руку Тихони. А тот просто взял и снял её с лестницы, чтобы поставить рядом с чемоданами.
– Стой тут, – велел он строго. И нахмурился.
Солнце.
Солнце наполняло старую станцию. Оно высветлило стены вокзала, что виднелся неподалеку, светом скрывая старые шрамы от пуль и осколков. Оно растеклось по платформам, плеснуло теплом на и без того раскаленные вагоны. И Девочка, растянувшись на перроне, раскрыла пасть. Бока её вздымались, а синеватый язык свесился до самых почти лап.
Жарко.
Очень жарко. И жара какая-то влажная душная. Предгрозовая. Пусть на небе ни облачка, но меня не обмануть.
– Давай, поспешай, – проводник мялся, то и дело кидая взгляд на часы. Стоянка здесь длилась две минуты, которые явно подходили к концу.
Поезд издал протяжный гудок, предупреждая.
– Все, – Тихоня окинул взглядом и нас, и чемоданы. – Давай, двигай…
– Погодь! – спохватился Туржин. – Я сигареты, кажись, оставил…
Проводник ловко вскочил в вагон и лестничку поднял, явно торопясь.
– Новые купишь, – Тихоня, пусть был ниже, но на Туржина умудрялся глядеть сверху вниз и снисходительно, что Туржина бесило до крайности.
– Разоришься покупать… – буркнул тот в сторону.
Я огляделась.
Станция… как станция. Обыкновенная. Простенькое здание в четыре стены и два окна. Некогда ему досталось, но не так уж и сильно, коль устояло. Окна заменили. Стены покрасили и красили, верно, каждый год. Нынешняя белизна успела запылиться, но не так, чтобы вокзал казался вовсе уж грязным.
Пара путей, что пролегли по высокой насыпи. И бетонная плита платформой.
Неказистая будка туалета, видневшаяся чуть в стороне.
Дорога.
– А встречать нас не должны? – поинтересовался Туржин, с раздражением пиная камушек, который с шелестом полетел с насыпи. – Какого мы вообще тут? На же ж вроде в Городню…
– Вроде, – Тихоня осматривался совсем иначе. И взгляд его прищуренный скользил по лесу, что поднимался слева и справа монолитными зелеными стенами. – Нам в Бешицк, это уездный городишко. Отсюда будет верст пять. Но можно сперва до Городни, а потом уже от Городни и до Бешицка, пересадкою. Аккурат к вечеру и прибыли бы.
Девочка лениво поднялась и, отряхнувшись, тявкнула.
Нас и вправду встречали.
Сперва я почуяла запах, такой вот характерный – бензина и масла. Его принес ветерок. А следом донеслось кряхтение мотора. Старенький грузовичок выполз к станции, у которой и замер.
– Вот… гадство, – Туржин поглядел на небо. – А…
– Хватит ныть, – Тихоня сбежал с насыпи.
– Воздух здесь чудесный, – Софья так и стояла, в светлом льняном платьишке, совершенно неуместном в этой вот глуши. И шляпка её соломенная, украшенная атласною лентой, казалась чуть ли не издевкой. – Лесом пахнет. Земляникой… земляника скоро поспеет. Обожаю землянику. А вы?
Она повернулась к Туржину.
– Я? – тот слегка побледнел. – Я… как-то вот…
– Она очень полезна, – наставительно произнесла Софья. – Правда, Алексей Павлович?
И улыбнулась так, лукаво.
– Правда, – согласился Бекшеев. – Прошу… судя по жестикуляции Тихони, это и вправду за нами…
А навстречу по насыпи уже бежал парнишка. Одной рукой он придерживал картуз, что норовил свалиться с кучерявой головы. Другой же – штаны, слишком просторные, пожалуй.
Смешной.
– Рядом, – сказала я Девочке.
Та широко зевнула и подошла, чтобы плюхнуться рядом.
– Доброго дня! – крикнул запыхавшийся паренек. – Вы извините, пожалуйста. Я просил транспорт выделить, а Михалыч сказал, что нету. Пока с ним, пока то да сё… еще и заглох по дороге! Думал, что все уже. Но как-то ничего… назад доползем.
Туржин выругался, тихо, но с душой.
– Я Васька… в смысле Василий Ерофеев, – паренек убрал руку с картуза. И штаны отпустил. – Не подумайте… я тут, при участке состою. Пока вольнонаемным числюсь. Помощником. Вот… но так-то обещали, что в жандармы возьмут. Потом. Позже.
Он шмыгнул носом, и улыбка стала еще шире.
– Так это… вы того… залезайте! – предложил он. И к чемодану потянулся. Кажется, Девочка нисколько его не испугала.
Она от удивления и рычать не стала, когда Васькина, покрытая царапинами, пылью и, кажется, самую малость черной смазкой рука ухватила чемодан за ручку.
– Погодите, – мягко остановил паренька Бекшеев. – Нас должны были встретить.
– Ну так, – Васька ничуть не смутился. – Я ж встретил!
Действительно.
– Вы не подумайте. Я с малых лет баранку кручу. Сперва на хозяйстве, но Анька, сестра моя старшая, погнала. Мол, чего мне на хозяйстве, когда в люди выбиваться надо. А я ей, что я и так в людях! Она же ж одна… теперь и вовсе одной боязно. Из-за того… ну, того…
Васька не умолкал.
Не знаю, волнение ли его сказывалось, или же он сам по себе отличался говорливостью, но бодрый голос его изрядно действовал на нервы.
Это просто нервы на пределе.
Это просто…
Лес. И тот, кто в лесу живет.
– …а еще в том годе я Семенову помогал. Он попросил. Сам пришел, между прочим. Так и сказал, мол, Анька, Васька у тебя парень толковый и грамоте обучен, и рукастый, я самолично у Шапошникова за него просил… – чемодан рукастый еле-еле поднял, но упрямо волок, пыхтя от натуги. Туржин подхватил свой и демонстративно зашагал вперед, туда, где стоял грузовик. Бекшеев закинул на плечо рюкзак, взялся за Софкин кожаный чемоданчик и к моему потянулся.
– Справимся сами, – Тихоня с легкостью взлетел на насыпь. – Воздух тут… песня, а не воздух! Лесом пахнет! Почти как на Дальнем, а то эти ваши столицы… дымища одна.
Мой рюкзак он закинул на одно плечо, свой – на другое. А я взяла Софью под руку.
– …так и повадился помогать. Мне даже мотоциклу отдали! – хвастался Васька. – Сперва. Правда, битую, она еще от одного немецкого охфицера осталась, его давно уж застрелили, но и мотоциклу…
– Смерть, – тихо сказала Софья. – Рядом…
Я оглянулась.
Прислушалась.
И мысленно окликнула Девочку, которую тоже волновали звуки и запахи. Манили. Дразнили. И звали туда, где колыхались по-над стеной лещины старые матерые сосны.
– Извини, – Софья тотчас отряхнулась. – Это все дорога… и предчувствия. Иногда теряешься. Граница, где предчувствия и где ты сам их выдумал, она стирается на раз. Легко переступить и не заметить.
– Ничего. Справимся.
Лес смотрел на нас.
Лес был иным, чем на Дальнем. Он видел. Помнил. И я вдруг вспомнила. Тонкие нити-тропинки, что пробираются меж огромных стволов. Запах. И капли смолы, выползающие из трещин, покрывающие кору тончайшим липким слоем. Заденешь волосами, в жизни после не вычешешь.
Тогда у меня были длинные волосы.
Коса – девичья краса.
И гребень, свой, собственный, отцом с ярмарки привезенный, как знак того, что я уже взрослая, я… гребень остался где-то там, в другом лесу, пусть он и походил на нынешний.
– …и я его поправил! Никто не верил, а я вот сумел…
– Молодец, – похвалил Бекшеев. – Сколько тебе лет-то?
– Шестнадцать…
– А на самом деле?
Парень смутился слегка, а после ответил.
– Шестнадцать. Будет. Через месяц уже!
Совсем мальчишка. Хотя… мне ведь тоже пятнадцать было, когда все… и я считала себя взрослой.
– А родители твои где?
Туржин стоял у грузовика, явно маясь неразрешимою задачей. То ли в кабину лезть, место занимая, то ли все же уступить это место начальству.
– Софья, сядешь впереди. Зима, ты тоже, – Бекшеев на раз решил чужую моральную дилемму. – Девочка с нами поедет.
– Зубастая тварюга! – оценил Васька. – А погладить можно? Руку не сожрет? У Аньки тоже кобель был. Раньше. Здоровущий такой! Я на ем еще катался когда! А потом издох. Старый уже. Я говорил Аньке, что нового завесть надо. Тем более когда я на службе…
Это он произнес важно, с чувством собственного достоинства. И сигаретку вытащил из-за уха. Правда, была та мигом реквизирована Тихоней.
– Рано тебе еще курить, – сказал он и убрал сигаретку в карман.
Васька насупился.
– Анька вот тоже ворчит все… а я же ж уже большой!
– Больше некуда, – хмыкнул Тихоня.
Но сигаретку не отдал.
– Ехать-то далеко? – Тихоня оперся на борт.
– Да не, туточки близко. Напрямки. По старой дороге. Ежели не заглохнем, но не должны уже ж! – Васька быстро позабыл обиду. – И не думайте! Я там подметши! И ковер положил. И лавки вона накрыл, чтоб мягчей было.
Девочка потянулась к мальчишкиной ладони.
Втянула запах её. И фыркнула. Наверняка от руки пахло табаком. Да и от самого Васьки, причем сейчас, когда я притерпелась к окрестным ароматам, именно табачная вонь ощущалась остро и резко. Курил он явно давно и немало.
А еще, даже сквозь эту вонь от Васьки все равно пахло кровью. Старой. Такой крепкой, терпкой, которая имеет обыкновение въедаться в кожу. И запах заставил насторожиться не только меня. Девочка тихонько заворчала, оскалилась, правда, скорее для порядка, чем и вправду желая напасть. Но Васька руку одернул.
– Чегой это она? – и отодвинулся на шажок. Вопрос прозвучал донельзя жалобно.
– Кровью пахнет, – я сама потянулась к нему, позволяя телу измениться. И верно, запах стал резче. И крови, и… дыма. Навоза?
– Так… это… мы третьего дня свиней били. С Анькою, – жалобно произнес Васька. Он смотрел на меня с ужасом и… восторгом? Совершенно неуместным детским и искренним. Необъяснимым, ведь нормальные люди измененных боятся. – Она попросила сподмогчи, потому как Генрих, это ейный помогатый, прихворнул. Да и так вдвойгу им тяжко управиться. Там же ж свиньи две, еще пара поросяток. Заказ большой. Надобно и бить, и кровь сцедить, и тушу осмолить, обскоблить. Потрошить.
Васька принялся перечислять все-то, что требовалось сделать. А я успокаивалась.
Этак, Зима, ты и вправду свихнешься.
Кровь свиная. Не то, чтобы по запаху отличить могу, но уж больно сочетание характерное. И паленым волосом тоже пахнет, и шкурой.
Точно.
Свиней здесь многие держат.
– Вчерась вон целый день колбасы крутила да сало солила. И на рынок опять же ж надо было. Но это не вчерась, это когда били. С парным-то… и еще колбасы после делала. Завтра повезет одни. А другие повесит. Сушит она их… и полендвичку тоже ж. вы, небось, такой и не едали в своих столицах! – Васька окончательно успокоился.
Да и я тоже.
И только Девочка нервно ушами подергивала. Для нее запах крови был однозначен. Я положила руку на загривок и дернула слегка: угомонись.
– Ну так чего? – спохватился Васька. – Едьма? Вас же ж еще обустраивать надобно! Мне так и велели. Мол, встретить, чтоб честь по чести и обустроить. Я уже ж и договорился-то. У тетки Маврухи дом есть. Там ейный сын жил прежде, с женою, стало быть. А его после уж немцы расстреляли. И жену. А Мавруха деток к себе прибрала. Глядит и ро́стит. А дом пустой. Не подумайте, за ним глядит, аккурат приезжих и пущает, но публику хорошую, чистую… вы сажайтеся, сажайтеся!
Он поспешно открыл дверь, и я помогла Софье подняться в кабину. И сама залезла.
– Смерть может быть свиной? – уточнила зачем-то, хотя совершенно точно знаю, что смысла в таких предсказаниях немного.
– Может. Наверное. Я не знаю, – Софья поправила шляпку так, чтобы край её прикрывал глаза. – Я потом полный расклад сделаю…
– Ну, – Васька с обезьяньей ловкостью вскарабкался на водительское место. – Там эта, сейчас погодьма чуть и поедем.
– Хорошо, – я понятия не имела, о чем говорить с этим, по сути совершенно незнакомым человеком. – А тебе не страшно?
– Чегой? – удивился Васька.
– Лес тут… – я махнула рукой. – И убийца в нем… не боишься?
А ведь мальчишка вполне на роль жертвы подходит. Пятнадцать? В это одежде он выглядит постарше. Да и в целом крепкий, ловкий.
И один.
Мотор опять же заглох. Наверняка, такое случается частенько. В кабине вон пахнет дымом и бензином, и еще железом, маслом. Всем тем, что заставляет меня морщить нос.
– Анька вон тоже бурчит, чтоб оружию с собой носил, – Васька положил руки на руль, заботливо оплетенный кожей. – Матвей Федорович, это начальник наш, Шапошников, так сказал, что мне еще не положено, что шестнадцати нету. И что вовсе свое оружие сдать надобно, потому как незаконно это, без разрешению. Анька-то себе разрешению выправила. А я от…
Он пошарил за сиденьем и вытащил короткую крепкую дубинку.
– Мне пока хватит. Вы не думайте, – сказал Васька вполне серьезно. – Я же ж крепкий. Да и то… я ж вырос туточки. И лес добре слышу. Ко мне так просто не подойдешь.
Я вздохнула.
И промолчала.
К чему тратить время попусту. Он, как и многие, кто был до него, полагает себя бессмертным. Что ж, надеюсь, что этот убийца оставил след и дело закончится быстро.
В стенку постучали. И Васька, спрятавши дубинку, весело сказал:
– Трогаем! Только вы держитеся, дамочки… а то трясти будет!
И не соврал, поганец этакий.
Глава 6. Поедь
«Поедью именуют следы от кормившихся в оном месте зверей и птиц, по которым опытный охотник может…»
«Толковый словарь юного охотника»
– Да чтоб всех вас… – Туржин честно попытался удержаться, когда грузовик качнуло влево, но все одно съехал с лавки вместе с покрывалом, на эту лавку заботливо наброшенным.
Грохнули чемоданы, сваленные тут же.
– Мы тут… сейчас… навернемся.
– Говоришь много, – оборвал его Тихоня, который выглядел расслабленным, словно совершенно не мешали ему ни тряска, ни мешанина запахов, царивших внутри кузова.
Как ни странно, подействовало.
Туржин опалил Тихоню взглядом, но поднялся и молча вернулся на место. Покрывало и то поправил. Молчание, правда, долго не продлилось.
– Стало быть, нам тут не рады, – сказал он иным, спокойным тоном. – Если выслали это…
– Скорее всего, – Бекшеев надеялся, что он-то усидит. Самодельные лавки были прикручены на совесть, да и поручни имелись, но дорога явно оставляла желать лучшего. – Мы чужаки. Начнем расследование. Копаться будем. Как знать, чего на копаем.
– И на кого, – добавил Тихоня.
– И что делать?
– Работать, – Тихоня поглядел на Туржина снисходительно. – Мешать прямо не посмеют, но по-тихому гадить будут.
Бекшеев подумал и согласился.
– Скорее всего попытаются убедить, что никакого серийного убийцы здесь нет.
– А головы?
– А головы… мало ли. Может, местные браконьеры шалят. Или там контрабандисты тропы делят. Граница-то близко. Да и леса тут старые, в них много кто скрываться может…
Пусть времени со времен войны прошло изрядно, но совсем уж сбрасывать со счетов данную версию не стоило.
– А если они правы? Если это и вправду… ну… местные?
– Что местные – факт, – Бекшеев уже думал. – Чужой не сумел бы спрятать тела так, чтобы их не нашли. Да и в подобных городках почти все чужие на виду. А вот браконьерам с жандармерией ссориться не с руки. Как и тем, кто тайными тропами ходит. И потому первого паренька они могли бы убить. Случайно там. Намеренно. Но вот следователей… убийство следователя – это всегда шум. Вызов. И местные, пусть нас и не любят, но землю будут рыть на совесть. А как местные, они наверняка знают, кто там с тихими делами связан. Их первым делом и тряхнут… нет, причина тут в ином.
Туржин с кряхтением оперся на лавку и проворчал.
– Умеете вы… психов найти.
– Это не я, – сказал Бекшеев и получилось, что он словно оправдывается. – Это скорее наоборот, они меня находят.
Правда же.
Машину тряхнуло, а после грузовичок и вовсе опасно накренился.
– Да чтоб тебя…
Он рухнул на все четыре колеса с грохотом и скрипом. И упрямо двинул дальше.
– Он нас точно угробит раньше вашего ненормального… – Туржин вцепился в лавку обеими руками. – Если мы доедем живыми, я…
Грузовичок повело влево и зубы Туржина громко клацнули, а потому сказать, что именно он собирался сделать, не получилось.
Ну и пускай.
Доедут.
Куда они денутся.
Городок был невелик – три тысячи жителей, церквушка, торговая площадь да дома в два этажа. Те, что поближе к площади. Они и сложены были из желтого кирпича, крытые нарядною новой черепицей. Те, что дальше – деревянные, одни поновее, другие и вовсе поставлены были во времена незапамятные, а потому вросли в землю по самые окна. Да и окна те, махонькие, кошке не протиснуться, заставленные мутным толстым стеклом, прикрывались еще и ставнями, словно избы опасались впустить слишком много солнечного света. Дымили трубы. Пахло навозом и сеном, и скотиной, которую держали во дворах. На дороге копошились куры, а ближайшую лужу, весьма солидных размеров, оккупировала стая гусей.
Грузовичок остановился перед этой самой лужей.
И Бекшеев с облегчением выдохнул. Оно, конечно, за городом дорога стала получше и трясти почти не трясло, но вот местную брусчатку он все же прочувствовал, что ногой, не ко времени разнывшейся, что всем своим организмом. Одна радость, голова болеть перестала.
Хорошо.
Туржин с легкостью спрыгнул, не отказав себе в удовольствии пнуть чемодан. И Тихоня, глянув в спину, сказал со вздохом:
– Совсем дурной. Ничего. Я еще похуже был.
– Эй, – Васька заглянул в кузов. – Вы тут как? Доехамши? А то там дорогу подразмыло, после-то мужики песочком позасыплют, но пока он ямины. Тряхало, небось.
– Тряхало, – подтвердил Тихоня и тоже сполз. А Бекшеев вдруг ясно осознал, что он вот так, легко, не спрыгнет. Что для него эта невеликая высота, отделяющая кузов от земли, препятствие весьма серьезное. И что делать? Стоять с героическим видом?
Или позорно садиться на задницу, свешивать ноги и как-то от так выбираться?
Или вовсе помощи просить? От стыда щеки вспыхнули.
– Чемодан подашь? – Тихоня понял все. – Чтоб туда-сюда не скакать… эй ты, там… как тебя?
– Сергей, – буркнул Туржин.
– Вот, к хате носи, – Тихоня сдернул два ближайших чемодана, которые Туржину и всучил. А Бекшеев, радуясь внезапной отсрочке, подтащил к краю мешок Тихони.
И второй.
И на руку протянутую оперся почти спокойно. Если сосредоточиться и прыгать на здоровую ногу, то оно и ничего. Благо, растянуться носом в лужу ему не позволят.
Получилось.
Именно тогда Бекшеев и выдохнул. Огляделся. И увидал, что городишко этот, что покосившуюся слегка ограду, гусей и лужу, и домишко за оградою. Крепкий некогда, он слегка облез, облупился, да и крыша чуть просела.
– Мда… – только и сказал Бекшеев. – Комнат там сколько?
– Так… одна, – Васька почесал в затылке. – Сказано было, что след… следыватель приедет. Из Петербурху… а вас туточки он целая толпа.
– Следственная группа, – поправил Тихоня. – И дом ничего, нам с Серегой в самый раз будет. Верно, Серега?
Туржин чего-то да ответил, не слишком радостное.
– Ежели еще твоя хозяйка готовить возьмется, то будет вовсе ладно. За отдельную плату само собой.
– Они добре готовят! – заверил Васька. – И мясо у Аньки берут! А у Аньки мясо – наилучшее! Во всей округе такого нету! И колбас тоже. Особливо сушеные… я принесу!
– Принеси, – Тихоня похлопал паренька по плечу. – Потом. А пока скажи, может, в городе гостиница какая имеется? Или дом доходный, в котором бы квартиры сдавались? Их благородиям, сам понимаешь, в этаких хоромах непривычно будет… небось, еще и клозет на улице?
– Чего? – Васька моргнул.
– Уборная, – пояснил Тихоня.
– Он, там, за хатой, – Васька махнул рукой. И задумался. Надолго. Брови его рыжеватые зашевелились от излишне активной работы мысли.
Потом он вздохнул.
– Гостиница-то имеется… только это… дорого там. Страсть.
– Ничего, – Бекшеев с трудом сдержал улыбку. – Как-нибудь осилим.
– И порядку мало. Тамочки на низу ресторация… ну как, ресторация, кабак, только дерут в три шкуры. Охфицеры тама снедають…
– Какие офицеры?
– Так, – Васька поскреб затылок. – Этие… военные… туточки недалече, в Закутниках, военные… три версты, ежель напрямки. Деревня. Заняли. Ну и солдатики. И пленные еще прежде были, чегой-то там то ли закапвали, то ли откапвали, а может, вовсе дорогу строили. Или там иное чего. Ну вот. Пленных давно уж немашечки, а военные остались. Граница близенько. Стерегут.
Он произнес это веско, показывая, что всецело осознает важность присутствия близ города военных.
А вот Бекшеев поморщился. Про военных Одинцов ничего не говорил.
Плохо.
– Так тепериче охфицеры ездить стали. Сидят. Пьют. Едят… а их гадостью кормят! Все у нас знают, что Трофим, который гостиницу держит, значится, скупой до жути. За грошик удавится. Чем он их кормит – одному Богу ведомо, потому как мяса у Аньки не берет. И колбас не берет. Типа у него свои. Пробовал я… жуткая пакость! А вы, господин, может, лучше, ежели тут не по нраву, тогда в нумера к Сапольничихе? У ней доходный дом…
Как дом.
Домик.
Нет, по местным меркам он был высок, даже весьма – в целых три этажа и с мезонином. Пара колонн, причем на левой под слоем краски проступали характерные рытвины – следы от пуль.
Лестница в пять ступеней.
Пара мраморных львов. И дама в шелковом китайском халате с наброшенною поверх него шалью. Лицо дамы кругло и набелено. Темные волосы уложены в высокую прическу, которая держится чудом и парой шпилек. Шею обвивают две нити жемчуга. Пухлые пальцы стянуты кольцами. И смотрит она на Бекшеева недобро, явно подозревая в желании попортить тайком её, Фелиции Зигмунтовны, законное имущество.
– Вот, – Васька перед дамой этой терялся. И картуз с головы стянул. Светлые выгоревшие на кончиках волосы тотчас поднялись дыбом. – Господа из самой столицы приехали. Расследовать…
И замолчал виновато как-то.
– Из столицы? – в блеклых глазах дамы мелькнула искра интереса. – Так уж из самой?
– Из самой, – согласился Бекшеев. – Нам комнаты нужны… неделя, может, две.
Если все сладится.
А нет…
– Чтобы чисто, тихо и лишний раз не беспокоили. Если можно будет столоваться здесь же…
– Кухарка у меня неплохая, – проговорила дама неспешно. Её взгляд скользнул по Бекшееву, ощупав с головы до пят. И от этого взгляда не укрылось ни некоторая помятость одежды, ни стоимость её. Переместился на Софью, которая шляпку сняла и ею обмахивалась, отгоняя местных мух.
На мрачную Зиму, к ноге которой прижималась Девочка.
– Тварь воспитанная? – уточнила хозяйка доходного дома. – В доме гадить не станет? Мебель грызть?
– Воспитанная, – губы Зимы чуть раздвинулись.
– Слышишь её? – хозяйка чуть склонила голову.
– И слышу тоже.
– Хорошо…
Она снова посмотрела на Бекшеева и строго сказала:
– В доме не курить и не магичить. Плата вперед. Отговорок, что завтра, я не принимаю. Векселей и расписок тоже.
– Фелиция Зигмунтовна! – возмутился Васька.
– Если бы ты знал, мальчик, – Фелиция Зигмунтовна произнесла это с легкой усталостью. – Сколько в этих столицах мошенников… и все-то солидно выглядят. А так и норовят бедной вдове голову задурить. Квартирки у меня хорошие. Небольшие, это да, зато при каждой – своя уборная. Если побольше возьмете, то и с ванной могу. Идемте, покажу. Ты, охламон, тут постой. Нечего дорожки затаптывать… а вы, стало быть, за Охотником? Из Петербургу… получили, стало быть, письмецо-то?
– Вы его отправили? – сказала Софья.
Она ступала осторожно, одной рукой придерживаясь за Зиму, другой – опираясь на Девочку. Глаза Софьины оставались широко открытыми. Она и моргала-то редко, и тогда по лицу сбегала слезинка. Из левого глаза.
Из правого.
По очереди.
– Я, – не стала спорить Фелиция Зигмунтовна. – Как карточку в ящике нашла, так и поняла, что прав был Епифан… упертый. Я ему говорила, что не след самому в это дело лезть. Но разве ж послушает. Вещи его я тоже сохранила, если нужны.
– Нужны.
– Тут-то немного, но книжечки, блокноты…
– Утаили от следствия? – уточнила Зима. И почтенная вдова фыркнула.
– От какого? Ко мне и не приходил-то никто, хотя все знали, что Епифан у меня живет. Я в комнатах ничего-то и не трогала…
В доме было пусто.
И чисто.
– Дорого у меня, – пояснила Фелиция Зигмунтовна. – Наши-то ищут, чего подешевше. И шуму не люблю. Господа офицеры уж очень шумные, особенно, когда праздновать изволят. А у них ноне каждый визит праздник… пьют без меры, еще и буянить принимаются. И после-то управы не найти, да… для купцов ныне не сезон, они после появляются. Но клиент у меня свой.
Красные дорожки.
Паркет.
Панели старого дерева. И обои с вензелями. Лепнина на потолке. Картины, чуть выцветшие, сроднившиеся со стенами. И лестница с какими-то несуразно высокими ступенями. У подножия её лежали копии тех львов, что охраняли вход в дом.
Сразу заныла нога, предупреждая, что каждодневный подъем – это не то, что Бекшееву нужно. И вдова остановилась перед нею. Поморщилась, но сказала.
– Квартир тут всего четыре на втором этаже. И шесть – на первом, но там и сами меньше, и ванная комната одна на две квартиры. Правда, если наверх, то обождать придется, я там небольшой ремонт затеяла, раз уж не сезон.
– Устроит и первый, – Зима поглядела на лестницу. На Бекшеева. И добавила. – Нам с Софьей как раз удобно будет.
– Епифан тоже на первом остановился. Смежная квартира аккурат свободна… заодно и вещицы посмотрите.
Вдове явно не хотелось пускать постояльцев выше.
– Замечательно, – Бекшеев оперся на трость. – Буду рад. Только… я заплачу за обе квартиры. Но никого в соседи не селить.
Важный кивок.
И разворот.
Фелиция Зигмунтовна из широких рукавов китайского халата вытаскивает ключи. Один протягивает Зиме. Второй – Бекшееву.
– У меня копии, – предупреждает она. – Но обыкновения шарить по вещам не имею. Если что ценное, могу предложить сейф…
– Письмо, – Бекшеев ключ взял. Тот был теплым и покрыт чем-то теплым, с ароматом цветочных масел. – Стало быть, вы его отправили?
– Епифан и сам собирался. И попросил меня, чтоб, если вдруг чего случится, то я отправила. Только не в губернскую управу, как он полагал. Там, небось, тоже отмахнулись… сразу в столицу и отправила.
Красные губы чуть дрогнули.
– Но вы располагайтесь, господа. Я же велю чаю сделать. Обед, к сожалению, не готовили, но могу послать за пирогами. Тогда и поговорим… если хотите.
Бекшеев вот хотел.
И даже очень.
Глава 7. Медведи
«Медведь – зверь особый. Он и силен, и крепок, и хитер весьма. Не зря прозывают его хозяином лесным и кланяются, оставляют в лесу подношения, уповая на милость. И происходит это даже в нынешние просвещенные времена».
«О медведя и способах охоты на оного», статья в «Охотничьем вестнике»
В комнате резко и назойливо пахло корицей и еще апельсинами. Сушеные дольки их, как и палочки корицы, обнаружились в вазочке на столике. И я чихнула.
Девочка тоже чихнула.
А Софья вот сделала вдох и сказала:
– Старое место.
– А то.
Дом и вправду был стар. Скорее всего куда старше, чем казалось на первый взгляд. Верно, когда-то на этом месте стоял иной, поменьше и без колонн, зато возведенный по древнему обычаю.
Может, с конской головой даже, под главным камнем.
Оттого и крепок был фундамент.
– Тебе здесь не нравится, – Софья осторожно двигалась по комнате, кончиками пальцев осматривая новое жилище. Вот скользнули они по широкому подоконнику, недавно крашеному. Вот перешли на металлические шишечки, что украшали изголовье кровати.
На покрывало.
По кружевной накидке, венчавшей гору подушек, словно фата – невесту.
На туалетный столик, задев ту самую вазу.
– Место как место, – я пожала плечами. – Апельсины просто. Ненавижу апельсины.
Дело ведь не в этом доме.
И не в фундаменте с полуистлевшим конским черепом. И даже не в комнатах здешних. Комнаты, если подумать, весьма неплохие. Не так и велики, но кровать вот влезла, как и массивный шкаф с резными дверцами, которые на ключ запирались. Ключи из желтой латуни в замках торчат, манят заглянуть.
Я и заглянула.
Пусто.
Только тончайший покров пыли на полках говорит о том, что пару дней в комнате не убирались.
Туалетный столик.
И стол посолидней, письменный. Лампа на нем под абажуром с бахромой. Стопка бумаги. Писчая коробка, где нашлась пара ручек и чернильница. Ковер чуть потертый, но целый вполне. Да и ванная комната имеется, скромная, но все же. И с горячей водой.
– Мне не дом, мне дело это не нравится, – сказала я Софье, которая с задумчивым видом исследовала пустые полки. – Какое-то оно… не знаю.
Девочка, осмотрев обе комнаты и ванную, вернулась, чтобы забраться под кровать, благо, та стояла на высоких ножках, да там и улечься.
– Ладно. Разберемся.
Я выдохнула.
Из головы не шел лес, тот, что подобрался близко к станции. И тот, сквозь который пролегла дорога. Такой знакомый. Почти родной. Я ведь знаю, что тут, близ границы, селились те, кого официально именовали староверами, в том смысле, что по сей день держались они старых богов.
– Иди, – велела Софья, когда в дверь вежливо постучали. – Скажи, что у меня с дороги мигрень приключилась. Но чаю пусть пришлют. И к чаю, если чего будет.
Она опустилась на кровать и вытащила из ридикюля знакомую колоду.
Глаза Софьи закрылись, а пальцы скользнули по расписанным листам, считывая одной ей видимые знаки судьбы.
На третьем этаже, где обреталась почтеннейшая Фелиция Зигмунтовна, пахло теми же апельсинами с примесью корицы, а еще самую малость – Китаем.
Бумажные веера, расписанные журавлями и тонкими нервными линиями.
Шелковые ширмы.
Шелковые обои.
Массивные напольные вазы и низкая, будто кукольная мебель. Впрочем, гостиная, к счастью, была обставлена нормально.
И чай подали в высоком фарфоровом заварнике Кузнецовского завода.
– Если хотите, отправьте Ваську за целителем. Он, конечно, не семи пядей во лбу, – хозяйка самолично разливала чай. – Но с мигренью справится.
– Не стоит, – сказала я. – Это просто усталость. Ехали долго, теперь еще вот…
К чаю подали пирог с мясом, уже порезанный ровными аккуратными ломтями, маковые рогалики да баранки.
Сойдет на первое время.
– Сестра?
– Почти.
– Слепая, – Фелиция Зигмунтовна протянула мне чашку с узким донышком.
– Почти.
– Контузия?
– Контузия, – согласилась я.
– Бывает… моего супруга тоже контузило. Еще в первую волну мобилизовали, но ничего, вернулся… боги оберегли, – она коснулась сложенными щепотью пальцами груди. – Хоть контуженный, зато живой. Так я думала… а после-то…
Она протянула чашку Бекшееву.
– Что после? – уточнил он, принимая.
– А ничего… маялся все. Сперва только голова болела. Потом стали ноги отниматься. Руки… три года помирал. Но хоть дом этот вернуть сумели. Его ж фрицы, когда стояли, отобрали…
Она говорила об этом спокойно и равнодушно даже.
– Офицеры тут жили. Пришлось после ремонт делать, чтоб и духу их… но то дела прошлые, вам мало интересные. Вам о нынешних… с чего начать?
– С начала, – Бекшеев улыбнулся.
– Знать бы, где оно… – Фелиция Зигмунтовна задумалась. – Людишки тут пропадали. Это я уж теперь понимаю. Сперва пленные. Тут рядышком часть расквартировали. И пленных, которые мосты должны были восстанавливать. Поля разминировали опять же… там, дальше, линия фронта проходила, так что в земле много чего осталось. Вот и сгоняли, кого можно, чтобы чистить.
И вновь же тон ровный, отстраненный, будто говорит она о делах чужих, её-то саму никак не коснувшихся.
– Не знаю, уж как они работали, да только пару раз местный народишко предупреждали, мол, побег там. Однажды пятеро там или шестеро ушли. Этих-то скоренько отловили… твари след хорошо берут.
Фелиция Зигмунтовна на меня поглядела.
– Вы про… измененных? – уточнил Бекшеев.
– А то про кого… пленных много, вот и держали при них дюжину тварей. Или больше. Я не считала. Я и видеть-то не видела, если уж на то пошло. Так от, что люди бают, то и я говорю… а бают, что находили не всех. Что некоторым удавалось… уйти. К себе. Или вот еще куда?
Мы с Бекшеевым переглянулись.
Возможно?
Отчего бы и нет.
– Только пленных года три уж нет…
И тому, кто убивал, пришлось искать новые варианты.
– А кто есть? – Бекшеев ел аккуратно, словно бы нехотя. А я вот с трудом сдерживалась, чтобы не глотать кусками. Пирог с мясом был хорош донельзя.
– Правильный вопрос. Городишко у нас с одной стороны махонький, а с другой… леса тут хорошие, густые. Дичины много. И крупной, и пушного зверя. Рыба опять же. Вроде как одно время говорили, что нашли то ли золото, то ли еще какую дрянь…
– Почему дрянь?
– Потому как простому человеку с такой находки кровь да беда прибудет. Но народишку хлынуло… опять же, купцы к нам частенько заглядывают, которые ищут рабочие руки. Вроде бы как на границе возводят чего-то… но это не точно. Ну и сама граница манит. Так что хватает тут тех, кому дома не сиделось.
Люди приходят.
Люди уходят.
Куда?
Кто будет следить. Плохо… очень, очень плохо…
– Я о том тоже не больно-то думала, пока вот Епифан не заявился.
– Он вам…
– Родственник. Братец троюродный, – пояснила Фелиция Зигмунтовна, глядя на Бекшеева с насмешечкой. – А вы что подумали?
– Видная женщина. Свободный, сколь знаю, мужчина. Что тут можно подумать?
– Льстите, – это она произнесла с убежденностью. – Да и… хватит с меня. Вдовой быть спокойнее… но Фаньке я не отказала. Я ж ему написала об этой-то голове… наши-то её, небось, в мусор выкинули. Шапошников, который тут за старшего жандарма, страсть до чего проблем не любит.
А голова, в лесу найденная, еще та проблема.
– У Епифана, знаю, на старом месте не ладилось. Норов у него был неуживчивый больно, в том в батюшку пошел. Редкой пакостливости человек был, боги примите его душу… – она вновь коснулась груди. – Но все ж родня. Жаловался часто, что в Городне его затирают. Начальство не ценит, вечно всякую ерунду всучить норовят, то кражу кур с одеялами, то потраву огорода, будто больше некому сие расследовать… ну я как фотокарточку увидала…
– С головой?
– А то. С нею.
– И где увидали?
– В ящике с бумагами. Вы кушайте, кушайте… мой супруг вот тоже кушать стал мало. Дурной признак для мужчины. Мужчина, который отказывается от еды, явно намерен уйти в лучший из миров.
Бекшеев крякнул.
И спросил.
– В каком ящике?
– В почтовом, – спокойно разъяснила Фелиция Зигмунтовна. – Который при дверях стоит. У меня большой. Многие из постоянных гостей оставляют мой адрес для корреспонденции. За малую доплату принимаю письма и храню. Это было в ящике. Среди прочих. Правда, конверт чистый и без подписи. Я и влезла. И увидела.
– То есть, снимок сделала не полиция?
– Полиция? – фыркнула она. – Какая полиция… помилуйте! Да мой супруг покойный еще когда говорил, что они там все дармоеды, а Шапошников – бестолочь первостатейная. Я к ним сунулась было, так они и слушать меня не хотели по первости… потом уже Васька прибежал. Глаза круглые. Орет, что голова в лесу человечья… тут уж пришлось шевелиться.
– И как?
– Шапошников самолично с Васькой поехал. Голову привез, отдал нашему мертвогляду… как его… Заньковскому. А тот уже заключение и все-то…
– А фото?
– Оно нужно им было, как зайцу лопух для подтирания жопы. Я потому-то Епифану и отписала. Поняла, что Шапошников эту голову прикопает где и в деле отпишется, мол, несчастный случай. Или там, что медведи поели…
Оставив голову мало что не съеденной, так еще и на пенечке?
– Познакомитесь – сами все поймете… – отмахнулась Фелиция Зигмунтовна. – Так вот, Епифан не сразу прибыл. А прибыв, сказал, что у нас тут убийца завелся. С Шапошниковым он ругался, требовал людей выделить. А тот все отнекивался, мол, людей нету, да и убийцы никакого тоже нету. Что, мол, Епифан сам его выдумал, чтобы в чины выйти. На деле же просто парень с дружком повздорил. Или браконьеры его прибили… но то вряд ли. На кой им голову оставлять? Так что точно медведь.
И я согласилась с Фелицией Зигмунтовной.
– Епифан сперва пару дней в участке просидел. Все листал бумаги какие-то. Ругался жутко. Говорил, что отчетность тут из рук вон плохо поставлена. Что многие документы приняты, но не оформлены, что лежат заявления, да без номеров, ни дел по ним не открыто, ни даже проверок не проводилось. А те, что подшиты, так и вовсе с отписками глупыми, мол, пропавший отбыл по неустановленному адресу.
– Он список составил?
– А то. Дома сидел. Начальству звонил… тут телефон имеется. На первом этаже. Но за доплату, а то ж назвоните в столицы, мне потом разорение выйдет…
– Конечно, – заверил Бекшеев. – Я все понимаю. Авансом оставлю… рублей пять?
Фелиция Зигмунтовна кивнула и явно подобрела.
– Начальство, как я поняла, тоже не больно-то поверило. Фанька вроде как в отпуск отпросился. И требовали, чтоб возвращался.
– Как он пропал?
– Как, как… обыкновенно. Ушел из дома и не вернулся, – произнесла она несколько брюзгливо.
– Когда это было? Число? Время, когда он ушел. Утром или вечером? И говорил ли что-то перед этим? Раньше? Может, вел себя как-то необычно? Или что-то случилось в тот день, тоже необычное? Или обычное, но что-то, что запало в память? Или не в тот день, но накануне? Или вскоре после? Пусть даже не связанное с вашим братом?
Бекшеев протянул мне рогалик, мягкий и щедро посыпанный маком.
А вот Фелиция Зигмунтовна задумалась. Её глаза чуть прикрылись, и щеки слегка обвисли, отчего пудра на них пошла мелкими трещинами. Опустились уголки губ.
И выражение лица сделалось таким, словно она того и гляди расплачется.
– Довольный он был. Очень. Принес вечером бутылку вина. Пакость, конечно, из местной лавки. Но Фанька всегда жадноватым был, так что для него – шик. Себе налил. Мне. Сказал, что вскоре о нем заговорят.
– А вы не стали любопытствовать?
– Хотела, – она чуть поморщилась. – Да только он пришел уже навеселе. А он пьянеет быстро очень. И с того становится болтливым, что страсть… все говорил и говорил, но про ерунду всякую. Про деда вот своего, который Фаньку обидел. Про жену бывшую. Сбежала она с кем-то там… про дочек, которые его знать не хотят. Про соседей и собак соседских. Жить они ему мешали… про политику пытался. Но язык вскорости заплетаться стал, так что он за столом и отключился. Потом еще ковер испортил. Вывернуло его.
Фелиция Зигмунтовна повернулась к окну.
– Я тогда крепко обозлилась… сама же в комнату его проводила. Еле растолкала! Он ведь тяжеленный. И я – не девочка уже… но довела. В постель уложила. Воды вот поставила. Думала, что утром выскажу, как и чего…
– А утром?
– У меня с расстройства бессонница приключилась. Со мною оно частенько. Маялась, почитай, до рассвета. Уж и молока себе грела, и лавандовым маслом виски натирала. После уж не выдержала, приняла капелек… не люблю я их. После проснуться тяжко и голова болит. Но тут уж… проспала до обеда.
– А прислуга?
– Кухарка моя сказала, что Епифан снедать не стал. Велел в комнате убраться. Она еще возмущалась, что он себя уж больно по-хозяйски ведет. Вот… ну и в комнату заглянула, а там на ковре пятно такое, что и не оттереть. Я еще больше обозлилась. Думала даже от дома отказать, раз он так…
– А он не вернулся, – завершила я рассказ.
– Именно, – хозяйка сцепила руки. – Не вернулся. Я уже к вечеру поняла, что случилось неладное. В полицию нашу отправилась. Да там лишь посмеялись, мол, загулял мужик… его, оказывается, в кабаке видели. В «Веселом борове». Он там сидел с вечера, пил. И утром тоже похмелялся. Сказали, что проспится и придет. Что дело-то житейское.
Только не проспался.
И не пришел.
Зато кто-то подкинул Фелиции Зигмунтовне второй снимок.
– Я думала позвонить его начальству, но… – она заломила пальцы. – Побоялась. Понимаете? Все ж… у Епифана одно время имелись проблемы. Пил он… жена оттого и ушла. Занудный. Денег в дом не несет. Еще и пьет. Вот… он тогда вовсе едва работы не лишился. После и завязал-то. Я и подумала, а если снова? Если запил? Я шум подниму, а он отыщется, загулявший. И что тогда? Нехорошо получится. С начальством он и так поругавшись. Точно с работы попросят.
И в этом был резон.
Только сейчас Фелиция Зигмунтовна оправдывается не перед нами. Перед собой. Ей все кажется, что она проглядела, что если бы шум подняла, то и брат её троюродный жив бы остался.
– А потом уж я и нашла снимок этот…
– Когда?
– Понедельник… он в субботу ушел. А в понедельник вот… в газетах лежал.
– И вы…
– И я поняла, что… а что там еще понять можно было?! – выкрикнула она и тут же смутилась. – Извините. Нервы у меня… капли почти и не помогают. Еще со времен… прежних, когда супруг мой жил. Характер у него очень испортился. Сам не спал и мне не давал. Только прилягу, он тросточку возьмет и стучит. Тук-тук-тук по полу. А как руки отнялись, то орать начал. Выть. И главное, встанешь – он замолчит. Ляжешь… Вот… с той поры и бессонница. И голова теперь болит частенько. Я сперва хотела в полицию, да… поняла, что не станут они искать. Опять сошлются на зверей диких. Что, мол, напился, ушел в лес, там его медведи и задрали.
– А голову на пенек выставили? – не удержался Бекшеев.
– Поверьте, нашли бы объяснение… я и вспомнила, что… читала… намедни в газете было… старая газетенка, до нас свежие не сразу доходят. Но была статейка одна. Про безумца, который девиц душил. И про то, что его поймали. Жандармы. Из особого отдела.
– И вы решили отправить…
– А после еще одна статейка. Там князь Одинцов рассказывал про то, что тяжкие преступления… чего-то там. Уже не помню, чего. Главное, что я подумала, что если головы людям режут, то преступление всяко тяжкое. Вот письмецо и послала. А заодно уж начальству Епифана позвонила. Доложилась… может, он с дочками не больно-то ладил, но теперь будет числится погибшим на службе. И пенсию выправят. Повышенную.
Она была одновременно и прагматична, эта женщина в китайском халате да пуховой шали, и сама же стыдилась этой вот прагматичности.
– И что начальство?
– Ничего. Сперва верить не хотели, но позвонили, уточнили. Нашему-то пришлось признаться, что голова имела место быть. В смысле, та, первая… а там уж и Епифанову нашли. Причем вроде как близенько от того, первого места. Знаю, что Шапошников пытался на медведей свалить.
Медведям местным я от души посочувствовала.
– Но видать, там не поверили. Прислали еще одного… ко мне приходил.
– Следователь…
– Анисим Егорьевич звали, – Фелиция Зигмунтовна Бекшеева перебила. – Молоденький совсем. Моложе тебя. Худенький. Тощенький. Шея – двумя пальцами обхватить. А туда же, важный… выспрашивать стал. И на меня глядел без уважения!
Данное обстоятельство её весьма печалило.
– Но я понимаю. Сказала, как есть… он вещи еще поглядел. Как… в комнату зашел, в чемодане покопался. А что в том чемодане, кроме старых носков будет? Да и те с дыркой… у меня дом приличный, вещи все давно в шкафу. Залез туда. Поглядел и дверцы закрыл. Сказал, что обязаный будет изъять для следственного процессу. И ушел.
– Куда?
– Он в гостинице остановился, – она вытянула губы. – После еще с офицерами о чем-то болтал, как мне сказали… пил… вот как сел пить, так три дня, значит… расследовал. Знаю, что с ним еще Уповалов крутился. Это Шапошников человечек. Я и поняла, что Шапошников его к заезжему и приставил… ну, чтоб приглядывать и…
– Поить? – предположил Бекшеев. А я новый рогалик стащила. Жаль, чай приостыл.
– Вы же сами все понимаете… я еще порадовалась, что письмецо отправила. Решила, сунут пареньку эти документики, про медведей, которые люд жрут, да с ними и вышлют. С пьяных глаз да для лучшего приятеля и не такое подмахнешь… только и он исчез. Вместе с Уповаловым.
Мы переглянулись.
Про Уповалова в Одинцовских бумагах ни слова не было.
– Уповалов-то после нашелся, – пояснила Фелиция Зигмунтовна. – Пьяный в зюзю, в канаве близ леса. Там спал. Проспался, так вылез… вона, до сих пор в лечебнице. На больничном.
Это уже было сказано едко, с отчетливым презрением.
– А городенский этот, Анисим Егорьевич, исчез… пока голову его не нашли.
– На том же пеньке?
– Про пенек не скажу, не ведаю. Сами выясняйте, тот или не тот. Тут-то еще бумага какая-то пришла, из Петербурга. Ну Шапошников весь и заблажил… даже ругаться приходил. Сперва. Но я что? Я женщина старая, больная, да не бессильная. Скоренько переменил тон. Выспрашивать начал, не говорила ли я кому… вы уж меня не выдавайте.
Она посмотрела на руки, и я посмотрела, чтобы увидеть, что сквозь белый, местами стершийся слой пудры, проступили красные пятна.
– Вы приедете и поедете, а мне тут жить, – сказала Фелиция Зигмунтовна. – Шапошников не простит…
– Не скажем, – заверил Бекшеев. И на меня посмотрел. А я что? Я кивнула.
Не скажу.
Мне этот местный Шапошников уже не нравится. Медведи, стало быть… посмотрим, что за медведи в местных лесах обретаются.
Глава 8. Местовой зверь
«И с печалью взираем мы на нынешнюю молодежь, позабывшую о долге и труду во благо государства предпочитающую праздность и отдых. Она-то, заставшая войну краем, спешит откреститься и от неё, и от тягот, смыть всякую память о них увеселением…»
«Из выступления министра народного просвещения, князя Нарышского, перед государственной Думой и Его Императорским Величеством».
Местное полицейское управление, к которому вызвался проводить Васька, располагалось, как и должно, в самом центре городка. Занимало оно невысокое, в два этажа, здание. Причем если первый этаж, выкрашенный в канареечно-желтый колер, был каменным, то второй уже возвели из дерева.
– А порушилось, – пояснил Васька, который нисколько не подрастерял энтузиазму. И не обиделся, что в дом его не пустили. – Еще при немцах. Там эти… лесные люди приходили. Одного разу чегой-то кинули, оно и бабахнуло. Немцы после-то крепко ярились. Я тогда совсем малой был, то и помню слабо, а вот Анька сказывала, что после десятерых повесили. От туточки. На площади.
Площадь, как и все в городе, была небольшой.
Слева от нее располагалась городская управа. За нею начинался рынок, который так и норовил на саму площадь выбраться.
Васька в сторону рынка и махнул.
– И говорит, что взяли… ну, просто кто под руку подвернулся. Потому-то лесных людей у нас не больно жаловали. Ну вроде как они пришли, побузили и ушли, а нама тут жить…
Мимо с грохотом промчался грузовик с запыленными бортами.
– Скажи, – Бекшеев шел неспешно. Нога, как ни странно, почти не болела, но эта прогулка позволяла хоть как-то привести в порядок мысли. – Правда, что ты первую голову нашел?
– Ага.
– А в протоколе значится, что лесник…
– Так это… сказали, что, мол, лучше, ежели лесник. Вроде ж его участок. И ему положено.
Интересно, что еще в этих куцых протоколах, которые дошли до Одинцова, правда. И в тех, что не дошли. Сколько раз они переписывались с точки зрения местного начальства на предмет соответствия уже существующей теории, где во всем виноваты медведи.
– И как это было?
– Ну… – Васька стянул картуз с вихрастой башки. – Обыкновенно. Шел-шел, а тут бац – голова на пеньке.
– Неожиданно.
– Ага. Я ж мало, что с перепугу не заорал…
– Что ты в лесу делал?
– Я? – взгляд наивный детский.
– Для грибов, кажется, несколько рановато…
– Строчки со сморчками уже есть, – возразил Васька. – А вообще да… сушь в последние недельки стоит, то и их не отыщешь. Анька говорит, что год ныне не выдался. Ну, грибов не будет. А Анька все приметы ведает… я за травами ходил. Анька просила.
– Какими?
– Всякими. Черемша от. И еще чабрец, его если посушить, то в чай…
– А не рано ли? Он тоже пока не зацвел, сколь знаю.
Васька поглядел с уважением.
– А по вам и не скажешь… точно, не зацвел. Но Аньке надо такой, молоденький. Говорю ж, свиньи у нас. Бьем. И колбасы делаем. А для них приправы всяко-разные нужны. Перец-то Анька покупает. Черный. Горошком. Но одного же ж мало. И кориандру тоже. Чеснок у нас свой, лук еще когда насушили, но Анька и травы кладет. На покупать ежели, то, стало быть, не напасешься деньгов. Вот и собираю. Трав-то много. Та же можжевеловая ягода в колбасах ладно. Или… или когда коптить. Знаете, до чего вкусно, бок свиной, на ольховой щепе копченый?
– Нет, – признался Бекшеев.
И оглянулся.
Зима шла чуть позади. И Девочку придерживала за поводок. Поводок был куплен давно, но использовался редко, лишь в случаях, когда вот так, в люди надо было выйти. И Девочка понимала, а потому терпела. Лишь улыбалась во всю свою уродливую пасть, явно зная, что перекусит этот смешной кожаный шнурок на раз.
– Я принесу, – заверил Васька. – Там-то еще в той стороне рощица березовая. Анька просила чаги поискать. Это гриб такой, на березах растет. Ежели его на водке настоять, то хорошая растирка выходит.
– Для кого?
– Так… мало ли. К Аньке многие ходят не только за мясом, – это Васька произнес с гордостью. – Она у меня умная… она даже в школе училась. Ну, до войны еще… вот. Поступать собиралась, но… куда ей потом-то? Её туточки все уважают. А я помогаю, чего могу. Травы там… еще чего. Я за чагой шел. В березовой роще трава высокая. Свету много. И за травой не видать особо ничего. Но мухи… да… мухи гудели. Роились. Я подумал, что зверь какой поиздох. Любопытно стало. Ну и…
– Что?
– Ежели волк, надо будет тревогу бить.
– Почему?
– Волки позднею весной сами по себе не дохнут, – сказал Васька серьезно. – Только если от бешенства. А коль бешеный тут… это ж беда.
Он чуть посмурнел, правда, ненадолго. И радостно продолжил:
– Не волк там оказался! А голова! На пеньке! Прям как в сказке… ну, про Колобка… Анька мне рассказывала. И книжку читала. Там аккурат такая голова на пеньке была…
– А мне эта история всегда казалась донельзя странной, – подала голос Зима. – Но я её уже взрослой прочла. Зачем – сама не знаю. Так-то у нас другие были сказки.
И Бекшеев, подумав, согласился, что история и вправду странная.
Да и картинки… случалось ему давече полистать одну детскую книжку.
– Ну я побег-то, стало быть! Звать кого… голова ж… она ж сама собой не появляется! – Васька счастливо улыбался, так, что видны были зубы, белые и ровные.
Почти идеальные.
– Логично, – согласился Бекшеев. – Головы, они, конечно, сами собой не появляются. И что начальник?
– Ну… – Васька поскреб за ухом. – Сперва-то не поверил. Мол, все-то ты, Васька, напридумал… а я что? Я ж никогда-то! Вот вам крест! Такого ж разве придумаешь? Я тогда пошел и голову, стало быть, в мешок…
Бекшеев прикрыл глаза.
Будет сложно.
Будет очень сложно работать с людьми, которые понятия не имеют, что головы, оставленные на пеньках, на них и должны находиться до прибытия следственной бригады.
– И тогда уж понес.
– И что начальник?
– Так… – Васька явно смутился. – Ругался крепко. Нехорошими словами.
Бекшеев его даже понял где-то. Он бы тоже ругался крепко и большей частью нехорошими словами, если бы ему кто голову принес.
– Ясно. А потом?
– Потом… велел отвесть туда, где голова стояла. А голову отдать мертвогляду…
– Это кто?
– Дык… у нас тут, при больничке. У нас своего по штату не покладено, а при больничке есть. При морге. Туда и снес. Потом уже искали… Матвей Федорович решил, что мужика медведь задрал. У нас туточки видели одного. Недалече. После войны медведей поприбыло, но это ж когда было?
В Васькином представлении война была когда-то давно.
Очень.
И это… заставляло чувствовать себя старым?
– А ты что думаешь? – поинтересовалась Зима.
– Не медведь, – Васька ответил с убежденностью. – И не волк. И не волкособ тоже…
– А это кто?
– Это бывает, что сука течная в лес уходит, вот волки её и того… иные охотники сами в лесу привязвают, стало быть, чтоб после щенков родила, которые наполовину волки, наполовину собаки. Звери! И Михеича такие есть!
– А это кто?
– Лесник наш, – с готовностью ответил Васька. – Он старый очень. И в избушке живет… в городе про него всякого треплются, да ерунда все! Вовсе он волков не прикармливает!
Даже так?
– А что зверюги у него злющие, так-то да… волкособы. Меня больше! – Васька провел ладонью по груди. – От такие от! И с зубищами – во!
Он палец показал, демонстрируя размер зубов. Девочка и та, похоже, впечатлилась. Пасть разинула, язык вывалила едва ли не до земли.
– Так Михеич же ж круглый год, почитай, в лесу. А народишко всякий шастает… года два тому так вовсе стреляли… двоих положил. Оказалось после, что эти… рец… рици…
– Рецидивисты?
– Ага, – Васька закивал головой. – Они самые! Сбегли откуда-то…
Он махнул рукой в сторону.
– Не от наших. Тамочки где-то… и к границе шли. Решили, что раз старый, то и положат… тогда их волкособы Михеичевы знатно порвали. Правда…
Васька смолк.
– Что?
– Михеич баил, что их трое было. И третьего искали. Тоже он приезжали откудова-то… откудова они там сбегшие были. И в лесу. И с собаками.
– И чего?
– Ничего. Сгинул. До болот след дошел, а после все. Михеич сказал, что, небось, потоп он. У нас-то болота, может, и невеликие, но ежель человек непривычный к им, то враз потопнуть может.
Интересно.
Весьма.
Рецидивист… про беглых рецидивистов в списке ничего не было, как и в документах Одинцова. Не знал? Если история местечковая, то могли и замять. Беглых поймали или записали в мертвые. Случается.
Но запрос Бекшеев все одно подаст.
– Я тогда видел… у Михеича собаки ученые за горло хватать. Да и зверь лесной тоже в него метит, ежели там волк. Рысь, она сверху падает да когтит. А вот медведь, он лапой бьет. Или ломает… кабан тоже на клыки… ну и жрет зверье иначе. У той головы все-то целехонькое было, и щеки, и язык… да и сама гладенькая, ровненькая. Когда б зверье её жрало, то пожрало бы.
– Согласна, – сказала Зима.
– Вот! – Васька приободрился. – Я так и ответил Матвею Федоровичу…
– Шапошникову? – на всякий случай уточнил Бекшеев.
– Ага.
– А он?
– А он сказал, что молод я еще, чтоб болтать. И вовсе не в свое дело лезу… ну и Михеич ему то же самое сказал. А еще зверь точно не стал бы остальное прятать. То есть, он бы спрятал, но по-свойму, по-звериному. В яму там, или в валежник какой. Рысь бы на дерево втянула, чего б смогла. Но все остальное там бы лежало. Рядышком.
И в этом был смысл.
– Ну а после-то уж этот… городенский сгинул. Фелиция Зигмунтовна крепко у Матвея Федоровича ругалась, требовала искать. А он на нее, что, стало быть, сор из избы выносит и придумывает себе невесть чего. Лаялись так, что стены тряслися… и Матвей Федорович велел искать… ну и нашли. В лесу.
На пеньке.
– И что Матвей Федорович?
Васька вздохнул и признался:
– Опечалился крепко… потом еще новый следователь прибыл… и сгинул… а вчерась вот про вас сказали. По телефону. Он тогда-то коньяку и достал. А он давно уж не пьет. Язва у него…
Если у Матвея Федоровича Шапошникова и была язва, то на внешности его она никак не отразилась. Был Матвей Федорович высок и по-купечески осанист. Лицо его пухлое отливало краснотой, намекающей, что начальник местной полиции склонен к некоторым излишествам в еде ли, в питии ли.
Мундир его, извлеченный из шкапа впервые за долгое время, в честь высоких гостей, надо полагать, оказался несколько тесен. Шерстяное сукно, из которого он был шит, натянулось, грозясь разойтись по швам. Пуговицы с имперским орлом держались явно чудом. И понимая, что того и гляди окажется он в ситуации до крайности неловкой, двигался Матвей Федорович неспешно, осторожно даже.
Вот он поднялся из-за стола.
Поправил перевязь с игрушечною сабелькою, положенною по чину.
– Доброго дня, – вежливо поздоровался Бекшеев, подумавши, что мундир-то и у него имеется, шитый на заказ, но тоже давненько.
Он как-то вот без мундиру привык.
И не только он.
– Доброго, – Зима оглядывалась с немалым интересом.
Кабинет начальника полиции располагался на втором этаже особняка. И пахло в нем не чернилами да бумагами, а свежею сдобой. Еще и вареньем, вазочка с которым примостилась на широком подоконнике, меж бюстом Его императорского Величества и башней из желтовато-коричневых папок.
Девочка тоже сунула нос в дверь.
А вот Васька предпочел остаться в коридоре, сказавши, что сегодня он являться пред очи начальственные не рискнет.
– Д-доброго, – взгляд Матвея Федоровича остановился на Девочке.
Потом метнулся, зацепившись за Зиму… и пухлые губы расплылись в улыбке.
– Зима? Зима!
Она чуть прищурилась, вглядываясь в это выбритое, украшенное пышными усами лицо, явно не узнавая.
– Шапка я! Помнишь? Встречались… на Висле!
– Шапка? – переспросила Зима и рассмеялась. – Надо же… ну ты… вижу, живой-таки!
Она шагнула, да и Шапошников навстречу, руки раздвинул, спеша обнять. И пуговица на животе-таки не выдержала напряжения, с хрустом оторвалась.
– От же ж… чтоб её! – беззлобно ругнулся Шапошников, но Зиму сграбастал. – А то я уже ж грешным-то делом… в отставку заявление написал.
– Зачем?
– Так… понятно же ж, что на месте тепериче все… не оставят. Кто-то ж должный виноватым быть. От так-то… а тут ты… ну да, глядишь, и побарахтаемся тепериче… а это, значится…
– Бекшеев, – представился Бекшеев и руку его сдавили. Сила у Матвея Федоровича оказалась немалая. Впрочем, он тотчас спохватился, руку отпустил и прогудел:
– Извиняйте. Это я на радостях… Васька! Васька, где тебя черти носят? Тащи самовар… а то ж у меня нервы одные… одные нервы в последнее-то время. А теперь ничего… твоя зверюга? Как же ж… твоя… на Мрака похожа, но тот вроде здоровей был? Жалко. Слыхал. Хороший зверь был. Но и ты он, не свихнулася… а и ладно. Что это я. Ты извиняй. Я болтливый стал на старости лет. И вправду пора в отставку, да…
Он махнул рукой.
И на Бекшеева глянул иным, внимательным взглядом.
– Маг?
– Аналитик, – уточнил Бекшеев.
– Аналитик… вашего брата живьем видать и не случалось, да… что ж, вы давайте, садитеся куда. Зверюге костей принесть? Или же потом сами… у кого остановились? У Фельки? Вредная она баба, но толковая, да… она письмецо отправила? Она, больше некому… ничего не говори. Я ж все понимаю. Васька! Самовар где? И в кабак сбегай, принеси пожрать чего! Скажи Матренке, что гости у меня… дорогие… не чаял уже с кем из наших свидеться…
Глава 9. Охота как искусство
«Охота – древнейшее из занятий, некогда позволившее человеку не только уцелеть, но и возвыситься над миром животных. Ныне охота – занятие для избранных, ибо от истинного охотника требуется отнюдь не одно лишь умение метко стрелять. Отнюдь. Охота – это прежде всего особый склад характера, в коем сочетается терпение, наблюдательность и умение слышать дичь…»
«Об охоте и охотниках», статья сиятельного графа Невзорова в «Охотничьем вестнике»
Я и вправду не сразу его вспомнила, даже после того, как он про Вислу помянул, потому как очень уж отличался Матвей Федорович Шапошников от веселого тощего паренька Шапки. Тот был длинный и нескладный, любил жевать траву и пел матерные частушки шепотом. Шепотом – потому как громко говорить нельзя было, а молчать он физически не мог.
Наше знакомство и продлилось-то всего пару дней, и закончилось, когда Шапка схватил пулю в живот. Не героически, в атаке там или нас защищая. По глупости.
В лес отошел.
И не вернулся.
Его Мрак тогда отыскал, лежащего в траве со спущенными штанами, зажимающего ладонью дырку, из которой медленно сочилась черная-черная кровь.
– Не сдохну… – он был еще в сознании, и это тоже удивляло, как и сам факт того, что Шапка жил. По всем законам мироздания он давно должен был переступить рубеж, а он жил.
И потом, когда рану закрывали повязкой.
И когда Одинцов вливал в него силу.
И позже.
– Я… найду тебя… с-спляшем… З-Зима? Вдвоем? Обещаешь?
– Обещаю, – сказала я.
Умирающим легко раздавать обещания. Знаешь ведь, что исполнить не придется.
А он все-таки выжил. И теперь вот обзавелся пшеничными усами, бачками и тремя подбородками, которые придавливали белый воротничок рубахи.
Мундиром.
Кабинетом.
Чинами.
– Я тогда в госпиталь угодил надолго, что-то там в кишках крепко повредилось. Думали, что все, отойду. Но после какой-то целитель заглянул… в общем, вытащил. А дальше сам. Потихоньку, а пока валялся, то и войне конец. Мне он медальку дали, наверное, чтоб не сильно обидно было. И списать хотели. По состоянию здоровья.
– Но не списали?
В его кабинете стол раздвигался. И на этом столе находилось место самовару, огромному, начищенному до блеска, пусть даже растапливался он не шишками, а электричеством, но все одно впечатлял. К самовару прилагался свежий хлеб, щедро приправленный тмином, чесночное масло в горшочке, холодное мясо, напластанное тонкими кусками, сыр и домашние колбасы.
– Да… случилась у меня любовь с одною дамой… – Шапка мечтательно прищурился. – Она и помогла комиссию пройти… сама подумай? Куда мне? Тогда уж знал, что некуда. Дом наш разбомбили, мать и сестра в нем остались, еще в первый год письмо от соседки пришло. Отец до войны преставился. И выходило, что ни дома, ни родни какой, которую близкой назвать можно. А тут служба… предложили в полицию, я и пошел. И прижился. Помотало, конечно, пару лет, а после посчастливилось тут от осесть. Что? Городишко небольшой, но доволи-таки тихий…
Он тяжко вздохнул и, отмахнувшись от каких-то своих мыслей, разлил чай. Мне вручил огромную оловянную кружку, чуть примятую сбоку. Бекшееву досталась чашечка фарфоровая, с золоченым краем, и аляповатая, расписанная розами, тарелка к ней.
– Рассказывай, – велела я. – С каких это пор у тебя медведи головы по пням расставляют.
Шапка крякнул и пригладил усы рукой.
– Говорю же… городок у нас большею частью тихий.
– Большею? – уцепился за оговорку Бекшеев.
– Так… граница же ж недалече. И туда идут. И оттуда… оно-то тропы давненько проложены, поделены… – Шапка говорил неспешно, успевая прихлебывать чай, в который бросил четыре кубика сахару. – Но порой бывают… недопонимания. Или чужаки суются…
– Или беглые?
– Васька растрепал? Хороший мальчонка, да болтливый без меры. Язык поперед мозгов работает… но пройдет, сам таким же ж был.
– Ему пятнадцать. А ты его отправил нас встречать.
– А кого еще? – удивился Шапка. – У меня, думаешь, тут полк засадный стоит? Я вон… еще Уголь, но тот который день в госпитале, отравился чем-то, подняться не может. Пара стариков да Васька. Сам я, уж извини, не мог. Офицеры приехали.
– Зачем?
– Да пропал у них там солдатик… требовали содействие оказать.
– Когда? – подобрался Бекшеев.
– Намедни и пропал. Вчера, стало быть. Когда точно, то не скажу, они не особо делились, знаю, что сперва своими силами искать пробовали, а утром мне начальство позвонило, чтоб был и никуда… будто я им этого солдатика возьму да найду по щелчку пальцев. Я им так и сказал: хотите искать – ищите, препятствовать не стану, но и помочь нечем.
Он погладил усы.
– Пока с ними… пока бумаги оформлял, то да сё… ну и чего делать было? Васька толковый. И баранку крутит ловко.
– А что в лесу у вас не безопасно? Что где-то здесь убийца ходит… это ничего? – поинтересовался Бекшеев.
– Так… все мы под Богом, – Шапка перекрестился. – Да и оружие у Васьки есть. Точно есть, знаю. К тому же я велел ему нигде не останавливаться, до станции и назад.
Я прикрыла глаза.
Был ли он таким изначально, веселый парень Шапка, когда-то поймавший по дури пулю, или же сделался тем, кого я вижу, после, постепенно меняясь? Не знаю. И знать не хочу.
– Но живой же ж! Ты в его годы, вон, под пулями ходила… а они, если хочешь знать, всю войну в лесу пересидели. Да! – пусть я не произнесла ни слова, но Шапка понял. – Тутошний народец такой… себе на уме.
Почуял.
И разозлился.
– Тебе лучше знать, что тут да как, – произнесла я примиряюще. Пусть дерьмо, но свое. И он нам нужен. Пока нужен. А там… об отставке, полагаю, Бекшеев позаботится. – Значит, солдатик пропал?
– Да сбег, тут думать нечего. Небось, письмецо от невесты получил и сбег. Или дома чего приключилось. Или просто… дури у них, нынешних, много. Мы не такими были.
Киваю, соглашаясь.
И на Бекшеева кошусь, который молчит.
– А позвонить можешь? Офицерам? Глядишь, и вправду сподмогнем… вон, Девочка, след возьмет… мы убедимся, что не по нашей части. Ты, ежели паренек найдется, отчитаешься…
Этот вариант Шапке пришелся по вкусу.
– Васька! – гаркнул он во всю глотку. – Васька! Созвонись там! Скажи, чтоб машину прислали… выделю им… поисковиков, как требовали.
И хохотнул.
– А машину зачем?
– А чего мне, свои гонять? – Шапка искренне возмутился. – После за топливо отчитывайся, на ремонт выделяй, а где возьму? У нас бюджет-то давно уж сложеный. Так что, им надобно, они пусть и шлют. А по прочему… зря вы приехали, Зима. Это все…
– Медведи? – не удержалась я.
Шапка поморщился.
– Глупо, признаю. Но тогда в голову ничего иного не пришло. Паренек тот, которого первым нашли, он из этих… ходоков.
– Кого-кого?
– Ну тех, что к границе ходют. Туда несут одно, назад несут другое… под Егоркой-Васильком ходил. Небось, чегой-то или потерял, или еще нарушил, вот и наказали.
– Кто? – уточнил Бекшеев, все же пробуя чай.
– Может, сам Егорка, может, конкуренты… тут тоже слушок пошел, что Егорка приболевший, а стало быть, будут с троп выживать. Могли начать с такого от. Мол, людишек его убивают, а Василек ничего не делает. А раз так, то силу потерял. Хватку. И пришла ему пора… – Шапка мазнул ребром ладони по горлу. – В лес уйти…
– Это выражение такое?
– А то, господин маг… выражение. Точное. Леса тут хорошие… густые леса… и болото имеется. Туда многие он уходили по прежним временам.
– И что вы предприняли?
– Я? – Шапка усмехнулся. – А надо? Заявлений у меня нет. Жалоб тоже. Чего я предпринимать должен? На каком основании?
– Вы же знаете…
– Знаю, господин маг. Знаю. Всё я знаю. И про Егорку, и про Матильду Крышнину, которая девок на ту сторону водит… и про Избора, и много про кого. Но толку-то от этого знания? Я ж в молодые годы тоже дурным был, все пытался справедливость восстановить. Получил вот…
Он повернулся так, что стал виден тонкий шрам, выходящий из-за уха и переползавший на шею, чтобы скрыться под форменным воротником.
– И пуль пару еще. А после выговоры… за излишнее рвение. Самое обидное, ты от их ловишь, запираешь в камеры, а они через день другой тебе в лицо хохочут. Мол, незаконное задержание. Улики. Доказательства. Тьфу… – Шапка сплюнул на пол. – Тебе снова выговор. Потом начальство прям в лицо говорит, чтоб унялся, не лез, куда не просят. Тогда-то и приходит понимание, что справедливость твоя никому-то и не нужна. Что если и позволят тебе кого взять, то только того, кто сам ненужным станет. Или опасным. Вот…
Он выдохнул.
– Я-то… и приспокоился. Потом… одно, другое… понимание пришло, что не эти, так иные станут. И ничего-то не изменится. Разве что сам ляжешь где-нибудь в лесочке да под зеленым дубочком. А я не хочу. Не для того я выживал, чтобы из-за них от…
– Стало быть, первый из числа установленных жертв, – Бекшеев речью не слишком проникся, но дело превыше всего. – Был из числа контрабандистов?
– А то.
– Что с остальными?
– Какими?
– Этими, – он выложил список, который подвинул к Шапке. – Эти люди тоже пропали.
– А… да… Пашка Селявцев еще года три тогда… хороший был мастер, но заложить любил, вот и решили, что по пьяни зимой где примерз. Этого не знаю, пришлый… кто заявление вообще принял?
Толстый палец с кривым желтоватым ногтем скользил.
– Из ходоков… это уже Изборов человек, сожительница еще все требовала Избора тряхнуть, что это он виноватый. Ага… Москальский. Плотник. Помню, жена писала. И проверка была. Уехал он, в Городню…
– Адрес имеется?
Шапка скривился сильнее прежнего.
– Свидетель есть. Его на станции в Городне видели. А так… у нас, чай, свободная страна. Куда человек хочет, туда едет…
Он покосился на меня.
– Я понимаю, что списком оно вроде как страшно смотрится… у нас, вон, по городу слухи один другого жутчей гуляют, да только цена им – грош… людишки-то все шебутные. Кто выпивает да так, что имя свое позабыть способный, кто из ходоков, кто из самогонщиков… охотники опять же. С охотником-то в лесу мало ли чего случится может? Все ж зверья после войны развелось. И людей оно не боится. Верь аль нет, но и медведи захаживают. То-то и оно…
Хорошие отговорки.
И главное, Шапка сам вполне искренне верит, что все именно так и было. И с охотниками, и с контрабандистами, и вовсе со всеми.
– А тут этот… из Городни… нарисовался. Занудный. И с вопросиками своими. То к одному пристанет, то к другому… понятно, что Филька ему понарассказывала. Вот и… вляпался, небось, куда не надо. Может, грозиться стал, может, еще чего. Его и убрали.
– И голову оставили.
– Чтоб другим неповадно было, – отозвался Шапка.
– А следующий? Тоже?
– Так… не знаю. Я к нему поставил своего человечка, чтоб приглядывал.
– И спаивал.
– Помилуйте, господин маг… никто ему водку силой в рот не лил, если вы о том. А так… я человек маленький, мне перед высоким начальством отчитаться надобно. И город сберечь, чтоб и далее в нем было тихо да спокойно. Аль, думаете, наши подзаконники сильно гостям обрадуются? Еще войну начнут, не приведите Боги…
Он поглядел на меня.
– Ты там того… осторожнее, добре? Не лезь на рожон. Я-то ведаю, что ты – девка живучая, но… все одно, не лезь на рожон.
Шапка потер грудь.
– Сердце что-то третий день ноет… на покой мне пора. Давно пора…
И в этом он был прав.
– Нам нужен будет кабинет.
– Забирайте, – махнул рукой Шапка. – Вон, какой глянется, тот и забирайте. Кабинетов здесь свободных хватает.
– И дела пропавших. Заявления там. Отчеты. Какие следственные действия проводились…
По тоскливому взгляду Шапки понимаю – никакие. И не только я понимаю, потому как Бекшеев вздыхает и говорит:
– Все, что есть.
– Ваське скажи, – отмахивается Шапка. – И я скажу. Он, небось, и соберет… только… послушали б вы доброго совета, господин маг. Езжайте домой. Напишите отчета, что медведи шалят… наши подпишутся. И разойдемся с миром. Ни к чему оно, народ будоражить. Совершенно ни к чему.
Глава 10. Логово
«И стоит заметить, что в это непростое для страны время некоторые несознательные личности, увлекшись заграничной пропагандой и излишним либерализмом, с прежним упрямством пытаются навязать обществу чуждые Империи ценности…»
Из выступления министра культуры, князя Сурикова, о критичном подходе к современному искусству.
Тихоня обнаружился на лавочке, что характерно новенькой, еще не облизанной дождями. Краска на ней сияла, разве что кое-где пролегла по ней тонюсенькая паутина трещин. Тихоня сидел и лузгал семечки, ссыпая шелуху в кулек из газеты. Светило солнышко, правда, тени уже вытянулись, намекая, что дни весной пусть и долгие, но все одно не бесконечные.
– Что думаешь? – поинтересовался Бекшеев, отряхиваясь. Он, последние полчаса отчаянно чихавший – кабинет нам дали, да убраться в нем забыли, – вытер нос платком. – Извини… не думал, что пыль – это так…
И снова чихнул.
Шапка обещал, что к заврешнему дню наведет порядок.
И дела соберет.
И вовсе составит список тех, кто имеет отношение – сугубо теоретически – к произошедшему. А еще наверняка припрячет то, что еще не припрятал.
– Дурак, – я прищурилась.
Военные вот-вот должны были подъехать. И не хотелось. Вернуться бы в комнаты, проверить Софью, как она там. Кофею заказать, хотя во мне еще выпитые чаи плескались. Но тогда не кофею, а ужин. И растянуться бы на постели, закрыть глаза, вдыхая теплые ароматы сдобы и еще чего-нибудь.
– То, что он не слишком умен, это очевидно, – Бекшеев отвернулся прежде чем высморкаться. – Но он к тому же продажен. Я так думаю… и предупредит.
– Уже предупредил, – я потянулась. – Вчера. Когда позвонили ему, сказали встречать. И остался он тут вовсе не из-за военных. Скорее уж прибирался.
– Не… похоже.
– Будь здоров, – пожелала я. – В смысле, что прятал он то, что не след показывать лишним людям. Не знаю… может, на столе серебряные пепельницы стояли. Или запонки изумрудные закопать надо было. Или документы какие, что куда как верней. Спросить можно, да без толку. Все одно не скажет, разве что пытать станем.
Но не станем.
Во всяком случае пока.
– На лапу здешнее начальство берет без стеснения, – согласился Тихоня, сыпанув горсть семечек на тропинку. Местные голуби, сизые и ленивые, раздобревшие от спокойной жизни, лишь чуть повернули головы, явно прикидывая, стоит ли выбираться из тени по-за каких-то там семечек. – Я тут по рынку прогулялся…
Он потянулся.
– А Туржин где?
– До сих пор гуляет… сказал, что раз распоряжений не поступало, то он свободен. Ну и хрен с ним. Нужен он… только ноет. То ему комната маловата, то матрац тонковат, а кровать скрипит, то из окна дует. То мухи… это ж деревня, почитай. В деревнях всегда мухи.
Тихоня огляделся и бросил кулек с шелухой в ближайшую урну.
Руки отряхнул.
– Поедем солдатика искать? – уточнил он.
– А ты откуда… – Бекшеев удивился.
– Так ведь говорю же, по рынку гулял. Хочешь?
Он протянул кулек с семечками.
– Спасибо, но… пожалуй, воздержусь.
А я вот отказываться не стала. Семечки были прошлогодними, но хранились, верно, с толком, а потому не пахли ни плесенью, ни мышами. Их выжарили, щедро плеснув подсолнечного масла. Оно пропитало скорлупу, сделавши семечки липкими, и подхвативши крупицы крупной каменной соли.
Хорошо.
– О чем еще болтают? – поинтересовалась я.
– Да про всякое…
Лузгались семечки тоже неплохо. И паленых, как и недожаренных, не попадалось почти.
– Говорят, что зверь в лесах завелся лютый. Оборотень. Явно из числа беглых пленных. А может, и не их, но каторжников. Тут мнения расходятся. Но все знают, что взяли меньше, чем сбегло. Вот и спорят, кто таки, немец или каторжник. Правда, есть еще версии.
– И какие?
Я оглянулась, ощутив взгляд. И уловила тень в окне. Шапка? Вполне может статься. Отговорился занятостью, а сам приглядывает?
Я на его месте приглядывала бы всенепременно.
Хотя… я бы на его месте этого бардака не допустила бы. Хотелось бы так думать.
– Тут лесник имеется…
– Михеич? – я выцепила из памяти имя, названное Васькой.
– Ага. Он самый. Крайне подозрительная личность. Живет в лесу, сам собой. Ни семьи, ни родственников вовсе… собак держит злых. В общем, идеальный вариант.
– Для кого?
– Для полиции. Шапошников, поговаривают, собирался наведаться, да Михеича дома не оказалось.
– Сбежал?
– В лес ушел. Одна хорошая женщина сказала, что он частенько надолго уходит, на неделю или две. Но она не верит, что это он. Она вообще полагает, что это из клятой деревни наведались.
Бекшеев вздохнул и протянул руку.
– Что? Вы тут грызете так… неприлично вкусно. Как это вообще едят?
Тихоня отсыпал ему семечек, а я показала.
