Читать онлайн Пролегомены к философии Гегеля и его логике. Книга вторая бесплатно
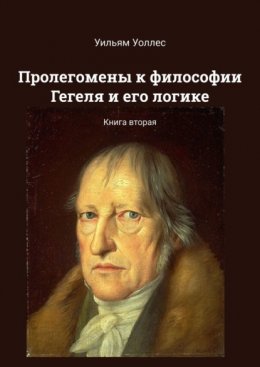
Переводчик Валерий Алексеевич Антонов
На обложке Jakob Schlesinger «Georg Wilhelm Friedrich Hegel» (1831). Alte Nationalgalerie. Public Domain Mark
© Уильям Уоллес, 2024
© Валерий Алексеевич Антонов, перевод, 2024
ISBN 978-5-0062-7770-0 (т. 2)
ISBN 978-5-0062-7771-7
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
На обложке помещено изображение, являющейся точной фотографической репродукцией оригинального двумерного произведения изобразительного искусства. Данное произведение изобразительного искусства само по себе находится в общественном достоянии. Взято из централизованного хранилища для свободных файлов, используемых в проектах Викимедиа.
Уильям Уоллес (11 мая 1844 – 18 февраля 1897) был шотландским философом и академиком, который стал членом Мертон-колледжа и профессором моральной философии Уайта в Оксфордском университете. Он был наиболее известен своими исследованиями немецких философов, в первую очередь Гегеля, некоторые из работ которого он перевел в высоко ценимые английские издания. Он был известен как способный и эффективный преподаватель и писатель, которому удалось значительно улучшить понимание немецкой философии в англоязычном мире. Он скончался в возрасте 52 лет после велосипедной аварии недалеко от Оксфорда.
ПРЕДИСЛОВИЕ
«Логика Гегеля» – это название, которое можно дать двум отдельным книгам. Одна из них – «Наука логики» (Wissenschaft der Logik), впервые опубликованная в трех томах (1812—1816), будучи школьным учителем в Нюрнберге. Второе издание было уже на подходе, когда Гегель, переработав только первый том, внезапно прервал свою деятельность. В" Secret of Hegel» ранняя часть этой «Логики» была переведена доктором Хатчисоном Стирлингом, с именем которого немецкая философия в основном ассоциируется в нашей стране.
Другая «Логика», переводом которой является данная работа, составляет первую часть «Энциклопедии философских наук». Первое издание энциклопедии вышло в Гейдельберге в 1817 году, второе – в 1827-м, а третье – в 1830-м. Следует помнить, что эти даты отбрасывают нас на сорок или пятьдесят лет назад, в то время, когда современная наука и индуктивная логика еще не завоевали свои лавры, и когда мир во многом отличался от нынешнего. Самое раннее издание «Энциклопедии» содержало основную часть системы. В последующих изданиях появились новые материалы, призванные, в основном, сгладить и объяснить переходы между различными разделами, а также ответить на возражения критиков. Работа содержала синопсис философии в виде параграфов и должна была дополняться viva voce замечаниями лектора.
Настоящий том переведен с издания 1843 года, составляющего шестой том Собрания сочинений Гегеля. Он состоит из двух почти равных частей. Одна половина, напечатанная более удобным шрифтом, содержит «Энциклопедию» Гегеля со всеми собственными дополнениями автора. В первом абзаце под каждым номером помещено самое раннее и самое простое изложение первого издания. Другая половина, напечатанная более крупным шрифтом, состоит из заметок, сделанных на лекциях редактором (Хеннингом) и профессорами Гото и Мишелем. Эти заметки по большей части связывают несколько разделов, а не объясняют их положения. Их подлинность подтверждается тем, что они почти дословно совпадают с другими частями собственных сочинений Гегеля.
Разница между двумя «Логиками» заключается главным образом в большей мелочности и детальности более крупного произведения, а также в заголовках и расположении глав. В первом томе большой «Логики» непропорционально долго обсуждаются некоторые математические вопросы, а во втором томе той же книги глава под названием «Феномен» (Erscheinung) разделена иначе, чем это принято в «Энциклопедии», и начинается с «Существования». Этой схемы придерживаются и модифицированные версии гегелевской логики, которые были сделаны Эрдманом, К. Фишером и Розенкранцем.
«Наука логики», несомненно, является более полным и ценным трудом. Однако ее объем делает ее изучение непосильной задачей. Гегель, добавим, не всегда делает свою теорию более очевидной для понимания, расширяя ее в деталях. Для многих глаз глубина становится только глубже, а тонкости – более тонкими, благодаря такому расширению.
При переводе мы постарались как можно ближе подойти к смыслу, не всегда строго придерживаясь слов оригинала. Однако в поздней и систематической части он гораздо более буквален, чем в предыдущих главах.
Пролегомены, предваряющие перевод, даны не в надежде или с намерением изложить гегелевскую систему. Они лишь стремятся устранить некоторые препятствия и сделать Гегеля менее пугающе трудным для тех, кто впервые обращается к нему. Насколько им это удастся, еще предстоит увидеть.
Оксфорд,
Сентябрь, 1873.
ГЛАВА I. ПОЧЕМУ ГЕГЕЛЯ ТРУДНО ПОНЯТЬ
«Осуждение, – говорит Гегель, – которое великий человек выносит миру, состоит в том, чтобы заставить его объяснить его.1 Величие Гегеля, если оценивать его по этому критерию, должно быть чем-то гораздо выше обычного. Комментаторы его системы противоречат друг другу почти так же, как несколько толкователей Библии. На него как на своего главу претендуют самые разные школы мысли, каждая из которых апеллирует к нему как к первоисточнику своей линии аргументации. И правое крыло, и левое, и центр исповедуют себя подлинными потомками пророка и наследуют мантию его вдохновения. Если верить одной стороне, то Гегель может быть правильно оценен только тогда, когда мы избавим его учение от всех остатков религии и ортодоксальности, которые оно сохраняет. Если верить другой категории толкователей, он был защитником христианства.
Эти противоречивые взгляды можно смело оставить на откуп друг другу. Но разнообразие мнений по таким вопросам не является ни противоестественным, ни необычным. Значение и смысл великого события, или великого персонажа, или великого произведения разумной мысли будут оцениваться и объясняться по-разному, в зависимости от того, какой эффект они произведут на разные умы, на разные уровни жизни и общества. Возможно, эти последствия проявятся в своем истинном характере лишь спустя долгое время после того, как пройдет первоначальное волнение.
Для некоторых умов главная ценность гегелевской системы будет заключаться в том, что она подтверждает истины естественной и богооткровенной религии и согласует сложные рассуждения философа с простыми стремлениями человечества к высшим вещам. Для других эта система будет иметь наибольший интерес как философская история мысли, изложение того органического развития разума, которое лежит в основе и составляет все многообразное и сложное движение мира. Для третьего класса, опять же, она может показаться в лучшем случае инструментом или методом исследования, излагающим истинный закон, по которому движется знание в своем стремлении постичь и усвоить существующую природу.
Хотя гегелевской схеме мышления можно придавать различные значения, большинство людей в мире либо объявляют Гегеля совершенно непонятным, либо помещают его в лимб априорных мыслителей, из которого не возвращается ни один философ. Спорить с теми, кто исходит из последнего убеждения, было бы неблагодарным и, вероятно, излишним занятием. Мудрость оправдывает, мы можем быть уверены, всех своих детей. Но можно признать существование трудностей и в какой-то мере согласиться с теми, кто жалуется, что Гегель непробиваем и тверд как адамант. Не может быть никаких сомнений в запретительном аспекте наиболее ярких черт его системы. Он жесток сам по себе, и его читатели находят его жестким. Его стиль не из лучших, и для чужих глаз он кажется неравноценным. Временами он красноречив, волнующ и поразителен, но иногда его обороты резковаты, а положения утомительно распутывать, и мы постоянно наталкиваемся на ту детскость литературной манеры, которую английский вкус, как ему кажется, может обнаружить в некоторых из величайших произведений немецкого гения. В Гегеле есть недостатки, которые затемняют его смысл: но больше препятствий связано с характером работы и с предзанятостью нашего умаі В нем есть что-то, что очаровывает мыслителя и что вдохновляет сочувствующего студента бодростью и надеждой весенней поры.
Возможно, главным препятствием на пути к ясному видению является контраст, который гегелевская философия предлагает нашим обычным привычкам ума. В общем, мы довольствуемся тем, что можем приблизиться к предмету и составить о нем общее представление, чтобы поставить его перед собой. Можно сказать, что мы никогда не задумывались о таком понятии, как серьезное отношение к своим словам или мыслям. Мы привыкли говорить с неопределенной широтой смысла и многое оставляем на усмотрение слушателей, от которых ожидаем исправления недостатков в наших высказываниях. Для большинства из нас место точной мысли занимают метафоры и картины, мысленные образы и фигуры, обобщенные на основе чувств. Так и получается, что когда мы наталкиваемся на одно точное и определенное высказывание, не превышающее и не уступающее по смыслу, мы оказываемся выбитыми из колеи. Нашей фантазии и памяти больше нечего делать, а поскольку фантазия и память составляют большую часть того, что мы небрежно называем мыслью, наши мыслительные способности как бы замирают. Те, кто стремится к беглому чтению или предпочитает легкому письму нечто, не выходящее за рамки привычных нам умственных линий, скорее найдут искомое в десяти частично правильных и приблизительных способах, обычно используемых для выражения истины, чем в одном простом и точном изложении мысли. Мы предпочитаем знакомое имя и привычный образ, над которым могут работать наши способности. Но в атмосфере гегелевской мысли мы чувствуем себя так, словно нас поместили в вакуум, где невозможно дышать и который подходит только для неузнаваемых призраков.
Чтение Гегеля напоминает процесс, через который мы должны пройти, пытаясь ответить на загадку. Условия задачи, подлежащей решению, нам даны: признаки предмета, может быть, полностью описаны: и все же мы почему-то не можем сразу сказать, о чем идет речь, или сложить сумму, из которой мы имеем несколько предметов. Мы ждем, что узнаем субъект пропозиции, предикатами которой можно считать все эти высказывания. Могут рассматриваться как предикаты. Мы чувствуем, что что-то, несомненно, было сказано: но мы не можем понять, о чем это было сказано. Наш ум блуждает от одного знакомого объекта к другому и пробует их последовательно, чтобы увидеть, удовлетворяет ли какой-либо из них нескольким пунктам высказывания и включает ли он их все. Мы то тут, то там ищем что-то знакомое, с чем можно было бы объединить все элементы описания и получить единство, которого они не могут дать сами. Когда мы однажды нащупали нужный объект, наши проблемы закончились: пустая среда теперь заселена существом нашего воображения. Мы достигли фиксированной точки в диапазоне наших понятий, вокруг которой могут группироваться заданные черты.
От всех этих неприятностей, вызванных гегелевской теорией того, что включает в себя философия, а именно конструирование ее предмета, спасает прием, хорошо известный нескольким отраслям науки. Они исходят из того, что у студента есть приблизительное общее представление о предметах, которые он изучает; и под руководством или с помощью этого обобщенного представления они переходят к более детальному объяснению и описанию их очертаний. Они начинают с приблизительного представления, которое, как можно предположить, есть у любого человека, и стремятся сделать его более определенным. Геолог, например, едва ли сможет преподавать геологию, если не предположит или не создаст у своих учеников некоторого знакомства с тем, что Юм назвал бы «впечатлением» или «идеей» о породах и формациях, которые ему предстоит изучать. Геометр дает краткое и, так сказать, популярное объяснение того, в каком смысле следует понимать углы, окружности, треугольники и т. д., а затем с помощью этих предварительных определений мы приходим к более научному пониманию тех же терминов. Например, третья книга Евклида дает нам более четкое представление о том, что такое круг, чем номинальное объяснение в списке определений. С помощью этих временных вспомогательных средств, или, как их можно назвать, путеводных нитей для интеллекта, прогресс обычного научного студента становится довольно легким. Но в философии, как это обнаруживается у Гегеля, действует совсем другой способ. Помощи, о которой идет речь, нет: и пока не станет ясно, что она и не нужна, гегелевская теория будет оставаться запечатанной тайной. Ведь то, что на первый взгляд кажется загадкой, на самом деле является простым и недвусмысленным изложением мысли. Вместо того чтобы искать образы и привычные названия, нам остается только принять несколько терминов и статей в развитии мысли в том виде, в каком они предстают перед нами. Эти термины просто требуют восприятия. Они не нуждаются ни в иллюстрациях, ни в свете нашего опыта.
Обычное познание заключается в отнесении нового предмета к классу объектов, то есть к обобщенному образу, с которым мы уже знакомы. Это не столько познание, сколько узнавание. «Что есть истина?» – спрашивает леди Четтэм миссис Кэдвалладер в «Мидлмарче». «Правда? Он так же плох, как и плохое лекарство – противно принимать, и наверняка не понравится». «Хуже этого ничего быть не может», – сказала леди Четтэм с таким ярким представлением о лекарстве, что казалось, она узнала что-то точное о недостатках мистера Казобона». Как только мы отнесли новую личность к знакомой категории или удобной метафоре, как только мы дали ей имя и ввели ее в общество нашей мысленной гостиной, мы удовлетворены. Мы поместили новый объект в соответствующий ящик шкафа наших идей:
и теперь, с гордостью коллекционера, мы можем спокойно называть его своим. Но такое знакомство, проистекающее из смешения памяти и наименования, – не то же самое, что знание в строгом смысле этого слова2. Кто он? Знаете ли вы его?» Это наши вопросы: и мы удовлетворены, когда узнаем его имя и его призвание. Возможно, мы никогда не проникнем во внутреннюю природу тех объектов, с которыми мы так хорошо знакомы, что воображаем себя досконально знающими их.
Классификации – это только первые шаги в науке: и мы не понимаем мысль, потому что можем рассматривать ее под видом некоторых иллюстраций.
В случае с английским читателем Гегеля некоторые специфические препятствия возникают из-за иностранного языка. В отличие от большинства известных немецких философов, он, можно сказать, пишет на народном и национальном диалекте своей страны. Конечно, есть тона и оттенки смысла, придаваемые его словам общим контекстом его системы. Но в целом он поступил с Фоссом так, как и предполагал. В письме, адресованном этому поэту из Йены в 1805 году, он говорит о своих проектах: «Лютер создал Библию, а вы заставили Гомера говорить по-немецки. Большего дара, чем этот, нельзя преподнести нации. Пока народ не знает благородного произведения на своем языке, он остается варваром и не считает это произведение своим. Забудем эти два примера, и я могу описать свое намерение как попытку научить философию говорить по-немецки3. Гегель, несомненно, является философом Германии, немцем до мозга костей. Ибо философия, хотя и является общим правом рождения полноценного разума во всех эпохах и странах, должна, подобно другим универсальным и космополитическим интересам, таким как государство, искусство или церковь, подчиняться ограничениям и особенностям, налагаемым на нее естественным разделением расы и языка. Более тонкие нюансы», как и более грубые различия национальной речи, ярко проявляются в системах философии и не поддаются переводу. Если греческая философия не может быть переведена, то и немецкая философия не может быть превращена в свод английских мыслей одним росчерком пера переводчика. В этом вопросе есть разница между наукой и философией. Несколько наук имеют де-национализированный и гуманитарный характер, как ремесла и отрасли различных наций: они практически одинаковы в одной и той же стране. Но в политическом организме, в произведениях высокого искусства и в философских системах находит свое выражение весь характер и темперамент нескольких народов, и они отчетливо выражены в своей собственной форме.
Если форма немецкой государственности не может быть перенесена на эту сторону Ла-Манша, то не может быть перенесена и немецкая философия. О прямом использовании в английских целях не может быть и речи: слишком разные обстоятельства. Но изучение великих произведений иностранной мысли отнюдь не бесполезно, так же как и изучение великих произведений иностранной государственной мысли.
Гегель оказал хорошую услугу, по крайней мере, освободив философию от того аспекта импортной роскоши, который она обычно имела, – как будто это экзотическое растение, перенесенное из яркого воздуха Греции в меланхоличный туман Западной Европы. «Нам еще предстоит, – говорит он, – разрушить перегородку между языком философии и языком обыденного сознания: мы должны преодолеть нежелание думать о том, с чем мы знакомы4. Философия должна быть повернута лицом к обычной жизни, чтобы черпать свою силу из актуального и живого настоящего, а не из воспоминаний или традиций прошлого. Она должна стать организованным и законченным мышлением того, что слепо и смутно содержится в различных уровнях народного интеллекта, поскольку они более или менее образованы и упорядочены. Возможно, однако, что попытка философствовать на родном немецком языке приводит к пуризму языка, который совершенно невозможен в английском, с его двойными симпатиями. Даже Гегелю кажется, что ресурсы немецкого языка иногда подводят его, и он вынужден использовать соответствующие слова родного и классического происхождения со значительными различиями в значении. Иногда он также проявляет склонность к этимологизации на очень узких основаниях и к чему-то очень похожему на игру слов. Но это было великое дело – изгнать из философии напыщенный и аристократический диалект и вернуть ее к тем словам и формам речи, которые находятся хотя бы в молчаливой гармонии с национальным чувством.
ГЛАВА II. АНГЛИЙСКАЯ ФИЛОСОФИЯ И ГЕГЕЛЬ
В настоящее время в Англии философия либо вообще игнорируется, либо низводится до уровня особой отрасли науки, если она не является вместилищем принципов, общих для всех наук. Любимым термином для тех исследований, которые направлены на предметы, когда-то считавшиеся собственностью философии, теперь является Mental and Moral Science. Старое название в определенных кругах ограничивается для обозначения туманных и нерегулярных спекуляций тех мыслителей, которые либо жили до возникновения этой науки, либо действовали вопреки ее предписаниям и ее примеру. Один большой и влиятельный класс английских мыслителей склонен полностью отбросить философию, как эквивалент метафизики и устаревших форм заблуждения; и на полученном таким образом пустом месте они строят свод психологических фактов или пытаются упорядочить и кодифицировать те общие замечания об общей процедуре наук, которые известны под названием индуктивной логики. Менее многочисленный, но не менее энергичный класс философов рассматривает свое дело как расширение и округление науки, как полную унификацию знания. Первая школа наиболее известна под именами Дж. С. Милля и М. Бэйна, вторая – это учение М. Герберта Спенсера.
Если обратиться к истории, то сразу становится ясно, что философия имела много общего с наукой. На ранних этапах эти два направления мысли были едва различимы. Философы Ионии и Магна-Грации были также научными учителями своего времени. Их фрагментарные останки напоминают нам временами современные теории геологии и биологии, а временами – учения идеализма. То же самое можно сказать и о ранних философах современной Европы. Семнадцатый и восемнадцатый века, несмотря на ментальное движение по методу, который представлял собой странную смесь эмпиризма и метафизики. Они пытались применить общие законы мышления к изучению особых феноменов разума. В работах этих мыслителей, как и досократовских, один элемент можно назвать философским, а другой – научным, – если использовать оба слова неопределенно. Но с Сократом в античную, а с Кантом в современную эпоху философии граница между этими двумя областями была проведена окончательно. Разграничение было достигнуто, прежде всего, путем отхода от науки и популярных представлений. Сократ отстранил мысль от рассуждений о природе всего сущего и сосредоточил ее на человеке и его состоянии. Кант покинул широкие области фактически достигнутого знания и задался вопросом о центральном принципе, на котором основаны приобретения науки. Начатые таким образом изменения не отличались от тех, которые Коперник произвел в теории астрономии. Человеческая мысль, либо в актуализированной форме государства, либо в абстрактной форме Разума, – та мысль, которая является истинным миром человека, – стала тем стержнем, вокруг которого могла вращаться система наук. В споре, который, по мнению Рида, идет между здравым смыслом и философией, предположения первой были четко перевернуты, и Кант, подобно Сократу, показал, что не отдельный корпус доктрин, а человечность, нравственный закон, мысль, лежащая в основе этих доктрин, является настоящей точкой опоры и истинным центром движения. Но это негативное отношение философии к наукам – лишь начало, необходимое для того, чтобы закрепиться. В древнем мире Аристотель, а в современном Гегель демонстрируют движение вовне, чтобы заново завоевать вселенную, исходя из того принципа, который Сократ и Кант подчеркивали в его более простом и менее развитом аспекте.
Г-н Милль в заключительной главе своей «Логики» вкратце обрисовал идеал науки, которой он дал название «Телеология», соответствующей в этической и практической сфере» Philosophia Prima», или «Метафизике», в теоретической. Этот идеальный и высший суд должен быть действительным в морали, а также в благоразумии, политике и вкусе. Но эта концепция, хотя и желательная, не соответствует той работе, которую Гегель возлагает на философию. То, что он намеревался осуществить с помощью детальной и планомерной эволюции, – это не система принципов только в этих областях действия, а теория мысли, которая также проявляется в искусстве, науке и религии, во всем сознании обычной жизни и в движении мира. Философия охватывает всю область актуальности, или существующего факта. Абстрактные принципы – это, конечно, хорошо, но это не философия. Если мир в его историческом и современном виде развивается в бесконечных деталях по закономерным линиям, то и философия должна развить узость своих первых принципов в широту системы, в то, что Гегель называет идеей. О его точке зрения можно судить по следующим замечаниям в рецензии Гаманна, непостоянного друга и современника Канца. Гаманн не стал бы брать на себя труд, который в высшем смысле взял на себя Бог. Древние философы описывали Бога в образе круглого шара. Но если такова Его природа, то Бог развернул ее; и в реальном мире Он раскрыл закрытую оболочку истины в систему природы, в систему государства, в систему права и морали, в систему мировой истории. Закрытый кулак превратился в открытую руку, пальцы которой тянутся к человеческому разуму и притягивают его к Себе. Человеческий разум – это не просто заумный интеллект, слепо движущийся в своих собственных тайниках. Это не просто ощущение и нащупывание в вакууме, а разумная система рациональной организации. Вершиной этой системы является Мысль, а Мысль можно описать как способность обозревать на своей поверхности просторы развернутого Божества, или, скорее, как способность, посредством размышления над ними, войти в них, а затем, когда вход уже обеспечен, размышлять над расширением Богов о Себе. Взять на себя эти хлопоты – явная обязанность и цель в стороне от Его свернутой формы и явленного Гензельта5. Восторженные поклонники часто говорили, будто спасение времени может прийти только от гегелевской философии. «Постигните тайну Гегеля, – говорят они, – и вы найдете лекарство от заблуждений вашего собственного ума и секрет, который должен исправить несправедливость мира» Эти высокие претензии на полезность никогда не высказывались самим Гегелем. По его словам, философия не может дать ничего нового. Практические государственные деятели и теоретические реформаторы могут сделать все возможное, чтобы исправить неравенство мира. Но те самые выражения, в которых Бэкон презрительно обесценил один из великих результатов философии, должны быть приняты в их буквальной истине. Как девственница, посвятившая себя Богу, она не приносит плодов6. Она представляет собой дух мира, который отдыхает, когда один шаг в прогрессе уже сделан, и осматривает достигнутое. Философия также не имеет призвания назидать людей и тем самым занимать место религии на высших уровнях интеллекта. Она не претендует на то, чтобы воплощать в жизнь то, что должно быть, но еще не существует. Она не ставит перед собой идеалов, которые должны дожидаться какого-то будущего дня, чтобы быть реализованными. Предметом философии является то, что всегда реализуется и всегда реализуется, – мир в его целостности, каким он есть и был. Она стремится представить перед нами и воплотить в постоянных очертаниях универсальный закон движения разума, а не локальные, временные и индивидуальные акты человеческой воли.
Те, кто просит философию истолковать или вывести априорное заключение об отдельной травинке или отдельном поступке человека, не должны огорчаться, если их просьба прозвучит абсурдно и не встретит ответа. Сфера философии – это Вселенная. При желании можно сказать, что она ретроспективна. Постичь вселенную мысли во всех ее формациях и особенностях, свести твердые структуры, созданные разумом, к текучести и прозрачности в чистой среде мысли, освободить окаменевший интеллект, который великий маг, распоряжающийся судьбами мира, скрыл под маской природы, разума человека, произведений искусства, институтов государства и порядков общества, религиозных форм и вероучений – такова сложная задача философии.
Она должна постигать мир, а не пытаться сделать его лучше. Если бы философия ставила своей целью реформировать и улучшать существующее положение вещей, то она приходит слишком поздно для такой задачи. «Как мысль о мире, – говорит Гегель, – она впервые появляется в то время, когда действительный факт завершил процесс своего формирования и теперь полностью созрел». Таково учение, излагаемое понятием философии; но это также и учение истории. Только когда реальный мир достиг своего полного завершения, идеал поднимается, чтобы противостоять реальности, и строит в форме интеллектуального царства тот же самый мир, постигнутый в его существенном бытии. Когда философия закрашивает серое в серое, какая-то форма жизни тем временем стареет: а серое в сером, хотя и вводит ее в знание, не может сделать ее снова молодой. Сова Минервы не начинает свой полет, пока не наступят «вечерние сумерки»7.
ГЛАВА III. ГЕГЕЛЬ И ТЕОЛОГ
Даже случайного читателя Гегеля не может не поразить частое повторение имени Бога и многочисленные ссылки на вопросы, которые обычно не затрагиваются, в работах, касающихся религии. Есть два вопроса, которые, по-видимому, были для Гегеля весьма увлекательны.
Один из них, довольно бесперспективный, касался расстояний между несколькими планетами в солнечной системе и закона, регулирующего эти интервалы8. Другая, более важная проблема касалась ценности доказательств, обычно предлагаемых в поддержку бытия Бога. Этот вопрос касался сути этих доказательств, в отличие от несовершенной манеры, в которой аргументаторы их излагали. Снова и снова в своей «Логике», а также в других дискуссиях, специально посвященных ей, он рассматривает эту проблему. Его упорство в этом направлении могло бы заслужить для него титул «рыцаря Святого Духа», под которым Гейне в одном из восхитительных стихотворений своего «Reisebilder» описывает себя маленькой деве из гор Гарца. Поэт Любви и Свободы имел несомненные права на место в ряду священных десниц: впрочем, как и философ. Подобно Сократу, которого описывает нам Платон, он, кажется, чувствует, что ему поручено открыть истину Божью и пробудить в людях понимание правильной мудрости. Нигде в современную эпоху философии в высказываниях мыслителя не дышит такой же высокий дух. Одна и та же тема* утверждается как общее наследие философии и религии. В письме к Дюбоку,9 отцу одного из современных немецких романистов, Гегель дает понять, насколько важен был для него самого этот аспект его системы. Его попросили дать краткое объяснение его стояния на земле: и его ответ начинается с указания на то, что философия стремится постичь посредством мысли ту же истину, которую религиозный разум постиг посредством веры.
Подобные слова на первый взгляд могут навести на мысль о смелом взлете античной спекуляции во времена Платона и Аристотеля или даже о теориях средневековых школяров. Они звучат так, словно он предлагает сделать для современного мира и в полном свете современных знаний то, что школяры пытались осуществить в рамках несколько узких представлений средневекового христианства и греческой логики. И все же между этими двумя случаями есть разница. Если докторы Церкви черпали форму изложения и материю своих систем из двух несовместимых источников, то современная схоластика Гегеля претендует на гармоничное единство, когда тело находит душу, а душа дает себе тело.
И хотя гегелевская система обладает всеохватывающим и энциклопедическим характером, благодаря которому схоластическая мысль обхватила небо и землю, ей присуща также безусловная свобода греческих мыслителей. Гегель, короче говоря, представляет собой синтез этих двух способов умозрения: свободный, как древний, и всеобъемлющий, как современный. Его теория – это экспликация Бога, но Бога в актуальности и полноте мира, а не как трансцендентного Существа в одиночестве потустороннего мира.
Величие философии заключается в ее способности постигать факты. Наиболее характерным фактом современности является христианство. Всеобщая мысль и действия цивилизованного мира попеременно то очаровывались, то отталкивались, но всегда находились под влиянием и в значительной степени пронизывались христианской теорией жизни. Этот факт является ключом к тайне мира, даже если мы добавим, как некоторые предпочтут, к тайне мира, каким он есть и был. Поэтому гегелевская система, если она вообще должна быть философией, должна быть в этом смысле христианской. Но она не является ни критиком, ни апологетом христианства. Голос философии подобен голосу иудейского врача Закона: «Если совет сей или дело сие от человеческого рода, то оно пропадет; если же от Бога, то вы не можете ниспровергнуть его». Философия исследует то, что есть, а не то, что, согласно некоторым мнениям, должно быть. Такая точка зрения не требует обсуждения «как» или «почему» христианства. Она не предполагает ни изучения исторических документов, ни веры в чудеса.
Опять же, можно спросить, в каком смысле философия имеет дело с Богом и Истиной. У Гегеля эти два термина используются как синонимы. Все объекты науки, все термины мысли, все формы жизни выводят из самих себя и ищут центр и точку опоры. Они по отдельности неадекватны и частичны, и они жаждут адекватности и полноты. Они стремятся к самоорганизации и образуют систему или вселенную; и в этой тенденции к единству заключается их истина. Их неправда заключается в изоляции и притворной независимости. Это завершенное единство, в котором все вещи обретают свою полноту и становятся адекватными, и есть их Истина: и эта Истина, как известно на религиозном языке, есть Бог. Хорошо или плохо, но Бог интерпретируется таким образом в логии Гегеля.
Такая позиция должна показаться очень странной тому, кто знаком только с трезвыми исследованиями английской философии. В чем бы еще ни расходились лидеры нескольких школ в его стране, все они, или почти все, едины в том, что относят Бога и религию к миру за пределами нынешней подлунной сферы, к непостижимой области за пределами научного исследования, где можно делать заявления по своему усмотрению, но где мы не имеем возможности проверить ни одно утверждение. Это общая доктрина Спенсера и Мэйнсела, Гамильтона и Милля. Даже те английские мыслители, которые проявляют некоторое стремление поддержать то, что в настоящее время называется теизмом, обычно довольствуются тем, что обосновывают для разума смутное восприятие Существа, находящегося вне нас и несоизмеримо отличающегося от нас. Он – Неведомая Сила, ощущаемая тем, что одни из этих писателей называют интуицией, а другие – опытом. Однако они не дают знанию никакой способности к детальному постижению истин, относящихся к Царству Божьему. Все учение Гегеля – это ниспровержение ограничений, наложенных таким образом на религиозную мысль. Для него всякая мысль, всякая действительность, когда она постигается знанием, есть со стороны человека возвышение разума к Богу, тогда как, если рассматривать ее с Божественной точки зрения, она есть проявление Его собственной природы в ее бесконечном разнообразии.
Только когда мы четко фиксируем взгляд на этих общих чертах его умозрения, мы можем понять, почему он относит зрелость античной философии ко времени Плотина и Прокла. По той же причине он уделяет так много внимания религии или полурелигиозным теориям Якоба Бёме и Якоби, хотя эти люди во многом были так не похожи на него самого.
ГЛАВА IV. ИДЕАЛИЗМ И РЕАЛИЗМ
Опасно пытаться подвести итог гегелевской философии в нескольких абзацах. С тех пор как Аристотель отделил философию от технических искусств, нет нужды повторять, что результат философской системы не является ничем осязаемым или ощутимым, ничем, на что можно было бы положить палец и сказать определенно: Вот он. Суть замечаний философа заключается в их применении. Заявление о принципе или тенденции философской системы говорит не о том, чем эта система является, а о том, чем она не является. Оно отграничивает позицию от смежных точек зрения и поэтому никогда не выходит за пределы границы, отделяющей эту систему от чего-то другого. Метод и процесс рассуждения столь же важен для познания, как и результат, к которому он приводит: и метод в этом случае тесно связан с предметом. Поэтому простой анализ метода или простое изложение цели и результата системы было бы, как в том, так и в другом случае, бесплодным трудом и не привело бы ни к чему, кроме слов. Таким образом, любая попытка передать проблеск истины в нескольких предложениях и крупных контурах представляется невозможной. Теория Гегеля питает отвращение к простым обобщениям, к абстракциям без жизни в них или роста из них. Его принцип должен доказать и подтвердить свою истинность и адекватность: и эта проверка заполняет весь круг кругов, из которых, как говорят, состоит философия.
Кажется, будто в Гегеле есть две разные привычки ума, которые мир редко видит иначе, чем в разлуке. С одной стороны, он симпатизирует мистическим и интуитивным умам, сторонникам непосредственного знания и врожденных идей, тем, кто хотел бы постичь целое до того, как пройдет через тяжкий труд деталей. С другой стороны, существует сильно рациональный и невидящий интеллект, с практическим и реалистическим уклоном и полным научным духом. Если посмотреть на Гегеля с некоторых точек зрения, то его обвиняют в мечтательности, пиетизме и мистическом богословии. Его слияние обычных противоположностей мысли в абсолютную истину, смешение религиозных и логических вопросов, общая непостижимость его доктрины – все это, казалось бы, подтверждает такое обвинение. Однако все это не противоречит грубой и язвительной силе понимания, простоте разума и определенной твердости темперамента. Этот философ во многих отношениях не отличим от обычного гражданина. Он презрительно относится ко всему слабому сентиментализму, почти безжалостно акцентирует внимание на том, что есть на самом деле, в отличие от того, что могло бы быть, и ведет свои домашние счета так же тщательно, как среднестатистический глава семьи. Это слияние двух тенденций мышления можно заметить в постепенном созревании его идей. В период его «Lehrjahre», или ученичества, с 1790 по 1800 год, мы видим, как изучение теологии в раннюю часть этого времени в Берне сменяется изучением политики и философии во Франкфорте-на-Майне.
Его цель в целом можно назвать попыткой объединить широту с глубиной, интенсивность мистика, жаждущего единения с Истиной, с расширенным диапазоном и ясностью искателей знания. Глубина ума лишь настолько глубока, насколько он смел, чтобы расширить и потерять себя в экспликации». Он должен доказать свою глубину упорядоченной полнотой реализованного им знания. Позиция и творчество Гегеля не будут понятны, если мы не будем иметь в виду оба этих антагонистических момента.
С одной стороны, существует тенденция применять те методы, которые уже были с блестящим успехом применены в различных отраслях науки, к критике объектов, которые в первую очередь не входят в сферу действия этих наук. Это использование жестких и быстрых линий разграничения и догматических методов, применение условий к необусловленному; и конечным результатом этого является сметающая религия rounu to ran. В конце концов, наступает время метафизических учений, которые пытаются связать Абсолют воедино посредством собственных слов; эмпиризма, который либо вообще упраздняет сверхчувственное, либо стремится привести его в соответствие с канонами науки; и кантовской системы, которая показывает недостаточность обоих этих методов, но не имеет ничего лучшего, что могла бы предложить10.
На другой стороне стоит притязание или уверенность, проистекающая из непосредственного и исконного единения с вечной Истиной. Вера» Якоби и «интеллектуальная интуиция» Шеллинга, дар гения, который видит истину с одного взгляда и видит ее целиком, – пророческое высказывание и восторженное видение Бесконечного – были в определенной степени необходимой реакцией против господства абстрагирующего интеллекта, который наслаждался различиями, условиями и категориями Начало девятнадцатого века в Германии, как и в Англии, было периодом бурления: было много огня, но, возможно, было еще больше дыма. Гений ликовал в своих стремлениях к Свободе, Истине и Мудрости. Романтическая школа под философским покровительством Шеллинга насчитывала среди своих литературных вождей имена Шлегелей, Тика, Новалиса и, возможно, Рихтера. Мир, как мечтало то поколение, должен был снова стать молодым – не за счет питья, как это делал Вордсворт, из свежих источников природы, а за счет эликсира, дистиллированного из увядших цветов средневекового католицизма и рыцарства, и даже из старых корней первобытной мудрости. Старые добрые времена веры и гармоничной красоты должны были быть возвращены совместным трудом идей и поэзии. К этому периоду зарождающейся и темнеющей энергии Гегель относится так же, как Лютер к дореформаторским мистикам, к Мейстеру Экхарту и неизвестному автору «Немецкой теологии». Именно с этой стороны, из философской школы гения и романиста, Гегель в конце концов был приведен не к простому повторению, а к системе, развитию и науке.
Возвести философию из любви к мудрости в обладание настоящей мудростью, в систему и науку – вот цель, которую он отчетливо поставил перед собой с самого начала. Почти в каждой работе и в каждом курсе лекций, независимо от их темы, он не упускает случая напасть на способ философствования, который заменял силу веры или убеждения вмешательством рассуждений и аргументов. Возможно, в нем было сильное сочувствие к той цели, которую преследовали эти немецкие коллеги, если их можно так назвать. Никто из тех, кто читает его критику Канта, не может не заметить его склонности к Бесконечному. Но он полностью отвергает интуицию, или прямое познание истины, как средство достижения этой цели. В то время как сторонники веры либо пренебрегают наукой как ограничением для духа, спокойно доверяющего свою жизнь Богу, либо всю жизнь стремятся к покою, которого так и не достигают, Гегель стремится показать людям, что Бесконечное не является непознаваемым, как хотел бы Кант, и что человек не может, как хотел бы Якоби, естественно и без усилий познать вещи Бога11. Он будет доказывать, что путь к Истине открыт, и доказывать это, подробно описывая каждый шаг на этом пути. Философия для него должна быть обоснованной истиной. Она не посещает избранных в ночных видениях, но приходит ко всем, кто завоевывает ее терпеливым изучением.
Для тех, – говорит он, – кто спрашивает королевскую дорогу к науке, нет более удобных указаний, чем довериться собственному здравому смыслу и, если они хотят идти в ногу с эпохой и философией, читать рецензии, критикующие философские работы, и, возможно, даже предисловия и первые параграфы самих этих работ». Во вступительных замечаниях излагаются общие и основополагающие принципы, а в рецензиях, помимо исторической информации, содержится критическая оценка, которая, в силу самого факта своего существования, превосходит то, что она критикует. Это путь обычных людей: его можно пройти в халате. Другой путь – путь интуиции. Он требует облачения первосвященника.
По этому пути движется облагораживающее чувство Вечного, Истинного, Бесконечного. Но называть это дорогой неправильно. Эти великие чувства естественным образом, не сделав ни одного шага, оказываются в самом святилище истины. Так могуч гений с его глубокими оригинальными идеями и высокими вспышками мысли. Но такой глубины недостаточно, чтобы обнажить источники истинного бытия, и эти ракеты – не эмпиреи. Истинные мысли и научные прозрения даются только тем трудом, который постигает и схватывает свой предмет. И только такое глубокое постижение способно породить универсальность науки. В отличие от вульгарной расплывчатости и скудости здравого смысла, эта универсальность – полностью сформированный и округлый интеллект; а в отличие от аристократической универсальности, в которой природный дар разума испорчен ленью и самодовольством гения, это – истина, облеченная в свою исконную форму, и таким образом ставшая возможным достоянием каждого самосознающего разума12.
Это неоспоримое изречение, ставшее как бы звонком для дружбы Гегеля с его великим современником Шеллингом, является также лейтмотивом для последующего творчества философа. От Гегеля мы не ждем ни блестящих открытий гения, ни интеллектуального leger-de-ma’m, а только терпеливое распутывание разгадки мысли через все узлы и хитросплетения: намеренное прослеживание и проработка противоречий и тайн в мысли, пока противоречие и тайна не исчезнут. Настойчивость – секрет Гегеля.
Эта характеристика терпеливой работы проявляется, например, в непрерывном преследовании намеков и проблесков, пока они не перерастают в систематические и округлые очертания. Вместо смутных предчувствий и догадок об истине, фрагментов прозрений, годы его философских занятий заняты написанием и переписыванием в попытке прояснить и упорядочить массу его идей. Эссе за эссе, набросок за наброском системы сменяют друг друга среди его работ. Его первая большая работа была опубликована на 37-м году жизни, после шести лет, проведенных в университете в Йене. Заметки, которые ему приходилось диктовать мальчикам в гимназии в Нюрнберге несколько лет спустя, свидетельствуют о постоянной переделке.
Такая настойчивость в прослеживании каждого предположения истины до его плоскости во Вселенной мысли является особым характером апЛ» трудности гегелевской аргументации. Другие наблюдатели то и дело замечали, подчеркивали и, возможно, популяризировали тот или иной момент или тот или иной закон в эволюции разума. То тут, то там, размышляя, мы вынуждены признать то, что Гегель называл диалектической природой мысли, – тенденцию, благодаря которой идея, доведенная до крайности, отступает и поворачивает к противоположному полюсу. Мы не можем, например, изучать историю античной мысли, не отмечая этого явления. Так, упорство, с которым Платон и Аристотель преподавали и навязывали доктрину о том, что община является самодержавным хозяином нескольких граждан, очень скоро вылилось в школы Зенона и Эпикура, учивших правам самоистязания и обособления или столь же пагубному эгоизму социализма. Но проблеск внутреннего разлада в понятиях, которыми мы аргументируем, вскоре забывается, и его относят к разряду случайностей, вместо того чтобы отнести к общему закону. Большинство из нас делает лишь один шаг в этом процессе, и когда мы преодолеваем кажущуюся абсолютность одной идеи, мы довольны и даже жаждем броситься под ярмо другой, не менее односторонней, чем ее предшественница. Иногда возникает соблазн сказать, что ход человеческой мысли в целом, а также та ее часть, которая называется наукой, представляет собой в основном череду иллюзий, которые заключают нас в убеждении, что некая идея всеобъемлюща, как вселенная, – иллюзий, от которых разум раз за разом освобождается, только чтобы через некоторое время погрузиться под власть какой-то частичной поправки, как будто она и только она является полной истиной.
Или, опять же, позитивная философия демонстрирует в качестве одной из своих особенностей эмфатическое и популярное утверждение заблуждения, о котором много говорил Гегель. Одним из лучших достижений этой школы был протест против иллюзорной веры в некоторые слова и понятия.
В частности, указывая на недостаточность того, что она называет метафизическими терминами, то есть абстрактных сущностей, образованных рефлексирующей мыслью, которые являются не чем иным, как двойником того явления, которое они призваны объяснить. Объяснение существования безумия предполагаемым основанием для него в «безумном неврозе» или приписывание сна, который наступает после приема опиума, усыпляющим свойствам наркотика – это несколько преувеличенные примеры метафизического интеллекта. Позитивизм в его логических аспектах, по крайней мере, привил общее недоверие к абстрактным разговорам о сущностях, законах, силах и причинах, когда они претендуют на внутреннюю и независимую ценность или утверждают, что являются чем-то большим, чем рефлекс ощущений. Но все это лишь поверхностное восприятие, размышления умного наблюдателя. Когда мы приходим к Гегелю, на смену комическому восприятию опасности, кроющейся в терминах метафизики, приходит вторая часть логики; теория сущностного бытия, субстанций, причин, сил, сущностей, материй в их сущностной относительности.
ГЛАВА V. НАУКИ И ФИЛОСОФИЯ
Отстаивая права философии против догматизма интуитивных теорий и утверждая, что мы не должны ощупывать истину как бы дозированными глазами, а должны полностью открывать их на нее, Гегель не низводит философию до уровня одной из конечных наук. Название «конечные», как и название «эмпирические», не является названием, которого науки должны стыдиться. Они называются эмпирическими, потому что их слава и сила в том, что они опираются на опыт. Они называются конечными, потому что у них есть фиксированный объект, который они должны ожидать и не могут изменить; потому что у них есть конец и начало, – предполагая что-то, с чего они начинают, и оставляя что-то для наук, которые придут после. Ботаника опирается на исследования химии, а астрономия передает запись космических движений геологии. Наука взаимосвязана с наукой, и каждая из них является фрагментом. Эти фрагменты также никогда не смогут составить целое или совокупность в строгом смысле этого слова. Они откололись друг от друга, иногда случайно, а иногда по соображениям совести. Науки распускались то тут, то там на древе народного знания и обыденного сознания, по мере того как интерес привлекал внимание к различным точкам и объектам окружающего нас мира.
Заведите народное знание о любом предмете достаточно далеко, заменив полноту и точность расплывчатостью, и особенно придав численную определенность весу, размеру и мере, пока маленькая капля фактов не превратится в океан, а зародыш – в структуру со сложными взаимосвязями, – и вы получите науку. По своему происхождению это светящееся тело фактов объединено с приветственным кругом человеческого знания и невежества: но эта часть очень скоро обретает самостоятельность и принимает враждебное или негативное отношение к общему уровню ненаучного мнения. Этот процесс, который мы можем, с вульгарной точки зрения, назвать аномальным развитием, нерегулярно повторяется в различных точках поверхности обычного сознания. В одно время это небесные движения, вызывающие науку астрономию, в другое – деление почвы, вызывающее геометрию. Каждый из этих отростков естественным образом перекликается и видоизменяет весь спектр человеческих знаний, или то, что мы можем назвать популярной наукой; и таким образом, поддерживая свою собственную жизнь, он ускоряет родительский фонд вливанием новых сил, и поднимает общий интеллект на более высокий уровень и в более высокий элемент.
Таким образом, порядок развития наук во времени и их связь друг с другом не могут быть объяснены или поняты, если мы обратимся только к самим наукам. Мы должны прежде всего погрузиться в глубины естественной мысли и проследить линии, которые объединяют науку с наукой в этой общей среде. Систематическую взаимозависимость наук следует искать главным образом в работе мысли в целом в ее популярных фазах, а также в действии и реакции этой общей человеческой мысли с науками – теми массами расширенного знания, которые образуют вокруг ядер, то тут, то там представленных в несколько ослабленной среде популярного знания. Таким образом, с помощью наук в их совокупном действии материал общего сознания расширяется и развивается, по крайней мере, в некоторых частях, хотя это расширение может не быть ни последовательным, ни систематическим. Но пока эта работа не завершена, пока, то есть, пока каждая точка в линии народного знания не получила своей глубокой проработки и равного изучения, науки конечны: они лишь сменяют друг друга в некой несовершенной последовательности или существуют в сопоставлении: но они не образуют целого. Целое научное знание сформируется только тогда, когда наука станет такой же совершенно округлой и единой, какой в своей низшей сфере и более неадекватном элементе является сейчас обыденное сознание мира, – когда прекратится изоляция наук, и они воссоздадут во всех деталях теорию мира. Главное в методе науки то, что она тщательно и с устоявшимся сознанием применяет те же методы, что и обычное или ненаучное знание (если воспользоваться одним из тех оксюморонов, которые допускает гений английского языка). Метод науки – это всего лишь метод обычного сознания, осуществляемый сознательно, неуклонно и в том стиле, который, с учетом будущих пояснений, мы можем назвать преувеличенным. Великий принцип этого метода, с помощью которого достигаются его результаты, – анализ и абстракция, сравнение и различие. Divide et impera – вот его девиз. Выделить явление из его контекста, проникнуть под кажущуюся сложность, какую время и привычка приучили обычные глаза видеть в мире, к глубинной простоте элементов, оставить все постороннее вне внимания, отменить телеологию, которая навязывает Природе чуждые узы, и брать, как носили, по одной вещи за раз: такова задача наук. И чтобы достичь этой цели, они без колебаний разрывают очарованную связь, которая в общем видении удерживает мир вместе, – духовную гармонию, которую чувство красоты находит в сцене, – цепь причины и следствия, средства и цели, перекинутую рефлексией с вещи на вещь; и, наконец, разрывают связь, благодаря которой «весь этот круглый мир Связан золотой чеканкой у ног Бога». Знание – это сила; а сила в своей высшей форме проявляется в разделениях, производимых абстрагирующим интеллектом. Отделить часть от части, а затем наделить отделенный член собственным бытием – такова тенденция научной мысли. Меч аналитика разрывает путы, поддерживающие прочную ткань нашего обычного мира: он уничтожает жизнь, но тело смерти со странной силой сохраняется, как будто оно живое. Красота, единство и связь падают перед анализом: телеология изгоняется механикой, дуализм – монизмом; и те паутины, которые древние суеверия мысли сплели над лицом природы, искусство «разрывает или сметает».
В те времена, когда античная или, если уж на то пошло, современная философия еще находилась в неосознанном союзе с наукой, а мысль, как говорится, еще была скована метафизикой, человек был центром и краеугольным камнем Вселенной. Человек был мерой всех вещей:
«Человек, однажды увиденный, навсегда запечатлевает свое присутствие на всех безжизненных вещах: ветры отныне – это голоса, стенания или крики, жалобное бормотание или быстрый веселый смех: никогда бессмысленный порыв, теперь человек рожден».
В меру своих способностей и культуры человек во все века был вынужден вчитываться в внешние по отношению к нему явления. Такое вчитывание в природу было, в своей низкой степени, фетишизмом и антропоморфизмом. Но в более поздние времена, когда науки освободились от ига философии, они отказались от подобной помощи в прочтении загадки Вселенной и решили начать с руды, с атома или клетки, а затем предоставить элементам самим решать свои задачи. Современная наука, таким образом, применяет на практике уроки, полученные от Спинозы и Юма. Первый учит, что все представления о порядке в природе, да и вообще все методы, с помощью которых популярно объясняется природа, – это лишь плоды нашего воображения, обусловленные слабостью человеческого интеллекта13. Вторая указывает на то, что все связи между вещами – исключительно дело времени и обычая, подтвержденное только опытом2. В научных исследованиях не должно быть никаких предварительных предпосылок, никакой помощи, преждевременно извлекаемой из более поздних терминов процесса. Пусть человек, говорят, объясняется теми законами и действием тех первичных элементов, из которых строится каждая другая часть природы: пусть молекулы путем механического соединения построят человека, тело и душу, а затем построят общество. Элементы, которые мы находим в результате анализа, должны быть всем тем, что необходимо для синтеза. Таким образом, в наше время наука полностью и с деталями фактических знаний в нескольких отраслях осуществляет принципы атома и пустоты, которые Демокрит предположил, но не смог проверить реальными исследованиями.
Однако научный дух, дух анализа и абстракции (или «опосредования» и «отражения»14, не ограничивается в своей деятельности физическим миром. Критика обычных представлений и условностей была применена – и была применена в более ранний период – к тому, что называется духовным миром, к искусству, религии, морали и нескольким формам человеческого общества. Под этими названиями целые эпохи своими индивидуальными умами создавали органические системы, единства, претендующие на то, чтобы быть постоянными, нерушимыми и божественными. Такими единствами или органическими структурами являются семья, государство, произведения искусства, формы, доктрины и системы религии, существующие и признаваемые в обыденном сознании.
Но в этих случаях, как и в природе, рефлексивный принцип может выйти вперед и спросить, какое право имеют эти единства на существование. Именно этот вопрос поднимают и поднимали в прошлом веке и в наши дни «энциклопедические», «ауфкларунговские», социалистические и «свободомыслящие» теории. Что такое семья, говорят они, не более чем фикция или конвенция, которая используется для того, чтобы придать пристойный, но несколько прозрачный вид определенному животному аппетиту и его вероятным последствиям? Что такое государство и что такое общество, как не фикция или договор, с помощью которого слабые пытаются казаться сильными, а несправедливые стремятся укрыться от последствий собственной несправедливости? Что такое религия, говорят, это заблуждение, проистекающее из страхов и слабости толпы и хитрости немногих, которое люди развивали до тех пор, пока оно не окутало человечество своими змеиными путами? И Поэзия, уверяют нас, как и родственные ей искусства, погибнет, а ее иллюзии развеются, когда Наука, находящаяся сейчас в колыбели, превратится в полноценного Геркулеса. Что касается морали, права и т. п., то и здесь издревле готовилось такое же осуждение. Все они, дескать, лишь выдумки власти и ремесла или фантомы человеческого воображения, которые сила позитивной науки и голых фактов должна в скором времени развеять.
Настаивая на разделении элементов в вульгарно принятых единствах мира, наука и свободомыслие, подобно Эпикуру в прежние времена, полагали, что освобождают мир от различных суеверий, от уз, которыми инстинкт и обычай сковали вещи, объединив их в более или менее произвольные системы. Они оба отрицают главенство и реальность тех идей, которые связывают в единое целое то, что имеет самостоятельное существование, и называют эти идеи всеобъемлющим мистицизмом и метафизикой. Они разубеждают нас в существовании духов, жизненных сил, божественного права правительств, конечных причин, et hoc genu» omue. Таким образом, они практически утверждают независимость человека и его право требовать удовлетворения вопрошающей, ищущей основания способности своей природы. Но при этом они упраздняют единство мира. «Феноменализм», как называют этот способ взгляда на вещи, полностью прекращает всякое подобие философии15.
В какой-то степени философия возвращается к позиции более широкого сознания, к всеобщей вере в гармонию и симметрию. Она возвращается к единству или связности, которую естественные предчувствия человечества находят в картине мира. Интуитивное вероучение, реагируя на предполагаемые эксцессы науки, просто вернулось к заячьему изложению народного вероучения. Если наука, например, показывала, что восприятие внешнего мира – это умозаключение, проходящее через ряд промежуточных этапов, то Кид просто отрицал эти промежуточные этапы, апеллируя к здравому смыслу, а Якоби – к вере. Убеждение и природный инстинкт были объявлены противовесом абстракциям науки. Но философия, постигающая и осмысливающая бытие, не может встать на ту же позицию, что и интуитивная школа, или пренебречь свидетельствами науки. Если духовное единство мира разрушено, то простое утверждение, что мы чувствуем и верим, что оно все еще сохраняется, не принесет большой пользы. Необходимо примирить контраст между целостностью естественного видения и фрагментарным, но в своих фрагментах проработанным результатом науки.
Науки рассеивают устоявшиеся представления и тем самым способствуют прогрессу человечества, устраняя один кажущийся барьер за другим. Они показывают негативный аспект тех единств, которые неизбежно навязывает разум. Но именно философия должна отвести этим результатам должное место и оценить всю ценность связей мысли, как отрицательных, так и положительных. И таким образом философия собирает плоды научных исследований общего развития человечества: и использует саму работу науки, чтобы заполнить лакуны, пробелы, которые народное сознание преодолевает бездумно и с легким сердцем. Философия приходит, чтобы подвести итог и оценить то, чего достигла наука: и здесь как бы дух мира берет в свои руки приобретения, завоеванные более дерзкими и самолюбивыми из его сыновей, и вкладывает их в общее достояние.
Они откладываются и хранятся там, сначала в абстрактной и технической форме, но вскоре им суждено перейти во всеобщее владение и сформировать ту массу убеждений и инстинктивных или имплантированных знаний, из которых новое поколение будет черпать свои умственные запасы. Каждая великая философская система в свою очередь откладывается в сторону. Она покидает профессорскую кафедру и проникает в обычную жизнь людей, воплощаясь в их повседневных представлениях, – мертвое на вид семя мысли, из которого, благодаря совместному воздействию разумного опыта и спекуляций, однажды возникнет новая философия.
Философия – это синтез наук, но в новой сфере, в более высокой среде, не признаваемой самими науками. Примирение, которое, как считает философ, он должен осуществить между обыденным сознанием и наукой, отождествляется каждой из сторон с той или иной фазой антагонистического заблуждения. Наука будет называть философию видоизмененной формой старого религиозного суеверия. Народное сознание истины, и особенно религия, увидит в философии лишь повторение или усугубление пороков науки. Попытка единства не понравится ни тем, ни другим, пока они не вступят на почву, которую занимает философия, и не начнут двигаться в этом направлении. А это возвышение в философский эфир требует напряжения мысли, которое является самым суровым трудом, возложенным на человека: поэтому непрерывное философствование часто называют сверхчеловеческим. Она делает доказательство невозможным только для тех, кто готов думать самостоятельно. Каждый шаг – это усилие, а результат, в отрыве от процесса, который его породил, исчезает, как дворец в сказке. Сравнительно легко абстрагироваться, оставить одну вещь за другой вне поля зрения, изолировать элемент, двигаться от неподвижной точки к точке, вместо того чтобы переходить из одной в другую, и при этом не потерять себя в этом поглощении. Сравнительно легко замкнуться на себе, отвергнуть все разделения и пропасти, которые обнажает наука, и слепо цепляться за факт единства, который ощущает и за который ручается естественное сознание. Первое – это общая позиция науки: второе – общая позиция большей части популярного сознания, большей части популярной религии и большей части так называемой философии. Но трудная задача, которую ставит перед собой философия, состоит в том, чтобы объединить эти две линии действия, и объединить их не как две вещи, каждая из которых должна иметь свою очередь, а неразрывно в одной деятельности.
«Вся философия есть не что иное, как изучение конкретных форм или типов единства16». Существует множество видов и классов этого синтетического единства. Их нельзя просто утверждать в расплывчатой форме, поскольку они то тут, то там бросаются в глаза массовому сознанию. Философия видит в этом единстве не конечный и не поддающийся анализу факт, не обман, а рост, раскрытие или разворачивание, которое выливается в организм или систему, строящую себя все более и более полно под действием собственной силы. Эта система, образованная этими видами фундаментального единства, называется «Идеей», высшим законом которой является развитие. Философия стремится сделать для этой связующей и объединяющей природы, то есть для мысли, нечто подобное тому, что науки сделали или хотели бы сделать для фактов чувства и материи, – сделать для духовного связующего элемента в его целостности то, что делается для нескольких фактов, которые объединяются. Она прослеживает вселенную мысли от ее зародышевой формы, где она кажется как бы неразложимой точкой, до полностью созревшей системы или организма, и показывает не только то, что одна фаза чистой мысли переходит в другую, но и то, как она это делает, и при этом не теряется, а лишь приостанавливается и лишается своей узости в более зрелой фазе.
Но он идет дальше этого, развивая в науку и царство Истины естественную и необоснованную веру в единство и порядок. Неподвижные точки, существенные реалии физического и духовного мира, произведения Природы и Разума, между которыми, казалось бы, тянутся соединительные линии, лишаются своей фиксированности и устойчивости.
Так называемая «реальность» этих объектов, как видно, обусловлена леностью мысли, которая стала привычной, так что мы теряем из виду процесс, который дал им бытие. Их реальность – это, короче говоря, абстракция: когда мы обращаемся к целому, к процессу мышления в целом, мы видим, что было бы справедливо говорить об их идеальности, то есть об их вписанности в систему или общую теорию, от которой они зависят. Итак, так называемые вещи Природы и Разума следует рассматривать как дальнейшие этапы эволюции Идеи, различающиеся скорее по степени, чем по виду. Природа и искусство, закон и мораль повторяют один и тот же органический процесс: за исключением того, что с каждым продвижением вперед возникает новый элемент или уровень мысли, более высокий, в котором движение разума происходит с более крупными вопросами и более сложными терминами. Таким образом, царства природного и ментального мира, со всеми их провинциями, теряют свои негибкие различия и становятся беременными жизненным принципом.
Таким образом, перед наукой и философией открываются два царства: царство внешней природы и царство разума. В обоих этих царствах существует определенный порядок и система. Разгадать этот порядок и показать последовательные шаги, из которых складывается система, – вот задача прикладной философии. Это сфера применения философии природы и философии разума. Но более ранняя и жизненно важная проблема (и та, которая является особой работой Гегеля) – определить этот порядок сам по себе в его родной среде мысли, где только он совершенно ясен, прозрачен и текуч: система усложняющейся мысли, как мир аттракторов или чистых духов, где материя и форма, как принято понимать, совпадают. Она стремится зафиксировать ряды духовной иерархии, в которых располагаются чистые типы мысли: сверхчувственный мир, в котором каждая точка потенциально является целым, а целое – ничто, если оно не постигает каждый свой член: круг кругов, каждый из которых – итог, если бы мы только могли в нем остановиться, а не были непрерывно устремлены дальше, в более широкий диапазон мысли. В этом организме мысли, проявленном с научной точки зрения, нет необходимости говорить о вопросе времени. Этот организм, если мы можем применить несовершенный термин для обозначения Идеи, – это сфера Логики, которая, по словам Гегеля, рассматривает чистую Идею, Идею в абстрактной среде мысли.
ГЛАВА VI. ГЕНЕЗИС ГЕГЕЛЬЯНСТВА
Мы видели, как человек заставляет мир приспосабливаться к своим желаниям и превращает его в свою собственность, накладывая на него свой отпечаток. На мир – а в той мере это его мир – он устанавливает законы своих собственных мыслей и желаний, тем самым очеловечивая его. Но если такое формование и объединение природы в единое целое является результатом его практических действий над ней, то это не менее инстинктивная основа его теоретического отношения к ней. Врожденная тенденция человеческого разума – соединять и устанавливать отношения, – соединять, может быть, ошибочно, или без должной проверки, или под влиянием страстей или предрассудков, – но, во всяком случае, соединять. Ибо, как не устает повторять мистер Герберт Спенсер и многие другие: ««Мы мыслим отношениями». Это действительно форма всех мыслей: и если есть другие формы, то они должны быть производными от этой17. Раньше человека определяли как мыслящее или рациональное животное: это значит, что человек – животное связующее и дающее отношения; и отсюда определение Аристотеля, делающее его «политическим» животным, является лишь следствием, наиболее применимым в области этики. Здесь находится конечная точка, из которой естественное сознание, а также энергия науки, искусства и религии в равной степени приступают к выполнению своих особых задач.
Чем больше мы знакомимся с вещами, по крайней мере, до тех пор, пока мы удерживаем взгляд от поглощения одной точкой, тем больше связей мы видим. Но могут произойти две вещи. Либо мы склонны упускать факт синтеза из виду, как будто он не требует дальнейшего изучения или внимания, и рассматриваем связанные вещи исключительно как заслуживающие внимания. Мы используем общие и наполовину объяснимые термины, такие как развитие, эволюция, непрерывность, как мостики от одной вещи к другой, не придавая никакого значения средствам передвижения самих по себе. Какая-то одна вещь является продуктом чего-то другого: мы позволяем термину «продукт» ускользнуть из предложения как несущественному: а затем читаем утверждение так, чтобы объяснить одну вещь, превратив ее в другую. Вещи, согласно этому мнению, важны все: остальное – просто слова. Эти отношения между вещами не подлежат дальнейшему исследованию или определению: они каждый nd generis, или своеобразны: и мы должны довольствоваться тем, что можем классифицировать их каким-то приблизительным образом, как основу для нашего деления предложений. Это, конечно, один из способов избавиться от метафизики – на время. Другой способ заключается в следующем. В определенные моменты, когда мы останавливаемся, чтобы поразмыслить над частичной картиной, и закрываем глаза на тотальность, начинают возникать сомнения, оправдана ли наша процедура, когда мы объединяем и комбинируем изолированные явления. Имеем ли мы право вбрасывать в мир природы нашу собственную субъективность, законы нашего воображения и мышления? Не правильнее ли было бы вообще воздержаться от использования подобных концепций?
Этот вопрос был предложен Юмом применительно к некоторым особым формам связи или объединения, в частности к причинности. Кант попытался дать исчерпывающий ответ. В целом его ответ был близок к скептическому решению, которое Юм предложил для своих собственных сомнений: но в своей особой природе он значительно отличался. Кант соглашался с Юмом, утверждая, что формы мышления не могут привести ни к какому знанию о природе вещей, если они не обоснованы и не подкреплены опытом. Знания, к которым способен человеческий разум, по его словам, действительно объективны, поскольку они действительны для всех интеллектов: но в конечном счете они все равно субъективны, поскольку их сбивает с толку недоступная Вещь-в-себе. Но кантовское решение отличается от решения Юма, когда он переходит к анализу факта этих отношений между идеями и к составлению генеалогической таблицы тех форм представлений, которые образуют нашу исконную интеллектуальную силу. Знание, согласно взгляду Канта на его природу, представляет собой встречу двух элементов, один из которых происходит от наших ощущений, а другой – от нашего понимания. Материя ощущений соответствует определенным условиям, которые в самом общем виде известны как время и пространство. Вклад нашего понимания носит более строго формальный характер, давая синтез и упорядочивание материи ощущений. Именно об этой второй составляющей мы сейчас и поговорим. Юм говорил, что наши попытки синтеза явлений – это просто привычки, приобретаемые в процессе опыта. Кант согласился с этим, но лишь утверждал, что наше действительное знание обязательно предполагает эти формы синтеза и, следовательно, истинно только для нас, но не для вещей. Но помимо этого результата, его притязания на память будут основываться на его изложении разума как формы форм, области интеллектуальных форм. Он подготовил почву для прогресса философии, впервые открыв область логики как науки о чистом интеллекте: интеллекте самом по себе, а не просто наблюдателе других вещей. Его работа стала тем, что мы можем назвать первой психологией чистого мышления.
Но система, представленная Кантом, имела не один недостаток. В первую очередь, таблица категорий была неполной. Она была заимствована, как говорит сам Кант, из старого логического подразделения суждений, заимствованного более или менее непосредственно у Аристотеля и школяров. Но многие отношения, встречающиеся в обыденном мышлении, нельзя было свести ни к одной из двенадцати форм, не совершив над ними насилия. Во-вторых, в классификации не было ни принципа, ни причины, и она не давала оснований для развития.
То, что должно быть четыре фундаментальных категории, каждая из которых состоит из трех подразделений, а всего их двенадцать, так же необъяснимо, как и то, что четыре афинских племени ранних времен должны были образовать двенадцать фратрий. Двенадцать патриархов мысли пользуются равным авторитетом, практически не влияя друг на друга. Мы имеем здесь, выражаясь научным языком, искусственную, а не естественную классификацию типов мышления. В-третьих, вопрос был поставлен как чисто психологический, или субъективный, касающийся конституции человеческого разума в его целостности и чистоте. И таким образом кантовское утверждение обрывается, как мы должны теперь сказать, без необходимости, на Вещи-в-себе, – таинственном мире в его неизменном и неизменном бытии, который, хотя и является неизвестным фактором, все же входит в знание.
Эта субъективность, искусственность и несовершенство списка – недостатки, которые не должны вызывать особого удивления. Ведь в 1781 году мы живем в те времена, когда «Права человека», требования личности и субъективного разума провозглашались с большей силой, чем в большинстве исторических периодов. Исповедь» Руссо была лишь одним ярким примером из сотен автобиографий, в которых подробно описывались частные и личные аспекты жизни человека, а религиозный мир в то же время был наполнен записями о благочестивых переживаниях и мельчайшими подробностями обращений. Это было время, совершенно лишенное истинного понимания того, что подразумевается под природой и историей. У него не было того исторического чувства, которое освобождает человека от ограничений его собственной природы и его эпохи и, таким образом, делает возможным для него постижение того, что является универсальным и истинным. Вместо исторической критики в этот период был применен метод, который иногда называют «продвинутым богословием», а также рационализм18. Рационализировать означало применять каноны нашего ограниченного просвещения к неограниченным диапазонам реальности. В этих условиях ограничения «Критики чистого разума» Канта вполне объяснимы.
У Гегеля этот вопрос приобретает более широкий масштаб и получает более обстоятельный ответ. В первую очередь вопрос о Категориях переносится из той сферы, которую мы называли психологической, в ту, которую Гегель называет логической. Он переносится, говоря языком древних, от Разума в человеке, рассматриваемого субъективно, к Разумному или Интеллектуальному миру, к которому наш Разум как бы прикасается, и таким образом становится обладателем знания. Во вторую очередь, Категории становятся огромным «множеством». Интеллектуальный телескоп обнаруживает новые звезды за созвездиями, видимыми невооруженным глазом, и превращает туманности мысли в миры эгоцентричного интеллекта. Больше нет никакой мистической добродетели, которая, как предполагается, заключена в числе двенадцать. Современный химик мысли значительно увеличивает число своих элементарных «типов и факторов» и доказывает, что многие из старых Категорий не являются ни простыми, ни неразложимыми. В-третьих, существует систематическое развитие или процесс, который связывает категории воедино и из самых простых, абстрактных и неадекватных порождает самые сложные и адекватные. Каждый термин или член в организме мысли имеет свое место, обусловленное всеми остальными: каждый из них содержит зародыш или зрелый плод другого.
В этом логическом взгляде на Категории, в расширении их границ и сближении их связей мы можем в общих чертах увидеть прогресс, который Гегель делает по сравнению с Кантом. Объяснить, как он пришел к этому шагу, было бы очень ценным делом для истории и биографии: но это потребовало бы обширных знаний о научной жизни конца прошлого века и начала нынешнего. Можно отметить один или два момента. Работа Г. Р. Трквирануса «Биология, или Философия одушевленной природы», первые три тома которой вышли в 1803—1805 годах, и «Философская зоология» Жана Ламарка, опубликованная в 1809 году, были почти одновременны с первым великим произведением Гегеля, «Феноменологией», появившейся в 1807 году. В этих двух работах, но особенно в работе Ламарка, теория происхождения видов от одного типичного вида путем приспособления и наследования была изложена в сравнительно определенной и систематической форме. Кроме того, «Метаморфозы растений» показали, что Гете уже в 1790 году занимался рассуждениями, которые в более современное время стали ассоциироваться почти исключительно с именем Дарвина. Все они, и особенно эссе великого поэта, были внимательно изучены Гегелем: об этом свидетельствует подробный анализ работы Гете, приведенный в «Философии природы»19, а также частые ссылки на двух физиологов в возвышенностях к более поздним разделам этой работы. Теория развития, выражаясь обычным языком, витала в воздухе: она вдохновляла и поэзию, и научные спекуляции: в тонкой и философской форме она была применена в великолепном масштабе Гегелем. Она дает теорию мысли как процесса – развития, которое не знает различий между прошлым и будущим, поскольку предполагает вечное настоящее и продолжается eui apecie aeterni.
Следует также помнить, что между Кантом и Гегелем лежит быстрое и энергичное действие Фихте и Шеллинга более раннего периода. Фихте применял доктрину Канта в области морали и религии: Шеллинг – в области природы и истории. Таким образом, они перевели теорию чистого разума из несколько сужающихся пределов человеческого разума в область актуальности и конкретных фактов. Таким образом, они практически и косвенно преодолели субъективность, элемент слабости, который цеплялся за категории Канта. Но, хотя они продвинули мысль в более широкое и сложное поле и проложили путь к новой постановке проблемы на универсальной основе, они не добавили многого к фундаменту и не исправили его неадекватность.
Фихте, показав, что интеллект – это скорее акт, чем факт, что началом философии является постулат «Думай!», что мысль должна ограничить себя и ввести различия, и что категории возникают из этого акта самоопределения, придал категориям больше единства и принципа, чем это сделал Кант. Но Гегелю оставалось поставить проблему в более полном свете. И сделать это ему позволило то исчерпывающее изучение истории и всех произведений человеческого разума, то неустанное стремление разобраться в своих мыслях и увидеть смысл истории, которым отмечено третье десятилетие его жизни. Благодаря этим исследованиям он смог заменить расплывчатое «Абсолют», ставшее крылатым словом философии того времени, полностью детализированной структурой Идеи, Разумного мира со всеми его конкретными типами и процессами, от которых они зависят: подобно тому, как Кант перевел расплывчатый и абстрактный термин «понимание» в артикулировавшую схему своих двенадцати категорий.
ГЛАВА VII. КАНТ И ЕГО ПРОБЛЕМА
Критика чистого разума“ – это обобщение проблемы, обсуждаемой Юмом. Вопрос, поставленный Кантом, мыслится в более широкой форме: „Возможна ли наука метафизика? "или, выражаясь его собственным техническим языком, «Возможны ли синтетические суждения a priori?». Юм рассматривал свой вопрос об «отношениях идей» в их отношении к «вопросам такта» в основном применительно к изолированному случаю причины и следствия: но Кант расширил этот вопрос, чтобы охватить все те связующие и объединяющие идеи, которыми полна Метафизика и которые она использует, полагая, что они сами по себе могут привести к реальному знанию, помимо опыта. По поводу этого применения Кант высказывает следующее суждение. По мере накопления опыта способности рассудка, т.е. категории понимания, находят свое применение, и знание возникает в результате совместного действия органов чувств и рассудка. Но каждый отдельный опыт, как и вся совокупность этих опытов, ощущается как недостаток полного итога: и все же этот полный итог, конечное единство, сам по себе не является опытом вообще. Но, не будучи объектом опыта, оно все же является идеей, на которую неизбежно наталкивается разум: и попытка постичь ее в отсутствие опыта порождает проблему метафизики. Все, однако, что может быть в строгом смысле слова познано, должно быть воспринято в пространстве и времени, или, другими словами, должно лежать открытым для опыта. Там, где заканчивается опыт, человеческий разум встречает преграду, которая препятствует эффективному прогрессу, но не предел, который он считает невозможным пройти. Идея полноты, округлой системы или необусловленного единства все еще остается, после того как категории понимания сделали все, что могли: она не уничтожается, хотя ее реализация или экспликация объявляется невозможной.
Таким образом, остается необъясненной тотальность, охватывающая все отдельные элементы опыта, – единство, в котором несколько категорий являются лишь несовершенным набором фрагментов, – бесконечность, которая повелевает и регулирует конечные понятия эмпирического интеллекта. Но в области рационального мышления не существует объективного и независимого стандарта, по которому мы могли бы проверить выводы Разума. Нет никаких определенных объектов, лежащих за границами опыта, к которым он мог бы безошибочно обратиться; и единственное его подлинное применение, соответственно, состоит в том, чтобы убедиться, что понимание основательно и точно, когда оно имеет дело с координацией опыта. Из-за отсутствия определенных объектов Разум, когда бы он ни действовал от своего имени, может лишь впадать в вечные противоречия и софизмы. Чистый Разум, таким образом, представляет собой мыслительный аппарат, Органон метафизики, сам по себе не «конституирует» знание, а лишь «регулирует» действие понимания.
Этой жесткой демонстрацией Кант нанес, как казалось, смертельный удар по догматической метафизике и деизму своего времени. Юм пошатнул уверенность метафизики и подверг сомнению теологию: но Кант, очевидно, положил конец метафизике и уничтожил деистическую теологию. Немецкий философ тщательно и систематически продемонстрировал то, что Вольтер сделал с литературным изяществом и не без острот, которыми французский палач завершает свой переворот. Когда великая идея превращалась в вульгарную доктрину и пародировалась на обыденную реальность, француз встречал ее несостоятельность изящной сатирой и показывал, что эти полуправды не являются вечными истинами. Немец создал теорию и систему из того, что было всего лишь грязной критикой; и сделал критику неправильной, сделав ее слишком последовательной и слишком логичной.20 Кант утверждал, что все априорные упражнения разума, помимо сотрудничества с органами чувств и опытом, невозможны или безрезультатны. Без опыта разум лишь обманывает сам себя. Таков итог кантовской критики, и на нем, как на скале, покоится большая часть передовых мнений современности. В этом, как и во многих других пунктах, философ из Кенигсберга предвосхитил движение современной мысли21.
Этих результатов можно было ожидать от учения о психической конституции, которое в своих английских, французских и немецких учителях всегда рассматривало человека и его разум абстрактно, в одной точке их развития, отдельно от их окружения и предшественников, – короче говоря, в точке просвещения восемнадцатого века. Кант, с одной точки зрения, можно сказать, систематически и последовательно осуществил то, что английская школа Локка сделала частично, то есть довел индивидуалистическую психологию, науку об индивидуальном разуме, до ее последствий22. По его собственным словам, он стремится выяснить, какое знание, если таковое имеется, может быть получено «независимо от опыта и всех впечатлений чувств». Ум, или способность мыслить, должен быть проанализирован in abtlracto, как бы в вакууме, с извлечением всех его фактических знаний и оставлением только возможности знания.
Аристотель, прозревавший природу абстрактных сущностей, заметил, что ум был ничем до того, как он проявил себя23, Ум, как и все в духовной сфере, не есть нечто неизменное, некая предельно утонченная субстанция, которой мы можем завладеть без лишних хлопот. Он есть то, чем он стал, или то, чем он заставляет себя быть. Это положение, что «Быть» = «Стать», является аксиомой, которую никогда не следует упускать из виду при работе с разумом, где все должно рассматриваться как процесс. Легко говорить и анализировать совесть и свободу воли, как будто это существующие вещи в некоем ментальном пространстве, которые так же трудно пропустить или перепутать, как камень и апельсин. Человек спрашивает, свободна ли воля или нет, так же легко, как спрашивает, сладок ли апельсин; и ответ может быть дан с одинаковой легкостью, утвердительно или отрицательно, в обоих случаях. Все в этих случаях зависит от того, сделала ли воля себя свободной или нет, действительно ли мы говорим о воле вообще. Задавать вопрос абстрактно, без учета обстоятельств, – одно из тех искушений, которые сбивают интеллект с пути и порождают лишь путаницу и многословные войны, как это сделала большая часть метафизики. Разум и его феномены, как их называют, не могут быть препарированы с тем же спокойствием анализа, что и другие вещества, которые приспосабливаются к скальпелю.
Говорят, что в одной кулинарной книге рецепт приготовления супа из зайца начинается следующим образом: «Сначала поймайте зайца». Эту необходимую предосторожность философ часто упускает. Плохая метафизика действует так, как будто заяц уже пойман, и поэтому результатом всех ее манипуляций становится довольно водянистый отвар. Настоящая философия должна показать, что она ухватилась за то, о чем хочет говорить: она должна построить свой предмет: и она строит его, прослеживая каждый шаг и движение в его построении, показанное в реальной истории. Разум – это то, что он создал; и чтобы понять, что это такое, мы должны рассматривать его не как Альфу и Омегу исследования, как это обычно представляют популярные концепции и язык, а в элементах, составляющих его процесс, в текучести его развития. Мы должны проникнуть за кажущуюся неподвижность понятия или термина и проникнуть через него в процесс, который порождает его. Ибо в противном случае объект нашего исследования берется, как если бы он был самой неоспоримой вещью чувства и фантазии, – как если бы все были согласны, что речь идет именно об этом и ни о чем другом.
Но в этом вопросе стабильности и реверса существует широкое различие между природным и духовным миром. В природе каждая ступень в организации, посредством которой развивается Космос, имеет самостоятельное существование: и низшая формация противостоит высшей, каждая стоит сама по себе рядом с другой. Материя и движение, например, не просто являются подчиненными элементами, участвующими в создании растения или животного. Они обладают свободным существованием: свободное существование материи в движении видно в форме Солнечной системы. Несколько сведений, получаемых от органов чувств, – наши ощущения – опять-таки отбрасываются назад и наружу и существуют как свойства тел или даже как элементы, из которых, как говорят, состоят тела. Но конкретные типы нескольких стадий интеграции в процессе разума не имеют самостоятельного существования и проявляются не иначе, как в качестве состояний или факторов, входящих в более высокие ступени развития и сливающихся с ними. Это создает особую трудность в изучении разума. Мы не можем схватить образование в его самостоятельной форме: мы должны проследить его в росте целого. И поэтому, когда мы принимаем названия, такие как разум, совесть, воля и т. д., как если бы они выражали нечто специально существующее в свободной форме, мы делаем предположение, которое невозможно оправдать. Мы имеем дело с бумажными деньгами, которые не принадлежат ни к какой признанной валюте и могут быть проштампованы по желанию торговца. Следствием этого является то, что вещь, с которой мы начинаем наше исследование, является непрозрачной точкой – просто термином, с которого мы начинаем наше путешествие по экспликации, оставляя сам термин позади нас необъясненным. Разум – это не «субстанция», а «субъект». В этой довольно лаконичной формуле Гегель подчеркивает свое несогласие с обычной метафизикой. Составляющие разума не лежат рядом, спокойно сосуществуя, как овца рядом с травой, на которой она пасется. Их существование поддерживается внутренним движением, благодаря которому, различаясь, они сохраняют тождество. В наших исследованиях мы не можем начинать с того, что должно быть определено. Ботаник, если он хочет дать нам науку о растении, должен начать с того, чья внутренняя цель – быть самим собой и реализовать свою возможность. Он должен начать с того, что не является растением, и закончить тем, что им является; начать, скажем, с зародыша, который имеет тенденцию превратиться в растение. Умозрительная наука биология начинается с клетки и строит из этих клеток ткани и структуры, из которых состоят овощи и животные. Объект науки появляется как результат научного процесса: или же наука – это идеальная конструкция своего объекта. Как и в этих случаях, так и в случае с мыслью. Мы должны увидеть, как она вырастает из своего простейшего элемента, из голой точки бытия, где нет ничего фактического, но все вещи потенциальны; и увидеть, как она появляется как результат, обусловленный растущим и перерастающим объединением многих элементов, ни один из которых не удовлетворяет сам по себе, но ведет вперед от абстракций к встрече абстракций в конкретном. Разум, разумение и рассудок человека – это не не есть сущностное единство, которое можно взять и исследовать. Прежде всего, необходимо убедиться, что у вас есть разум: а убедиться в этом – значит увидеть, что разум является необходимым результатом развития. Разум – это не непосредственное, не имеющее за собой ничего, явившееся в поле умственного зрения с божественно дарованным набором способностей, а опосредованное единство, то есть единство, выросшее в результате сложного взаимообмена сил и живущее в различиях.
