Читать онлайн Гонки в сентябре бесплатно
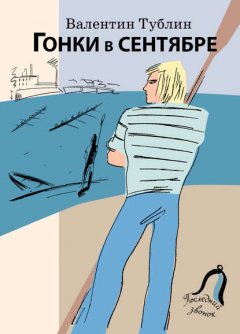
© В. С. Тублин, текст, 2013
© Г. В. Ковенчук, илл., 2013
© ГРИФ, 2013
«Пошли…»
Совершенно было непонятно, как оно появилось, это слово: произнёс ли его кто-нибудь или оно возникло вдруг у всех разом – у всех, кто стоял на балконе, на сходнях, или на самом причале, или сидел на трибунах, или ещё только подходил к ним. Нет, непонятно было, в самом деле, как это произошло; как в одну и ту же минуту все услышали… нет, не услышали даже, а почувствовали одно и то же – «пошли». Может быть, в эту секунду флаг на наблюдательной вышке дрогнул – но нет, он висел совершенно недвижимо; и выстрел – на старте, за два километра отсюда, – никак не мог долететь, и всё равно, это было совершенно ясно всем – пошли.
И тут, в эту же самую минуту, я почувствовал как стала холодеть, покрываться изморозью спина, словно меня вдруг осыпало снегом.
Ещё мгновение назад ничего не было, ещё только что все галдели, переговаривались, поглядывали на часы, на небо и на флаг, смотрели на противоположный берег и на лодки второго заезда, которые медленно сносило течением к мосту – лопасти на воде, а сама вода, как стекло, как зеркало, синяя вода, словно отглаженная утюгом – ни морщинки, ни складки, только у деревянных быков, у самых пролётов завихряется, журчит и плещет. Всё это было ещё секунду назад. Секунду, когда можно было думать, особенно со стороны, что всё это – на воде и на трибунах – просто так: просто осень, просто прекрасный день и обыкновенная тренировка, и сейчас они начнут, как вчера и позавчера, пошучивая и посмеиваясь, выносить свои вёсла и укладывать их лопастями вверх… Но после того, как это слово было произнесено, ничего уже изменить было нельзя, все пути назад были отрезаны.
Теперь оставалось только ждать. Ждать, пока финиширует первый заезд, и снова ждать, пока после старта через шесть минут с секундами (если повезёт – и без них, но только вряд ли кто-нибудь проявит такую прыть), финиширует второй. Лодки этого второго заезда уже поднимались правым берегом вверх, против течения по нулевой воде к старту, едва не царапая лопастями о бакены, поставленные на мелководье. Да, надо было ждать: второй заезд, потом третий, четвёртый, ну и так далее, пока не настанет наша очередь.
Стоило только подумать об этом, как зуб на зуб не попадал. У меня даже спина застыла, а ног я просто не чувствовал, а ведь было тепло, как летом. Такая уж выдалась осень и такая погода в это воскресенье. Я знал, что это всего-навсего предстартовая лихорадка и что всё пройдёт, как только я возьму в руки весло, но всё равно было неприятно, а кроме того, я никак не мог понять – это только со мной так, или с другими тоже.
Я попробовал посмотреть по сторонам или, по крайней мере, в одну сторону, в ту, где сидел наш загребной. Да, больше всего я хотел сейчас посмотреть на него, на моего друга Володю, на Шведа, как его прозвали ещё в первом классе. Шея моя отказалась поворачиваться, и тогда я стал поворачиваться всем туловищем. Со стороны, вероятно, это выглядело столь же забавно, сколь и нелепо, и должно было походить на танец бродячего дервиша, где-то я такое читал.
Швед сидел у самой воды, обхватив длинными руками колени. Белый чуб свешивался ему на глаза, но он, казалось, не замечал ничего, не вскидывал, по крайней мере, как всегда, головой, нет, он сидел неподвижно и глядел прямо перед собой. Дорого бы я дал за то, чтобы узнать, что он чувствует сейчас. Я даже старался усилием воли перехватить его взгляд, но Володя не смотрел в мою сторону. Он смотрел прямо вверх по трассе, туда, куда уходили, оставляя за собою ровный тугой след, лодки второго заезда. И мне оставалось только догадываться, о чём он сейчас думает: о своих каких-либо делах или, к примеру, решает, когда лучше собрать команду и вывести её на баскетбольную площадку, чтобы размяться. Или о том, как в этот раз надо пройти дистанцию, какой задать темп со старта, где ускориться и как половчее выйти к повороту, чтобы первым оседлать косое течение. Да, многое дал бы я, чтобы понять, что у него, у Шведа, на душе. Но и просто смотреть на него – тоже было приятно. Честное слово. Не стану скрывать, я человек самолюбивый, да таких людей и на свете, наверное, нет, чтобы считали себя хуже кого бы то ни было, но тут совсем другое дело – ему я всегда отдавал первое место. Ведь это же был Швед, наш великий загребной, наш, как говорится, оплот и надежда, и это были не только слова: это были ещё все его сто восемьдесят восемь сантиметров роста и девяносто пять килограммов веса; и его широченная спина, и длинные руки, и семь с половиной тысяч кубических сантиметров воздуха, что умещались в его лёгких. И хладнокровие, с которым он умел управлять собой, поддерживая нужный темп на дистанции, прибавляя, когда нужно было прибавить, и ещё прибавляя, когда все мы, высунув языки, думали только об одном – как бы дожить, дотерпеть до той минуты, когда мелькнёт финишный створ и можно будет закрыть глаза.
Он без всяких видимых усилий делал то, что под силу было только двум или трём загребным в городе: он раскручивал темп и прибавлял в нужный момент, да так, что мы сами, пусть мы даже уже и не соображали ничего, подхватывали его спурты и нагоняли иногда до сорока, иногда и до сорока двух гребков в минуту, хоть верьте, хоть нет. Я уверен, что если бы понадобилось, Швед мог бы поднять темп и до сорока шести – только с нами он такие номера не проделывал, для этого мы не годились.
Впрочем, не только мы знали все достоинства нашего загребного. Недаром с него не спускал глаз Порфирьич – старший тренер клуба и тренер команды мастеров. У него прямо слюнки текли, когда он смотрел на Шведа. С нашим тренером, тётей Гутей, Порфирьичу не хотелось связываться, но и допустить, чтобы пропадал такой загребной, он тоже не мог, вот в чём были все его затруднения – улучить момент и увести Вовку с наименьшими потерями. Нам, похоже, отводилась роль бессловесных свидетелей, поэтому нам только и оставалось сидеть и ждать, чем всё это кончится.
Тут, понятно, всё дело было в самом Вовке, в Шведе – как он себя поведёт, клюнет он или нет на ту приманку, на те намёки, которые нет-нет, да и долетали до наших ушей, и чем дальше, тем чаще. Клюнет или нет? Между нами давно уже шли об этом разговоры. Особенно после того, как Шведа раз, а потом и другой, и третий под самыми разными предлогами, то вместо заболевшего Паши Васильева, то вместо Рожкова сажали в чемпионскую восьмёрку самого Красикова – не на место загребного, конечно, не на место самого Красикова, а на второй или даже на шестой номер. И что бы вы думали? На всех прикидках и на всех отрезках – от пятисотки до полной двухкилометровой дистанции эта восьмёрка улучшала своё рекордное время! Вот Порфирьич и ходил вокруг нашего Шведа, как кот вокруг сметаны, заходил то с одного, то с другого бока и разговоры всякие разговаривал, но что это были за разговоры – а мы сами не один раз видели, как Порфирьич прогуливал Шведа туда и обратно вдоль эллинга, – мы так и не узнали. Ну, что молчал проклятый соблазнитель Порфирьич – это понятно само собой, а вот то, что намертво молчал Швед – это было уже подозрительно. Мы все голову ломали, уговорит его Порфирьич или нет. Один раз чуть не подрались даже, дошло до того, что Пончик не выдержал и спросил, чего там Порфирьич хочет, а Швед на это ответил, что он, то есть Порфирьич, хочет узнать, как лучше подрезать усы у земляники.
И мы оставили Вовку в покое. Положились, так сказать, на судьбу.
Внешне, во всяком случае, ничего не изменилось. Швед как приходил на тренировку раньше всех, так и продолжал приходить. Придёт и, не говоря ни слова, начинает возиться со всем нашим хозяйством. Проверит вёсла, например, или сядет подстругивать рукоять, или обдерёт и поменяет протёршуюся кожу. Да и мало ли ещё что можно делать, была бы охота. А уж у него охоты этой было столько, что хватило бы на двоих. Вот он и делал всё то, что, по его мнению, положено было делать настоящему, уважающему себя гребному восьмёрки, пусть даже такой, которая досталась на его долю, то есть нашей. А восьмёрка наша была такой, что даже просто грести в ней нужно было иметь незаурядное мужество, а уж быть в ней загребным – и того более.
Просто не знаю, как это лучше объяснить. Дело в том, что когда ты сам сидишь в этой восьмёрке, то и объяснять ничего не надо, но ведь не все могут сидеть в восьмёрке, особенно такой, которая раз за разом проигрывает все соревнования. Нет, просто не знаю, как это объяснить. Проигрыши? Нет, не в этом дело. Проигрыш – ерунда, проиграть может каждый. Может быть, дело в характере, в том, как человек переносит неудачи, что они, эти неудачи, с ним делают.
С самого, полагаю, сотворения мира не было такой команды, как наша. Я хочу сказать, такой дурацкой, невезучей команды. Правда. Если бы это не было так печально, в пору было бы смеяться до упаду. То есть в этом было уже что-то выходящее даже за рамки вероятностей, что-то фатальное, роковое. Случайность может произойти раз, два раза, три раза, но тут о случайности даже говорить перестали, после того как с нами в очередной – в двенадцатый или тринадцатый – раз произошла какая-то очередная дурацкая история. А поскольку все команды рано или поздно получают – как бы в виде признания – собственные имена, то получили такое имя и мы. Я хоть за день до кончины хотел бы узнать, кто первый набрёл на это слово, кто произнёс его, это слово, «бедняги», – кто? Наверное, это слово и вправду выражало общую мысль, потому что оно просто прилипло к нам. Так и говорили – не «восьмёрка Малышева» (Малышев – это была фамилия, как вы понимаете, Шведа) и не «шведы», как этого можно было бы ожидать. Потому что для Вовки, для Шведа, всё-таки делалось исключение. Его каким-то образом выделяли, или, скорее, отделяли от нас, признавая тем самым, что он лично никакого отношения к нашим неудачам не имеет.
Поэтому, когда хотели сказать про Шведа, то говорили: «Вон там идёт Малышев, Швед, тот, что загребным у „бедняг“. В то время как всем остальным не полагалось ничего, кроме номера, на котором мы сидели в лодке, так что я, например, был „бедняга-пятый“, а Пончик – „бедняга-четвёртый“, и это было ужасно обидно, потому что звучало каждый раз так, словно мы все были какими-то заморышами из приюта, а не здоровыми парнями. Здоровее многих и многих, которых называли по-человечески, „карасей“, например, из безрульной четвёрки Карасёва или даже „булочек“ – из восьмёрки Булочкина.
Так что было над чем подумать нашему загребному, когда он сидел, обхватив своими длинными руками колени, сидел и глядел вверх по течению, куда и нам скоро идти.
Будь я на его месте, я сидел бы и думал, что именно может приключиться с нами на этот раз. Я попробовал бы додуматься до этого методом исключения: что может с нами приключиться такого, что ещё не случалось, если при этом исходить из предположения, что любая нелепость, любой несчастный, точнее, злосчастный случай должен быть хотя бы не таким, как предыдущий. Мне-то казалось, что все мыслимые варианты по первому разу мы уже прошли. И на топляки мы натыкались в таком месте, где их отродясь не бывало, и таранили нас, и борт нам пробивали, и барашки откручивались на середине дистанции, и вёсла выпрыгивали из уключин, и тонули мы вместе с лодкой… Можно не продолжать, потому что перечень наших происшествий не имел конца. Это я начал только с чисто технических происшествий, а перечислив их, тут же пришлось бы открывать новый список. Список, например, несчастий, случавшихся с нами самими. Вплоть до того, что Витька Капустин, наш седьмой номер, ухитрился пристроить свой приступ аппендицита как раз на то время, когда мы, предвкушая долгожданную победу о чём говорили нам потрясающие секунды, показанные на последних прикидках, вышли на старт первенства города. Да, это был номер: Капуста, или кто там на небесах распоряжался его судьбой, рассчитал прямо до долей секунды. Мы даже на старт не успели стать, как его скрючило, мы еле-еле успели подогнать лодку к ближайшему бону, откуда нашего седьмого номера увезли без задержки прямо на операционный стол, благо, что новая больница за два месяца до этого вступила в строй тут же, на Каменном. Нам потом сказали, что Витьке просто повезло, что он под счастливой звездой родился.
И мы потом только вспомнили, что уже на последних тренировках Капуста всё массировал свой живот, а в день соревнований и вовсе сидел скрючившись, цветом лица напоминая зелёную весеннюю травку. Но и ему наши приключения надоели, и он ни за что не хотел добавлять к ним ещё одно. Всё надеялся, что до финиша дотерпит. Потому-то он и не говорил нам ничего, а только: „Отстаньте от меня, отстаньте. Давайте на старт, только не тяните. Давайте – я потерплю“.
„Давайте…“ Я просто передаю этим общий настрой. Ужасно было смотреть, как уплывает от нас первенство города, но при чём тут, скажите, Капуста? Ведь если бы послушались его, поддались бы на его „давайте…“, то единственное, что нам пришлось бы сейчас делать, это носить Капусте цветы на могилку. А так он вот, живой и невредимый.
Так что единственное, чего нашему загребному не приходилось бояться совершенно, так это того, что у Витьки Капусты снова окажется не в порядке аппендикс, хотя, по совести говоря, я лично ни за что ручаться бы не стал. Но ведь кроме Витьки в лодке сидело ещё семеро, включая самого Шведа, и у всех аппендиксы были при себе…
Можно было только надеяться на какой-то среднестатистический ряд, всё на ту же теорию, по которой не может быть так, чтобы цепь неудач всё длилась и длилась, не прерываясь никогда.
Да, тут было от чего прийти в отчаяние, пасть духом, что и случалось у нас то с одним, то с другим. Только два человека всегда вели себя невозмутимо, словно их ничто не задевало: Швед и Августина Сигизмундовна, тётя Гутя, наш тренер. И мне не дано было понять, отчего это: то ли они и вправду верили, что из нас получится что-то путное, то ли умели скрывать своё неверие.
Я, скажу честно, уже давно не верил ни во что. Я человек откровенный, мне скрывать нечего. Просто я оптимист по натуре, а это, как я понимаю, означает только одно: надо всегда видеть вещи такими, какие они есть на самом деле. Не замазывать себе глаза, не обманывать ни себя, ни других.
Тут может показаться, что это я выдумал порох, но это не так. Ничуть не бывало. Это традиция нашей семьи, если можно так сказать. Ну, о нашей семье речь ещё впереди. Одно только могу сказать – все мы, какими бы умными мы там себе ни казались, на девяносто процентов зависим от своей семьи. Если я ошибаюсь, то лишь в самих процентах – не на девяносто, наверное, а на девяносто пять. От неё всё зависит, от семьи. Какими мы вырастаем, – прямыми или кривыми, добрыми или жадными, ну и так далее. Я это вижу по себе, хотя о себе говорить всегда трудно. Уж я ли не старался искривиться, но ничего из этого не получилось. Ну что я могу поделать, если мне всего интереснее дома? А дома и не пьют, и не курят, да и насчет других пороков слабовато. Или, скажем, мироощущение. Сколько я себя помню, я всей своей сутью тянулся к мрачному, пессимистическому мироощущению. Сколько раз у меня были очень и очень веские поводы, чтобы впасть в самую что ни на есть чёрную меланхолию – это только я один знаю, особенно когда я так обжёгся на чувствах… легко вообразить, на каких. А в чём дело? В том лишь, что одного человека я вообразил однажды небесным ангелом, идеалом всего сущего, неземным созданием, Моной-Лизой и тому подобное, а она оказалась простой девочкой. Простой – это вовсе не значит плохой, это я и сейчас, вернее, это я именно сейчас могу сказать с полным основанием. Она просто оставалась всё время сама собой и отказывалась быть такой, какой она должна была бы быть по моим представлениям. В этом-то и было всё дело. Она просто пала жертвой моего искривлённого мировосприятия. Она-то ведь не знала, каким ореолом я её окружил. То есть она и предположить не могла, какой она мне видится. Если бы она знала это, думаю я теперь, если бы она знала это, или предполагала, или хотя бы догадывалась, она могла бы помочь мне, могла бы что-нибудь сделать, что-нибудь предпринять – хоть немножко, хоть чуть-чуть, чтобы хоть как-то соответствовать тому образу, который два года день за днём стоял у меня перед глазами, для того хотя бы, чтобы в момент, когда туман рассеется и упадёт пелена, не было бы столь уж потрясающей разницы. Но она не знала ничего и ни о чём не догадывалась. В убытке оказались мы оба: я чуть не прыгнул с шестого этажа от тоски, и она чуть с ума не сошла, пытаясь понять, что вдруг такое со мною стряслось и почему я так переменился.
Давняя история. Ещё из самого начала восьмого класса, из детства. Когда становишься старше, взрослее, наступает, как у нас, например, окончание школы или ещё что, вот тут-то и становишься оптимистом. В том понимании этого слова, в каком оно употребляется у нас дома. То есть видишь вещи такими, какие они есть на самом деле, и не приходишь от этого ни в особый восторг, ни в отчаяние. А если вернуться к нашей восьмёрке и к нашим злополучиям, которым не было конца, то мой оптимизм, например, подсказывал мне, что его, этого конца, и не будет.
Именно так я думал. Но разве это не было проявлением самого неподдельного оптимизма? При всём при этом я ни разу никого не подвёл, не опоздал ни разу на тренировку и в лодке всегда работал в полную силу, и разве я унывал когда-нибудь, если опять с нами что-то случалось? Никогда. Да и как я мог унывать, если я с самого начала был готов ко всему!
Я был внутренне готов настолько, что когда ЭТО случалось, я и внимания не обращал. Всегда старался поднять общее настроение, говоря, что, во-первых, надо быть готовым и к ещё худшему, а во-вторых, что время и только время показывает происходящее с нами в истинном свете. И ещё, говорил я, то, что случилось сегодня, уже не случится завтра, и, таким образом, не надо унывать!
Признаюсь: говоря так, я совершал небольшой плагиат. Это не моя мысль. Это я вычитал у Шекспира, только где – не помню. Это Шекспир в таких же, примерно, выражениях убеждает не бояться смерти. Ибо, говорит он, тот, кто умер сегодня, избавлен от необходимости умирать завтра.
Великий человек был этот Вильям Шекспир. Трудно даже представить, что столько мудрости может уместиться в голове одного человека. Отсюда, наверное, и споры, которые не утихли до сих пор. Споры о том, кто всё это написал – все эти шекспировские стихи и пьесы – он ли сам, он ли сам и ещё кто-то, или вовсе не он. Интересный вопрос, правда?
Эта мысль всё же не дает мне покоя. Мне кажется, что это исключительно глубокая мысль. Помнится, я решил однажды поделиться ею со Шведом. Мне очень хотелось, чтобы кто-нибудь оценил глубину этой моей мысли, а кто годился бы для этого лучше, чем Швед? Он, правда, не читал Шекспира, но это и не обязательно. Зато я не знаю другого человека, который обладал бы таким замечательным здравым умом.
Не помню уже, где именно мы вели с ним этот разговор. Скорее всего, мы вели его в нашем школьном туалете, куда мы ходили раньше, чтобы покурить, а теперь ходим, чтобы отвыкнуть от курения; да, это происходило именно там. Я думаю, что густой дым, который там стоит, несмотря на распахнутые настежь окна, более всего, или, пожалуй, прежде всего способен внушить человеку отвращение к вдыханию табачного дыма, и с этой точки зрения во всём мире, пожалуй, не сыскать более подходящего места. Среди этого дыма мы и отвоевали себе место на подоконнике. И тогда я и задал Шведу этот вопрос. Но Швед, Вовка, в тот раз оказался не на высоте. Я думаю, это получилось как раз из-за дыма. В таком воздухе содержание кислорода было просто сведено к минимуму, а может быть, там уже и просто никакого кислорода не осталось. А поскольку умственная деятельность, как это давно установлено наукой, прямо связана с наличием в мозговых клетках кислорода, то не удивительно, что так восхищавший меня всегда Вовкин здравый ум в этом именно случае просто не в состоянии был оценить всей глубины моей мысли. Я говорю ему:
– Всё это ведь не имеет значения, правда? Кто написал, ну, скажем, не Шекспир, так Марло или кто там, или какой-то герцог – какая разница, если вещь сама по себе прекрасна. Ты согласен? Ведь важен сам факт. Ты же не можешь отрицать, да и никто не может, что в мире есть огромное количество вещей, о которых ничего нельзя сказать, кроме того, что они существуют. И это касается не только Шекспира. Ты возьми пирамиды. Или, скажем, сфинкс. Да мало ли ещё. И что? Разве нас задевает, что автор неизвестен? Что вообще ничего неизвестно, известен лишь итог? Более того, – сказал я, – это, по-моему, просто прекрасно.
– Ну уж, – сказал Швед. – Что ж тут прекрасного?
– Что? А прекрасно, что избавляет от всякого самолюбия, понял? Помогает человеку, делающему что-то путное, чувствовать себя свободным. Не связанным какими бы то ни было оценками сегодняшнего дня. Позволяет творить, так сказать, для веков, для вечности, и ни о чём не беспокоиться.
А Швед:
– Абсолютная, – говорит, – чепуха. Особенно насчёт анонимности. Нет, – говорит он, и так качает головой, словно я сказал бог весть что сказал, например, что Волга впадает в Баренцево море или что фельдмаршал Кутузов живёт на нашей лестнице в соседней квартире. – Нет, – говорит Швед, – ты, Мурик, что-то не то говоришь. То есть, ты за безвестность, – говорит он, и по его голосу я чувствую, что он хочет меня разглядеть сквозь дым. – Нет, я категорически не согласен. Это же просто абсурд, – говорит он. – Нет, ты вникни. Ты сказал – безымянность. А что это значит, если перевести на русский язык?
Нет, клянусь, я не рад был уже, что затеял этот разговор.
– Ну, – говорю, – давай. Ну, что это значит, философ ты несчастный.
– Уравниловка, вот что это значит, – говорит Швед, и видно, что он просто в восторге от себя. Но я не стал ему возражать. Дал ему выговориться.
– Ну да, – говорит. – Чёрт-те что. Нет, ты подумай сам. Значит, один, как проклятый, не жалея ни дня ни ночи, работает и работает, чтобы как-то облегчить человечеству его путь, а спустя какие-нибудь пятьсот или шестьсот лет всё человечество поставит памятник нашему Шнырю. Ну, скажи – тебе бы такое понравилось? Такая анонимность.
Тут придётся сказать несколько слов о Шныре. О Витьке Шнуркове. Сколько мы знали его, а мы знали его с первого класса, он всегда спал на задней парте. Настоящее чудо, что каждый год он оказывался переведённым в следующий класс, и так длилось до самого окончания восьмого класса, после чего он всё-таки решил пойти в лицей. Представить его в роли благодетеля человечества было так же трудно, как слона в малогабаритной квартире, тут спорить бы нечего. Только я стал спорить именно здесь. Не знаю, в чём тут было дело, я ведь со Шнырём за все восемь лет, наверное, и восьми слов не сказал. Только я вдруг понял, что Швед неправ.
Конечно, что и говорить, я знал, что Витьке никто памятник не поставит, но Швед, который тоже это знал, высказался так, словно Витька, Шнырь, был уже и вовсе не человек, а, скажем, кролик или полевая мышь. И вот тут-то он, Швед, и был неправ.
Так я ему и сказал.
– Послушай, – говорю. – А ведь ты подал просто гениальную мысль.
– То есть?
– Ну, с Витькой, со Шнырём. Клянусь тебе, чем хочешь, я не против. В этом даже есть что-то такое… прекрасное, что ли.
– Он лентяй, – сказал Швед.
– Ну и что. Лентяй, я разве спорю? Да, круглый троечник. Но разве это самое главное в человеке? И разве кроме того, что он лентяй и соня, мы знаем про него всё? А тебе не приходило в голову, что мы вообще мало знаем друг о друге? Более того, мы почти ничего и не знаем. Кто знает, например, что Витька – человек исключительной доброты, а? Ты, к примеру, знаешь?
– Я знаю, – сказал Швед. Он уже явно начал колебаться. – Я ведь не против Витьки, – сказал он примирительно. – Я просто привёл его как пример бестолковости и никчемности. И всё.
– Но ты ведь сам признал, что он добрый.
– Ну, – сказал Швед. – Признал. То есть я имел в виду, что он вечно возится там с какими-то полудохлыми собаками и кошками.
– И это всё? – спросил я. – А больше ты ничего не припоминаешь?
– Если ты имеешь в виду тот случай, – сказал Швед. – Ну, ту драку в парке в прошлом году…
– Вот именно, – сказал я.
Я действительно имел в виду драку на катке в парке в прошлом году. Это было такое событие, которое в жизни случается не так уж часто. Такое, которое не забудешь потом до конца дней. А началось оно с Витьки. Хотя нет, правильнее сказать, началось оно с тех пьяных гадов, которые приставали к малышам, особенно к девчонкам, приставали, сбивали их на полном ходу с ног, дразнили их и чувствовали себя при этом ужасными героями. Но самое противное было даже не это. Самое противное и отвратительное было то, что вокруг, на том же катке, толпилось до чёрта всяких остолопов, и ни один из них этому безобразию не мог положить конец. Пока в это дело не вмешался Витька.
Не знаю, что за нелёгкая понесла его в тот вечер на каток, да и он сам, поди, не знает. Он ведь и дома, в то время, когда он не спит в школе, дрыхнет всё свободное время на своём диване, если только не стоит в очереди в Ветеринарном институте, что на Черниговской, у Московских ворот, с каким-нибудь очередным бродячим псом с перебитой лапой.
Я-то думаю, что он приплёлся туда случайно. Думаю, что он в тот день выспался настолько, что мог посвятить какое-то время мыслительным процессам – и тут он, чисто случайно, мог вспомнить о катке, потому что раздевалка катка глухой своей стеной выходит на пустырь, а над раздевалкой находится кафе, и время от времени из этого кафе туда, на пустырь, выносят кое-какие объедки, которые только и поддерживают жизнь в бродячих и увечных собаках. А стоит только Витьке увидеть такую собаку, то два из трёх, что она этой ночью будет ночевать в его квартире вместе с кошками, птицами, вместе с парочкой горбатых черепах и целой стаей декоративных рыбок, с ежом и кроликом и ещё с какой-нибудь живностью.
Да, я уверен, так оно и было. Витька просто брёл по парку, едва разлепляя глаза настолько, чтобы только собаку не пропустить, и ноги сами несли его на пустырь, а поскольку было ещё чуть рановато и на пустыре он ничего подходящего не нашёл, или собаки оттуда успели смыться до его прихода, то он и решил, наверное, не возвращаться сразу домой, а подождать, подремать на свежем воздухе под звуки музыки, что доносилась с катка.
Вот тут-то, не успев толком заснуть, он и увидел, как три или четыре дурака ведут себя среди мелюзги самым сволочным образом.
Нет, нам – да и милиции тоже – так и не удалось восстановить всю картину. Ясно было только одно: В. Шнурков, когда он по-настоящему проснётся, не имеет ничего общего с тем Витькой Шнырём, который проспал все последние годы на задней парте. Мы засомневались даже поначалу, о ком идёт речь. Потому что из рассказов милиции, свидетелей и пострадавших перед нами появился не хорошо всем известный добродушный и заспанный Шнырь, а какой-то кровожадный пират, флибустьер и разбойник, который, не обращая внимания ни на численное превосходство противника, ни на то, что ему куда как неудобно было передвигаться по льду без коньков, подошёл к тому гаду из этой не то тройки, не то четвёрки, подошёл к тому из них, который просто оказался поближе, сгрёб его и, наверное, задушил бы, если бы на помощь не подоспели остальные. Тут он отложил полузадавленного гада и стал разбираться с остальными при помощи чьей-то хоккейной клюшки. На этом дело не кончилось: на помощь гадам поспешили ещё человек десять, но с другой стороны на помощь Витьке подоспел кое-кто из ребят соседней школы, случайно оказавшихся вблизи, да и у остолопов, кое у кого из них, взыграли остатки совести… Словом, трёх машин милиции едва хватило, чтобы довезти их до пикета у метро Парк Победы. Но Витька и в машине всё порывался кого-то додушить.
В пикете, конечно, разобрались во всём. Гады ничего не отрицали, да и детишки к тому времени добрели до пикета, но самое главное не это. Самое главное, что от самого героя происшествия мы не услыхали ни слова. На следующее утро он, как и предыдущие сто или двести раз, пришёл за минуту до звонка. Когда учительница истории вошла в класс, он уже сладко спал. Всё было, как всегда, если не считать того, что вместо левого глаза у Витьки была огромная лиловая клякса размером с подушку. Мало ли что может с человеком случиться. Может, он во сне упал с дивана? Но зато уж и удивились мы, когда узнали, что там было на самом деле. Но ещё больше удивились тому, что сам он, похоже, не придал этой истории большого значения. Я, как человек самокритичный и честный, должен прямо признаться, что такого случая ни за что не упустил бы.
И это, пожалуй, было во всей этой истории самое удивительное.
Я часто об этом думал. И о Шныре, и о разных вариантах героизма. Вот почему оказалось вдруг, что высказанная Шведом мысль о том, что на гранитном пьедестале лет этак через пятьсот человечество могло бы увидеть некоего В. Шнуркова, личность, с нашей точки зрения ничем особо не примечательную, эта высказанная вскользь мысль показалась мне не такой уж безумной, хотя я сам предпочел бы увидеть на этом самом пьедестале всё-таки не Шныря.
О чём я Шведу и сказал.
Я сказал ему это уже по дороге в класс. Мне не терпелось поговорить со Шведом подробнее. И вот ещё что мне вдруг захотелось в этот момент: увидеть Витьку. Это можно было бы запросто сделать: он жил у своей бабушки в двух минутах от школы; наверняка он не пошёл с утра ни в какое ПТУ, можно было поклясться, что он ещё спал. Да, хорошо бы увидеть его сейчас, увидеть в новом свете, в свете предстоявшей ему в веках мировой славы. Да, в минуту, когда мы думали о нём, он наверняка спал, а мы не знали даже, снятся ли ему сны, а если снятся, видит ли он во сне своё будущее и себя самого в этом будущем.
Всё, что я рассказал, включая наш давний разговор со Шведом и мои дальнейшие мысли по поводу В. Шнуркова, покровителя бродячих собак, и то, что имело отношение к великому драматургу и поэту Вильяму Шекспиру, о котором науке, как это нередко бывает, мало что известно достоверного, всё это, говорю я, пронеслось у меня в мозгу мгновенно. Появилось, возникло, пока я, повернувшись всем телом, смотрел на нашего загребного, на Шведа. А он не замечал меня и того, что я гляжу на него. Он, в свою очередь, продолжал смотреть прямо перед собой безучастным, отрешённым взглядом. Смотрел и, как я полагал, думал о нас, о том, что же с нами такое приключится в сегодняшней гонке. Что именно и с кем именно. И хотя я, как прирождённый оптимист, не верил, что многообразие природы может быть исчерпано какой бы то ни было восьмёркой, пусть даже нашей, всего лишь за два полных года, но сегодня, именно в этот день, перед этой именно гонкой, мне захотелось вдруг подбодрить нашего загребного. Сказать ему, чтобы он перестал мучиться из-за нас, выкинул бы из головы все опасения, все заботы. Что-то мне не нравилось сегодня в нём. В той неподвижности, с которой он застыл на краю бона у самой воды. И я вдруг остро понял, как я люблю Шведа. Я даже о своей неразгибающейся спине забыл, и с этой вот дурацкой – деревяшка-деревяшкой – спиной, я пошёл по сходням…
Вот тут-то нас и поймал объектив фотоаппарата, и, когда бы я ни взял в руки этот снимок, тотчас вспоминаю всё. Даже то ощущение удивления, с которым я вдруг увидел Вовкино лицо. Да, я увидел его лицо и очень удивился, потому что это было лицо человека, мысли которого находятся очень далеко от того места, где находится он сам. И если бы я мог предположить такое, то, глядя на его лицо, я подумал бы, что его мысли в эту минуту были заняты вовсе не греблей, не гонками. Нет, я такого подумать не мог. Но всё-таки его лицо меня удивило.
Но когда я увидел, что правая рука у Шведа опущена в воду – тут я уже просто онемел. Хоть я и знал, что у него, как и у любого, впрочем, порядочного гребца, подержавшего в руках весло больше года, кожа на ладонях становится твёрже ботиночной подошвы. Но всё равно – руки мочить нельзя, это азбука.
Нет, что-то тут было не так. Со Шведом положительно что-то стряслось. И вот всё это – моё изумление, моё потрясение – очень хорошо передавал снимок. Я стою на нижнем краю сходен, и брови у меня от изумления приподняты, как крылья у петуха, собравшегося взлететь, а рот раскрыт. Я был пойман объективом в тот самый момент, когда я закричал на Вовку: „Ты что, с ума сошёл! У тебя же рука в воде!“ Я не могу понять, вернее, вспомнить, только одного. Там, на фотографии, лицо Шведа повёрнуто ко мне. Но не могу взять в толк, повернулся ли он ко мне на звук шагов или на мой голос. Наверное, всё-таки на звук шагов, потому что иначе он не успел бы попасть в этот кадр.
Нет, конечно, на звук шагов. Он посмотрел на меня тем самым непонятным, несвойственным ему отсутствующим взглядом и, не вынимая руки из воды, сказал что-то.
Но я не услышал, что.
Я увидел, что он говорит, и, показалось мне даже, различил какие-то слова, но это было не так. Это могло мне только показаться. Потому что в эту же минуту, совершенно синхронно со Шведом, динамик на балконе проревел: „ВНИМАНИЕ! ЛОДКИ ПЕРВОГО ЗАЕЗДА ПРОШЛИ ПЯТИСОТМЕТРОВУЮ ОТМЕТКУ. ВПЕРЕДИ КОМАНДА „БУРЕВЕСТНИКА“, ИДУЩАЯ ПО ШЕСТОЙ ВОДЕ“.
И динамик, и Швед начали и кончили одновременно. Швед даже кончил чуть раньше. Я стоял и смотрел на него, ожидая, что он сейчас повторит. Но он не повторил. Он молчал. Единственное, что он сделал, это вытащил всё-таки руку из воды и теперь внимательно рассматривал её. А потом перевёл взгляд на реку: посмотрел на воду, на дальний берег, на поворот, у которого через три минуты появятся лодки, потом посмотрел на динамик и нехотя, будто возвращаясь откуда-то, пробормотал: „Ветер слева. У дальней воды будет потише…“
Нет, не те это были слова, что он сказал до того. Совсем не те.
Вода стекала у Шведа с ладони, и он вытер её о безрукавку. Ладонь у него была огромная, с тарелку, и мозоли от весла были на редкость красивыми – прозрачными и жёлтыми, как янтарь, и твёрдыми, как железо, таким можно было только позавидовать. Да, вот такая это была картина. Швед смотрит на ладонь, словно желая по руке прочесть свою судьбу, а я смотрю на Шведа, ожидая, что он повторит те слова, которые были заглушены динамиком.
А вокруг, не обращая ни на кого внимания, уже начинают волноваться и шуметь болельщики: вытягивают шеи, наводят бинокли, а те, что порезвей, бегут наверх, на балкон, хотя там и так уже негде яблоку упасть. Это даже удивительно, что такое количество народу собирается на гребные гонки; никогда не скажешь, не подумаешь даже, что в городе такое количество болельщиков. Пока не придёшь на соревнования. На „Кубок Большой Невы“, скажем, или, как сейчас, на „Осеннюю регату“. Сотни людей всех мыслимых возрастов – от девяностолетних старцев, бросивших грести ещё до революции, до десятилетних шкетов из специализированных лягушатников. Конечно, всё это несравнимо по количеству с футболом, зато по качеству несравнимо тоже. Ни на каком футболе или хоккее таких квалифицированных болельщиков не увидишь. Потому что сюда собираются не футбольные или хоккейные пижоны, для которых очередной матч лишь повод, чтобы подрать глотку. Нет, здесь собираются все, кто и на смертном одре не спутает клинкер со скифом, а лопасть с вальком. Здесь все – настоящие специалисты, те, кто сам в своё время обливался потом, стирал себе и зад и руки во время бесчисленных часов, проведённых на воде в зной и дождь. Да что говорить! Я уверен, такое количество мозолей, собранных вместе, может быть в одном ещё только месте: на Хенлейской регате, в Англии. Наши ребята из восьмёрки мастеров – той самой, куда несколько раз подсаживали Шведа, – выступали там, на Хенлейской, уже три раза, и мы многое от них услышали. Да, там, пожалуй, такие же профессиональные болельщики, знающие, что к чему, особенно когда соревнуются восьмёрки Оксфорда и Кембриджа. Соревнуются с незапамятных времён – в сотый, а то и двухсотый раз. Я бы полжизни не пожалел, чтобы взглянуть. Говорят, что по берегам Темзы черным-черно от бывших гребцов, даже паралитики, мол, и те приползают в своих креслах, чтобы взглянуть на это зрелище последний, быть может, в жизни раз. И у нас приходят такие старцы. И вот они-то и есть самые активные болельщики.
Они мне очень нравятся, клянусь. Я не сразу это понял, но когда понял, то полюбил их всей душой. Мне всё равно, пусть даже никто мне не поверит. Я люблю на них смотреть, смотреть, как они приходят, как двигаются, как говорят. Для таких, как они, почётных гостей, по давней традиции, на балконе, на самом лучшем месте у балюстрады стоит удобная, широченная скамья – хоть сиди, хоть лежи. И как приятно смотреть на них в такие минуты: ведь когда они приходят – совсем старые, с палками, седые усы приглажены, в отпаренных, вычищенных костюмах, стараясь распрямить плечи, на которых словно шар земной лежит, они забывают обо всём.
Как приятно смотреть на них, и какая-то жалость прямо разрывает сердце, когда смотришь, а они приходят и тихонько, словно извиняясь, что самим видом своим напоминают безвозвратно ушедшие времена, садятся на эту свою почетную скамью и сидят, выцветшими, почти прозрачными глазами поглядывая на реку, которая, конечно же, стала совсем другой. Да, другой, неузнаваемой, безвозвратно изменившейся со времён их юности. Но так далеко и брать не надо – даже за какие-нибудь сорок, тридцать лет – и то всё изменилось, даже за те годы, что ты помнишь сам.
И вот тут ты вдруг начинаешь кое-что понимать.
Ты начинаешь понимать время.
Но без них, без этих старых людей, ты ничего бы не понял. Потому что они показывают тебе то, что ты в свои семнадцать лет не видишь сам по себе и не понимаешь. И даже если и захочешь понять, то не поймёшь, не сможешь понять до конца. Не сможешь понять, что же это за штука такая – время. А они тебе это всё показывают, потому что время – это они и есть. Потому что было время, когда старики эти не были стариками. Они ведь не случайно пришли сюда сегодня. Они тоже когда-то гребли. Это были люди, чьи фамилии в своё, для них не такое уж немыслимо давнее, время были знамениты, а кое-какие из этих имён можно и сейчас прочесть на бронзовых пластинках в кают-компании. И на стенках кубриков, и на жёлтых от времени фотографиях. Но разве можно признать в этих старых людях тех молодцеватых великанов в полосатых безрукавках и смешных, до колен, штанах?
Нет.
И вот поэтому именно, глядя на них, ты начинаешь думать, что же это такое – время. А начав думать, начинаешь его ценить. А может быть, и не начинаешь?
Потому что тебе семнадцать лет. А когда тебе семнадцать, ты не думаешь о времени. Ты и так считаешь себя взрослым. Более того – тебе не терпится стать ещё более взрослым, скорее, скорее, для того хотя бы, чтобы перейти в следующий разряд, перейти из юниоров во взрослую команду, перейти из школы, так уже опостылевшей, что и слов нет, в институт, стать, если фортуна не отвернётся, студентом, самостоятельным человеком, мужчиной. Иметь свои, заработанные деньги. Стать взрослым во всех отношениях.
Не говоря уже об отношениях другого рода…
Вот о чём заставляют подумать эти старые люди с доверчивыми глазами. Они сидят на балконе, глядят на воду в реке, которая давно уже не та; совсем не та. Они говорят тебе о жизни, и говорят о времени, и не их вина, что ты не слышишь.
Но кое-что они всё-таки тебе, глухому, помогают понять. Праздник, хотя бы. Потому что по ним, по их нетерпению ты видишь, как это много – оказаться здесь, на реке, где ветер задувает то с одной стороны, то с другой, и флаги, словно паруса, рвутся куда-то вдаль, обвисают на минуту и снова рвутся. Видеть, как солнце играет в пятнашки с тучами, и слушать хриплый бас динамика, когда он, вот как сейчас, объявляет: „ЛОДКИ ПЕРВОГО ЗАЕЗДА ПРОШЛИ КИЛОМЕТРОВУЮ ОТМЕТКУ. ИДУЩИЕ ВПЕРЕДИ КОМАНДЫ „БУРЕВЕСТНИКА“ И „ЭНЕРГИИ“ ДЕЛАЮТ ПО СОРОК ГРЕБКОВ В МИНУТУ“.
И в эту же минуту все смотрят на вышку. Что это ещё за растяпа забрался туда? Кто же говорит так – сорок гребков. Сорок ударов – так должен был он сказать, сорок ударов, и никак иначе. Позор! Вечно в радиорубку лезет всякий, кому не лень.
Старички, волнуясь, привстают. Их плечи, согнутые бесчисленными годами жизни, расправляются совсем по-молодому. И глаза у них блестят, выцветшие дальнозоркие глаза, когда, привстав и поднеся ко лбу ладони, старики смотрят на поворот. Сейчас, сейчас покажутся лодки, вот-вот…
И этот живой, неугасающий интерес – тоже урок нам, так избалованным всем на свете, в том числе и праздниками. Где лодки? Их нет ещё, их ещё нет. Я смотрю на Шведа – он опять опустил руку вниз, лица его мне не разглядеть… Уж не заболел ли он, на самом деле?
Но в этот момент появляются лодки. Даже если не смотреть на воду, это становится ясно в ту же секунду, когда они возникают в поле зрения. Это можно определить на слух по тому шуму, который возникает на трибунах. Это похоже на порыв ветра в лесу. Шум и крики несутся навстречу лодкам и становятся всё громче по мере того, как лодки приближаются. Но эти крики ничего изменить не могут. Более того – они почти неразличимы для тех, кто сидит сейчас в лодке, напрягая все свои силы. Для них этот шум и эти крики – лишь гул ветра в листве, им сейчас не до криков, им только бы не отстать сейчас от загребного, не проворонить, не упустить момент, когда загребной, тоже из последних сил, начнёт последний финишный спурт. Вот тут-то они должны поддержать его, подхватить, прибавить… И тут уж им не до криков, которые для них не более чем общий фон, как свет солнца или плеск воды. У них там, в лодке, поди и мыслей-то никаких нет; только бы дойти до финиша, дотянуть, дотерпеть…
Сколько раз я видел всё это. Сколько раз сам гонялся, а привыкнуть к тому, как финишируют лодки, никак не могу. Пусть даже в этом заезде наших лодок нет, пусть там все чужие – всё равно сердце начинает стучать сильнее и сильнее, дыхание прерывается и во рту становится сухо. В этот момент я там, в лодке, с ними.
Трибуны уже кричат вовсю – финиш! Всё решится сейчас; и вот по первой воде, ближней к бону, начинает финишный рывок, спурт, на последних ста метрах взвинчивая темп, восьмёрка с красно-белыми лопастями. Это „рыжие“, восьмёрка „Спартака“, у которых загребным рыжий такой сухопарый детина, а на руле его сестрёнка, такая же рыжая, а может, и не сестрёнка, а родственница, а может у них в „Спартаке“ просто мода на рыжих. Да, вот и сейчас она на руле, отчаянная рыжая девчонка, тоненькая, как карандашик, в зюйдвестке с откинутым капюшоном. Она не сидит у себя на корме, как остальные рулевые, как ей положено, а вскочила на сиденье, на кормовую банку и, рискуя при каждом гребке сыграть за борт, кричит голосом, таким пронзительным, что даже у зрителей мороз по коже:
– И-раз, – кричит она, – и-р-раз, и-р-раз – второй номер! – и-р-р-раз!
И при каждом гребке её шатает, словно при землетрясении.
Чёртова девчонка – на неё нельзя было смотреть равнодушно. И зрители с трибун, в такт гребкам, начали скандировать: „Спар-та-ки, спар-та-ки“!.. А те и рады стараться, нет, молодцы, раскручивают греблю и раскручивают, показывая, сколько можно выиграть на одном финише. А потом рыжая показала, что она не только кричать умеет, показала, что может сделать настоящий рулевой. До последней секунды она всех отжимала налево, друг на друга, а потом потянула руль и погнала восьмёрку прямо на бон. Со стороны могло показаться, что это не гребцы, а просто смертники какие-то, или что рыжая девчонка свихнулась, сошла с ума: лодка шла прямо на бон, на то место, где находились мы со Шведом. Тут даже его проняло, и он поднял голову, и так мы стояли в полном остолбенении и смотрели, как спартаковская восьмёрка с каждым ударом росла, приближалась, вырастала на глазах, а эта рыжая, чертёнок, ни на сантиметр не уходила от прямой, гнала огромную лодку прямо на бон и звенела своим пронзительным, чуть подсевшим от напряжения голосом: „Р-раз, и ещё, и-р-раз, и ещё“. А потом, метров за сорок, когда уже и нам со Шведом стало казаться, что нет, не справиться ей, снова потянула руль так, чтобы пройти впритирку, и так закричала: „Всё! Всё!“, что старички на балконе только что не попадали со своей скамьи.
И тут же ударил колокол.
Это действительно было всё!
Нет, честно говорю, это был заезд что надо. У меня даже спина согрелась. То, что заезд был классный, видно было хотя бы по тому, что в спартаковской восьмёрке сразу после того, как прозвенел колокол, двое – на третьем номере и на седьмом – уронили головы на валёк и не могли даже пошевелиться. А рыжая девчонка, как ни в чём не бывало, сидела уже, где ей и положено было сидеть, и капюшон у неё был надвинут на самый нос. Я ничуть не удивился бы, если бы оказалось, что там, под капюшоном, она сейчас вытирает слёзы. Это бывает. И не только с маленькими девочками, это от напряжения. А она могла плакать даже у всех на виду, никто и слова бы не сказал. Ведь их восьмёрка на финише выиграла у „Буревестника“ четверть корпуса, и они были в финале, а остальным, в том числе и „Буревестнику“, оставалось либо пробиваться через утешительные заезды, либо ждать до следующей регаты.
Я так загляделся на этот сумасшедший финиш, что совсем забыл о Вовке. Но он обо мне не забыл. Я только хотел спросить его, как ему понравился этот спартаковский финиш и запомнил ли он, с какого именно места рыжая крикунья взяла резко вправо – у бонов ли „Пищевика“, где всегда выруливались на последнюю прямую мы сами, или чуть дальше, как сегодня показалось мне, но Швед меня опередил. Я ещё рот не успел раскрыть, как он уже встаёт, распрямляется во весь свой рост, и, глядя куда-то в сторону, не на воду даже, а мимо моего уха, спрашивает – запинаясь как-то и чуть ли не заикаясь:
– Cepёгa, – говорит он, – Мурик. Когда я был у тебя в последний раз?
– То есть? – говорю я в полнейшем недоумении. – Что значит – когда? Позавчера ты был у меня, в пятницу.
– В пятницу? – врастяжку говорит Швед, и мне показалось, что Вовка покраснел. Нет, конечно, мне почудилось.
– Так это было в пятницу…
– Ну что ты заладил? Ну, в пятницу. Позавчера. Да что с тобою, Вовка? Что с тобой происходит? В пятницу. Ты ещё зашёл за мной с утра, а накануне к нам приехала Ира…
Но он уже не слушает меня и не смотрит. Он смотрит мимо моего уха на мост, и выражение лица у него такое, словно я Шехерезада и рассказываю ему сказку про Синдбада-Морехода. Да, взгляд его устремлён мимо меня, вроде бы даже на мост, но вполне вероятно, что там, куда он смотрит, никаких мостов нет. И если бы я знал, что такое возможно, я сказал бы, что на лице у Шведа отражено смятение чувств.
А он, Вовка, Швед, глядя мимо меня, видя то, что видно только ему одному, всё повторял: „В пятницу? Позавчера? А ты не спутал, не ошибся?“
* * *
Неужели это было в пятницу?
Он смотрел в лицо своему лучшему другу, смотрел прямо в глаза Мурику, Серёге – он понимает что-нибудь? Догадывается? Но в глазах у Мурика не было ничего, кроме недоумения. Он явно ничего не знал и ни о чём не догадывался, и Швед мог вздохнуть спокойно. Нет, Cepёгa, знавший его едва ли не лучше, чем он сам знал себя, похоже, действительно, ничего не понимал. Что ж, тем лучше.
А впрочем, именно Cepёгa мог бы его понять. Если не он, то кто же? Так что на какое-то мгновение Швед (он так привык к этому имени, что, пожалуй, думая сам про себя, тоже называл себя Шведом) даже подосадовал на недогадливость Мурика. А потом представил обратное – что Мурик всё знает. Ему стало так жарко, что он сразу понял, как ему повезло, и только не знал, чему всё же следует больше радоваться – Серёгиной ли недогадливости или счастливому стечению обстоятельств, финишу, скажем, спартаковской восьмёрки.
Нет, это было всё-таки удивительно. Как можно было в эту минуту думать о гонках, даже о таких, как эта осенняя регата? Нет, это неверно. Он, Швед, сам тоже думал о регате, он не забывал о ней, не мог, не имел права о ней забывать. Но вместе с тем не только регата, но и всё остальное в мире с некоторых недавних пор, с пятницы, отошло с переднего плана куда-то вдаль. Скрылось в этой дали, исчезло в какой-то дымке, словно между миром и им самим поставили какую-то прозрачную преграду. Что это было такое, что это была за дымка и что за преграда, он, Владимир Малышев, не знал.
Неужели это было в пятницу?
Нет, невероятно. Он этого не понимал, он спрашивал себя – как же это всё было, как это вообще могло быть. Вот он говорит себе – в пятницу, это было в пятницу, а ничего понять не может. Ну, например, если он спросит себя, – а что было раньше, до пятницы? И ничего не ответит. А ведь было что-то, не могло не быть.
Тогда он себя спрашивает – ну, хорошо, того, что было, он не помнит. Но сосчитать, сколько дней прошло с тех пор он может? Ну, так сколько же? Пятница, суббота и вот сейчас уже полдня. Два с половиной? Целых два с половиной? Ему – он чувствовал это – трудно было тут судить. Потому что, с одной стороны, он совсем не ощущал этих двух с половиной дней, в которых как-никак было всё-таки шестьдесят часов. И каждый час пришлось ему прожить с того самого утра, в пятницу. Если только это действительно была пятница. А ведь каждый час содержал в себе целых замечательных шестьдесят минут, необыкновенных, прекрасных шестьдесят минут!
Если рассмотреть всю его жизнь, все годы, все семнадцать его долгих лет, что он прожил до прошлой пятницы, то можно было бы увидеть самую обычную, ничем не примечательную заурядную жизнь. Жил да был некий Малышев Владимир, рос себе и рос, ходил в школу, сначала не без охоты, а потом абсолютно без всякой охоты, переходил из класса в класс и считал свою жизнь достаточно интересной Дружил с ребятами и с девчонками. Но с ребятами больше. Враждовал с ребятами и с девчонками. Но с ребятами меньше. Получал свои тройки и четвёрки. Ходил в кино, занимался спортом: сначала плаванием, но для плавания он оказался слишком стар в свои десять лет, потом фехтованием, – но тут он оказался недостаточно реактивным, замедленная у него оказалась реакция. Потом он бегал четыреста метров, один круг, а последние два года был загребным в восьмёрке. Нормальная жизнь. И вот в одно мгновение все эти семнадцать лет его жизни на его же собственных глазах вдруг уменьшились в размерах, как если бы их положили под пресс и сжали. Да так сжали, что, появись весы, которые позволили бы взвешивать такую вещь, как годы, то все его предыдущие семнадцать лет весили бы для него ничуть не больше, чем те шестьдесят часов с пятницы. С пятницы, о которой он и говорил Серёге. А Cepёгa, Мурик, сам того не зная, играл в этом деле важную роль, роль судьбы.
Потому что с Мурика, и только с него, всё и началось, и он только один был во всём виноват. Если бы накануне он не сказал: „Вовка, забегай за мной рано утром“, вполне вероятно, что ничего бы и не было, и вся дальнейшая жизнь Шведа потекла бы по иному руслу. Это вполне – теоретически – могло быть, хотя стоило Шведу только подумать об этом, только допустить, пусть даже теоретически, такую невозможно глупую мысль, как в глазах у него темнело.
Потому что он прожил бы глупую, пустую, никчемную жизнь. Да, он прожил бы тогда в полном неведенье, бегал бы себе свои четыреста метров, грёб бы с друзьями в восьмёрке, получал бы тройки и четвёрки, но никогда не предположил бы даже, что человек может ощущать то, что сейчас ощущает он.
И уже никогда не узнал бы, что есть, уже существует на свете девочка, которая может его не только заинтересовать, нет – сможет заставить его пересмотреть всю его прошедшую жизнь и взглянуть на себя совсем другими глазами.
Из-за чего? Из-за случая. Из-за девушки по имени Ира. Из-за двоюродной сестры своего лучшего друга, которую впервые увидел мельком, случайно, да ещё при таких обстоятельствах, что стоит вспомнить только – и враз будто кипятком обдаёт, а потом, тут же мороз по коже, а потом – снова огонь.
Да что же это такое?
Он не знает, что это такое? Он не знает, но что более всего важно, он и знать не хочет. Потому, что он счастлив.
Это немыслимо, говорит он сам себе. Но тут же он говорит, опять себе – это прекрасно. Совершенно дурацкое состояние. Почему-то хочется петь. Но петь нельзя, поскольку он абсолютно лишён слуха, и вздумай он запеть, даже глуховатые старички попадали бы, пожалуй, с балкона.
Нет, петь нельзя.
Какие-то слова у него на языке, ему хочется говорить их, но говорить тоже нельзя, потому что каждое второе слово почему-то обязательно „Ира“. Да и вообще он не привык много говорить. Это несвойственно ему, Шведу, у него не получается это так складно, как у Серёги, у Мурика. Что ж ему остаётся?
Ему остаётся только молчать.
Да, то, что он чувствует в себе, никак не выражается внешне. Но не может ли случиться так, что он, словно аэростат, словно воздушный шар, взмоет над синей водой и понесётся в небо.
Нет, невозможно. Невозможно молчать и держать всё это в себе. Ему прямо позарез надо с кем-нибудь поговорить. Рассказать кому-нибудь о чуде, которое с ним произошло. О том, какую странную штуку сыграла с ним, со Шведом, судьба. Поговорить, думает он, поговорить; но как он ни скрывает истинной причины, по которой ему этого хочется, себя обмануть он не может. Весь этот разговор ему нужен для того лишь, чтобы при этом хотя бы раз, а если можно, то два, три, десять, чем больше, тем лучше, с поводом или без него, произнести эти три буквы. Нет, от этого просто с ума сойти можно. Три буквы. Вот буква „и“. Что в ней? Ничего – ирис, игрок, ихтиозавр, игла, игры… Вот буква „р“ – ребёнок, рыба, ручка, рябина, резеда… Вот буква „а“ – Африка, Америка, академия, армия… Сто, тысяча слов на каждую букву, и ни одно ничего не вызывает, никаких чувств. Сложи эти три буквы – получится „ИРА“. Казалось бы, те же три буквы – но нет. Совсем другие. И означают другое, и значат другое.
Но с кем же ему поговорить? Ведь не с первым же встречным он может говорить о том, что с ним происходит, об этом можно говорить только с самым близким человеком, только с другом. А кто ему самый близкий друг, как не Cepёгa, не Мурик? Черти бы взяли такого друга, до того он сегодня недогадлив. И это лучший друг! Да он, если он настоящий друг, давно уже должен был собственными руками вырвать у Шведа эту тайну. Может, он боится, что обидит Шведа своими вопросами? Он должен бы знать, что на друзей не обижаются. Ведь это с ним, с Серёгой, Швед протирал штаны в одном классе и на одной парте целых девять лет. Да что школа, они ведь и в детский сад ходили вместе, где воспитательницей была мать Шведа. Они и живут рядом и сейчас, и всегда, дом через дом. Так мог бы его лучший друг быть чуточку повнимательней. Знать его, Шведа, чуть получше, чтобы понять, как ему нужен, просто необходим сейчас слушатель, которому он мог бы доверить всё.
Мог Мурик поинтересоваться, что же, в конце концов, происходит.
Ах, да, он интересовался. Он спрашивал. Но как? Робко. Не мог же он, Швед, так прямо и выложить всё, взять и брякнуть: „Знаешь, Cepёгa, я влюбился в Иру“.
„В какую ещё Иру?“– изумился бы Мурик. А он, Швед, ответил бы: „Как в какую? В твою сестру“.
Ну, мыслим ли такой разговор? Возможен ли? Нет, конечно. Так он Серёге сказать никогда бы не смог. Он вынужден был бы начать издалека, так, чтобы подвести Серёгу к этому разговору, так, чтобы получилось всё само собой. Вот почему он и навёл разговор на пятницу. На тот, значит, день, когда всё в его, Шведа, жизни так волшебно (иного слова тут и не подобрать), так волшебно изменилось. Да, конечно, Мурик спросил его, что происходит, а он не ответил. Разве это должно было остановить Серёгу? Друг, такой друг, как Мурик, не должен отступать перед такими мелочами, как невнятный ответ или молчание. Он должен был, он был просто обязан докопаться до истинной, настоящей причины, он не имел никакого права отступаться, а Мурик отступился. Вот и сейчас он стоит рядом, но можно дать голову на отсечение, что он и не догадывается о мыслях своего друга; он наверняка думает, что весь мир, как и он сам, только и заняты этим заездом, где спартаковцы пришли чуть впереди.
– Нет, ты обратил внимание, какой у них был спурт?
– Обратил, – говорит Швед.
Спурт. Эх, Мурик, Мурик! Подумаешь, спурт. Да, спурт ты заметил, а вот что на душе у твоего друга, который молча мучается рядом, этого ты не заметил, нет. Спурт! Подумаешь, какое хитрое дело…
И Швед распрямляемся. Если бы кто-нибудь знал, сколько в нём сегодня силы. И не только силы. В нём живёт какая-то странная радость, вроде той, которую испытываешь в детстве, когда смотришь, как луч света проходит через воду в ручье. Когда чувствуешь, что весь мир прозрачен, а воздух пахнет землёй и листьями, и пробивающейся к солнцу травой. Когда чувствуешь, как наполнена жизнью каждая клеточка тела. В такое мгновение с трудом удерживаешься от того, чтобы раскинуть руки и полететь – вверх, в синеву, к облакам, к солнцу. Такой сегодня и у него день – давно уже не было такого. Силы в нём сегодня – как у Ильи Муромца. Спурт! Что ж, сегодня все увидят, что такое настоящий спурт. Сегодня всем придётся туго, всем восьмерым, и Мурику в том числе. Но после сегодняшней гонки уже никто не назовёт их беднягами. Он, их загребной Владимир Малышев, он, Швед, позаботится об этом.
– А, Вовка?! – доносится до него возбуждённый голос Мурика. – Ты заметил, где они сегодня повернули?
Швед глядит на своего друга. Нет, ничего он не может сказать. Мурик – это друг из друзей. Пусть даже он и недогадлив немного, пусть он даже и недостаточно настойчив для того, чтобы, когда это надо, вырвать из него, из Шведа, его заветную тайну. Всё равно – это лучший из друзей. И как хорошо, что сейчас он стоит рядом – длинный, почти такой же, как сам Швед, тощий, жилистый, весёлый друг Cepёгa, никогда не унывающий Мурик, оптимист вопреки всему. Надёжный парень, с которым у Шведа связаны лучшие воспоминания в жизни.
И Швед как-то особенно смотрит на своего лучшего друга, на Мурика. Он смотрит на него почти с любовью.
О чём шла речь? Ах да, о повороте…
– Не волнуйся, – говорит Швед. – Я всё разглядел. И спурт, и поворот, и многое другое. И знаешь, Мурик, что я тебе скажу? Только тебе. Мы сегодня победим, понял? Выиграем гонку, и не как-нибудь, а вчистую. Привезём всем корпуса полтора, а то и два. Это я тебе говорю.
Но Мурик смеётся.
– Ты не веришь?
– Не верю.
– Это ещё почему?
Но Мурик не объясняет – почему. Он только смеётся. Нет, он не верит. Победить, кто спорит, было бы хорошо, это было бы прекрасно, но он, Мурик, всегдашний оптимист, в это явно не верит.
– Впрочем, – говорит он, – Вовка, ведь это даже и неважно. Ты согласен? Выиграем, не выиграем – не в этом ведь дело.
И тут Швед, который вовсе так не думает, который понимает, что Cepёгa просто поддразнивает его, неожиданно для самого себя соглашается.
– Да, – говорит он. – Конечно, Мурик, это неважно.
Но при этом он рассуждает совсем не так, как Мурик.
Мурик, тот считает, что выиграют они или проиграют – это не имеет большого значения, так как и в том и в другом случае выигрыш всё равно имеется: и само удовольствие от гребли, и то, что от этого удовольствия они так накачали мышцы, что хоть сейчас можно заявляться на конкурс культуристов. Но он, Швед, считает, что, действительно, всё это не имеет значения.
– А почему? – спрашивает заинтересованный Мурик.
– А потому, – сказал Швед, – потому, Мурик, что мы выиграем. Только поэтому. Мы выиграем гонку и всех побьём.
– Сегодня?
– Сегодня.
– А если сегодня не получится? Если случится что-нибудь?
– Тогда мы побьём всех завтра.
– А если нет?
– То послезавтра.
– Ты что, и вправду в это веришь?
– Да, – сказал Швед. – Я в это верю. А ты разве не веришь?
– И я верю, – сказал осторожный Мурик. – Только во что?
– Во что? В справедливость, вот во что. В то, что она существует. Не может не существовать, понял? Потому что на том, что справедливость существует, держится всё. Всё на свете – весь мир, все люди, всё. На справедливости. Вот почему я верю, что мы победим. Мы просто обязаны это сделать рано или поздно. Потому что мы не сдаёмся. Ни ты, ни я, никто из наших. Несмотря ни на что. Теперь ты понял? Рано или поздно – придёт наша очередь. Я-то думаю, что она придёт уже сегодня. Но если случится, как ты говоришь, ещё что-нибудь, то это не имеет никакого значения. Значит, всё просто отложится на день или на месяц, только и всего.
– А что мы будем делать этот месяц?
– То же, что и делали. То же самое. Тренироваться до седьмого пота и верить в победу. И не бояться проигрыша.
– Да, – сказал Мурик. Он был потрясён речью Шведа. – Как ты сказал – не бояться проигрывать? В этом нас, кажется, ещё никто не додумался упрекнуть. Этого-то у нас было хоть отбавляй – проигрышей. Я-то, ты ведь знаешь, вообще ничего не боюсь, поскольку я оптимист. А вот другие… Боюсь, они не захотят ждать, если это случится не сегодня и не завтра.
– Ты это о Пончике, что ли?
– Нет, – сказал Мурик. – Я не о нём. Пончик – он, как мы. Он парень крепкий. Он тоже оптимист.
Не такой, как я, на другой немного манер, но тоже. Его не испугаешь. Но Валентин Васильевич – он меня беспокоит.
В точку! В самую точку попал Мурик. Валентин Васильевич, Валя Иванов, их третий номер, довольно пожилой уже человек, двадцати трёх лет, студент-заочник, работавший на фабрике „Красное Знамя“ поммастера. Да, он заботил не только Мурика. Он и Шведа заботил, и тётю Гутю, всех. Нет, не то, чтобы от него как-то отгораживались, совсем наоборот: о нём, единственном взрослом, все заботились наперебой – но опасения Мурика и опасения Шведа были не напрасны. Всё дело как раз в том и состояло, что он был уже взрослым, настолько взрослым, что даже невеста у него была, настоящая невеста. Не просто девчонка, как у любого из них – кроме, разве, Шведа, у которого не было никого, – не просто знакомая, с которой можно сходить на вечеринку, в кино или ещё куда. Нет, настоящая невеста, на которой он собирался жениться – факт для них всех совершенно невероятный и непонятный.
Да, дело было именно в его возрасте, в том, что он был взрослым, а значит, с их всеобщей точки зрения, уже в чём-то неполноценный человек в том смысле, что здоровье у него уже было не то, и нервы не те. Вот в этом-то и была главная опасность. В этом и ещё в невесте. Именно поэтому все они, вся восьмёрка, и опекали своего Валентина Васильевича больше, чем кого-либо другого. Больше, чем близнецов, те просто были шальные. Больше даже, чем Пончика, – тот, что ни говори, был свой парень, свой до конца, разве что был не в меру толстым и всё не мог отделаться от привычки жевать где попало. С Пончиком, в принципе, всё было довольно просто. Ему только одно надо было – чтобы, не дай бог, не остаться одному, без всех, и чтобы дело было общее, всё равно, какое. Он был воплощением коллективизма. И если все были вместе, то иного для счастья Пончика и не требовалось. А то, что он при этом поглощал в необыкновенных количествах всякую снедь, а в особенности глазированные творожные сырки, – к этому все привыкли. Тем более что Пончик всегда рад был поделиться последним. В том числе и последним сырком.
Да, с Валентином Васильевичем было совсем иначе, чем с любым из них. Именно потому, что он был взрослым и собирался жениться на своей невесте, которая могла бы ещё хоть как-то терпеть то, что своё свободное время её жених проводит, занимаясь чёрт-те с какими-то молокососами, стала бы относиться к этому хоть чуточку снисходительнее, если бы они хоть раз, один хоть единственный выиграли. Но проигрыши она терпеть не собиралась! Это все видели не только по её тонким губам, не только по вздёрнутому подбородку, но и по настроению Валентина Васильевича, который с каждым проигрышем всё больше утрачивал свою природную жизнерадостность, пока наконец не заявил однажды, что всё, с него хватит.
Что не помешало ему явиться на следующую тренировку минута в минуту. Только брови его были ещё решительнее сдвинуты, и всё его узкое, из одних сухожилий свитое тело и такое же узкое лицо с тонким и чуть кривоватым носом выражали такое стремление скорее ухватиться за весло, такое нетерпение поскорее упереться ногами в подножку, что если бы это нетерпение и это упорство можно было бы каким-то образом превратить в энергию другого рода, в тепловую, например, то он, Валентин Васильевич, вполне мог бы, по мнению Шведа, обогревать в течение полугода Гражданку и Купчино. Безо всякого ущерба для академической гребли.
Но всё это имело предел. Не могло продолжаться бесконечно. И всё потому, что он был взрослым. Швед, к примеру, не говоря уже о Мурике, мог и потерпеть, он ведь верил в справедливость, и ещё одно, даже два поражения для него ничего не меняли; да, он мог подождать. Но Валентин Васильевич ждать больше не мог, как не мог бы ждать на его месте любой другой взрослый человек. Более того – просто любой человек, вне зависимости от возраста, если только у него есть девушка, настолько уже завладевшая им, что он согласен на ней жениться. Пусть даже только для того, считал Швед (и Мурик был с ним согласен, а Пончик по этому поводу своего мнения не имел), да, только лишь для того, чтобы она успокоилась наконец, вышла бы замуж и занялась своими обычными делами, позволив своему бывшему жениху, после того, как он станет мужем, заниматься чем он хочет.
Да, так думал Швед – и совсем до недавнего времени. До той пятницы, накануне которой он, прощаясь с Муриком, пообещал забежать за ним рано утром, чтобы разбудить этого несчастного соню. Обычно Мурик – с грехом пополам, да и то не всегда, просыпался сам, но в пятницу он даже и не пытался проверять свою волю. В пятницу нужно было проснуться много раньше обычного, потому что каждую пятницу к семи часам им нужно было приезжать на стройплощадку бетонного завода на правом берегу Невы. И не только приехать, но и изготовить затем определённое количество продукции – бетонных поребриков, тех самых прямоугольников, которые ограждают тротуар от проезжей части. И им нужно было ещё успеть на последние два часа в школу, и для всего этого требовалось встать в шесть часов утра! Одно только вставание требовало от Мурика всего его гражданского мужества, всей силы воли, но в этот раз, в эту пятницу ему и этого было маловато. Потому что в этот именно день ему нужно было встать ещё на час раньше, чтобы выгулять собаку – огромного рыжего пса неизвестной породы. И тут уже никакие доводы рассудка, никакая сила воли не могли его заставить подняться. Мурик знал это и не собирался ни от кого скрывать. Способен был на это единственно Вовка, Швед, которому к старости, ясно, не придётся мучиться от бессонницы, потому что уже и сейчас, в семнадцать лет, ему не спалось. Настолько, что он, похоже, едва дожидался утра, первых лучей солнца, чтобы поскорее выбежать в парк – благо, что парк был под окнами. Выбежать и носиться по аллеям с целой толпой таких же бессонных чудаков, а их там, в парке, была целая компания: от шестидесятидевятилетнего генерала в отставке до тринадцатилетней Таньки из соседнего подъезда.
Вот Мурик и сказал Шведу, чтобы тот, раз уж ему всё равно не спится, разбудил его пораньше. Чтобы забежал к нему в начале шестого и разбудил, да так, чтобы оставалось ещё время прогуляться с этой рыжей собакой, на что Швед и согласился. С одним, правда, условием – чтобы Мурик всё-таки настроил себя на вставание, подготовился бы внутренне. Чтобы ему, Шведу, не приходилось тащить Мурика из постели за ногу по полчаса, как это не раз уже бывало. Но по глазам Мурика он понял, что для того все эти слова – звук пустой.
Тогда Швед сказал: „Давай сделаем проще. Я просто позвоню тебе в дверь – когда хочешь, хоть в пять, хоть четверть шестого, тут твоя собака залает, ты пойдёшь открывать мне дверь, проснёшься, и после этого я тебе не нужен“.
Но он сам отверг этот вариант. Ему достаточно было только взглянуть на лицо Мурика, чтобы понять всю несбыточность предположения, что он проснётся от обыкновенного мелодичного колокольчика, что был у них в дверях, или от собачьего лая. Об этом и думать было смешно.
Но самым главным, как выяснилось, было даже не это. И звонки, и собачий лай в пять утра были нежелательны из-за Серёгиного отца. Он-то явно пошёл не в Мурика, его отец, – вернее, Мурик не пошёл в своего отца, хотя во всём остальном, исключая, конечно, густую бороду, Мурик и его отец были страшно похожи. Да, кроме бороды и отношения ко сну. Отец Мурика всё время чем-то занимался по утрам, до того, как уезжал в свой проектный институт.
Чем он занимался в институте, было известно – там он проектировал новые города. Но чем он занимался у себя в кабинете по утрам, когда тревожить его строго-настрого запрещалось. То есть никто, даже Мурик, не мог предположить, чем именно занимается его отец, Сергей Сергеевич, – изучает ли он японский язык, пишет ли очередную статью или отрабатывает приёмы каратэ. Шведу очень хотелось спросить у Мурика, чем его отец занимается на этот раз, но он не спросил. Одно было ясно – звонить Мурику нельзя. Но тогда неясно было другое: если звонить нельзя, то как же он, Швед, сможет Мурика разбудить? Разве что ему придётся лезть для этого по водосточной трубе на шестой этаж. Мурик подумал чуть меньше минуты и вытащил из кармана ключ…
Так вот оно всё и произошло. Ключи были у Шведа, Серёга сладко спал и видел свои самые интересные сны, а собака не соизволила даже приподняться, когда на следующее утро, на рассвете, Швед вошёл в квартиру. Собака, видно, и во сне по запаху узнала Шведа, что доказывает наличие необыкновенно острой памяти у собак, особенно на людей, которые, подобно Шведу, при любом удобном случае скармливают им сахар. Да, собака и глазом не повела – ей, наверное, тоже снились в это время сахарные сны. Из комнаты Сергея Сергеевича доносился какой-то слабый шум, но это Шведа не касалось. Ему нужно было без лишнего шума и побыстрей разбудить Серёгу – и всё.
Что он и сделал.
Было ещё не очень светло, самое начало шестого. На мгновение Шведу стало даже жалко будить Серёгу. По тому, как он спал, натянув на нос одеяло, видно было, что он переживает сейчас самые блаженные минуты. И даже нога у него так трогательно высунулась из-под одеяла… Но дело было прежде всего и, как ни жалко было Шведу, он решился.
Он даже окликать не стал Серёгу, как обычно, он даже тормошить его не стал. Недолго думая, он ухватил Мурика за ногу и потянул.
Ну, вот так оно и случилось.
Он потянул, – и тут же, с поразительной быстротой одеяло откинулось. И даже если бы в комнате был не рассветный полумрак, а сплошная кромешная тьма, Швед всё равно разглядел бы это лицо, то, что глянуло на него с подушки. Мурик? Ничуть не бывало. С подушки, придерживая на груди одеяло, на него смотрела девушка такой красоты, что язык у Шведа прилип к гортани, и он только судорожно глотал воздух, как если бы вынырнул с глубины в тридцать пять метров.
Сколько это продолжалось – миг, минуту, вечность?
– Вы кто? – строго спросила девушка и ещё выше натянула одеяло на грудь, причём Швед, совершенно машинально, заметил, что нога её, маленькая и узкая нога, снова появилась из-под одеяла и исчезла.
– Кто вы? – снова спросила девушка ещё строже и таким чистым голосом, будто она вовсе не спала, а пела.
– Я, – сказал Швед чужим голосом и, не отводя глаза, сделал очень осторожно полшага назад, – я Швед. То есть, – поправился он, – меня зовут Володя.
– И часто вы хватаете людей за ноги рано утром?
– Нет, – признался Швед, чувствуя, насколько противно язык ворочается во рту. – Нет, – сказал он, – не часто. – И сделал назад ещё четверть шага.
– Это хорошо, что не часто, – сказала девушка. – Ну, а что вы ищете именно здесь?
– Мурика, – уже совсем хрипло сказал Швед. – То есть Серёгу.
И тут он окончательно замолчал и даже зажмурился, потому что услышал вдруг, как у него в груди бьётся сердце. Оно стучало так громко, что на стук этот, да ещё в такую пору, вполне могли сбежаться соседи из нижних этажей.
Он собрался с силами и отступил ещё на полшага. Он уже ничего не видел. Он лишь наполовину понимал, где он, что с ним. Ноги, руки, всё тело его были выструганы из дерева самым неуклюжим в мире мастером. И он знал уже, что погиб, и знал, что этой минуты ему не забыть никогда – до конца дней.
Он сделал ещё полшага назад. Здравый смысл ему всё же не изменял даже в таких, самых крайних ситуациях; он понимал, что должен как можно быстрее уйти, и в то же время отдал бы всё, чтобы уйти хоть на секунду позже. Сделав ещё шаг, он оказался в коридоре. И в этот самый момент до него донеслось чьё-то громкое шипение, как если бы он наступил на змею или на кошку.
Что-то не переставая шипело у него за спиной, пока он, всё так же пятясь, делал по полшага и, моргая в темноте, всё отходил и отходил от двери. И так длилось до тех пор, пока он не наткнулся на Мурика, который стоял в дверях и, остолбенев от изумления, смотрел на отступающего Шведа. А тот лишь несколько минут спустя сообразил, что таинственное шипение издавал Cepёгa: это он звал его, одновременно предостерегая от шума.
Швед чуть не наступил ему на ноги – вот тут-то Мурик и перестал шипеть. Он втащил Шведа в комнату и, очевидно по инерции, спросил свистящим шёпотом:
– Что с тобой? С каких пор ты стал ходить спиной вперёд?
Зарницы ещё продолжали вспыхивать у Шведа в глазах, а во рту было так сухо, словно он только что перешёл пешком через Сахару. Он глядел на Серёгу бессмысленным взглядом и тряс головой. Он всё ещё был в той комнате, где девушка, придерживая на груди одеяло, смотрела на него своими огромными глазами, и голос её, чистый и строгий голос, всё ещё звучал у него в ушах.
– Ты что? – спросил Мурик. – Уж не ошибся ли ты дверью?
– Там, – сказал Швед, но поскольку зубы у него выбивали мелкую дробь, это получилось так „тамтам“.
– Ну да, – сказал Мурик. – Там спит Ира, моя сестра. Троюродная сестра, – уточнил он. – Приехала позавчера из Минска. Я всё хотел тебе сказать про неё. Она балерина – настоящая балерина, правда. Дочка двоюродной сестры моей мамы, – добавил он, без видимой связи с предыдущим. – Она ничего.
Швед в отчаянии затряс головой. Он хотел что-то сказать, но первое же слово застряло у него в горле. Но Мурик ничего не заметил – ни тогда, ни потом. Он очень любил своего друга, Шведа, более того, он никого не уважал так, как его. Уж он-то, Мурик, знал, что нет на свете девчонок, что могли бы заинтересовать такого человека, как Владимир Малышев. Уж не наговорила ли его сестра Шведу чего-нибудь? С неё вполне станется.
Нет, вроде ничего.
– Я сейчас, – сказал тогда Мурик. – Одну минуту.
И стал натягивать тренировочный костюм.
Только тут жизнь стала потихоньку возвращаться к Шведу.
Он сделал глубокий вдох, и ему показалось, что воздух входит в его грудь с таким трудом, с таким скрипом, с каким отворяются старые, на проржавелых петлях ворота. Мурик пошуршал у него за спиной, мелькнул и тихо, как мышка, на цыпочках побежал в ванную, откуда тотчас же басом заговорили трубы. Швед стоял недвижим, словно спал стоя. Странное тепло разливалось у него в груди. Зачем он стоял, почему не мог сдвинуться с места, чего он ожидал? Он ничего не ждал. В принципе, он вполне мог и уйти, впечатлений у него хватало; он мог бы уйти уже и потому, что миссия его была выполнена, а то, что с ним случилось, касалось его одного.
Ему было очень хорошо.
Он не знал даже – отчего. Просто хорошо. В груди по-прежнему была теплота, какая бывает, если во время простуды растереть грудь согревающей мазью. Хотя нет, не так – то было совсем иное тепло. Так бывало, когда ты сидишь у костра – когда с вечера уходишь с батей на рыбалку, устраиваешь до полуночи шалаш и спишь, завернувшись в спальник, а на самой заре отец разбудит тебя, а ты не можешь продрать слипающиеся глаза, и тут ты вспоминаешь своего друга Мурика. Но ты всё-таки встаёшь и видишь, что отец и не ложился, и видишь костёр, и ты протягиваешь руки к живому, переливчатому огню, и тебя охватывает вот такое же благодатное тепло.
Мурик, вытираясь на ходу, выскочил из ванной и заглянул в соседнюю дверь. Швед закрыл глаза. Потом он услышал голос Мурика:
– Спит. А то я бы вас обязательно познакомил.
Собака наконец проснулась, подошла к Шведу, и, виляя хвостом, потёрлась о его ногу. Швед присел и погладил собаку. Он завидовал ей. Она, собака, вовсе не обязана была сейчас уходить из этой квартиры. Она, если б захотела, могла зайти в ту комнату, где спала – или делала вид, что спит – девушка, и смотреть на неё сколько душе угодно. Будь он собакой, он глядел бы на эту девушку не отрываясь.
Швед ничего не имел против того, чтобы стать собакой, абсолютно ничего.
Таким и запомнилось ему это раннее утро. И помнилось всегда; не только в эти два с половиной дня, когда в груди у него становилось всё теплее и теплее, сухое такое спасительное тепло, но и потом, много дней спустя; много дней и много месяцев спустя, всю жизнь. Только сейчас, стоя рядом с Муриком, со своим лучшим другом, Швед не знал, что это на всю жизнь. И Мурик не знал, да и кто бы это мог знать наперёд?
Но одно-то он, Швед, знал точно: сейчас он был счастлив. Он был счастлив сейчас, как никогда ещё не был ни один человек на свете, а потому, по одному только этому, по одной только этой причине счастлив должен был быть сейчас и весь мир. Неведомые ему прежде чувства испытывал в эту минуту человек по имени Владимир Малышев, неведомые ему самому силы бродили внутри него, и они, эти силы, требовали выхода. А самым ближайшим выходом было то, что предстояло им, – гонки, до которых в пятницу, в тот самый замечательный день, оставалось ещё более двух суток.
Но вот эти сутки прошли, и теперь настала та самая минута.
„Да, – подумал Швед. – Минута настала. Сегодня. Всё случится сегодня. Обязательно“. И чем больше он думал, тем яснее ему становилось, что всё, о чём они, все восемь, так страстно мечтали и чего ждали так терпеливо, произойдёт именно сегодня. Иначе и быть не могло. Он смотрел на реку, которая вспыхивала бликами, на маленькие упругие водовороты, которые, закручиваясь, уходили вниз по течению, на лодки, которые, развернувшись у самого пролёта, медленно, словно нехотя, подгребали к бону. Сейчас уж никто не сказал бы, что он смотрит неведомо куда и ничего не видит. Сейчас он видел всё.
Сегодня окончатся все их неудачи.
И тут он поймал чей-то взгляд, вернее, почувствовал его и поднял голову. Наверху, на самом углу балкона стояла Августина Сигизмундовна, тётя Гутя, их тренер, и что-то пыталась ему прокричать. Но где там.
– Ты можешь что-нибудь разобрать? – спросил Швед.
– Кто ж это может? – резонно ответил Мурик.
– Тогда пойдём, поднимемся. Узнаем, в чём там дело. Что-то мне не нравится вся эта сигнализация.
И в душе у него что-то дрогнуло. Нет, он и мысли такой не мог допустить, чтобы сегодня – именно сегодня – что-то опять случилось, но на миг, не больше, что-то в его душе дрогнуло.
