Читать онлайн В водовороте века. Записки политика и дипломата бесплатно
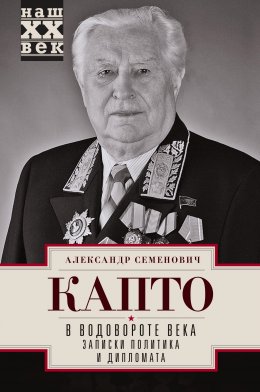
Серия «Наш XX век» выпускается с 2013 г.
В книге использованы фотографии из семейного архива А.С. Капто
© Капто А.С., наследники, 2023
© «Центрполиграф», 2023
© Художественное оформление серии, «Центрполиграф», 2023
От автора
Время стирает камни, меняет русла рек. На смену одному поколению приходит другое. У каждого свои пути-дороги. И там, где для одного был финиш, у другого – старт. И эта удивительная «диалектика времени» каждой новой генерации не может измеряться только альтернативными плюсовыми и минусовыми параметрами. Она не двухцветна: красная и черная или черная и белая. Жизнь – многоцветная гамма. Она даже не песня, из которой, кстати, тоже невозможно выбросить ни одну строчку. Это многосюжетная человеческая драма, которую пишет и исполняет одно и то же поколение. И в этой драме все: оптимистическая трагедия и трагический оптимизм, победители и побежденные, смех и слезы, счастье и горе, радость и печаль, жизнь и смерть, война и мир.
И еще: давно ставшая, казалось бы, бесспорной и неизменной истина о том, что человек сгорает во времени, в наше драматическое бытие приобрела еще одну грань: время сгорает в человеке.
Я считаю счастливыми тех, для кого жизненным кредо стал добросовестный поиск истины в жизни, честное прочтение истории своего Отечества. Такие люди используют дарованное им природой благо для того, чтобы не чувствовать себя на земле грибом-поганкой. Познавая мир, они обогащают себя, а возвышая себя, благодаря познанию они вплетают и свой, пусть самый скромный, цветок в многоцветье общечеловеческого бытия.
И какими же нравственно ущербными являются те, кто на окружающий мир – вчерашний и сегодняшний – заставляют смотреть через субъективистски-усеченную цель не только самого себя, но и других, претендуя при этом на абсолютную истину, на истину «в последней инстанции». Так рождается не только одномерное сознание. В недрах именно такой «вещи в себе» вырастает чертополох лжи и неправды. Великомученик и правдоискатель, украинский поэт-«шестидесятник» Василий Симоненко в своем тогда «захалявном» («захалявные» – запретные; происходит еще от шевченковских времен, когда выдающийся поэт вынужден был прятать свои стихи «за халяву», то есть за голенище сапога) дневнике выделил три категории лжецов: одни лгут, извлекая из этого моральную или материальную выгоду, другие лгут лишь для того, чтобы лгать, а третьи – служат лжи как искусству; они, собственно, придумывают или домысливают логические концовки к правде. Что скажешь о таких людях? Поэт прав: не умеющий писать не может завидовать Льву Толстому, он завидует соседу, который умеет всего лишь расписаться.
Но дело не только в том, что на одни и те же события можно смотреть через различные политические и нравственные очки. Приходится учитывать и то, что в то время, о котором я хочу рассказать, Иуда многих похлопал бы по плечу. Поэтому некоторые ниспровергатели тех или иных ценностей становились в изменившейся социальной ситуации их сладкопевцами, «забыв» при этом, что хлеб подаяния горек. И в который раз повторяется истина: кого бог захочет наказать, того он прежде всего лишает разума. Добавлю к этому – совести тоже. Поэтому и не случайно, что производство современных Фамусовых и молчалиных достигло фабричных масштабов. Оборотни и перевертыши – как грибы после дождя. Парадигма социального зла приобрела доселе невиданные размеры и непредсказуемо причудливое очертание. Оазисы надежды – качественно новое молодое поколение, которое должно иметь в жизни свои собственные нравственные точки опоры и правдивое, непредвзятое представление о своих предшественниках.
В моей же судьбе не оказались транзитными фигуры таких непревзойденных мастеров, как Олесь Гончар, Микола Бажан, Михайло Стельмах, Борис Олейник, Александр Корнейчук, Сергей Михалков, Михаил Ульянов, Чингиз Айтматов, Расул Гамзатов, Махмуд Эсамбаев – общение с этими и многими другими людьми – деятелями культуры – расширило мои жизненные горизонты, дало возможность почувствовать богатство и нравственную силу национальных культур, каждая из которых, как кристалл, высвечивает своими гранями все многоцветье высокой духовности своего народа, неистощимую моральную и эстетическую энергетику его души.
Академики Борис Патон, Виктор Глушков, Павел Копнин, генеральный авиаконструктор Олег Антонов, всемирно известный скульптор Евгений Вучетич – общение с ними дало возможность не только еще больше окунуться в процесс постижения истины, но и получить настоящие уроки человеческой нравственности.
Что же касается политических деятелей, с которыми меня свела судьба в разное время, то здесь галерея не только многочисленная, но и очень пестрая, колоритная: Петр Шелест и Владимир Щербицкий с членами их Политбюро, горбачевская команда (генсековская и президентская – Вадим Медведев, Александр Яковлев, Эдуард Шеварднадзе), Хо Ши Мин и Джордж Буш (старший), Фидель Кастро и Ким Ир Сен, Даниэль Ортега и Жозе Эдуарду душ Сантуш, Индира Ганди и Войцех Ярузельский, все без исключения лидеры бывших соцстран, многих государств Азии, Африки, Латинской Америки, и еще большее количество замечательных людей по официальному рангу ниже, но не менее привлекательных и содержательных личностей.
О многих названных выше и еще не названных людях я расскажу по ходу воспоминаний, а сейчас хочу подчеркнуть, что такие контакты с ними я воспринимал с особой жадностью. И, думаю, не в последнюю очередь потому, что в детстве я не был избалован городской жизнью, пусть и самой скромной, но все же располагающей большими, чем в сельских условиях, возможностями для живого общения с интересными людьми.
Люди, события, факты… Это не просто три слова. Это своеобразная формула жизни, в которой для меня первичным являются люди. Кто они? Личности – носители высоких нравственных качеств или двуликие Янусы? Кристаллы, отсвечивающие своими многоцветными гранями, или духовно убогие существа? Творцы новых форм жизни или Геростраты?
И еще. Что побуждает меня возвратиться назад, в не такое уж давнее прошлое, прокручивать ленту минувших десятилетий, оценивать прожитое с точки зрения настоящего?
Интересно ли моему современнику, герою нашего времени, копание в прошлом? Что дадут ему мои воспоминания о жизни, «прожитой напрасно»; чему научат они его, решительно отринувшего от себя это прошлое? Думаю, что мое желание посмотреть на историю глазами современного человека вполне естественное. Естественное хотя бы потому, что мучительно хочется ответить себе и читателю на вопросы, правда ли, что прошедшее – это потерянное время, растраченные впустую силы долгой и невыносимой жизни под гнетом тоталитаризма? А как оценивать нынешнее время? Это что, переход к светлому будущему?
На Украине: от «оттепели» до перестройки
Горбачев: главное – Фидель!
Кухня Старой площади
Фразой «Главное – Фидель!» Горбачев закончил со мной беседу в связи с назначением меня Чрезвычайным и Полномочным Послом на Кубе. Разумеется, в разговоре поднимались и другие важные темы, но резюме было именно таким. Как мне кажется, за этим стояли веские аргументы. Ведь тогда, а это произошло в декабре 1985 года, отношение Москвы к кубинскому руководителю определялось следующими параметрами: вождь кубинской революции и признанный руководитель первого на латиноамериканском континенте социалистического государства, крупный политик мирового масштаба, лидер движения неприсоединения, искренний и большой друг нашей страны, несгибаемый борец с американским империализмом. И конечно же, яркие личностные качества – человеческое обаяние, интеллигентность и высокая эрудиция, пламенный трибун и тонкий собеседник.
Но главное в горбачевском резюме находилось все же в плоскости: Куба и Советский Союз в условиях перестройки и нового политического мышления. Именно на этом, как я почувствовал, и фокусировался акцент генсека, в правомерности чего я убедился с первых дней работы в Гаване.
Встретил Горбачев меня подчеркнуто приветливо. Вышел из-за стола мне навстречу, поздоровался, пригласил сесть. Беседа началась с вопроса: «С Егором Кузьмичом встречался?» Переход на «ты» еще больше расположил меня к доброжелательному разговору.
Кстати, и Е. Лигачев двумя часами раньше действовал в таком же ключе. Обратившись сначала ко мне по имени и отчеству, сразу же перешел на «ты». А потом, объяснив ситуацию, сложившуюся с подбором кандидатуры посла в Гавану, сказал: «Мы высоко оцениваем твою деятельность как секретаря ЦК партии Украины, у тебя хорошая теоретическая подготовка. Словом, просим тебя принять наше предложение возглавить посольство на Кубе. Намерены на приближающемся XXVII съезде КПСС рекомендовать тебя в члены ЦК. Опыт работы на Кубе в будущем тебе пригодится». Сознаюсь, если слова «наше предложение», означавшие, что Лигачев говорит не только от своего имени, я «прочитывал» и они не вызывали у меня никаких эмоций, то «просим тебя» прозвучало как-то необычно подкупающе. В самом деле, чего это вдруг «просим», а не «предлагаем», как было принято в таких случаях.
С точки зрения содержания, беседы у Горбачева и Лигачева были фактически идентичными. Их основные тезисы: дипломатическая работа с соцстранами – приоритетное направление во внешнеполитической деятельности, роль Кубы в международных делах велика, для дальнейшего углубления двухсторонних советско-кубинских отношений перестройка и новое мышление открывают новые возможности. В конце бесед последовал один и тот же вопрос: «Есть ли принципиальные возражения?» На слове «принципиальные» делался особый акцент. Собеседники как бы давали понять: сугубо личные моменты, которые можно было бы выдвигать в ответ на поставленный вопрос, желательно оставить в стороне. А этих «личных аргументов» у меня и не было. Сказав «да», я и не подозревал, что уже на следующий день мне придется предстать перед Политбюро, первым пунктом заседания которого был «мой» кадровый вопрос.
А после этого Е. Лигачев еще раз попросил зайти к нему. Суть его пожелания: подготовку к отъезду – а на это по установившемуся порядку каждому новому вопросу отводился минимум месяц – существенно сократить. Причина – в ближайшее время III съезд КП Кубы, на котором делегацию КПСС поручено возглавлять ему. А это означает, что в данном случае уровень представительства решается по аналогии с I съездом кубинских коммунистов, когда такую миссию выполнял второй человек в партийной иерархии – М. Суслов.
Вторично же меня пригласил Лигачев, как оказалось, не для того, чтобы после принятия решений, предопределивших мою судьбу на ближайшую перспективу, поинтересоваться моим настроением. Да и не для того, чтобы сообщить, что и я как новый посол включен в состав официальной делегации КПСС. Просьбу свою он изложил совершенно четко и предельно конкретно: оперативно разобраться «на месте» (для меня еще неведомом) со всеми вопросами, которые ожидают делегацию в Гаване, и, используя все имеющиеся каналы, в том числе и аппарат ВЧ, с помощью которого связь осуществлялась даже через океан в считаные минуты, сориентировать его, Лигачева, что следовало бы учесть в оставшееся до вылета время. Словом, я оказался в ситуации, когда в моей голове мысли роились, как мухи: куда же мне прежде всего – податься в Киев, чтобы собраться для вылета, как говорится в таких случаях, в длительную загранкомандировку, или стремглав и немедля устремиться на далекий остров.
Конечно, такое стремительное развитие событий меня ошеломляло. Ведь еще вчера во второй половине дня я был на «своей» киевской работе. А за звонком из Москвы – срочно прибыть на Старую площадь – последовало разъяснение: поскольку декабрьская непогода не гарантировала своевременное прибытие в ЦК, как было подчеркнуто, непременно к 9.00 утра, необходимо воспользоваться услугами железной дороги. Щербицкий, которого я проинформировал о звонке из Москвы, сделал вид, что не понимает, о чем идет речь. Слукавил! Позже сам не только сознался в этом, но и рассказал, как с ним «советовались» о двух вариантах моей будущей дипломатической карьеры: Куба или Польша. Москва прислушалась к мнению украинского лидера о том, что в Варшаву не стоит посылать украинца, что, мол, поляки нередко демонстрировали свои негативные эмоции к тем болезненным точкам в украинско-польских отношениях, которые оставила нам история. Например, однажды в программу пребывания в Киеве высокой правительственной делегации из Варшавы в числе других мероприятий был предложен спектакль «Богдан Хмельницкий». От гостей последовал резкий демарш: Богдан Хмельницкий допускал антипольские высказывания.
Читатель, недоумевая, может спросить: «Непонятно – подбор посла все же прерогатива МИДа, а он рассказывает о встречах с Горбачевым, Лигачевым. Не бахвальство ли?» В том-то и дело, что описанное выше воспроизводит действовавшую тогда формулу подбора посольского корпуса. Встреча с Э. Шеварднадзе у меня произошла вечером того же дня, после того, как все «сварилось» на кухне Старой площади. Там же заведующим отделом загранкадров С.В. Червоненко был разработан и план моей своеобразной «стажировки» (встречи с руководителями всех ведомств, которые причастны к сотрудничеству с Кубой), после которой мои мажорные ощущения претерпели существенную коррекцию. Отмечу наиболее существенные моменты.
Э. Шеварднадзе довольно обстоятельно рассуждал о важности подбора руководящих кадров для дипломатии из числа крупных партийных и советских работников. Для МИДа это очень важно, особенно если речь идет о соцстранах, сославшись при этом и на Кубу, где в последнее время послами были секретарь ЦК КПСС К.Ф. Катушев и первый заместитель премьера России В.И. Воротников. Коснувшись моей будущей работы, министр неожиданно для меня ограничился всего лишь несколькими фразами, попутно заметив, что «на месте разберетесь». Сосредоточился же он на проблемах другого плана: скажем так – больше психологических и поведенческих. Суть рассуждений: кубинцы – народ гордый, эмоциональный. «Завоевать» Фиделя – вести себя предельно искренне; сам он, если хочет, скажет собеседнику всю правду, если не захочет, умолчит, но врать не будет. Если же «усечет», что в щепетильных вопросах собеседник «виляет хвостом», считай, что делу конец. Не любит дипломатической чопорности и мидовских протокольных формальностей. Во всем этом я убедился уже в самом начале работы в Гаване. Нередко Фидель, обращаясь ко мне с «постановочными вопросами», давал понять, что эту информацию крайне важно довести лично до Горбачева, так как он не единожды имел возможность убедиться, как такие проблемы вязнут в бюрократической карусели различных ведомств.
«Стажировка» у маршала С.Ф. Ахромеева
«Стажировкой» предусматривалась и встреча с маршалом С.Ф. Ахромеевым. Чем же запомнилась первая встреча с начальником Генштаба? Сказать о военном человеке, что он стройный, подтянутый, – это значит или ничего не сказать, или в лучшем случае повторить аксиому с большой бородой, хотя, конечно, вопреки уставу о строевой службе бывают и исключения, причем не единичные. И все же в свои шестьдесят два года Ахромеев выглядел по-молодецки динамичным, спортивным. Только глубокие и доверчивые глаза да покрывшая лицо сеть тонких морщин говорили о том, что ему в жизни пришлось нелегко. С первых минут беседы я почувствовал в собеседнике большого интеллигента. Раскрылось это по ходу разговора не через какие-то внешние проявления, а через культуру мысли и речи, тончайший и универсальный профессионализм и, как мне тогда показалось, неподдельное искреннее общение.
Его трехчасовой рассказ напоминал больше захватывающий двухсерийный фильм на тему о готовности мировых держав в условиях все еще сохранявшейся тогда холодной войны к возможной военной схватке: дислокация военных группировок на планете, траектория потенциальных угроз, болевые точки вооруженного противостояния. Разумеется, эти глобальные пассажи подавались не абстрактно, а в «привязке» к Кубе. Когда же с его стороны была брошена фраза, что для советского посла в Гаване военные вопросы – это самая большая головная боль, он приоткрыл завесу над всем тем, что не помещалось в рамки обычного двустороннего сотрудничества в военной сфере. Абсолютно неожиданным для меня стал его первый конкретный совет: хотя я лечу работать в Гавану, изучение военных вопросов, которыми мне как послу придется заниматься, все же надо начинать с… Анголы. И пояснил: Ф. Кастро лично и постоянно (а временами ежедневно) занимается «ангольской проблемой», в которой Куба «завязла» не только политически, но и в результате прямого военного участия. Он не ограничился в те годы провозглашением политической формулы о том, что кубинские войска будут находиться в Анголе до тех пор, пока не будет ликвидирован апартеид на юге Африки. А война шла, каждый день она требовала решения огромного множества вопросов как стратегического, военно-политического характера, так и конкретного планирования боевых операций, снабжения боевой техникой и вооружением. И ни один из таких вопросов без Москвы не решался. О некоторых довольно пикантных моментах такой ситуации я расскажу ниже, а сейчас лишь подчеркну: слушая рассказ маршала Ахромеева, я вспомнил горбачевскую фразу «Главное – Фидель», почувствовав еще один «срез» этой проблемы. Это ощущение еще больше усилилось, когда была названа Эфиопия, где кубинский воинский контингент выполнял интернационалистскую миссию, причем на советских танках, многие из которых были настолько разбиты, что в экстремальных условиях, в непосредственных военных столкновениях не могли даже оперативно передвигаться, поэтому их просто зарывали в песок, а орудие использовали как неподвижную огневую точку. Говорил же маршал об этом потому, что тогда в ней очень тесно переплетались нити военно-политического сотрудничества между Москвой и Гаваной.
Когда же стоящий у карты маршал Ахромеев вел указкой по Латинской Америке, он остановился на Никарагуа. Эта страна в то время переживала наиболее драматические дни гражданской войны, в которой «контрас» получали прямую политическую, военную и финансовую помощь Вашингтона, а ЦРУ принимало участие в минировании никарагуанских портов и уничтожении нефтехранилищ. И опять я вспомнил: «Главное – Фидель». Ведь Даниэль Ортега ни один из существенных вопросов никарагуанской революции не решал без мнения Гаваны, а она, в свою очередь, информировала или советовалась с Москвой через советского посла на Кубе.
И наконец, еще кое-что из моей «стажировки» у Ахромеева. Напомню читателю, что в те годы много говорилось (у нас в стране в основном «шепотком», а в зарубежных средствах массовой информации открыто) о советской военной учебной бригаде на Кубе. О ней мне поведал и начальник Генштаба, посоветовав по прибытии на Остров свободы поддерживать непосредственную связь с руководителем этой бригады генерал-полковником Зайцевым, который структурно не вписывался ни в какие подразделения посольства, а действовал абсолютно автономно при прямом и непосредственном контакте только с советским послом.
Конечно, названная бригада была и учебной, но таковой больше для прикрытия. На самом деле это была база электронной разведки в Лурдесе, менее чем в ста милях от побережья США. База – совместное детище Главного разведывательного управления Министерства обороны и КГБ, которую обслуживало более двух тысяч специалистов – с высокими воинскими званиями и отличной технической подготовкой (в целом же в учебной бригаде было 12 тысяч человек). Позже я узнал, что именно тогда Госдепартаментом и Министерством обороны США был подготовлен совместный доклад, в котором, в частности, отмечалось: «С этого ключевого поста прослушивания Советы следят за коммерческими американскими спутниками, связью военных и торговых судов, а также космическими программами НАСА на мысе Канаверал. С Лурдеса Советы могут прослушивать и телефонные разговоры в Соединенных Штатах».
Когда же со временем многие из названных в американском документе операций были продемонстрированы и мне непосредственно на базе электронной разведки, я вспомнил фразу Ахромеева, которой он закончил нашу беседу в Министерстве обороны: «Куба – это „подбрюшье “ у северного соседа; и этим определяется как военно-политическая ситуация в Карибском бассейне, так и многие моменты советско-американских отношений». Что значит «подбрюшье», я ощутил не раз, в том числе и тогда, когда находился вместе с делегацией, возглавляемой Лигачевым, в зале заседаний III съезда КП Кубы. Оглушительный рев и мощные звуки, напоминающие разрывы бомб, заставили вздрогнуть не только людей, но и стены гаванских зданий. Ораторы были лишены возможности продолжать дискуссию. А после перерыва без объявления вышел на трибуну Рауль Кастро и сообщил: американские самолеты-разведчики, грубо нарушив государственную границу Кубы, вошли в воздушное пространство столицы и на бреющем полете в несколько заходов осуществляли провокационные виражи. Информацию же завершил, улыбаясь: «Это мы получили приветствие американского президента нашему съезду».
От Лубянки – до Ясенево
Тема «подбрюшья» получила еще более глубокое конкретизированное продолжение на Лубянке. Председатель КГБ В.М. Чебриков в беседе был не менее обстоятельным, чем С.Ф. Ахромеев. Да и оценки давал те же, лишь в более мягкой по сравнению с начальником Генштаба формулировке. Мне показалось, что ему приятно встречаться с земляком. Нашей родиной является Днепропетровщина, а в 60-х годах мы трудились практически на одном политическом поприще, правда, с разным должностным статусом: он был первым секретарем Днепропетровского горкома партии, а я – секретарем горкома комсомола. И тем не менее его фраза, прозвучавшая после оценочной характеристики всех служб КГБ, вмонтированных в наше посольство в Гаване, о том, что все они работают в стране пребывания под началом посла и поэтому должно быть взаимное доверие, все же была полуправдой. Как оказалось, в практическом плане посол не обладал монопольными возможностями на информирование Москвы по всему спектру экономических, политических, а тем более – военных и разведывательных проблем, хотя во всех кабинетах, имевших к этому отношение, мне внушалось обратное. Резидентура КГБ и Главного разведывательного управления имела и свои самостоятельные комнаты, и каналы шифросвязи, и своих шифровальщиков. И хотя посол о содержании «своих» шифровок, как предписывалось указаниями Центра, обязательно знакомил, как принято было говорить, «ближних» и «дальних» соседей (эти термины получили свое неофициальное хождение по принципу территориальной близости двух силовых ведомств по отношению к Старой площади: Лубянка находится ближе к ней, значит, «ближние», Министерство обороны – дальше, значит, «дальние»), но они нередко действовали на опережение. Как-никак, но подходящий случай показать, что недаром хлеб едят.
Когда же В.М. Чебриков предложил не ограничиваться беседой только с ним, а встретиться еще и с несколькими «профессионалами», я не предполагал, что это может оказаться в какой-то степени загадочным. «Встреча произойдет не на Лубянке, наши товарищи с тобой завтра свяжутся, и о деталях договоритесь», – закончил он. И вот в назначенное время к украинскому постпредству, где я временно разместился, подъехала новенькая «Волга». Кроме водителя в ней находился еще один мужчина средних лет (как позже я узнал, офицер КГБ). «К отъезду готовы?» – спросил он. «Да», – ответил я. Он обратился к водителю и сказал: «Едем по плану». Я недоумевал: куда едем? Словами «согласно указаний» он как бы отрезал возможность задавать уточняющие на этот счет вопросы и, как только машина двинулась с места, перевел разговор в нейтральное русло. Для меня, не москвича, Ясенево, что юго-западнее от столицы, ни о чем не говорило. Когда же машина в полукилометре от кольцевой дороги свернула в сторону, я увидел огромный комплекс отлично отстроенных в 70-х годах зданий (как позже мне стало известно, по проекту финского архитектора) с главным административным корпусом в виде буквы Y, куда мы и подъехали, преодолев несколько барьеров пропускной системы.
Словом, я оказался в ПГУ – Первом главном управлении, в той сверхсекретной ячейке КГБ, для которой Штирлиц – не абстрактный герой художественного произведения, а продукт собственного производства. О режиме секретности этого объекта свидетельствуют слова перебежавшего на Запад офицера КГБ Гордиевского из его опубликованных в Лондоне мемуаров: «В Ясенево по обычному удостоверению КГБ с фамилией, именем, отчеством, званием и фотографией владельца пройти было нельзя. У каждого сотрудника ПГУ был свой собственный пластиковый пропуск, с его, а реже ее фотографией и личным номером. Имен на этих пропусках не было. Кроме того, на пропуск была нанесена специальная сетка с перфорацией в тех местах, куда владельцу пропуска доступ был запрещен. Эти пропуска за границу с собой брать запрещалось. Сотрудники ПГУ, работающие за рубежом, оставляли их в своих отделах на хранение. Посетителей в ПГУ было очень мало. Если кто и заходил, так большие начальники. Если сотруднику ПГУ нужно было встретиться со своими коллегами из других управлений ПГУ, партийными или правительственными чиновниками, то обычно эти встречи проходили где-нибудь в центре Москвы».
Чтобы читатель мог представить характер деятельности ПГУ, назову лишь некоторые разного времени факты. Подготовка и заброска на оккупированную фашистами Украину Николая Кузнецова, вскоре ставшего настоящей легендой, разработка и осуществление с санкции Хрущева плана убийства в октябре 1959 года в Западной Германии Степана Бандеры – руководителя Организации украинских националистов (ОУН). Исполнитель – двадцатипятилетний работник Тринадцатого управления Б. Сташинский – из рук А. Шелепина получил высокую правительственную награду. Создание специальных подразделений типа «Вымпел», в послужном списке которого и захват дворца Амина в Кабуле, и участие в событиях вокруг Белого дома в августе 1991 году и октябре 1993 года «Альфа», «Зенит», «Каскад» – тоже структуры ПГУ. И еще один факт, имевший место в Латинской Америке, где мне судьба предписала трудиться на дипломатическом поприще. 20 августа 1940 г. альпинистский ледоруб, находившийся в руках наемника московских спецслужб Рамона Меркадера, опустился на голову Троцкого. Произошло это на его вилле в мексиканской столице. Вождь мировой революции скончался в больнице на следующий день, а убийце обошлось это двадцатилетним пребыванием в тюрьме, после чего он из Мексики переехал в 1960 году в Гавану, а затем – в Москву.
Если КГБ было государством в государстве, то такой же самостоятельной структурой в КГБ было ПГУ с той только разницей, что оно имело свои щупальца не в одном государстве, а во всем мире. И Куба, разумеется, находилась не на периферии этой империи. Думаю, именно поэтому возникла необходимость (но не по моей инициативе) встретиться со «специалистами» в Ясенево. Когда же я в сопровождении офицера КГБ зашел в большую, шикарно отделанную импортными материалами комнату, навстречу мне вышел «человек Андропова» – так можно было бы кратко сказать о нем. Ведь ему посчастливилось длительное время пребывать «под крылышком» будущего генсека: работая в советском посольстве в Будапеште в период «венгерских событий», он сошелся с Андроповым, который, став со временем заведующим отделом ЦК КПСС, сразу же потянул за собой и своего протеже, «пропустив» его через ступеньки референта, заведующего сектором, а позже и помощника секретаря ЦК КПСС. Когда же Андропов стал председателем КГБ, ему для формирования близкого окружения потребовались «свои люди». И на этот раз он вспомнил о своем воспитаннике, предложив ему руководить одной из самых секретных структур секретного ведомства – секретариатом, куда стекалась самая секретная информация. Но, как говорится, свои люди на то и свои, чтобы перед ними открывать еще более широко двери в руководящие кабинеты. Подопечный становится вначале заместителем начальника описанного нами выше ПГУ, а потом и его руководителем. А в ноябре 1978 года он занял кабинет заместителя председателя КГБ.
Итак, мой собеседник – будущий гэкачепист В.А. Крючков. Подрывная деятельность ЦРУ против Кубы, нелегалы и левые движения в Латинской Америке, Куба и движение неприсоединения и, разумеется, вопросы сотрудничества Кубы и СССР в области разведки – эти сюжеты в беседе представали не в виде общих абстракций, а наполнялись конкретными рассказами о людях, событиях, фактах. И все же именно в этом кабинете мне было рассказано больше всего о Фиделе. Это произошло не в последнюю очередь потому, что на беседе присутствовал «первооткрыватель» будущего вождя кубинской революции – полковник Н.С. Леонов. Именно он, работая в 50-х годах резидентом КГБ в Мехико, встретился тогда с Фиделем Кастро, только что вышедшим из кубинской тюрьмы. И хотя просьба молодого кубинца оказать помощь в приобретении оружия для борьбы с Батистой не была удовлетворена, Леонов продолжал поддерживать с ним контакты, которые, как позже оказалось, сыграли исключительно большую роль в становлении кубинской разведки уже после победы революции.
В этом же кабинете я узнал и о том, что ни Вашингтон, ни Москва вовремя не разобрались с сутью самой кубинской революции. Американцы какое-то время считали, что произошел очередной военный переворот, к которым в Латинской Америке настолько привыкли, что стали они обычным явлением. Москва же в те годы просто не верила, что на том континенте можно найти столь надежную точку опоры. И к победе Фиделя отнеслась как к акту партизанского движения местного значения. Но северный сосед скоро почувствовал, что «проморгал», и срочно начали разрабатываться террористические акции и даже крупномасштабные операции против Кастро, исполнение которых возлагалось на бежавших с острова контрреволюционеров. Когда же произошли ставшие достоянием всей мировой общественности события на Плайя-Хирон, и Кастро впервые объявил, что кубинская революция приобретает социалистический характер, акценты внешнеполитических ведомств в столицах двух сверхдержав приобрели совершенно иное звучание. И Н. Леонов был в числе тех, кто по праву гордился, что в изменившейся военно-политической ситуации в Карибском бассейне есть и его заслуга.
Он для меня оказался интересным рассказчиком потому, что много знал о самом Фиделе Кастро и что повествовал эмоционально, со множеством конкретных тонкостей и деталей. И все же, когда я поинтересовался находившимися тогда под семью печатями сведениями о личной, семейной жизни Фиделя, он ограничился только рассказом о его братьях: старшем, Рамоне, работающем председателем государственной животноводческой фермы под Гаваной, и младшем, Рауле, являющемся вторым лицом после Фиделя по партийной и государственной линии и министром РВС. Упоминался также его сын Фиделито, который под псевдонимом обучался в Московском университете по специальности атомная физика, после окончания которого возглавил Комитет по атомной энергии Кубы. И все. Но ведь вокруг именно семейных нюансов жизни Фиделя было очень много тумана, нередко приходилось слышать противоречивые суждения о его жене (говорилось даже о женах), других детях. Мне позже удалось установить всю его генеалогическую ветвь. Как выяснилось, кроме двух братьев Ф. Кастро имел четырех сестер, одна из которых – Хуана – эмигрировала в США и постоянно выступала с клеветническими заявлениями против своего брата. Первый раз женился Ф. Кастро на Марте Диас Баларт, которая, подарив ему сына Фиделито, еще до победы революции ушла от него по политическим соображениям, но, в отличие от его сестры, не стала заниматься антифиделевской пропагандой. От второй жены Далии Сото дель Валье, брак с которой не предавался огласке, родилось четверо детей: Алекс, Алексис, Алехандро, Анхель.
Разумеется, эти детали представляют определенный интерес, но, когда нет о них точной информации, как правило, обрастают различными нежелательными домыслами. И все же первостепенное значение для меня имели суждения о Ф. Кастро в беседе в Ясенево и в других местах: высокоэрудированный человек, большой знаток политической и художественной литературы, любитель мемуарных сочинений, интересуется новинками в военном деле, медицине (особенно биотехнологии), сельском хозяйстве и строительстве, обладает блестящими ораторскими качествами, хотя чрезмерно эмоционален и психологически легко раним, человек волевой и стойкий, допущенные ошибки и промахи признает не сразу. Общителен, поддерживает тесные контакты со многими бывшими коллегами по Гаванскому университету. Часто проверяет свои мысли на молодежи. Любит проводить беседы в неофициальной обстановке. Инициатор организации опросов общественного мнения в стране. В одежде и быту скромен. Отличный кулинар и гурман. О физической выносливости свидетельствует то, что без нормального сна может работать несколько суток. И так бывает довольно часто. Пьет мало, преимущественно виски. Любил кубинские сигары, но с июля 1985 году перестал курить, в чем американские «оппоненты», которым не удалось его уничтожить физически, усмотрели сигнал заболевания раком. Спортсмен, как говорится, широкого профиля: подводная охота, шахматы, бейсбол, волейбол.
Конечно, такая информация как бы наполняла фразу «Главное – Фидель» конкретным содержанием, высвечивала наиболее характерные личностные качества человека, встречи с которым я ожидал, сознаюсь, в определенной степени с тревожным волнением. Получится ли? Эти переживания накладывались и на тему «подбрюшья» у северного соседа. Ведь, кроме драматических сложностей в целом, в кубино-американских отношениях здесь присутствовал личностный аспект – разработка ЦРУ планов по физическому уничтожению Фиделя. В данном случае я уже не из газет, а из уст знатоков узнал о многих таких операциях: с применением огнестрельного оружия, яда, группового террористического акта.
И когда самолет Аэрофлота взял курс из Москвы на Гавану, мои мысли роились, разумеется, не вокруг проблем перелета в зоне Бермудского треугольника, где загадочно пропадают самолеты и корабли. Я остро ощущал, что своеобразным «бермудом» в моей предстоящей работе будет американский фактор.
Именно в силу перечисленных причин мой четырнадцатичасовой перелет через океан был заполнен не воспоминаниями о том, как, например, в 1957 году я встретился на Всемирном молодежном фестивале в Москве с девятнадцатилетней, но уже получившей после французского фильма «Колдунья» сенсационную славу Мариной Влади, общаясь, разумеется, не в плане составления будущей конкуренции В. Высоцкому. На второй план уходили и такие политические события, как участие в проведении в 1964 году международного общественного суда над расизмом в Южной Африке и такой одиозной личностью, как Фервурд, – ярым нацистом и расистом, премьер-министром единственного в мире правительства, провозгласившего расизм своей официальной политикой, преступником, который еще в период Второй мировой войны на страницах редактируемой им же газеты «Ди Трансвалер» пропагандировал фашизм, нацизм и человеконенавистничество.
Передо мной представало в более конкретных очертаниях прежде всего то, что имело хотя бы какое-то отношение к американской теме – прямое или косвенное. И в моей памяти всплыли два развернутых сюжета, непосредственно вписывавшиеся в этот контекст, – мои состоявшиеся в период американской агрессии в Индокитае официальные поездки во Вьетнам и США.
Памятными они стали по многим соображениям. Но не в последнюю очередь и потому, что центральными фигурами тех встреч были будущий президент США Джордж Буш и легендарный «бак Хо» – «дядя Хо», как трогательно называли вьетнамцы Хо Ши Мина. Случилось же так, что после встречи нашей молодежной делегации (возглавлял ее Евгений Тяжельников) с вьетнамским президентом, в которой принимал участие и премьер Фам Ван Донг, в вышедших на следующий день газетах в официальном сообщении о наших беседах фамилия премьера упоминалась, а о президенте – ни слова. Мучились в догадках и ничего не могли понять. А чуть позже, уже возвратясь домой, с большой горечью узнали о том, что мы были последней зарубежной делегацией, с которой встретился очень больной вьетнамский президент. В те последние дни своей жизни он не принимал никого. Для нас – исключение!
Упомянутые же поездки относятся к февралю (вьетнамская) и маю (в США) 1969 года, к тому времени, когда крах вьетнамской авантюры стал для Вашингтона реальным и печальным фактом. ДРВ в глазах мирового общественного мнения была уже не просто непокоренной крепостью, а всенародно сплоченной силой, способной изгнать американцев с полуострова и объединить Север и Юг страны, что вскоре и произошло. А для США это был период пика политического кризиса, вызванного «вьетнамским синдромом» и охватившего все американское общество. В этих процессах особую роль сыграли СМИ. Об эффективности критики президентского курса во Вьетнаме может свидетельствовать факт, имеющий не только чисто историческую значимость: именно тогда впервые получила «прописку» концепция средств массовой информации как четвертой ветви власти.
И конечно же, когда возглавляемая мной делегация, впервые приглашенная Американским советом молодых политических лидеров (эта организация пользовалась благодаря своей репутации официальной международной поддержкой на беспрецедентно высоком уровне, представляемой правительством США, Госдепартаментом, Фондом Форда, Фондом Рокфеллера), прибыла в Новый Свет, мы оказались как бы между двумя спорящими американскими сторонами. Одни – преимущественно демократы – выступали ярыми критиками вьетнамской авантюры, их же оппоненты – республиканцы – защищали Никсона.
И вот, узнав, что нам предстоит встреча с Джорджем Бушем, тогдашним постоянным представителем США в ООН, мы, естественно, не могли не воспользоваться шансом прозондировать и его точку зрения по теме, будоражившей всю нацию. Как же повел себя будущий президент? После реверанса в сторону нашей делегации, осуществлявшей подобный визит «впервые в истории наших государств», он сразу же попытался взять направление беседы в свои руки и, ссылаясь на нашумевшее выступление в ООН Никиты Хрущева, когда последний, исчерпав силу словесных аргументов, стал стучать по трибуне снятым с ноги ботинком, начал пространно рассуждать, как не стоит в мировой политике «хоронить друг друга». Рассуждал спокойно, сопровождая некоторые фразы несколько необычной улыбкой, которая делала его рот неестественно узко растянувшимся. Да еще и левой рукой непроизвольно что-то чертил на лежащем перед ним листке бумаги. По непонятным для нас причинам он много рассуждал об американских делах, о том, что, мол, американцы никогда не допустят, чтобы Москва вытеснила американцев из Африки, но от интересующей нас вьетнамской темы уходил. Мы ему про Вьетнам, а он нам про Африку. Как говорят на Украине, я ему про горох, а он мне про гречку.
Почему же Буш так и отмолчался по вьетнамской теме? Выскажу свое предположение. В это время республиканцы, для которых поражение во Вьетнаме стало свершившимся фактом, лихорадочно искали выход из создавшегося положения, чтобы хотя бы частично сохранить свое «политическое лицо». К тому же Никсон начал помышлять о серьезной корректировке политики США по отношению к Китаю, усматривая в этом выполнение своей «исторической миссии». Американцы давали понять, что они готовы «уничтожить» свою функционировавшую более двадцати лет концепцию «двух Китаев» (континентальный Китай и Тайвань). В практическую плоскость ставился вопрос о приеме Китая в ООН. Да плюс к этому еще и образовавшаяся в результате резкого, драматического противостояния Москвы и Пекина политическая ниша, которая для Вашингтона была очень привлекательной. Американская администрация спешила не опоздать. Да еще и честолюбие калифорнийца Никсона, стремящегося так выйти из «вьетнамского тупика», чтобы проложить себе дорогу для повторного в 1972 году избрания президентом. Слишком уж манила его мечта отметить 200-летие провозглашения независимости США в качестве главы государства. И конечно же, во все эти внешне- и внутриполитические нюансы, как я полагаю, Буш был посвящен, но говорить об этом во всем объеме еще не мог, а повторять то, чем была переполнена американская печать – о положении на «вьетнамском направлении», – просто не захотел. Поэтому при обсуждении этой проблемы он и был столь сдержан и немногословен.
Ведь он не слыл нерешительным политиком. Более того, в своей самоуверенности он не уступал самым радикальным американским государственным мужам – ни в пору политического созревания, ни во время своего президентства. Вспомним хотя бы его выступление в июле 1992 года в штате Нью-Джерси перед выходцами из России, Украины, Польши и других стран Восточной Европы: «Одной из причин, побуждающей меня добиваться переизбрания на второй президентский срок, является стремление завершить дело освобождения всего мира. Даю слово, что в течение моего второго президентского срока появится весьма значительная возможность большей свободы для миллиарда человек, проживающих во Вьетнаме, Северной Корее и Китае. Я также полон решимости стать первым президентом Соединенных Штатов, который ступит на землю свободной и демократической Кубы».
Векселя Буша, как известно, оказались нереализованными. И все же будем снисходительны. В безапелляционной самонадеянности, непомерных имперских амбициях, в категоричной риторике «об освобождении всего мира» Буш не оригинален; политический плагиат – налицо, он просто повторил своего предшественника Рейгана. Pax amerikana – эта силовая концепция периода холодной войны в сочетании с геополитическим постулатом «Интересы США – в каждом уголке планеты» обогащалась «мастерством исполнения» каждого нового хозяина Белого дома как на глобальном, так и региональном уровне. И Куба значилась в числе приоритетов. Поэтому горбачевская фраза «Главное – Фидель» и ахромеевские рассуждения о «подбрюшье северного соседа» включали в том числе и этот внешнеполитический фактор, где четко просматривались наши национальные интересы.
И по мере приближения самолета к Гаване я все острее ощущал, что Остров свободы – это новый мой жизненный рубеж: профессиональный, геополитический, наконец, чисто житейский. Но я никак не мог предвидеть, что этот рубеж, как ножом, отрежет от меня полувековую жизнь на родной Украине, что претенциозные и безответственные политики отберут у меня самое дорогое – мою Родину и что со временем я, выражаясь языком «демократов-рационализаторов», стану жить в другом «государственном пространстве». Не скажу, что в Москве я себя чувствую «мигрантом», скажем, как многие русские чувствуют себя в Прибалтике. И все же считаю, что результат «триумфаторства» многочисленной оравы амбициозных геростратов, столь размашисто продемонстрировавших свою «интеллектуальную доблесть» в полнейшей неспособности создавать обновленные формы общественного бытия и кощунственно уничтоживших своими собственными руками великую державу, – это крупнейший катаклизм XX века, аналогов которому не знала не только отечественная, но и мировая история. В этот катаклизм оказалась ввергнутой и Украина, которая дала мне жизнь и поставила на ноги.
«Номенклатурные» истоки
Голодомор, «оттепели», «заморозки»
На долю моего поколения выпала уникальная возможность пожить после военного лихолетья как бы в разных социально-политических измерениях. С одной стороны, вдуматься только, удалось пожить в нескольких общественно-политических формациях – период «в основном построенного социализма», а потом «развернутого строительства коммунизма», после чего последовал «зрелый социализм», «развитой социализм», затем этапы его дальнейшего «совершенствования», «ускорения», поиск вариантов «демократического социализма». И наконец, от ворот поворот – стремглав в капиталистический рынок в его первоначальной примитивно-грабительской форме. И все это на долю одного моего поколения. Не многовато ли? Или, может быть, вдобавок к этому бурное течение времени вынесет еще на какой-то берег исторического зигзага, скажем, к примеру, к «демократической» диктатуре, монархии, «современной» бонапартистской власти…
Но прожитое время измерялось не только формациями. Были еще и «оттепели». И говорю я об этом во множественном числе не по ошибке, так как считаю, что их было несколько. Причем одни из них оказались «замороженными», так и не проявив себя сполна для взращивания истинной демократии и свободы личности, другим же «оттепелям» суждено было перейти в такую распутицу, после чего и сегодня еще трудно ожидать результатов весенне-летнего духовного созревания, даже не помышляя об осеннем собирании плодов.
Первая, то есть хрущевская, «оттепель» началась сразу же после XX съезда в 1956 году. Наиболее существенным образом она проявилась в духовной сфере, особенно в среде художественной и научной интеллигенции. Она проходила очень сходным образом во всех бывших республиках СССР, хотя и в каждой из них четко просматривалась и своя специфика, на что влияли в первую очередь национальные особенности и исторические традиции, а они были разными – у прибалтов, украинцев, среднеазиатов, кавказцев и т. д. К наиболее броским особенностям первой «оттепели» можно отнести своеобразную трактовку запрещенных или полузапрещенных тем, когда, несмотря порой даже на резкий критицизм художественных произведений, все же просматривался оптимистический ракурс. Но это продолжалось недолго. Сам же Хрущев как-то и «притормозил» эту «оттепель».
Вторая «оттепель» наступила после состоявшегося в 1961 году XXII партийного съезда. Она была более глубокой и более основательной, хотя тоже прекратилась со снятием Хрущева. В это время появилась литература «разгребательной грязи», значительно усилился разоблачительный пафос. Авторы старались, насколько это было возможным, сказать хотя бы часть правды об исторических и происходящих событиях. В период второй «оттепели» углублялся анализ исторического сознания, национального мышления, осуществлялся поиск «козла отпущения» и чужеродных сил, которые нанесли ущерб национальной самобытности разных народов. К этому времени следует отнести и повышенный интерес к почвенничеству. Звучали нотки антисемитизма.
И наконец, третья «оттепель» – горбачевская, если ее можно назвать «оттепелью» в прямом смысле этого слова. Может быть, ближе к истине был Иосиф Бродский, который назвал перестройку уже не «оттепелью», а просто «летней жарой» и даже «адской жарой». Я не буду возражать выдающемуся поэту, хочу только сказать, что, по моему глубокому убеждению, в «летнюю жару» перестройка не переросла, так как после «оттепели» наступила такая «распутица», что из нее не удалось выбраться и самому «реформатору».
Что же касается этой третьей «оттепели», то, пожалуй, самым неожиданным стало то, что многие писатели, артисты, кинематографисты фактически прекратили заниматься художественным творчеством и превратились в политиков. Их стихией стали неформальные движения, полуофициальные или совсем неофициальные кружки, митинги на площадях и стадионах, парламентская трибуна, оперативная публицистика в газетах и на телеэкране. Многим из них не суждено было стать настоящими, то есть трезвомыслящими и конструктивными политиками. На место «звездной болезни» пришла болезнь политического популизма. Наряду с разразившимися в обществе войнами «суверенитетов», законов, языков и т. д. и т. п. разбушевались «внутривидовые войны» в самой среде интеллигенции. Выбросы конфронтационно-обжигающей магмы из этого перестроечного кратера были настолько велики, что они благодаря нерасчетливым и безответственным действиям некоторых политиков способствовали настоящему социально-политическому взрыву в обществе. Парадокс, но факт остается фактом: интеллигенция, столь много сделавшая для утверждения гласности, она же разожгла многие костры политического противостояния, она же, как никакой другой слой общества, продемонстрировала взаимную нетерпимость и враждебность, расколов свои союзы на многочисленные группировки. Поэтому даже и сейчас вряд ли найдется смельчак, который рискнет высказать рецепт хотя бы частичной консолидации и согласия в самой среде творческой интеллигенции. Некоторые представители художественной элиты в перестроечное и постперестроечное время продемонстрировали привитое еще в сталинские времена качество: верноподданничество «верхам» – вначале Горбачеву, а позже Ельцину.
Интеллигенция, «ложащаяся под власть», – для оценки подобного не находится слов даже в богатом на различные оценочные нюансы русском языке. В таких случаях мне нередко приходит на память история с пленением в моем селе в период войны служившего в фашистской армии одного поляка – до смешного низкорослого и, казалось, перепуганного еще в момент своего рождения. Так вот, пленили его люди не в военной форме – советской или немецкой, – а в гражданской одежде. И он никак не мог сориентироваться: это партизаны, которые постоянно давали о себе знать в этих краях, или местные полицейские, верно служившие фашистам. «Гитлер – капут!» – вкладывая в сказанные слова всю силу эмоций, отчеканил поляк, предполагая в собеседниках партизан. Когда же с их стороны не последовало подчеркнутой одобрительной реакции, на что рассчитывал дрожащий как заяц пленный, с его стороны вдруг раздалось не менее решительное «Сталин – капут!» – в расчете на то, что перед ним не партизаны, а полицейские. Но опять же ожидаемой им реакции не было. Сбитый с толку поляк вновь закричал: «Гитлер – капут!», а потом «Сталин – капут!». Этот почти пятиминутный миниспектакль закончился тем, что поляка отпустили – босого, в измазанной украинским черноземом немецкой шинели, сказав ему: «Уходи от нас и вспомни, кому же все-таки капут». Испуганному поляку долго не пришлось уточнять – на следующий день село освободили наши солдаты. Но тем, кто его задержал, он уже ничего не мог сказать – к этому времени они далеко продвинулись на запад… А были это и не партизаны, и не полицейские, это был переодетый в гражданскую одежду передовой отряд советской фронтовой разведки.
История вот с таким же «капут» и ассоциируется у меня с позицией – политической и нравственной – многих духовных «наставников нации», которые в великом параде лицемерия, в «походе отречения» от своих прежних личных идейно-политических установок продемонстрировали прямо-таки незаурядную фантазию. Взять, к примеру, вступление в КПСС. Напомню читателю, что в описываемые мною годы райкомы спускали в первичные организации специальную разнарядку для кандидатов в партийное пополнение, отдавая предпочтение рабочим и крестьянам и резко ограничивая такие возможности для интеллигенции (попутно замечу – этот перегиб нанес огромный вред прежде всего самой партии), и для интеллигента всегда было честью оказаться в рядах КПСС, да к тому же и служебная карьера напрямую связывалась с партбилетом. И за всю многолетнюю политическую деятельность я не могу вспомнить ни одного случая, чтобы кого-то из интеллигентов насильственно принимали в партию. Происходило все, подчеркну еще раз, наоборот: претенденты на членство в КПСС с нетерпением ожидали, когда же, наконец, придет долгожданная разнарядка из райкома партии. Конечно, те, кто не хотел, просто не подавали заявления и этого ни от кого не скрывали. Когда же задули другие политические ветры, многие партийцы-интеллигенты, дабы засвидетельствовать свое почтение (а точнее, верноподданничество) ельцинскому режиму, «осчастливили» общественное мнение ошеломляющими признаниями. Известный режиссер М. Захаров поведал телезрителям, как он, ненавидя КПСС (когда она перестала быть «направляющей» и «вдохновляющей»), демонстративно сжег свой партбилет; этого, правда, никто не видел. При этом он умолчал о заявлении, написанном собственной рукой, в котором зафиксированы обещания верно «служить делу партии» и о трех рекомендациях тех, кто (как требовалось инструкцией о вступлении в КПСС) на протяжении многих лет положительно охарактеризовали политические и деловые качества кандидата.
А писатель А. Приставкин заявил о том, что якобы в свое время его старший друг писатель-фронтовик Артем Афиногенов затянул его в партию, а он, Приставкин, так не хотел становиться членом КПСС, что его сразу же «вырвало». «И потом, когда вспоминал, как вручили партбилет, сразу же вспомнилось и то, как меня всего вырвало и трясло: чего-то моя природа не приняла», – так он заявил в «Вечернем клубе» 6 ноября 1997 года, то есть более чем через двадцать лет после того, как в 1965 году с ним это и приключилось. Приурочил же он такие откровения к 80-летию Великой Октябрьской социалистической революции. Как не воскликнуть: спасибо горбачевской перестройке! Да и «трясти», судя по его словам, якобы, перестало, не говоря уже о том, что теперь не тянет и на рвоту. Слушаешь подобное и задаешься вопросом: на кого рассчитаны эти безнравственные кульбиты? Такая политическая мимикрия ничего общего не имеет с настоящей гражданской позицией художника, для проявления которой, например, не менее известный, чем М. Захаров, режиссер Ю. Любимов не разрабатывал спецрежиссуру инсценировок для личного показного поведения, а жил и поступал, как велела совесть, – и в советское время, и ныне.
Как не вспомнить классиков: они или бичевали царизм, крепостничество, буржуазный строй, или занимали нейтральную политическую позицию. Но такого массового холуйства история нашей культуры никогда не знала.
Я и ныне, когда разрушительные процессы нашего бытия еще далеки от того момента, когда наступит долгожданная стабилизация, не могу понять тех людей, которые пытаются представить мое поколение потерянным и даже виновным за все «социалистические перекосы». Что значит «забывать» о том, что усилиями этого поколения была возведена сверхдержава с ее экономической, военной мощью и с внешней политикой, с которой считался весь мир – независимо от того, искренне или вынужденно. А чуть раньше это же поколение уберегло не только свое Отечество, но и все человечество от фашистского порабощения.
Мне все же в данном случае хотелось бы говорить не только о глобальных исторических ракурсах, что отнюдь не означает моего нигилистского к ним отношения, а о личностном срезе всего прожитого. Вспоминая же тех, кто в разные годы встретился мне на различных жизненных перекрестках, я чувствую себя человеком, не зря прожившим основную часть жизни. И когда меня Земля проносит семидесятый раз вокруг Солнца, я, вспоминая прожитое, особенно остро почувствовал, как тепло и радость человеческого общения со многими замечательными людьми, так и горечь разочарований теми, о ком хотелось бы забыть на следующий день после встречи. Но все же главное – общение, ставшее праздником души. Оно было в разные годы. С ровесниками и старшими по возрасту. Политиками и деятелями культуры. В сфере служебных отношений и личной жизни.
Основная часть моей, как говорят, сознательной жизни выпадает на киевский период.
Древний и вечно молодой Киев преподнес мне главный подарок судьбы – любимых и дорогих детей Аленушку и Сашу, которые, кстати, перешагнув тридцатилетние рубежи, продолжают «выяснять» рожденный еще детской наивностью вопрос, кто из них любимее и дороже. Я же вместе с супругой, говоря о том, что они одинаково любимы и одинаково дороги, вкладываем в эти суждения особый смысл. Особый потому, что «дорогими» они для нас стали в силу ряда обстоятельств.
Моя мечта иметь дочь и сына, казалось бы, начала сбываться, когда старшая пионервожатая одной из днепропетровских школ Аня Пицык, в свое время самым беспощадным образом раскритиковавшая меня на широкопредставительном собрании за «комсомольский бюрократизм» (секретарь райкома, не сдержав обещания, не прибыл на школьное праздничное мероприятие), со временем стала… моей женой. Родилась дочь. И мы, не ожидая выписки из больницы, назвали ее Аленой. Но там же в больнице по вине врачей она умерла, прожив всего лишь несколько дней. Трагическая угроза нависла и во время вторых родов. Все закончилось в конце концов благополучно. И мы вновь назвали дочь Аленушкой. И понятно почему.
По-своему дорогим оказался и сын, получивший по настоянию супруги имя отца, то есть мое. Ему в результате неудачного удаления аппендицита сделали четыре операции подряд, после чего врач развел руками и сказал, что уже не знает, что делать дальше. В совершенно безнадежной ситуации приглашенный для консультации детский врач Н.Б. Ситковский был краток и предельно откровенен: из ста процентов, может быть, остался один; дальнейшее промедление – самое страшное, маленькая надежда – на один процент, не гарантия, а надежда, причем маленькая, призрачная. И он, реализовав этот один-единственный процент, как он сам потом сказал, вытащил нашего сына в прямом смысле этого слова с того света. Может быть, именно это со временем и повлияло на его профессиональный выбор: вместо моего желания стать философом он избрал стезю врача-уролога.
В киевских истоках – и мои профессиональные корни. Здесь на журналистском полигоне в хрущевский период я получил не только настоящую творческую закалку, но и непосредственно ощутил причуды тогдашнего лидера. Вспоминаю не без юмора, как после получения через тассовские каналы проекта его доклада или выступления, как правило, начиналась «поправочная круговерть». После внесения поправок в текст поступали новые поправки. И хотя график сдачи газетных полос под пресс был 21.00, такая канитель продолжалась всю ночь. Одновременно с иностранцами приходилось не только расшифровывать «кузькину мать», которой Хрущев поверг в смятение все мировое сообщество, но и «прочитывать» хитросплетения внешнеполитических формулировок, которые под давлением определенных обстоятельств вносились нашим руководством в заранее подготовленные тексты уже в ходе переговоров. А к утру, отчертыхавшись, мы выбрасывали весь скорректированный набор и, получив из Москвы «окончательный» вариант, все начинали сначала.
Киеву я обязан и своим научным становлением. Подготовка и защита двух диссертаций по философии – кандидатской и докторской – немыслимы были бы без помощи, поддержки, товарищеского соучастия многих замечательных ученых. Один из них – П.В. Копнин, чья подпись стоит в моем дипломе кандидата философских наук. Вспоминая о нем, я каждый раз поражаюсь, почему в ответ на его исключительную доброту он часто получал вопиющую неблагодарность, а иногда и неоправданную месть. После переезда из Киева в Москву для работы директором Института философии он заболел и вскоре умер. И некоторые киевские недоброжелатели предприняли просто «героические» усилия, чтобы в украинских газетах не появился некролог.
Украина предоставила мне большие возможности для политической деятельности. Работа первым секретарем ЦК комсомола и секретарем ЦК партии, как и различные промежуточные между ними должности, запомнилась мне не руководящими кабинетами, а опять-таки общением с людьми, стремлением грамотно решать возложенные на меня функции. Да и двукратное избрание в состав ЦК КПСС не превратилось в праздные поездки в Москву. А избрание членом Президиума Верховного Совета Украины и председателем Комиссии по иностранным делам Верховного Совета республики, как и позже народным депутатом и членом Верховного Совета СССР, позволило на практике изучить механизмы власти на разных уровнях, в разных условиях.
Но, как говорится, все мы из детства. А оно было у меня не только «босоногим», но и с незаживающими душевными ранами. Поэтому считаю все же логичным несколько слов сказать и об этом.
1933 год со временем получил наименование «голодомор». Самый страшный голод за всю историю Европы XX века унес семь миллионов человеческих жизней. Недавно рассекреченные кремлевские архивы Политбюро ЦК ВКП(б) наконец помогли установить истинные причины этой трагедии. Как выяснилось, засуха и неурожай 1932 года были помножены на насильственную «политику хлебозаготовок», на перекосы возросшей продразверстки, а также на развернувшуюся борьбу с «саботажем». Контрреволюционных «заговорщиков» искали среди ветеринаров, якобы моривших скот, среди работников метеослужб, подозреваемых в фальсификации метеосводок, не говоря уже о «подрывных действиях» хозяйственных и партийных руководителей, которые не обеспечивали выполнение сталинских декретов. «Саботажниками» объявлялись даже многие голодающие крестьяне, работники ведомств и научно-исследовательских институтов, не имеющие никакого отношения к хлебозаготовкам. Работавший в те годы первым секретарем ЦК КП Украины Станислав Косиор говорил о том, что «целые контрреволюционные гнезда» были обнаружены не только в сельхозакадемии и республиканском сельскохозяйственном ведомстве, но и в Народных комиссариатах образования и юстиции, а также в Институте имени Шевченко и Институте марксизма-ленинизма.
Помню, как мать рассказывала мне о массовом вымирании людей, причем часто это происходило прямо на улице, в общественных помещениях. Рассказ матери о том, как в парикмахерской бритвой зарезали человека, опустили его в подвал, расчленили тело и поделились голодающие между собой человеческим мясом, может восприниматься сегодня некоторыми людьми как домысел. А это были жестокие реалии жизни. Об ужасных картинах разразившегося голода Михаил Шолохов писал Сталину уже в феврале 1933 года, сообщая о том, что в Вешенском районе «большое количество людей пухнут. Это в феврале, а что будет в апреле, мае». А в его апрельском сообщении генсеку отмечалось, что люди «пожирали не только свежую падаль, но и пристреленных санных лошадей и собак, и кошек, и даже вываренную на салотопке, лишенную всякой питательности падаль».
Вот в начале этого голодомора я и родился в селе Верхняя Тарасовка, что на Днепропетровщине, а на следующий год семья переехала, как потом оказалось, навсегда, в село Грушевка (позже переименованное в Ильинку) того же Томаковского района. Сознательно пока не называл дату рождения – 14 апреля. А отмечаю его я и 22 февраля. Дело в том, что мое свидетельство о рождении затерялось, как предполагается, во время фашистской оккупации. А ввиду того, что сельская местность была непаспортизирована, вопрос о получении паспорта встал только тогда, когда после окончания школы возникла необходимость поступать в университет. И вот районный ЗАГС направил меня в больницу для определения возраста по зубам. Врачи стучали по ним своими инструментами, поднимали мою голову вверх и наклоняли вниз, поворачивали влево и вправо. Словом, смотрели со всех сторон и определили мой день рождения: 14 апреля 1932 года, хотя я им, ссылаясь на родителей, назвал 22 февраля 1933 года. Выяснение истины завершилось «ничейным» результатом, а точнее – немного по-моему и немного по-ихнему: в уже оформленном к этому моменту свидетельстве год они сменили на 1933-й, исправив двойку на тройку, а дату 14 апреля оставили (не может же медицина ошибаться стопроцентно, да и исправлять было сложнее – дата написана прописью). А после этого в середине удостоверения появилась запись от руки «исправленному верить», заверенная печатью. Вот так образовался мой своеобразный день рождения-гибрид. Когда я иногда заглядываю в этот документ, каждый раз не могу удержаться от юмористического настроя. Тем более что к описанным медицинским художествам добавилось и довольно своеобразное усердие районных грамотеев, руками которых в столь ответственном удостоверении мое имя выведено так: Аликсандр.
Военные же годы врезались в память и сердце не только ожесточенными боями, когда наше село переходило из рук в руки: перед моими детскими глазами расстрелянный эсэсовцем «просто так» из пистолета маленький ребенок, перебегавший улицу, и массовые расстрелы партизан, изуродованные и перевязанные проволокой тела которых я видел в разрытой могиле.
А изнасилованные холеными немецкими офицерами женщины, которых не «выручало» и то, что они вымазывали свои лица сажей! Но для животного, звериного инстинкта эстетика никогда не имела никакого значения, если этот человек-зверь даже пытался когда-то демонстрировать свое общение с искусством.
Свою жестокость по отношению к мирным жителям фашисты умножали еще и потому, что им постоянно не давали покоя партизаны, действовавшие в нашем крае. Многие односельчане – днем были дома, на «виду» у всех, а ночью тайком перебирались в густые приднепровские плавни – кто для непосредственного участия в диверсионных действиях, кто для оказания различных форм помощи народным мстителям. Какое-то время я не мог понять, зачем моя мать довольно часто выпекала целый мешок украинских паляниц, которые к утру куда-то исчезали. Когда же однажды, проснувшись, я услышал шепот и несколько промелькнувших, а потом исчезнувших в ночной темноте фигур людей, уносящих этот загруженный мешок, я не только все понял, но и встревоженно спросил: «Мамо, а это не страшно?» Единственное, что я услышал в ответ: «Тихо, сынок».
Потрясало и то, что звериная жестокость исходила не только от оккупантов, но и от «своих» полицейских. Война прочертила свою смертоносную линию, поставив на разные воюющие стороны даже членов одной семьи. Вспоминаю о нашем соседе, который так разобиделся на советскую власть, что при вступлении немцев в наше село вышел встречать их с «хлебом-солью» на вышитом украинском рушнике. Фашисты высоко оценили такое «дружелюбие» и незамедлительно назначили его старостой. Холуй лез из кожи вон, чтобы выслужиться перед немцами, сообщив им сведения о том, кто из односельчан был активистом, о семьях офицеров Советской армии. В самой же его семье произошел раскол. Немцам он «не возражал», чтобы его дочь в числе других была отправлена в Германию (она так и не вернулась домой, после войны пришла весточка из Австралии, где она поселилась). Младший сын подался служить немцам полицейским, а старший пошел в партизанский отряд. А во время очередной облавы зимой этот партизан погиб от выстрела своего же брата, который, оттащив труп в кусты, спокойно подошел к проруби, чтобы со своих рук смыть его кровь.
А день, когда нас, детей моего возраста, собирали в центре села на площади для отправки в Германию, – как гвоздь, заколоченный в самое сердце. Эсэсовец в сопровождении полицейского, зайдя в нашу хату, обратился к моей матери: «киндер» и показал пальцем на дверь. Мать, припадая к ногам непрошеных гостей, умоляла, показывая девять пальцев, давая понять о моем возрасте. А в это время стоящий рядом со мной эсэсовец демонстративно наступил кованым сапогом на мою детскую ногу. Боль, ей-богу, до сих пор чувствую. И все же вскоре я был на площади, а там все мои ровесники-односельчане. Предполагалась в самое ближайшее время отправка на железнодорожный вокзал, а потом – Германия. И вдруг якобы сам Бог смилостивился: одна бабушка, выбрав удобный момент (мы охранялись стоящими в разных концах солдатами), накрыла меня своей «спидницею» (длинная и очень широкая юбка, которую с давних пор носили сельские женщины) и начала потихоньку отделяться от толпы, подталкивая и меня, находящегося под таким прикрытием. Так она меня «отконвоировала» в один из огородов, после чего я по замерзшей реке ушел на окраину села и залез в кручу (так называют на Украине крутые, с углублениями впадины у речных берегов), откуда на следующий день меня и забрала мать с отмерзшими ушами. Вспоминаю об этом с неугасающей болью: из всех тогда собранных на сельской площади в живых остался я один. Остальные же были отправлены на вокзал, и следы их пропали. Высказывались различные предположения: или во время переезда в Германию эшелон подвергся бомбардировке, или, как позже сообщалось об аналогичных случаях, дети направлялись для проведения различных медицинских экспериментов. Как бы там ни было – по сей день нет ни одной весточки от них.
На фоне постоянных облав – прочесывания территории – карательных операций, массовых отправок в Германию взрослых и детей такие акции, как изъятие у местного населения ценных предметов, домашней утвари и продуктов питания, стали тогда просто рядовой и прозаической обыденностью. А как забыть тот момент, когда вскоре после освобождения нашего села мы получили «треугольник», известивший о том, что отец погиб смертью храбрых. И вдруг – письмо из госпиталя, из которого мы узнали, что участок фронта, где отец был тяжело контужен, несколько раз переходил из рук в руки сражающихся сторон. Его воинская часть практически вся была разбита, поэтому новую воинскую приписку он получил после выхода из лазарета и написал нам письмо.
И когда сегодня я часто слышу о том, что в войне пострадала каждая украинская семья, для меня это не является абстракцией. Войну я воспринимаю через все увиденное и пережитое. Перед глазами всплывает такой ужас, какой не пожелаешь даже тому врагу, который принес на мою землю эту беду. А картин таких – множество. Вот, например, односельчанка, потерявшая на фронте мужа и пятерых сыновей, не зная даже, где некоторые из них похоронены, соорудила в своем огороде импровизированные шесть могил, у которых каждодневно проливала слезы, пока не утопила свое женское горе в стакане водки… А до сих пор «не отозвавшиеся» односельчане, отправленные, как стадо, в Германию… Покалеченные фронтовики, для которых открылся «второй фронт» нищенского существования в завоеванное ими мирное время… И голодные сироты, навсегда лишившиеся родительской ласки.
После войны, хотя и наступили мирные дни, все же нас ожидали новые испытания и снова – голод. В 1946 году он как бы продолжал трагедию «моего» 1933-го. Умерших не успевали выносить не только из сельских хат. Они лежали у забора, у опустевшего магазина, просто во дворе. Многие высохли настолько, что тела, казалось бы, хватало только для заедавших вшей, другие опухли до неузнаваемости.
Мой сельский учитель Федор Иванович Ященко как-то мне рассказал, что он, увидев меня в тот момент, не поверил в благоприятный для меня исход. Но «счастье» подвернулось. Отцу удалось достать, а точнее, уворовать на животноводческой ферме два корня кормовой свеклы. Съедена она была с такой жадностью, что вызвала отрицательную реакцию организма.
И все же мне удалось не только выжить, но и в буквальном смысле слова спасти всю нашу семью. Ранней весной, как только на озерах в предднепровских плавнях растаивал лед, я начинал рыбачить. Пойманной на удочку рыбы хватало, чтобы хотя бы как-то продержаться нашему семейству. К маю – июню этот «промысел» еще больше увеличился, поэтому нам не пришлось бросаться на колхозные поля и срывать только еще наливавшиеся хлебные колосья, от чего у людей происходило настолько сильное вздутие живота, что они прямо там же, на поле, гибли.
Ударов судьбы отец не выдержал. И не столько от того, что контуженному офицеру не давали покоя оставшиеся в теле осколки (на фронте он все время был разведчиком), сколько от всего происходящего после войны. Вопрос «за что воевали?» комком застревал в горле фронтовика, и на каком-то этапе он надломился. Военное горе сменилось на горе «мирное». Он запил.
Словом, о счастливом детстве мне удалось узнать позже из художественной литературы, кинофильмов, из рассказов в периодической печати, да энциклопедических справочников по этике. Может быть, именно поэтому я всегда ценил учебу и нравственный пример старших. Десятилетку заканчивал в городе Марганец, каждый день, в том числе и в пургу, отмеривая по девять километров туда и обратно. И хотя я, будучи отличником, за неуплату школе денег (тогда было платное обучение) и был исключен из девятого класса, все же благодаря помощи добрых людей учебу закончил успешно, и по существовавшим тогда правилам медаль открыла мне дорогу в университет без сдачи вступительных экзаменов.
Превратности журналистских испытаний
Переезд в Киев, а это случилось в конце 1961 года, был для меня не только неожиданным, но и происходил при несколько необычных обстоятельствах. Дело в том, что хотя в выпускнике Днепропетровского университета и победило политическое начало (активная общественная деятельность в вузе предопределила мою работу на комсомольском поприще), мои жизненные планы все же выстраивались в другом направлении. Ведь уже на пятом курсе у меня на две трети была готова кандидатская диссертация, посвященная языку и стилю произведений украинского классика Панаса Мирного. И должности секретаря райкома, горкома и обкома комсомола я считал временными.
Да и оказался я на них, честно говоря, не по своему стремлению. Ожидаю, как недоброжелатели ехидно упрекнут: мол, сейчас многие «задним числом» стремятся представить себя в другом свете, отмежевываясь от своего советского прошлого. Но я никогда от него не отмежевывался, все хорошее и плохое – со мной! Истина же в данном случае в том, что в середине пятого курса, после многократных отказов, несмотря на мое, не побоюсь подчеркнуть, отчаянное сопротивление, мне все же не удалось устоять перед мощным нажимом первого секретаря Октябрьского райкома партии г. Днепропетровска К.Н. Ярцева – и за полгода до окончания университета я был избран секретарем райкома комсомола. Мои аргументы – свою личную перспективу я связывал не с руководящей работой, а с профессиональной научной деятельностью, плюс оставалось полгода до окончания учебы, а также завершение дипломной работы и подготовка к государственным экзаменам – во внимание приняты не были. Через несколько месяцев после такого назначения, сразу же после получения диплома о высшем образовании, я подал заявление о поступлении в аспирантуру. Но… отличнику учебы на протяжении всех пяти лет, персональному стипендиату было отказано в приеме: не было обязательного по тем временам как минимум двухлетнего стажа работы после окончания вуза. Так я оказался на поприще общественно-политической деятельности. А позже последовало и неожиданное приглашение в Киев.
Суть предложения, сделанного ЦК комсомола, сводилась к тому, что газета «Комсомольское знамя» нуждалась, как принято было говорить в таких случаях, в организационном укреплении, созрел вопрос о замене главного редактора. Поэтому мне предлагалось на какое-то незначительное время взять на себя функции заместителя главного редактора с таким расчетом, чтобы, разобравшись с делом, возглавить газету. Приближающийся съезд комсомола республики торопил развитие событий: по существующей практике главный редактор обязательно избирался членом ЦК, а на пленуме – в состав бюро ЦК комсомола. На мои искренние сомнения в том, что, может, не стоит форсировать такой ход событий, последовало ставшее традиционным «поможем».
В «помощи» я убедился довольно скоро. В отсутствие главного редактора мы опубликовали подборку дискуссионных материалов по вопросам культуры. Среди них – и письмо ленинградца С. Потепалова, который покритиковал фильмы студии имени А. Довженко и спектакль киевского театра имени И. Франко. Реакция руководящих органов республики была явно неожиданной. Меня, а также работников газеты, непосредственно готовивших дискуссионную подборку, пригласили на заседание бюро ЦК комсомола и учинили настоящую расправу. Современному читателю, живущему в мире безбрежного плюрализма мнений, по нынешним меркам просто невозможно понять обоснования выдвинутых обвинений. Вот они: первое – непозволительно чернить украинское искусство (хотя в тот период упомянутые киностудия и театр переживали не лучшие творческие времена и у зрителей довольно часто вызывали не просто «отдельные» критические замечания, а откровенное раздражение); второе – чего это вдруг Украину поучает какой-то ленинградец; мол, мы что – сами не можем разобраться (вот оно, неадекватное чувство «национального достоинства»).
Решение последовало жесткое – работники, готовившие подборку, были сняты с работы, а мне объявили строгий выговор с последним предупреждением. Правда, во время голосования один из участников заседания задал председательствующему первому секретарю ЦК комсомола Юрию Ельченко вопрос: можно ли выносить взыскание с последним предупреждением, если не было предупреждения ни первого, ни второго? Редакция была деморализована, перепуганный редактор продолжал «болеть»; я же принял для себя решение – возвратиться домой в Днепропетровск, тем более что к этому времени не успел даже перевезти семью. И вдруг – гром среди ясного неба. В «Правде» появляется заметка «Неожиданный результат», в которой собкор газеты Михаил Одинец, рассказав читателям о случившейся истории, однозначно заявил: «Там, где идет обсуждение творческих вопросов, неуместны и недопустимы администрирование, одергивание. А ЦК комсомола Украины пошел по этому неправильному пути».
Дело усложнилось тем, что, как оказалось, человека, раздраженного критической заметкой ленинградца, надо было искать не в комсомольских кабинетах. Все нити вели к Андрею Скабе – секретарю ЦК партии. Поэтому появление заметки Михаила Одинца привело к обострению отношений между ЦК КПУ и «Правдой». Андрей Скаба был неумолим – ни о какой «реабилитации» не может быть и речи. А в это время пошел поток писем буквально со всех уголков страны, и во всех – осуждение административного зуда. Вот одно из них (из своей архивной папки беру первое попавшееся): «В командировке в Ульяновске я посмотрел кинокартину „За двумя зайцами“ и „Артист из Кохановки“ студии имени А. Довженко. Ну, ладно – „Артист…“ – еще сносная картина, есть интересные сцены (в начале), да и близка картина тем, что наше время. Но на кой черт студия тратит цветную пленку на „За двумя зайцами“? Я не знаю, критиковали ли эту картину с потугами на комедию (во что бы то ни стало вызвать смех, если не от головы, так хоть от живота), но она в Ульяновске шла во многих кинотеатрах целую неделю… и… плевались зрители довольно выразительно.
Я бы не написал этого письма. Но прочитал „Неожиданный результат“ и подумал: „А чего это взялись замазывать недостатки студии имени Довженко?“ Мы знаем много хороших вещей этой студии, а если последнее время у нее срыв за срывом, так ее лечить надо, а не благословлять и не защищать от критики.
Надеюсь, что Кульбачка и Бескаравайный восстановлены? И с Капто снято строгое взыскание?» Внизу письма – дата, московский адрес и подпись: старший инженер проектного института Аркадий Куров.
Но скоро последовала еще одна новость – просто убийственная. Проверка, проведенная работниками ЦК партии с привлечением КГБ, показала, что в городе на Неве в списках жильцов фамилия преподавателя Ленинградского университета С. Потепалова не значится. Так появилось еще одно обвинение – газета печатает непроверенные материалы анонимщиков, тем самым демонстрируя свою полнейшую безответственность. И вопрос зазвучал по-новому: речь надо вести не о снятии вынесенных взысканий, а делать новые организационные выводы. Действительно, если судьями украинской культуры стали какие-то ленинградские анонимщики, деваться просто некуда.
И вдруг очередная сенсация. Письмо из Ленинграда: «Уважаемый товарищ редактор! Получил из Киева газету „Комсомольское знамя“ от 14 января, в которой опубликовано мое письмо по поводу статьи „В кривом зеркале“. Я очень рад, что вы сочли возможным поместить его в вашей газете, так как беру на себя смелость утверждать, что высказанные в нем мысли отражают мнение многих ленинградцев. Если бы я мог предположить, что оно будет напечатано, то – вне всякого сомнения – под ним была бы не одна подпись. Еще раз благодарю Вас. С. Потепалов – преподаватель Ленинградского университета им. А.А. Жданова.
Р. S. Пользуюсь случаем подтвердить также получение гонорара».
Что за чертовщина? Все же есть этот С. Потепалов или – очередная анонимка? Выяснением занялся я сам и вскоре установил, что двадцатичетырехлетний специалист по славянской филологии С.Г. Потепалов действительно значится в списках работающих в Ленинградском университете, являясь выпускником его филологического факультета, и что он ездил в Москву на кинофестиваль в качестве корреспондента «Вечернего Ленинграда». Удалось также установить, что он, используя свои каналы, все время интересовался, восстановлены ли на работе жертвы, пострадавшие из-за его статьи. И у меня возник вопрос: почему же проверяющие, и прежде всего стражи кагэбистской бдительности, не обнаружили С. Потепалова? Оказалось, он состоял в списке не основного преподавательского состава, а внештатников. А проверяющие, надо полагать, посчитали, что автора столь обстоятельной критики надо искать именно среди преподавателей, работающих на постоянной основе.
Что же после этого? Позиция наказавших – незыблемая. Демонстрация «твердой принципиальности». Даже «Правда» не получила ответа на свое критическое выступление, хотя Скаба сам на совещаниях требовал от партийных чиновников различного ранга реагировать на критические выступления печати. Вскоре же состоявшийся комсомольский съезд, не избравший меня никуда, лишний раз подтвердил: на мне поставлен «крест».
Но по иронии судьбы через какое-то время меня избрали вместо Ельченко первым секретарем ЦК комсомола. Подчеркну при этом, я довольно быстро установил, что инициатором того печального разбирательства и моего наказания он не был. Более того, он сам был в дурацком положении, оказавшись под партийно-административным нажимом Скабы. С Ельченко позже у меня сложились добрые, товарищеские отношения. О рассказанной истории мы никогда не вспоминали. Возникшая дружба выдержала испытание временем, подвергаясь проверке на прочность на самых крутых зигзагах нашего бытия, за что я ему искренне благодарен.
Поучительной для меня была и журналистская позиция Михаила Одинца – человека не только с острым пером и гибким умом, но и не менее обостренным чувством справедливости. Не могу умолчать и о том, что сам М. Одинец довольно часто подвергался атакам за его принципиальные материалы. Если посмотреть тогдашние его публикации в «Правде», нетрудно убедиться, что ему не требовалось с началом горбачевской перестройки «перестраиваться». Одну из «закрытых зон» (так были названы на XXVII съезде КПСС некритикуемые республиканские, областные и городские партийные организации, которые возглавлялись руководителями, входившими в состав Политбюро; сделал это Егор Лигачев) он не раз подвергал справедливой, порой самой резкой критике, за что, в частности, в период Шелеста вынужден был оставить киевский корпункт «Правды» и применить свои журналистские способности, находясь в длительной загранкомандировке в Будапеште.
Скажу откровенно: работа в журналистике для меня стала не только отличным профессиональным полигоном, но и, пожалуй, первым в моей самостоятельной жизни серьезным испытанием истинности человеческих отношений. Ведь за всем происходившим стояли люди, поступки которых по-разному коснулись не только моих чувств, но и представлений о порядочности, честности, человечности. Часто бывает, что они становятся отшлифованными, как галька. Но когда конкретная жизненная ситуация требует от человека проявить эти качества, нередко приходится наблюдать причудливую метаморфозу превращения этих высоких нравственных понятий во что-то усеченно-ущербное, ублюдочное, а нередко и просто противоположное. И я считаю себя счастливым оттого, что на моих жизненных перекрестках все же было абсолютное большинство тех, кто зажигал в моем сердце маяки надежды, человеколюбия, личной нравственной чистоты.
Маяки надежды
Я как-то обратил внимание на то, что наиболее глубокие чувства и воспоминания – от общения с людьми, которые были старше меня. В их числе и Олег Антонов. Неординарность его личности определялась не только интеллектуальной масштабностью создателя известных всему миру различных модификаций «Анов», «Антея», «Руслана». Каждая встреча с ним по-особому дорога и памятна. Перед тем как подать руку здоровающемуся собеседнику, он вначале как бы посылал ему улыбку, сопровождаемую искорками ласковых глаз. Мягкий в общении. Как правило, всегда приветливый. Я не раз убеждался, что жизненный оптимизм семидесятипятилетнего генерального конструктора был живительным источником не только для окружающих, коллег по работе, но и прежде всего для его супруги, хотя она и была вдвое моложе его.
Большая часть наших контактов выпала на период конструирования гиганта «Антея». Да и с зарубежными высокими гостями приходилось бывать не только в конструкторском бюро, но и на испытательном поле. Вспоминаю, как Раджив Ганди, приехавший в Киев вместе со своей матерью, которая как премьер-министр Индии совершала официальный визит, отказался от согласованных по линии протокольных служб мероприятий и высказал пожелание побывать на киевском авиазаводе. В тот момент в нем жил летчик, а не политик, на которого мать возлагала большие надежды. Ему мы предоставили возможность не только посмотреть, но и «испытать» одну из новых модификаций самолета. Прощаясь, он особо отметил то, что ему удалось пообщаться с «самим Антоновым».
Уроки жизни получил я и от Бориса Патона. Сотрудничать с президентом Академии наук Украины мне довелось в самых различных направлениях.
Главное, что покоряло в нем, – это неподдельность наших дружеских отношений, в которых находили свое место и шутка, и едкий анекдот, и крепкое словцо в адрес разных карьеристов, политиканов и прохвостов. Меня всегда поражало удивительное сочетание в этом человеке научного масштаба и тонкой, нежной ткани человеческих отношений. Его отец – Евгений Патон, тоже в свое время президент Академии наук Украины, – в военные годы на танковом производстве применил новый вид электросварки, благодаря чему место сварки, то есть шов, было крепче, чем сам металл, по которому осуществлялась сварка. Такое изобретение получило название «шов Патона». И вот таким «швом» Б. Патон всегда скреплял свои отношения с теми людьми, которым он доверялся.
Бахвальство претило ему. Не переносил чванства, высокомерия, несправедливости. Помню, как неоднократно он обращался с просьбой защитить того или иного ученого от доносов. А как можно забыть такой эпизод? Вплоть до горбачевской перестройки в составе Верховного Совета Украины не было ни одного еврея. И вдруг Б. Патон тут как тут. Этот недостаток, лукаво улыбаясь, заявил он республиканскому начальству, мы можем исправить за счет института электросварки, который он же возглавляет. Кандидатура? Академик Б. Медовар. Порекомендовали его для избрания. А потом сам Горбачев похвалил: молодцы, украинцы, тонко чувствуют нюансы времени.
А еще – любовь к футболу. И если в очередной раз «промазывали» игроки киевского «Динамо» Валерий Лобановский или Владимир Мунтян, я знал, что на следующий день у Академии наук, как и у меня, настроение – хуже не может быть.
Не буду много говорить об общеизвестном: ученый с мировым именем. Его изыскания в области сварки металлов, получения и обработки новых материалов, как правило, имели пионерский характер. Со своими коллегами он впервые осуществил с помощью установки «Вулкан» электронно-лучевую и плазменно-дуговую сварку и резку металлов в условиях невесомости и глубокого вакуума. И когда впервые в мировой практике была осуществлена электросварка в космосе, он мне рассказал об этом в таких тонах, как будто шел разговор о заурядном научном эксперименте.
А как не сказать о комплексных программах по научно-техническому прогрессу, которые объединяли лучшие научные силы как академической, так и отраслевой науки. И в каких мрачных тонах ни изображали бы некоторые писаки наше прошлое, нельзя без восхищения говорить об этих патоновских поисках, которые получили общегосударственное признание и одобрение.
Я до сих пор так и не могу понять, что и как должны были делать такие люди, отвечая на призывы Михаила Горбачева перенести объявленную им перестройку и на личную основу; вспомним, как он призывал перестроиться «каждого».
Никакие «застойные болячки» не могут затмить те дорогие дни и часы, которые подарил мне Юрий Гагарин. Успешный штурм космоса, сознаюсь, рождал глубокие чувства гордости за нашего соотечественника, который впервые облетел весь земной шар. Для скептиков приведу не для переубеждения, а для напоминания слова всемирно известного американского художника Рокуэлла Кента: «Юрий подарил нам небо. А многие его полет сравнили с подвигом мифического героя древности Прометея».
Меня же судьба непосредственно и лично свела с Гагариным только через пять лет после его подвига, хотя много раз я присутствовал на различных событиях с его участием – но то было общение, как говорится, «на дистанции». А произошло это весной 1966 года, когда в качестве почетного гостя он принимал участие в работе юбилейного XX съезда комсомола Украины, на котором меня избирали секретарем ЦК. Именно тогда мне посчастливилось посмотреть на героя в ситуациях чисто житейских, услышать его заразительный смех, увидеть живую гагаринскую улыбку.
Памятным стал и состоявшийся в июле 1978 года во Львове фестиваль молодежи, на который съехались представители нашей страны и Чехословакии. Почетными гостями были Юрий Гагарин и Алексей Леонов. На этом фестивале часто упоминалось имя Яна Налепки, национального героя Чехословакии, командовавшего отрядом в партизанском соединении А.Н. Сабурова. Он погиб при освобождении полесского города Овруч, посмертно получив звание Героя. А через много лет на могилу Яна Налепки приехали его мать Мария и отец Михаил. Горячая боль пронизывала сердца тех, кто стоял у могилы героя и слушал разговор матери с сыном: «Ты слышишь меня, Яно? Я это говорю, твоя мамичка. Я пришла к тебе с Татр. Я думала, что ты ушел далеко и остался одиноким на чуждой земле… Не грусти, Яно. Посмотри, сын, сколько ты нам оставил сестер и братьев наших. Это теперь твои сестры и братья. Это теперь мои дети». У меня комок в горле – не только в те далекие годы, но и сегодня, и, прежде всего, оттого, что на клочке земли, на который пали капли крови Яна Налепки и слезы его мамички, начал прорастать чертополох исторической «забывчивости» и кощунственного равнодушия к благородным свершениям человеческого духа.
На перекрестках моей судьбы встретился и Иван Стрельченко. Имя этого выдающегося шахтера гремело в те годы на всю страну. Из самых высоких знаков отличия он имел все – Герой Труда, лауреат союзной Государственной премии, член ЦК партии, депутат Верховного Совета. Но сблизил меня с ним все же не этот «наградной иконостас». Мне хочется применительно к нему употребить словосочетание «рабочая интеллигенция». И хотя мне казалось, что добрые дружеские отношения, сложившиеся между нами, раскрыли передо мной все «секреты» его внутреннего мира, один случай опроверг такое мнение. Вдруг я узнал, что этот скромный человек, много размышляющий об источниках человеческого дерзания и душевной красоты, влюбленный в гриновские «Алые паруса», является автором двух замечательных публицистических книг – «Добытчики солнечного камня» и «Зажги свою звезду». Он взялся за перо, глубоко осознавая необходимость показать молодежи, какое великое счастье зажечь среди людей свою звезду, свою зарю, какого это требует огромного и доблестного труда.
Шахтерская судьба Ивана Стрельченко расписана писателями и журналистами в различных изданиях, в моем же сердце – постоянное светлое чувство оттого, что я в числе первых, рассказавших на страницах «Нового мира» о его писательском амплуа. И еще одна примечательная деталь. По времени работа Ивана Стрельченко над книгами примерно совпала с работой над художественным воплощением той же высокой, благородной идеи в романе Олеся Гончара «Твоя заря» и сборнике стихов Бориса Олейника. Эти три человека, с которыми мне выпало великое счастье человеческого, дружеского общения на протяжении многих лет, для меня стали своеобразным синтезирующим символом, отражающим высокую духовность моей родной Украины.
Работа по созданию мемориального комплекса «Украинский государственный музей истории Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» сблизила меня с выдающимся скульптором Евгением Вучетичем. Проектирование и строительство комплекса продолжалось несколько лет. Он как руководитель авторского коллектива архитекторов и скульпторов постоянно приезжал в Киев: ни одно мало-мальски значимое рассмотрение планов строительства, эскизов, разных вариантов по утвержденным эскизам без него не обходилось. Человек четкий, даже жесткий, непоколебимый, он тем не менее всегда воздействовал на оппонента силой убеждения.
Помню, как однажды завязался спор о том, почему сюжеты композиций, посвященных войне, более выразительны и оригинальны по художественному воплощению, чем те, при помощи которых предпринимаются попытки как-то обозначить завтрашний «светлый день». «А вы знаете, – обратился он к участникам этой дискуссии, – почему даже в гениальной „Божественной комедии“ Данте первая часть по своей нравственной, духовной силе несравненно превосходит вторую?» Вопрос, разумеется, оказался неожиданным. И Вучетич начал рассуждать о том, что художнику лучше дается разработка тем о пережитом человечеством, нацией, личностью. То же, что связано с описанием будущего, всегда таит в себе опасность подтолкнуть творца на схематический путь, так как он вынужден описывать то, что является только плодом фантазии и еще не закреплено социальным, духовно-нравственным опытом людей.
Так, по мнению Вучетича, произошло и у Данте: описывая в первой части ад, писатель опирается на многовековую, реальную, пережитую историю человеческой трагедии. Но при описании рая он лишился опор исторического и нравственного опыта, ведь человечество знало о рае только из мифов и легенд. И художнику приходилось отсутствие живых корней «райского опыта» компенсировать, оторвавшись от грешной земли, за счет фантазии. Я часто возвращаюсь к этой трактовке «Божественной комедии» и каждый раз убеждаюсь, что она была поучительной не только для Вучетича и не только тогда.
Особо – об Олесе Гончаре. Рискую быть неправильно понятым, но все же скажу: из всего состава тогдашнего Политбюро ЦК КПУ только мне да А. Ляшко и Ю. Ельченко выпало счастье иметь отношения с ним не только официальные.
Секретов же между нами не было никаких. Вещи назывались своими именами. Он хорошо знал об отношении к нему основных деятелей республики. Всегда чувствовал отношение Щербицкого – когда сдержанно-отрицательное, когда нейтрально-незаинтересованное. Поэтому я всегда поражался некоторым авторам, которые пытались представить отношения между первым секретарем ЦК и Гончаром почти как трогательные. Равно как и выдумкой были утверждения американского профессора Билинского о том, что «Гончар был близким сотрудником Шелеста – даже ходили слухи, что он писал речи Шелеста». Забавно все это. Скажу не без иронии: если бы действительно Олесь Гончар писал речи для Шелеста, то они сейчас издавались бы миллионными тиражами и читались бы как художественное произведение. Но… кто-кто, но я уж точно знаю, что Гончар не писал речей не только для высокопоставленных руководителей, но часто и для себя. Просто шел на трибуну и произносил то, что подсказывало сердце. Да, вообще-то, о чем идет речь? Знаменосец украинской культуры в адвокатах не нуждается: ни по вопросам политическим, ни творческим, ни нравственным.
Разумеется, наши киевские встречи с О. Гончаром – это не застолья, которые обычно ассоциируются с понятием «близкие отношения». Вот основные параметры наших связей. Острые вопросы политической жизни. Судьба украинской культуры, особенно языка. Хамское отношение к духовной сфере многих республиканских и областных столоначальников. Оголенный нерв – экология. И конечно же, положение деятелей культуры, особенно новой генерации. Гончара волновала судьба Лины Костенко, Бориса Олейника, Владимира Яворивского. Несправедливость, проявленную к ним, он пропускал через свое сверхчувствительное, не один раз обожженное жесткой жизнью сердце, воспринимая их боль как свою собственную.
Напомню читателю, что в те годы наряду с тотальной идеологизацией духовной культуры к числу стратегических ошибок в культурной политике относился разрыв с традициями народной культуры, не «вписывавшимися» в догматизированную «официальную» идеологию, и отношение к людям как к объекту «культурного обслуживания», а не субъекту культурной самодеятельности.
Указанные деформации породили пассивно-потребительское отношение широких масс к деятельности учреждений культуры, создавали почву для возникновения «неофициальной культуры», в том числе таких ее проявлений, которые относились, в сущности, к антикультуре. Произошла бюрократизация деятельности органов и учреждений культуры, оторвавшихся от реальных культурных потребностей широких слоев населения и никак не зависящих от «спроса» снизу.
Догматические изъяны в культурной политике привели к нивелированию национальных особенностей, культурных потребностей и культурного опыта масс. Унификация содержания, организованных форм культурной жизни народов СССР породила отчужденность в отношении к «официальной» культуре значительной части людей, заслонила специфические потребности национальных культур – в частности, такие, как сохранение национальных языков, фольклора, народных ремесел, национальных памятников культуры и т. д.
Поэтому вполне объяснимо, что щемящая Гончарова рана – народное искусство Украины. Его сердце переполнялось не только благородными чувствами гордости за непревзойденные творения решетиловских вышивальщиц, кролевецких ткачих, гуцульских мастеров резьбы по дереву, чародеев петриковской росписи, неповторимые художественные создания старого Межгорья. Сотворенные умелыми руками народных мастеров украинская сорочка-вышиванка, рушник, инкрустированный гуцульский топорик, казацкая люлька, декоративная керамика Опишни, настенные рисунки – даже такие чисто бытовые вещи превращались в произведения большого искусства. И Гончар гордился этим национальным достоянием, которое передавало из поколения в поколение духовную преемственность украинского народа. Но его сердце не только радовалось, оно и болело постоянно от потрясающего равнодушия многих чиновных вельмож к этой сокровищнице народного духа.
Вот почему событие в селе Богдановка, что на Киевщине, состоявшееся 26 ноября 1977 года, стало настоящим праздником души: открывался музей-усадьба прославленной дочери Украины, народной художницы Екатерины Белокур. В торжествах приняли участие и мы с Олесем Гончаром. Когда мы приехали в Богдановку, перед нами предстала изумительная картина. Запустелая, полуразрушенная усадьба, где 7 декабря 1900 года родилась гениальная украинская художница, за очень короткий промежуток времени превратилась в оригинальный заповедник. Причем без финансовой помощи государства. Подходим к калитке и читаем на установленной стеле: «Поклонимся земле, где жила и работала Екатерина Белокур. Отсюда, с беленькой селянской хаты, вышло в большие миры творчество народной художницы, пошла к людям ее художническая поэзия… Берегите святыню!»
А в самой хате – действительно святыня: самые дорогие сокровища – художественные картины, выполненные масляными красками и карандашом, преисполненные, как заметил Олесь Гончар, «какой-то магической силы, почти фантастической красы». Эти шедевры шагнули из сельской Богдановки не только на выставки вначале в Полтаву, а чуть позже в Киев и Москву. Восхищенные оценки как от массового посетителя, так и от ревностных профессионалов Екатерина Белокур получила также в Париже, других культурных столицах мира. А осмотр ее оригинальной росписи, фантастически оформленных интерьеров в родной хате, сохранившегося мольберта, 218 самодельных кисточек, стоящих на скамейке на подрамниках загрунтованных и затонированных полотен, так и не дождавшихся прикосновения кисточки виртуозного мастера… – все это как бы вводило нас в тот конкретно осязаемый мир, в котором жила и творила Екатерина Белокур. Своеобразным экспозиционным запевом к воскресшей хате-усадьбе стали слова Олеся Гончара, мастерски выложенные ученицей гениальной художницы Галей Самарской: «Произведения Екатерины Белокур навсегда вошли в золотой фонд украинской культуры. Они из тех богатств, которые Украина вносит в сокровищницу искусства мирового».
Мы с Олесем Гончаром были не только почетными гостями этого праздника украинской национальной культуры. Нас удостоили высокой чести – первыми оставить записи в «Книге впечатлений». А районная газета воспроизвела их на своих страницах. Вот они: «Спасибо всем, кто вложил душу в создание этого чудесного музея. Вечная слава гению славной дочери украинского народа Екатерине Белокур. 26.XI.77. Олесь Гончар». «Искреннее спасибо (в моем тексте слово „щитосерд не“, которое значительно богаче русского „искренне“, но не имеет адекватного перевода. – А. К.) всем, кто приложил много усилий на увековечивание славы дочери украинского народа, выдающейся художницы и прекрасного человека Екатерине Белокур. 26.XI.77 г. А. Капто».
Мы очень переживали, что прикоснуться к животворному духовному источнику Екатерины Белокур не смог выдающийся поэт-академик, Герой Труда Микола Бажан. «Очень жаль, – писал он в телеграмме, которая тоже легла на страницы „Книги впечатлений“ и той же районной газеты, – заболел, поэтому не смог принять участие в добром деле – открытии дома-усадьбы чудесной дочери Украины, прекрасной художницы солнца, расцвета весны, бессмертной Екатерины Белокур. Вместе с Вами с любовью склоняюсь перед ее памятью, перед ее творчеством. Микола Бажан».
О Дмитрии Гнатюке мне говорить сложно по двум причинам. Во-первых, трудно найти человека в нашей как «бывшей стране», так и теперь, кто не знал бы этого с божьим даром певца и обаятельного мужчину. А во-вторых, почти двадцатилетнее с ним общение (вплоть до моего отъезда в Гавану) – это настолько цельная и органичная ткань сердечных отношений, что боюсь искусственно из нее что-то вырвать, не сказав о других, не менее значимых вещах. Но об одном эпизоде все же расскажу. Однажды Дмитрий Михайлович поведал мне о том, как он ездил в гости в родное село, что на Буковине. Цветы, горячие поцелуи, слова гордости за своего земляка – все это, как говорится, в порядке вещей, он к этому привык. Но вот у него спрашивают: «Так чем же ты, Дима, занимаешься в Киеве?» – «Как чем? – удивился он. – Пою!» – «То, что ты поешь, мы знаем, постоянно слушаем тебя по радио и по телевизору смотрим. Мы в селе тоже все поем. Но все-таки, какая же у тебя работа?» – настаивали собеседники.
И я подумал: какая же философская глубина в народной трактовке пения не как «работы», а как постоянного состояния человеческой души. И вот Дмитрий Гнатюк наиболее полно воплощал и воплощает это качество в пении, исполняя то ли народные песни, то ли оперную классику. И то, что он теперь не ездит в «зарубежные» Россию, Казахстан, Грузию и другие суверенизовавшиеся не только в политике, но и культуре республики бывшего СССР, – еще одно трагическое проявление «беловежья». Оно коснулось и его – народного артиста СССР.
Не хочу впасть в сентиментальность, но все же скажу: постоянные контакты с выдающимися деятелями науки и культуры Украины были своеобразным раскрытием все новых и новых окон в мир – мир науки, мир искусства, мир нравственности.
И еще об одном. Пикантной оказалась ситуация, когда первому секретарю республиканской писательской организации Павлу Загребельному барометр общественного мнения все больше и больше указывал на уход с этого места. В ориентирах на нового руководящего лидера писателей мнения в ЦК разделились. Щербицкий и его самое близкое окружение в лице помощников отдавали предпочтение Коротичу, я же предлагал и отстаивал кандидатуру Юрия Мушкетика. Но подчеркну при этом: и с одним, и с другим у меня сложились очень хорошие отношения.
Сам Коротич, ставший со временем шефом «Огонька», в условиях развернувшейся тогда борьбы с «партократами» заявил на страницах «своего» же издания, что мои отношения как с ним лично, так и в целом с художественной интеллигенцией в киевский период он характеризует с положительной стороны.
И все же я назвал не его кандидатуру, хотя в это время его писательский «имидж» значительно повысился ввиду двух обстоятельств. Первое – всесоюзную известность получил его острый роман-памфлет «Лицо ненависти», разоблачивший «нутро американского империализма» (по роману был создан и полнометражный фильм). Второе – по инициативе секретаря ЦК КПСС Зимянина со мной как секретарем ЦК КП Украины состоялся «зондирующий» разговор на предмет назначения Коротича главным редактором «Огонька». Кстати, это обстоятельство указывает на то, что первоначально инициатором переезда в Москву одного из будущих наиболее популярных прорабов горбачевской перестройки был все же не Александр Яковлев, которому именно за этого глашатая безбрежной гласности много досталось с разных сторон. Зимянину же я ответил положительно, тем самым дав понять, что Украина не будет за него «держаться». А перевод Коротича в Москву состоялся чуть позже уже без моего участия (я был направлен на посольскую работу) и действительно по настоянию Яковлева, благодаря которому он и стал, как сам заявил в интервью «Правде», «цепным псом перестройки».
В Москве же он не задержался. Посчитав, что досрочно выполнил «прорабскую программу», разоблачитель «нутра американского империализма» перемахнул через океан и занялся просвещением американцев по проблемам советского тоталитаризма.
Что же касается предложений на должность руководителя писательской организации, то пальму первенства все же я отдал автору тоже получившего тогда общесоюзную известность романа «Позиция», отмеченного тоже Государственной премией СССР. Мои аргументы: чисто в писательском плане, по моим представлениям, фигура Юрия Мушкетика была более фундаментальной. Особенность его характера – неконфронтационность, умение играть консолидирующую роль в сложных общественно-политических ситуациях. И еще одна деталь, причем немаловажная, – сам Юрий Мушкетик искренне не хотел надевать на себя руководящий хомут, в то время как Коротича руководящее кресло, по моим наблюдениям, манило; он чаще, чем его конкурент, бывал в цековских кабинетах, в том числе и моем. Закончилось тем, что я все же Щербицкого «победил». Слово «победил» я взял в кавычки лишь потому, что главным победителем было общественное мнение, и прежде всего писательская организация Украины.
Акварели Гитлера
Общение с интеллигенцией, как я не раз убеждался, таит в себе совершенно неожиданные сюрпризы. К ним я отношу и историю с акварелями Гитлера, которые вызывали, да и сейчас вызывают повышенный интерес мирового общественного мнения, разумеется, не из-за высокого художественного уровня, об этом говорить не приходится, а ввиду, так сказать, неординарности фигуры их автора.
Примитивные акварели, как и книга «Майн кампф» – образец словоблудия и графомании, – ярко отражают психологию тех честолюбцев, которые, стремясь к власти, удовлетворяют свои амбиции не только при помощи прямолинейных лобовых политических силовых приемов, а через те каналы, которые формируют имидж нестандартного политика. В большую политику Гитлер стремился войти не только как член секретного ордена – «тайного общества» «Туле» (о чем стало известно только в последнее время), но и при помощи «художественных творений». Ведь на обывателя это производит сильное впечатление. А профессионалы в таких случаях в оценках довольно часто «уходят в кусты», «подальше от греха».
Попали же ко мне гитлеровские «создания» при обстоятельствах, которые требуют возвратиться в грозный 1941 год. Тогда, в мае, за месяц до начала войны, талантливый украинский мастер лирического пейзажа сорокалетний Николай Глущенко, заявивший к тому времени о себе как о крупнейшем живописце (он со временем стал народным художником СССР), был командирован Союзом художников СССР в Германию в качестве сопровождающего выставку советских художников, которая экспонировалась в Берлине. Хотя в это время уже были заряжены фашистские пушки и заправлены бомбардировщики для выполнения указания Гитлера начать практическую реализацию заранее разработанной и печально известной директивы 21 – «Плана Барбаросса», выставку все же посетили крупные германские руководители.
Этот кощунственный жест был осуществлен для демонстрации «жизненности» сталинско-гитлеровского договора о «дружбе». Был там и Риббентроп. Он так «растрогался» всем увиденным, что в порыве эмоций не только подарил Николаю Глущенко альбом репродукций акварелей Гитлера, но и предложил, если советский художник того пожелает, позаботиться о том, чтобы автор поставил свой автограф. Как позже объяснил Глущенко, под предлогом «не обременять фюрера» такими встречами он вежливо отказался от предложения Риббентропа, но альбом привез с собой в Киев, на который, кстати, через месяц были сброшены первые бомбы агрессора.
Но не успел Глущенко возвратиться домой – бдительная Москва шифровкой из Берлина уже была проинформирована как о встрече Глущенко с Риббентропом, так и об альбоме с акварелями Гитлера. Узнал об этом «сам» Сталин, которому по его желанию в том же мае 1941 года этот альбом был доставлен для «просмотра». Естественно, такой поворот событий добавил Глущенко эмоций и переживаний, разумеется, не положительных. Особенно тогда, когда немецкие отборные части пересекли государственную границу нашей страны и двинулись на Восток. В таких условиях личностный контакт киевского художника с представителями гитлеровской верхушки мог быть прочитан сталинскими службистами по-разному. И он в тревоге ожидал дальнейшего развития событий, а они завершились в сентябре 1941 года, причем по тем временам совершенно неожиданно: сотрудник МГБ сам пришел к Глущенко, возвратил ему альбом, потребовав при этом соответствующую расписку.
После войны альбом хранился в личной библиотеке художника. Когда же в 80-х годах его мастерскую посетила заместитель министра культуры Украины Ольга Чернобривцева, Глущенко не только рассказал о всех перипетиях с альбомом, но и, раскрыв «секреты», показал ей репродукции акварелей. На такой шаг он пошел не в последнюю очередь и потому, что Чернобривцева пользовалась среди художественной интеллигенции хорошей репутацией, словом, он ей доверился. После же смерти художника в 1977 году его вдова М.Д. Глущенко и брат В.П. Глущенко охотно передали альбом Чернобривцевой, а та со временем – мне.
Конечно же, я предпочитаю смотреть не гитлеровские «творения», а произведения того же Глущенко, многие из которых, и прежде всего такие, как «Киев. Март», «Сад в цвету», являются вершинными достижениями лирического пейзажа. Но «встреча» с Гитлером-художником каждый раз напоминает о моем первом общении с гитлеризмом в грозном 1941 году, которое было «заочным» по отношению к фюреру, но лицом к лицу с фашистским зверьем. Это «общение» навсегда оставило ноющие зарубки на моем детском сердце.
Об этом я думаю часто. В том числе и тогда, когда смотрю альбом, полученный в Берлине от Риббентропа украинским художником Глущенко за месяц до начала великой отечественной трагедии. Акварели, написанные рукой Гитлера… Акварели, которые побывали в руках Сталина… И все это стало для меня символом кошмара, страшного сна, неземного ада.
И еще одна деталь. В 1990 году в Киевском музее КГБ была организована экспозиция художника, а в журнале «Украина» опубликована статья о Глущенко-разведчике.
В предперестроечном водовороте
Конечно, мои «номенклатурные истоки» – это по времени тот период нашей драматической истории, когда в обществе происходили довольно неоднозначные, противоречивые процессы, которые содержали в себе силы разной общественно-политической направленности, хотя это на поверхности общественного бытия не всегда отчетливо проявлялось. В самом деле в то время как бы сосуществовали в нашей жизни, казалось бы, совершенно несовместимые вещи. С одной стороны, как выразился выдающийся украинский поэт Павло Тычина, «чувство семьи единой», чем и я лично гордился, и считаю преступниками тех, кто разрушил действительно братские отношения между нашими народами и разжег очаги национальной ненависти, кровопролития, братоубийственной войны. А с другой – «завязывание» Кремлем и его республиканскими вождями все новых и новых «узлов» в национальной политике. Аналогичная ситуация складывалась и вокруг интеллигенции: с одной стороны, «единение» политической элиты с ней, а с другой – нетерпимость к инакомыслию, преследование за политические взгляды. Точно так же и по отношению к социальным наукам: призывы к «творческому» их развитию сопровождались своеобразным вколачиванием в людские головы истин «в последней инстанции».
Истины эти, как правило, провозглашались каждым новым генсеком. Формулировались же они окологенсековским окружением – его помощниками, консультантами, референтами с привлечением партийного аппарата и, как оказание высокой чести, «ведущими» обществоведами из партийных и академических научных заведений. Их формулировки воплощались в партийные программы, доклады на съездах и пленумах ЦК, в основополагающих, установочных статьях генсека. По этим теоретическим каркасам предписывалось жить как каждому отдельному советскому человеку, так и в целом всей новой «исторической общности».
Особенностью генсековского «мозгового центра» было то, что он не только вкладывал в уста лидера страны все новые и новые теоретические постулаты, но и сам обладал неписаным правом быть «первопроходцем» в пропаганде этих идей.
Истины, сформулированные, как правило, на загородных цековских дачах, наподобие радиоволн от ретранслятора, проникали во все лабиринты общественного организма, формируя партийный теоретический фронт. Но весь парадокс заключается в том, что многие «бойцы» этого фронта свое усердие по разработке проблем социализма со временем – в пору перестроечного плюрализма – сменили на еще более рьяное рвение по ниспровержению всех провозглашаемых ими же «догм». Лицемерие теоретическое слилось с лицемерием нравственным, придавая особую окраску перестроечной суете.
Такие люди вызывают особый «восторг» своей исторической выносливостью: ведь у них хватило сил не только для того, чтобы большую часть своей сознательной жизни вовсю трубить о «завершающем этапе» социализма, о «развернутом строительстве коммунизма», о социализме не только «развитом», но и «зрелом» и, наконец, о социалистическом выборе. За что и были достойно вознаграждены: высокие должности, каждая из которых становилась новой ступенькой вверх; звания, а также знаменитые премии, о которых обязательно сообщалось в печати (народ должен знать о «цвете нации»!). А для «самых-самых» и постоянное сопровождение во время «исторических» визитов в заморские и европейские страны вначале «волюнтариста» Хрущева, потом «застойного» Брежнева и, наконец, перестроечного Горбачева. Но как оказалось, у них еще остались силенки, чтобы успеть и на постперестроечный политический рынок, наконец, «раскрыть» глаза своим непросвещенным соотечественникам на то, в какой же стране они-то жили: империя, даже не царская и не римская – куда им!
Таковы некоторые штрихи политического и социального характера доперестроечной жизни. Добавлю к этому: переплетение острых политических, идеологических и особенно национальных «сюжетов» всегда являлось опасным детонатором в обществе. К наиболее острым вопросам того времени, оказывавшим мощное воздействие на общественно-политическую обстановку на Украине, отношу, прежде всего, такие: интеллигенция, диссиденты, национальные проблемы.
Как Москва боролась с «украинским буржуазным национализмом», свидетельствуют идеологические баталии, развернувшиеся еще в 1951 году на страницах центральной печати вокруг стихотворения выдающегося украинского поэта Владимира Сосюры «Люби Украину». Тогда «Правда» 2 июля поместила статью «Против идеологических извращений в литературе». И то, что она была не авторской, а «редакционной», четко указывало: статья готовилась в кабинетах на Старой площади. Начиналась она с обвинения журнала «Звезда» и его главного редактора В. Друзина за то, что редакция «проявила полную безответственность», опубликовав стихотворение В. Сосюры «Люби Украину», «являющееся в основе своей идейно порочным произведением».
«Правда» задалась вопросом: «О какой Украине идет речь, какую Украину воспевает В. Сосюра? Ту ли Украину воспевает он, которая веками стонала под эксплуататорским ярмом, скорбь и горечь которой отлились в гневных строках Тараса Шевченко?» Или в стихотворении «речь идет о новой, цветущей Советской Украине, созданной волей нашего народа, руководимого партией большевиков?». На эти вопросы «Правда» ответила сама же: «Достаточно ознакомиться со стихотворением В. Сосюры, чтобы не осталось сомнений, что, вопреки жизненной правде, он воспевает некую извечную Украину, Украину „вообще“, вне времени, вне эпохи… Его волнует извечная Украина с ее цветами, кудрявыми вербами, пташками, днепровскими волнами».
Воздав, не без иронии, автору должное за то, что он воспевает «простор вековой», «небо ее голубое», «вечные ветры», «пурпурные тучи», газета неистовствовала: «В стихотворении же В. Сосюры за внешней красивостью поэтической формы нет ни гневного осуждения подъяремных порядков прошлого, ни яркого отображения новой, социалистической жизни украинского народа, которая становится все светлее и краше». И наконец, вывод: «Под таким творчеством подпишется любой недруг украинского народа из националистического лагеря, скажем, Петлюра, Бандера и т. п.».
Возникает вопрос: для чего же понадобился такой разнузданный разнос поэтического создания Владимира Сосюры? Да и почему его «вредность» обнаружили лишь через шесть лет после первой публикации? Эта зловещая акция, как оказалось, вписывалась в разворачивающуюся очередную кампанию борьбы с «идейными перекосами», с «буржуазным национализмом». Удар наносился по Украине, а попутно «закручивались гайки» и в России. В той же «Правде» говорилось, что, опубликовав «идейно порочное» стихотворение Сосюры, «редакция журнала «Звезда» показала, что она не сделала необходимых выводов из решений ЦК ВКП(б) по идеологическим вопросам». А дальше, указав, что украинская печать «не раскритиковала порочного стихотворения, и оно многократно издавалось на Украине», «Правда» себя выдала еще больше. Оказывается, дело в том, что «приходится говорить об этом еще и потому, что ошибки допускаются не только в литературе». «Извращения в идеологической работе допущены» и в области искусства. В качестве примера названа постановка Киевским театром оперы и балета им. Т.Г. Шевченко оперы «Богдан Хмельницкий», либретто которой «содержит серьезные ошибки».
«Правда» не поскупилась на самые чудовищные обвинения в адрес всемирно известного поэта Максима Рыльского, который не только «особенно захваливал» стихотворение Владимира Сосюры, но и «сам в прошлом не избежал серьезных идеологических ошибок». Напоминала газета и о том, что «в свое время в докладе на пленуме правления Союза советских писателей Украинской ССР М. Рыльский наперекор фактам заявил, что в стихотворении В. Сосюры раскрывается тема «дружбы народов» и «интернационализма». Приговор окончательный: «Такая непринципиальная позиция неизбежно ведет к серьезным провалам в литературной работе и мешает правильному, большевистскому воспитанию творческих кадров».
История «Люби Украину» – жгучая рана в душе украинского народа, о ней никто никогда не забывал. Она и сейчас напоминает о тех травмах, которые нанесены национальному духу, национальному самосознанию Украины.
Новая волна украинского свободомыслия выпала на 1960-е и 1970 годы. По аналогии с Москвой это было названо диссидентством, что давало основание властям применять идентичные с Россией репрессивные формы его подавления. Но в Украине ситуация выглядела по-иному. В основе выступлений украинских «диссидентов» звучало законное и обоснованное требование бороться за сохранение национальной культурной самобытности народа и особенно пересмотреть языковую политику. Со временем же лозунг борьбы с языковой «русификацией» приобрел более широкое идеологическое звучание и стал отражать политическое противостояние между официальной властью и наиболее радикально настроенной частью интеллигенции, прежде всего творческой и научной.
Ощутимым ударом властей по свободомыслию стали аресты «диссидентов» в августе – сентябре 1965 года. Даже мы, журналисты (я тогда работал в молодежной печати), о причинах таких репрессивных мер узнавали лишь «кое-что», и то из зарубежных источников.
Именно из-за «бугра» своеобразной ответной волной пришла в Киев весть об осуждении 30 украинских «диссидентов». А чуть позже вопреки бдительности пограничников на Украину все же попала изданная в 1967 году в Париже книжка Черновола «Горе от ума. Портреты двадцати преступников», которая на какое-то время стала единственным источником информации об этих акциях. Единственным, да и то нелегальным, не говоря уже о том, что крайне ограниченным в количественном отношении.
Но еще более крупная акция относится к концу 1971 и началу 1972 года. И основная «заслуга» здесь принадлежит уверенно действующему тогда новому шефу КГБ Виталию Федорчуку. Доживавший последние дни своей политической карьеры на Украине Петр Шелест чувствовал, что ему Москва «наступает на пятки». В этих условиях на республиканском совещании идеологических работников он заявил, что в последнее время буржуазный национализм и сионизм (он их поставил рядом) значительно активизировались, призвал «решительно срывать зловещую маску с украинских буржуазных националистов, которые в своей антисоветской борьбе общаются с сионистскими организациями и разными контрреволюционными националистами за рубежом».
Несмотря на всю категоричность этих слов, поставленную Шелестом задачу пришлось решать не ему, а ставленнику Брежнева Щербицкому, который на первом же под его руководством Пленуме ЦК КПУ заявил о необходимости борьбы с инакомыслием. Для шефа республиканского КГБ это была своеобразная политическая директива, для практической реализации которой у него была готовность 1: списки подозреваемых составлены, «обвинительные» материалы собраны. Коллективы, где были обнаружены «национально озабоченные» личности, постоянно находились как бы под током высокого напряжения: по секретным докладным запискам КГБ решались вопросы партийности, должностного статуса и вообще работы сотрудников.
Нельзя не вспомнить и о создании украинской общественной группы содействия выполнению Хельсинкских соглашений во главе с Миколой Руденко. Об этом было объявлено 9 ноября 1976 года, то есть вскоре после того, как в мае того же года аналогичная организация во главе с физиком Юрием Орловым была создана в Москве. Как известно, замысел инициаторов этого движения сводился к тому, чтобы широко разрекламированную дипломатическую победу Брежнева, подписавшего вместе с 34 лидерами других европейских государств Заключительный акт Хельсинкской конференции 1 августа 1975 года, использовать в борьбе с ним самим же. А почва для этого была «благодатная», так как права человека продолжали оставаться ахиллесовой пятой брежневского режима, официальные декларации никак не состыковывались с жизненными реалиями. Поэтому не потребовалось много времени, чтобы движение за соблюдение прав человека приобрело определенное организационное очертание.
Лидером украинской группы содействия выполнения Хельсинкских соглашений стал Микола Руденко – человек драматической и полной противоречивых коллизий судьбы. Вступление в партию, служба в отборной кавалерийской дивизии НКВД им. Дзержинского по охране руководителей правительства и, прежде всего, Сталина, переход по собственному желанию в обычные войсковые части и служба в них в качестве политкомиссара, участие в войне против фашистской Германии и полученные в ней ранения, избрание в послевоенные годы секретарем партийной организации Союза писателей Украины – это его жизненный путь, наполненный не только плодотворными поэтическими и прозаическими творческими поисками, но и активными акциями свободомыслия в конце 50-х и на протяжении 60-х годов. Установление связей с известными правозащитниками – Андреем Сахаровым и еще не выехавшим к тому времени в США генерал-майором Петром Григоренко (диссидент Григоренко в сентябре 1964 года, как значилось в официальной формулировке, «исключен из списков офицерского состава Вооруженных Сил СССР как дискредитировавший себя, и недостойный в связи с этим звания генерала»; умер в 1987 году в Нью-Йорке; в 1993 году указом президента России восстановлен в генеральском звании) – позволило координировать действия московской и украинской групп.
Официальные власти пустили в ход испытанное оружие. Руденко 1 июля 1977 г. получил семь лет лагерей и пять лет ссылки. Такая же судьба была уготована и другим активистам движения и, прежде всего, Олексе Тихому и Юрию Литвину, жизнь которых оборвалась в лагерях в 1984 году. В целом же группы содействия Хельсинкским соглашениям были уничтожены уже в 1980 году: кто попал в места не столь отдаленные, а кто пересек границу и продолжал борьбу, сменив амплуа «диссидента» на эмигранта.
Забегая немного вперед, скажу, что Щербицкий и Федорчук потерпели моральное поражение в разрешении проблем, возникших в связи с украинской «хельсинкской группой», прежде всего потому, что они оказались неспособными прочувствовать новые тенденции в политической жизни, когда оппозиционные силы получили организационное оформление. Обстановка требовала признания политической реальности и перехода к диалогу с ними. Возобладали же традиционные репрессивно-административные методы.
Что же собой представляла украинская «хельсинкская группа»? Сам факт ее формирования из числа «лагерников» говорил о неэффективности послесталинских репрессивных процессов, и вопрос уже ставился так: или вновь инакомыслящих загонять в лагеря, или согласиться с появлением профессиональной оппозиционной группы. Особый вес имело и то обстоятельство, что Руденко, ставший лидером этой группы, представлял до недавнего времени, как писали зарубежные издания, «украинскую коммунистическую элиту». В содержательном же плане группа была неуязвима – она, опираясь на Хельсинкские соглашения, боролась за соблюдение прав человека, получая более чем достаточное количество доказательств того, что здесь «есть чем заниматься».
Установление же контактов с московскими единомышленниками Орловым и Сахаровым, о моральном и политическом облике которых в определенных интеллектуальных кругах говорить не приходится, лишало Щербицкого и Федорчука их основного оружия – обвинения оппозиционеров только в «украинском буржуазном национализме»: спектр их совместных проблем значительно шире.
Кроме того, противовесом «местничеству» и «хуторянству» стало расширение региональных рамок движения и координация действий украинских правозащитников со своими единомышленниками из ряда республик, прежде всего Литвы, Грузии и Армении. И наконец, движение получило поддержку за рубежом, причем не только в лице части украинской эмиграции, но и в правительственных структурах.
Из зарубежных источников я узнал и об аресте 17 декабря 1973 года одного из выдающихся кинорежиссеров Сергея Параджанова. Если в своей стране он имел имидж диссидентствующего режиссера и одного из руководителей Киевской киностудии им. Довженко, то цивилизованная зарубежная интеллектуальная элита высоко оценила его как за отмеченные высоким талантом кинопроизведения «Украинская рапсодия», «Цветок на камне», «Тени забытых предков» (этот фильм отмечен призом кинофестиваля Мар-де-Плята в Аргентине в 1965 году), так и за бескомпромиссную позицию против преследований интеллигенции.
Хотя Сергей Параджанов еще в 1968 г. подписал вместе со 138 деятелями культуры письмо с протестом против арестов и судов над украинскими деятелями культуры, против нарушений демократических свобод и злоупотреблений в национальном вопросе, власти длительное время не могли «найти» что-то конкретное против него. Поэтому арест через несколько лет после петиции – все это стало для общественности и неожиданным, и непонятным. Возмутилась и мировая общественность. В итальянском городе Турине был создан комитет по защите Сергея Параджанова, а в адрес советского правительства было направлено письмо, в котором большая группа деятелей культуры требовала объяснить все происшедшее и сообщить о дальнейшей его судьбе. Под текстом стояли подписи режиссеров и деятелей культуры с мировыми именами: Ф. Трюффо, А. Ресне, К.-Л. Годар, Рене Клеман, Ж. Риветти, Л. Бунюэль, Л. Малле, Ф. Феллини, Л. Висконти, Р. Росселлини, С. Леоне, М.-А. Антониони, П.-П. Пазолини, Б. Бертолуччи и др.
Кроме арестов в богатом арсенале средств борьбы с инакомыслием широко применялась практика «открытых писем», в которых после длительной кагэбистской обработки попавшие в немилость официальным властям «национально неравнодушные» интеллигенты не только «каялись» за содеянное, но и «разоблачали» инсинуации «зарубежных украинско-националистических центров». Вспоминаю, как 2 марта 1972 года в газете «Радяньска Украіна» появилось покаянное открытое письмо Зиновии Франко – внучки выдающегося украинского поэта Ивана Франко. Говорила она в нем, что в то время зарубежные радиостанции и пресса усиленно раздували «вымышленный вопрос» о преследованиях на Украине деятелей культуры, и жаловалась на то, что в «этой крикливой антисоветской шумихе» используется и ее имя, причем с рекламным дополнением «внучки выдающегося украинского поэта». «Прозрела» же она после того, как оказалась пойманной за передачу некоторых материалов, которые представляли особую ценность арестованного впоследствии бельгийского гражданина Я. Добоша.
Подчеркнув в открытом письме, что хотя она непосредственно не изготавливала различные поклепы, все же передала за границу «один из этих материалов». «В своем политическом ослеплении, – писала она, – я не заметила, что стала передавать информацию замаскированным представителям зарубежных вражеских националистических центров, связанных с разведками империалистических государств. Таким оказался Ярослав Добош, который был пойман на горячем. Это уже был путь, который мог привести к измене. На этом пути меня вовремя остановили, за что я искренне благодарна».
И, понятно, после этого – покаянные слова, признание того, для чего она понадобилась «врагам украинского народа», заверение «честным трудом искупить свою вину перед народом».
Не менее показательным стало признание своих «ошибок» Иваном Дзюбой, произведение которого «Интернационализм или русификация» могучим громом пронеслось в 1965 году не только над всеми руководящими кабинетами Киева и Москвы, но и донесло украинскому зарубежью истинную, подкрепленную цифрами, фактами, выверенную государственной статистикой картину, которая складывалась с развитием не только украинского языка, но и всей культуры в целом. Попавший за границу самиздатовский вариант его сочинения буквально взорвал общественное мнение, а на Украине он стал предметом особой заботы КГБ.
Дело дошло до ареста автора. А после довольно длительного общения с органами КГБ 9 ноября 1979 г. в «Літературній Украіні» он выступил с публичным заявлением, в котором «осудил свои националистические ошибки и отмежевался от них». «Это, – писал он, – переломный момент в моей жизни, в моей личной и общественной судьбе. Им я и датирую начало своей новой жизненной биографии». Но поскольку «зарубежные враги, прежде всего украинские буржуазные националисты», использовали в своей пропаганде в политической борьбе против советской страны его имя, Иван Дзюба выступил в печати через полтора года еще с одним заявлением, из которого я и привел цитату. На этот раз его письмо «Путь избран навсегда» поместила газета «Вести с Украины» не случайно, ведь она издавалась для зарубежья и предназначалась для тех, кто, находясь по ту сторону океана, придирчиво вчитывался в каждую весточку с Украины. «Чужие мне во всех отношениях силы, – писал Иван Дзюба, – принялись вписывать меня в свои реестры для того, чтобы потом предъявить мне свои „права“. Я в значительной степени перестал принадлежать себе и быть самим собой, ибо мою реальную сущность в глазах некоторых заслонял мифический образ, созданный мещанским поголосом и эмигрантской националистической пропагандой».
Писал он и о том, что «находясь под следствием, имел достаточно времени, чтобы обдумать положение, в котором оказался». Возникла дилемма: подтвердить «свою» репутацию, то есть порадовать «океанских врагов советского общества», оказаться «на высоте» и «оправдать их надежды» или же – «отбросить личные мотивы амбиций, самолюбования и обиды, всяческие личные неправды и душевное злопамятство, преодолеть зависимость от обывательской марки». Он избрал второй путь – «преодоления своих ошибок, выхода из многолетнего отклонения в общественном и творческом небытии; путь окончательного и бесповоротного расчета с инерцией ложных и вредных взглядов, путь утверждения тех социальных, советско-патриотических идейно-творческих позиций, который для меня органично связан со всей моей общественной и литературной жизнью раннего периода. Следовательно, этот путь я мыслю не только как свое окончательное возвращение в советское общество, но и как свое возвращение к самому себе». Со временем же, когда Украина стала независимой, произведение И. Дзюбы «Интернационализм или русификация» было признано выдающимся творением, а его автор стал академиком Национальной академии наук Украины.
Поучительной является и история с письмом Ганны Щербань, матери поэта Василия Симоненко. Но чтобы иметь полное представление о происшедшем, несколько слов о ее сыне. Родился он в 1935 году в полтавском селе Биевци. Окончив в 1957 году факультет журналистики Киевского университета, он навсегда поселился в Черкассах (его жизнь оборвалась в 29 лет).
Родина Тараса Шевченко стала не только местом плодотворной деятельности в областных газетах «Черкаська правда», «Молодь Черкащини», а также в центральной «Рабочей газете» (в качестве спецкора), но и творческим плацдармом, где проявился поэтический дар сельского парня.
Его творческий взлет выпадает на середину 50-х и начало 60-х годов, когда произошел своеобразный великий перелом в развитии украинской поэзии. Сборник поэзии Дины Костенко «Про міння землі», «Вітрила», «Мандрівки сердця», «Ніж у сонце», сборник стихов «Соняшник» Ивана Драча, первый сборник Николая Винграновского «Атомні прелюди», первый сборник Ва\силия Симоненко «Тиша і грім» и его посмертное издание «Земне тяжіння» – это своеобразный золотой дождь на ниве украинской культуры. Большинство стихов поэта-шестидесятника за их гражданскую смелость становились «захалявными», как в свое время у Тараса Шевченко, – запрещенными.
Свое гражданское кредо Василий Симоненко ярко выразил не только в поэтических созданиях, но и в дневнике, который тогда ходил только по рукам. Вот отдельные фрагменты из ««Окрайців думок», как он назвал его.
«Надо написать поэму о Герострате. Это сейчас очень актуально. Земля кишит Геростратами», – записал он 21 октября 1962 года. И еще: «Потеря мужества – это потеря человеческой порядочности, которую я ставлю превыше всего. Даже над самой жизнью. Но сколько людей – разумных и талантливых – спасали свою жизнь, поступаясь порядочностью, и, собственно, превращали ее в никому не нужное животное. Это – страшнее всего. Душа жаждет потрясения, а разум боится их».
Мозг, способный рождать мысли, не способен сделать его собственника счастливым. Поэтому Василий Симоненко и записал: «До безумия ненавижу казенную, патентованную, откормленную мудрость. Какими бы цитатами бездарности ни подпирали свой умственный потолок, он, однако, крайне низкий для нормального человека. Как простор немыслим без движения, так поэзия немыслима без мысли. Что это за простор, если в нем нельзя двигаться? Какая это поэзия, если она не мыслит? Поэзия – это прекрасная мудрость».
Василий Симоненко как-то доказывал одному из своих оппонентов: нельзя путать Мадонну, созданную художниками, и сугубо религиозную Матерь Божью. «Лицемеры в рясах, – писал он, – прекрасного Иисуса и его матерь превратили в насильников человеческой плоти и духа. Когда даже самая прекрасная легенда (а Иисуса и Деву Марию я считаю созданиями гениальными) становится средством духовного угнетения, тогда уже о „действующих лицах“ легенды я не могу судить безотносительно к тому, что делают бузуверы, прикрываясь их именами! Непорочная, пречистая дева достойна восхищения. Но, извините, не подражания. Отречение плотских радостей – противоприродное, а поэтому жестокое и реакционное».
