Читать онлайн Политические клубы и Перестройка в России. Оппозиция без диссидентства бесплатно
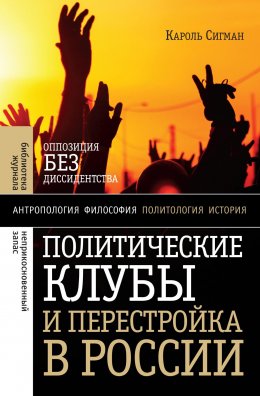
Кароль Сигман
ПОЛИТИЧЕСКИЕ КЛУБЫ И ПЕРЕСТРОЙКА В РОССИИ
Оппозиция без диссидентства
Новое литературное обозрение
Москва
2024
Carole Sigman
CLUBS POLITIQUES ET PERESTROÏKA EN RUSSIE
Subversion sans dissidence
PARIS: KARTHALA. COLLECTION «RECHERCHES INTERNATIONALES»
2009
УДК 329.735(091)47+57)"1986/1991"
ББК 63.3(2)634-4
С34
Редактор серии А. Куманьков
Предисловие М. Добри; послесловие А. Блюм
Перевод с французского А. Зайцевой
Кароль Сигман
Политические клубы и Перестройка в России: Оппозиция без диссидентства / Кароль Сигман. – 2-е изд. – М.: Новое литературное обозрение, 2024.
Развал СССР является историческим феноменом, причины которого не до конца осознаны даже двадцать лет спустя. Эта книга восстанавливает историю Перестройки через историю московских «неформальных» политических клубов – независимых от КПСС организаций, появившихся в 1986—1987 годы. Неформальные клубы оказались важными и все еще малоизвестными составляющими Перестройки. Они участвовали в формировании нового конкурентного политического пространства, возникшего с 1987 года и кардинально изменившегося в 1989 году после первых свободных выборов. В основе исследования лежат архивные фонды клубов (около тридцати организаций), многочисленные углубленные интервью с их активистами, а также неизданные материалы одного из московских райкомов КПСС, который должен был курировать деятельность этих клубов.
ISBN 978-5-4448-2376-7
Original h2: Clubs politiques et perestroïka en Russie. Subversion sans dissidence
Copyright: ©Editions Karthala, 2009
By arrangement with Words in Progress
© А. Зайцева, пер. с французского, 2014
© Д. Черногаев, дизайн обложки, 2014
© ООО «Новое литературное обозрение», 2014; 2024
Мишель Добри 1
Предисловие
Около двадцати лет прошло со времени Перестройки и больше пятнадцати лет после распада Советского Союза, ставшего одновременно и ее концом. Не вызывает сомнений тот факт, что интерес социальных наук к этому событию очень быстро заслонил собой их прежний интерес: к тому, что предшествовало распаду, – и все процессы, составлявшие Перестройку, стали рассматриваться в свете уже известного результата. Такая логика легко объяснима – мы имеем дело с распространенной в исторических интерпретациях иллюзией. Во всем мире распад СССР сразу начали описывать как очень важный политический поворот, чреватый серьезными последствиями и для разных слоев населения, политических формирований и «национальных» групп, составлявших советскую империю, и для структурирования международного пространства. В этом, по крайней мере, интерпретаторы данного события не совсем ошиблись. Сегодня мы знаем, что трансформации, происходившие на советском пространстве, соответствуют тому, что на языке социальных наук мы называем «социальной революцией»: это серия резких изменений, глубоко влияющих на многочисленные параметры социальной организации того или иного общества, а не только на его политическую сферу. Мы также знаем и другое: вопреки прогнозам аналитиков, которых Макс Вебер в свое время назвал «мини-пророками на службе у государства», международная система не скатилась к некоему «неофеодализму», универсуму «без верховной власти» или, в духе совсем иных пророчеств, к «концу истории». Тем не менее произошедшее действительно вызвало такие эффекты, которые не сводятся к утрате коммунизмом «идеологической» привлекательности (серьезные аналитики не могут не знать, что эта привлекательность сильно поблекла еще задолго до падения СССР; и кстати, это замечание также – и даже в первую очередь – относится к самому советскому обществу).
Казалось бы, такой поворот событий должен вызвать со стороны социальных наук сильнейшее стремление исследовать, понять, разъяснить – и, может быть, даже обратиться к новой проблематике. Я не стану здесь размышлять, почему эти ожидания в целом не оправдались. Вероятно, они были необоснованными, поскольку не существует необходимой связи между важностью исторического эпизода и уроком, который социальные науки способны из него извлечь. Тем не менее среди крайне приблизительных и, будем надеяться, предварительных работ есть и выдающиеся исключения, а именно исследования, авторы которых, рассматривая «произошедшее» в Советском Союзе во второй половине 1980-х годов, приходят к продуктивным концепциям, с точки зрения социальных наук далеко выходящим за рамки этого уникального исторического периода. Книга Кароль Сигман, вне всяких сомнений, принадлежит к этой категории. А ведь на первый взгляд объект и проблематика у нее самые скромные. Вместо того чтобы сосредотачиваться, как это делали многие аналитики советского «переходного периода», исключительно на играх и маневрах групп или персон в верхах «номенклатуры», Кароль Сигман предпочла исследовать зарождение, деятельность и историческую траекторию изначально малочисленного (всего в несколько сотен участников), малозаметного и не очень легитимного объединения групп, обладающего слабыми ресурсами (так, в связи с недостатком залов заседаний в первый период своего существования эти группы оказываются в сильной повседневной зависимости от доброй воли некоторых представителей различных структур официальных инстанций). Речь идет о «неформальном» движении или, точнее, о целом множестве микроорганизаций, появляющихся с 1986—1987 годов и в большинстве своем принимающих более или менее доступную, однако расплывчатую институциональную форму «клубов». Такая форма позволяла поддерживать в отношении легитимной политики, ее представителей и того, за что боролись эти клубы, некоторую долю неопределенности – что особенно подчеркивает понятие «неформальный», которое быстро станут применять к этим связанным между собой клубам. Кароль Сигман ограничивает свое исследование в основном московскими неформальными клубами. Этот выбор вполне оправдан, поскольку столичные клубы действительно предствлялись образцами для организаций, возникающих в других городах СССР, и выступали некими узловыми точками негласной координации, важными для их собственной деятельности. Автор изучает активистов таких клубов и их руководителей, а также социальные пространства, в которых им приходится действовать. Она восстанавливает последовательность разных состояний этих пространств, где изначально некоторые клубы-пионеры (вроде «Перестройки», КСИ или даже «анархистов» из движения «Община») более-менее демонстративно избирают оригинальную оппозиционную тактику, делая ставку на сговор и взаимную поддержку с отдельными сегментами КПСС, воспринимавшимися как «реформистские». Во многом именно благодаря этой тактике впоследствии складывается коллективная идентичность неформального движения, отличающая его от оппозиционных групп диссидентов предыдущего периода, которых часто критикуют за неэффективность и тактическое бездействие.
Итак, перед нами объект в момент своего зарождения микроскопический – если рассматривать его в масштабах всего советского общества, в котором стремятся действовать неформалы и которое они хотят изменить. К тому же это объект эфемерный: траектория неформального движения разворачивается на крайне недолгом отрезке времени, ведь уже в 1990—1991 годах оно растворяется в гораздо более мощном социальном подъеме, появлению и структурированию которого само же и поспособствовало. Возникновение этого общего «демократического движения» произошло, в частности, под влиянием неожиданных и глубоких трансформаций пространств политической конкуренции и быстрого устаревания прежней рутинной политической игры. По правде говоря, движение это не менее расплывчатое. В последующий период быстрая профессионализация политической деятельности, а также стабилизация правил политического соревнования, сосредоточенного прежде всего вокруг борьбы за доступ к ресурсам исполнительной власти, обрекут на отмирание последние остатки идентичности неформального движения, хотя празднования некоторых годовщин и, возможно, недоверие к той форме, которую принял режим правления в современной России, и по сей день пробуждают своего рода сообщничество и ностальгическое взаимопонимание между некоторыми бывшими членами «клубов». В силу хрупкости «неформального» движения, его чувствительности к трансформациям конъюнктур и к влиянию этих трансформаций на разные пространства и правила игры, которым подчинялись «неформалы», выбор Кароль Сигман оказался очень удачным. Через тщательную реконструкцию их исторической траектории она смогла уловить и с особенной остротой показать решающие элементы в развитии процесса, приведшего к распаду Советского Союза и к странностям «перехода» к демократии, который довелось пережить России. Тогда как бо́льшая часть других исследований, озабоченных решениями, тактиками и сговорами «крупных» акторов, эти элементы, как правило, упускали. Я еще остановлюсь подробнее на этом аспекте данного исследования; но сначала стоит все-таки подчеркнуть, что автор не смогла бы прийти к такому результату, если бы ей не удалось собрать столь замечательный во всех отношениях материал.
Ее книга построена на фундаменте впечатляющей эмпирической работы. Кароль Сигман провела глубинные интервью более чем с 60 ключевыми активистами и руководителями московских неформальных клубов (с некоторыми из них было проведено по несколько интервью). Данные интервью позволили ей реконструировать не только семейные траектории этих клубных лидеров, но и истории их вовлечения в неформальное движение и (что оказалось не менее важным для анализа) структуру социальных пространств, сетей и институций, в рамках которых они действовали. Эти интервью также придали анализу исключительную социальную глубину. Опираясь на них, автор эффективно разворачивает свою социологическую интерпретацию и аргументацию. То же самое можно сказать и о других типах материалов, использованных в книге, например о многочисленных архивных фондах, в частности (и это тоже стоит особо подчеркнуть) архивах комитетов Коммунистической партии, «ответственных за работу» с неформальными клубами, ведущих с ними переговоры, а также надзирающих за ними. Упомянем и удивительные аудиоархивы – записи, сделанные некоторыми неформалами в ходе и за кулисами знаменательного события, каковым стала Встреча-диалог в августе 1987 года. По мере чтения книги быстро становится ясной вся судьбоносность этого события для неформального движения, а также для той волны социальной мобилизации, которая затем ознаменовала собой необратимый процесс, запущенный Перестройкой. Читатель, несмотря на сдержанность элегантного и выверенного авторского стиля, с увлечением вживается в каждый момент этой истории – будь то недвусмысленные и в то же время скрытые переговоры по поводу «правил игры» между реформаторами из КПСС и неформалами; организация только что упомянутой Встречи-диалога; конкуренция между разными неформальными клубами в уличном пространстве, в частности в московском «Гайд-парке» (на Пушкинской площади); «закрытие доступа» к клубу «Перестройка» ее изначальными лидерами, борющимися против быстрой «радикализации» некоторых групп неформалов, а главное, против быстрого притока новых членов вследствие первых успешных действий движения; борьба за доступ к микрофону в ходе митинга 21 мая 1989 года на московском стадионе «Лужники», в результате которой Ельцину удается взять слово до Сахарова; или многие-многие другие эпизоды. В целом книгу можно воспринимать как прекрасную работу историка, у которой есть и основа (богатство материалов), и канва – то, что Поль Вейн называет «интригой», которая оказывается захватывающей от начала до конца.
Подобное прочтение, однако, не учитывает того, что мне представляется самым важным и интересным. Сила работы К. Сигман проистекает из артикуляции всех используемых ею материалов и их интригующего переплетения с социологической постановкой вопроса и теоретической перспективой, порывающей с привычками интерпретации, чаще всего проявляющимися при объяснении российского «переходного периода». Один из решающих элементов подхода, избранного Кароль Сигман, состоит в том, чтобы со всей серьезностью отнестись к сложности социальной организации, то есть к структурной дифференциации социальных игр и пространств – того общества, в котором возник политический проект под названием Перестройка. В период ее развертывания, а зачастую и впоследствии многие «специалисты» по СССР, и не только в Париже, не смогли или не захотели увидеть в начинании, предпринятом Горбачевым, ничего большего, чем грубый пропагандистский маневр, пускание «пыли в глаза» с целью «обмануть» западные страны и «усыпить их бдительность». Это объясняется далеко не только недостатком контактов с полевыми реалиями у этих аналитиков или возможной нехваткой у них исследовательских талантов. На самом деле они стали, наверное, первыми жертвами интерпретативной системы, в которую «искренне верили», – «теории» тоталитаризма. Не поймите неверно: я вовсе не ставлю под сомнение тот факт, что в течение XX века были идеологии, которые можно назвать (не впадая в интеллектуальную эквилибристику) «тоталитарными» (сегодня то же самое, возможно, наблюдается и с некоторыми другими идеологиями, например теми, которые, чтобы остаться в рамках политкорректности, я бы назвал не «исламистскими», а «джихадистскими»). Однако пониманию политических процессов в СССР и во всех системах советского типа долгие годы серьезно препятствовало упорное отрицание социальной дифференциации, то есть, в строгом смысле слова, дифференциации этих обществ на социальные сегменты, сферы или поля, более или менее открыто подчиняющиеся специфическим для каждого из них социальным принуждениям и логикам. Иными словами, в этих странах наблюдалось разделение на высоко институционализированные, относительно самодостаточные и более-менее автономные сектора, существовавшие вопреки всем политическим заявлениям элит коммунистических партий, равно как и вопреки концепциям коммунистических идеологов, чьи тезисы зеркально воспроизводят сторонники теорий тоталитаризма. Проще говоря, только при условии истинного понимания того, что именно разыгрывалось во множестве этих социальных пространств, – а также в рамках более-менее стабильных и легитимных отношений, конфликтов, противостояний и столкновений между различными акторами и группами, находящимися в этих дифференцированных пространствах и подчиненными (по крайней мере в рутинных ситуациях) характерным для этих пространств логикам принуждения, – социальные науки смогут постигнуть процесс Перестройки и его судьбу, распад Советского Союза, а также последовавшие за ним политические «переходы» (да и многие другие феномены, включая тот тип капитализма, который утвердился затем в России и других бывших республиках СССР). При чтении этого произведения мы, кстати, сполна осознаем, насколько такая сложность социального пространства позволила и обусловила одновременно и оригинальное политическое начинание, в которое пустились лидеры неформальных клубов, и все те процессы, в которые это начинание было втянуто и в которых оно растворилось. Можно сказать, что ловушка, которой Кароль Сигман удалось избежать, взяв критическую дистанцию по отношению к «теориям» тоталитаризма, – это этноцентризм, предполагающий, что только демократические системы способны содержать в себе эту сложность и дифференциацию.
В этой связи становится понятно, каким образом Кароль Сигман пришла к тому, чтобы подкрепить свой анализ исторической траектории неформального движения некоторыми элементами теории подвижных или, точнее, флюидных конъюнктур, которая как раз и была разработана для сложных (в указанном выше смысле) систем2. Неудивительно также, что Сигман при этом не только полностью задействовала эту теорию (как бывало во многих исследованиях процесса «перехода», осуществленного в тот же период другими системами советского типа в Восточной Европе), но и обогатила ее. Именно с этой точки зрения концентрация исследования на неформальном движении оказывается, безусловно, наиболее плодотворным методом. Я не собираюсь в этом предисловии узурпировать место автора, многословно пересказывая ее интереснейшее исследование, которое читатель сам постепенно откроет во всех деталях. Мне хотелось бы лишь коротко остановиться на двух-трех аспектах, которые делают аргументацию Кароль Сигман особенно убедительной. То, чем «было» неформальное движение, – его «социальное существо», его политические ориентации и выборы, принятые им решения, его внутреннее структурирование, его самоопределение и его идентичность в целом, – на протяжении всей его краткой истории формировалось под влиянием резких трансформаций конъюнктур, в которых его участники должны были действовать и ориентироваться. Иными словами, речь идет о меняющихся состояниях «структур» социального пространства советского общества – прежде всего, под влиянием тактической деятельности (а еще точнее, конкурирующих мобилизаций) множества акторов, преследующих самые разные цели в социальных пространствах, которые сильно раличались между собой в начале изучаемого периода. Сдвиги в идентичности неформальных клубов, прекрасно показанные Кароль Сигман, сопутствовали приведению во флюидное состояние всего политического пространства, а также множественной десекторизации социального пространства, которая, в частности, стерла границы между политическими играми внутри Коммунистической партии (известно, что в этом постепенном стирании границ появление «неформальных клубов» внутри самой партии сыграло не последнюю роль)3 и сломала институциональные ритмы, характерные для партии и обеспечивавшие ее гегемонию (с лета 1989 года съезд КПСС решили проводить на два месяца раньше, и это было сделано отчасти под влиянием мобилизации «партийных клубов», а также партийных «консерваторов»). Эта же перспектива позволила автору понять, как складывался политический проект неформалов и, в частности, как они конструировали его под влиянием сговора с реформаторами внутри партии: фундаментом или, если угодно, условием возможности этого процесса была секторизация, дифференциация между разными социальными играми, абсолютная вера в то, что решающее место политики находится непременно в пределах партийных структур. Неформалы будут пребывать в этой уверенности еще некоторое время после распада прежних смыслов политической игры, когда уже сполна начали ощущаться мощные и очевидные эффекты десекторизации. Здесь налицо классическая форма запаздывающего восприятия (или гистерезиса в восприятии), причем это касается не только неформалов. Читателю достаточно обратиться к анализируемым Кароль Сигман позициям, отстаиваемым разными течениями в КПСС накануне XXVIII съезда (в том числе, позициям многих руководителей «Демократической платформы», коллективно вышедших из партии лишь во время съезда, – как бы некоторые из них ни рационализировали этот момент в своих ретроспективных интерпретациях).
При этом автор как бы ненароком элегантно опрокидывает некоторые догмы записных методологов, и по сей день еще пытающихся противопоставлять теоретические перспективы и разработки макро- и микросоциологического уровней. Это противопоставление столь же глупо, сколь и непродуктивно: характеристики, наблюдаемые и теоретизируемые на макросоциологическом «уровне», имеют последствия и должны находит место в наблюдениях на других «уровнях», в частности там, где исследователь сталкивается с идентичностями, действиями и судьбами индивидуальных акторов. В этом и состоит один из интереснейших моментов в анализе процесса «радикализации» неформального движения, предложенном Кароль Сигман. В центре этого анализа находится один важнейший элемент: небольшие хронологические разрывы в «вовлечении» людей в мобилизацию, в коллективное действие могут постепенно – как раз в силу трансформирующихся конъюнктур и пространств игры, из которых эти конъюнктуры состоят, – оказывать глубокое влияние на позиционирование акторов. В анализируемом случае процесс «радикализируется» вследствие вступления в игру акторов, которые в первое время выдерживали по меньшей мере «выжидательную» позицию (кстати, зачастую внутри самой КПСС), а потом вступили в конкурентную борьбу с неформалами-пионерами, обличая их как более «умеренных», поскольку те изначально развивали свою оппозиционную деятельность, избегая прямого противостояния с компартией. На протяжении всего своего труда Кароль Сигман показывает, каким образом эти краткие разрывы во времени вовлечения акторов в коллективное действие, во многом влияющие на то, как будут разворачиваться их, скажем так, «карьеры» в период кризиса, станут одним из факторов, сформировавших как структуру игры, которая привела СССР к распаду, так и более или менее стабилизированное политическое поле, появившееся затем в России.
Все вышесказанное означает, что ни идеологии и воззрения одних и других, ни тем более какая бы то ни было социальная или психологическая предрасположенность к «радикализму» или «умеренности» вовсе не являлись ключевым элементом или фактором этого процесса «радикализации». Иными словами, до начала этого процесса не было никакого сообщества «умеренных», противостоящих сообществу «радикалов» – а это, надо отметить, ставит под вопрос некоторые постулаты классической транзитологии4. Вопреки эссенциализму, пронизывающему эти постулаты, как «умеренные», так и «радикалы» в гораздо большей степени являлись продуктами процессов, анализируемых Кароль Сигман, нежели некими «свойствами» данных индивидов. Автор, таким образом, убедительно демонстрирует непреднамеренный характер всех анализируемых ею процессов (и здесь опять ее дистанцирование с классической транзитологией оказывается более чем продуктивным). Причем это касается не только Горбачева, но и всех остальных политических акторов: никому из них – ни «неформалам» первой и второй волны, ни акторам «большой политики» – не удавалось контролировать игру, последствия и эффекты своих собственных решений и действий с того момента, как политическое пространство пришло в состояние флюидности.
На самом деле нам стоит опасаться не только героической иллюзии, присутствующей в классической транзитологии, но и – возможно, в не меньшей, а то и в большей степени – нашей склонности ретроспективно предсказывать уже известные последующие события. Ведь сегодня мы прекрасно знаем «победителей», тех, кому по истечении изучаемого периода «удалось» утвердить новую систему господства и чьи характеристики приводят в замешательство многих комментаторов. Понятно, что эти «победители» не были в массе своей ни «неформалами» из «первой когорты», ни активистами из «второй» (хотя те зачастую и «работали на» политическое предприятие, выстроенное вокруг Бориса Ельцина). Из аргументации автора становится понятно: успех этого предприятия и появление этого странного «харизматического лидера», а также то, как быстро Ельцин получил влияние на акторов, многие из которых с трудом себя с ним идентифицировали, были обусловлены прежде всего именно хаотической последовательностью критических ситуаций и конъюнктур, от которой и пострадало «неформальное» движение. Вот почему я хочу упомянуть здесь последний момент, который выходит далеко за рамки периода, изученного Кароль Сигман, но который ее работа позволяет высветить. Он касается еще одного варианта транзитологии. Легко поддаться соблазну объяснять весьма специфические характеристики молодой российской «демократии» путинского образца, прибегая к уклончивому и неясному термину path dependence (зависимость от пройденного пути). Почему бы и нет? A priori ничего ужасного в таком повороте нет, в частности потому, что этот довольно отдаленный результат процессов, анализируемых в данной книге, целиком и полностью есть продукт истории, и нет никаких причин отрицать, что в получении такого результата прошлое так или иначе «сыграло роль». Однако привычные объяснения, скрывающиеся за термином path dependence, по крайней мере когда они касаются критических процессов вроде тех, что обсуждаются здесь, становятся крайне шаткими в том числе из-за того, какое именно «прошлое» опознается как «значимое». Это происходит, в частности, вследствие забвения или незнания того, что эти процессы, в силу своей собственной динамики, оторвались от того, что их породило, от условий их генезиса, от своей этиологии. Именно это и делает бесполезными все попытки «объяснить» особенности политической системы путинской России не только советским прошлым российского общества, но и культурными чертами «исторической России» или «русской души», которые, как принято считать, предрасполагают это общество к авторитаризму. Одна из больших заслуг работы Кароль Сигман состоит также в том, что на примере современной России она дает нам понять (хотя это и не является ее основной целью) всю тщетность культуралистских «объяснений», даже хитро замаскированных под авторитетную на первый взгляд форму path dependence.
ВВЕДЕНИЕ
Наша книга посвящена Перестройке – периоду кардинальных перемен, сотрясавших СССР в 1986—1991 годах. Ее цель – показать, каким образом расшатывалась и затем рухнула советская система, причем сделать это через призму истории «неформальных» политических клубов, ставших значимыми акторами этого распада.
Такие клубы появились в 1986—1987 годах вне официальных организаций (коммунистической партии Советского Союза – КПСС, комсомола, профсоюзов и проч.), поэтому они и получили название «неформальных»5 или «самодеятельных». Движение, порожденное неформальными клубами, – объект непрозрачный и сложный для изучения. Тому есть три объяснения.
Во-первых, объект этот многоликий и подвижный. За кажущимся сходством форм (клубы) скрывается крайне разнородное множество: мы обнаруживаем здесь и «инициативные клубы и группы», и «клубы избирателей», и «партийные клубы», и «народные фронты», и «движения». У этих организаций разное содержание, они используют разные стратегии и формы мобилизации и очень быстро меняются.
Во-вторых, этот объект имеет несколько измерений. Политические клубы – мелкие и в то же время важные акторы. Мелкие – по своему масштабу и месту в политическом пространстве, поскольку возникли они не в центре, а на периферии и «из низов» этого пространства. Важные – потому что уже с начала Перестройки они стали одним из самых ощутимых признаков социальных изменений, инициированных «реформаторами» из коммунистической партии. К ним со всей серьезностью относятся политические лидеры в верхах, они в центре внимания СМИ, и в конце концов они становятся одним из ярчайших символов той эпохи. Прежде всего, неформальные клубы служили свидетельством трансформаций политической системы, ее расшатывания, а потом и распада. Но вместе с тем они были действующими лицами этой трансформации, внося активный вклад в формирование нового, состязательного политического пространства, которое сложилось к 1987 году6.
И наконец, изучаемый объект не вписывается в те категории, на которые обычно разделяют акторов Перестройки в классических концепциях переходного периода: в последних главными игроками изменений считаются либо элиты, либо, наоборот, массовые движения. Неформальные же клубы не являются ни эманациями политической элиты, ни массовым движением, однако это не помешало им сыграть важнейшую роль в политических трансформациях. На самом деле они представляют собой оригинальную форму оппозиции, которая ведет себя иначе, чем классическая оппозиция.
Вся трудность при работе с таким многозначным, подвижным и неоднородным объектом состоит в том, чтобы рассматривать его с адекватного ему фокусного расстояния, не преувеличивая и не преуменьшая его важность и масштабы.
В исследованиях о Перестройке и переходном периоде в России неформальные политические клубы часто растворяются в более широких категориях (молодежных движениях, гражданском обществе) или же вовсе не принимаются во внимание как слишком малозначительные элементы в общем процессе разложения политической системы.
Быстротечность истории неформального движения (1987—1989) также не способствовала росту интереса к нему, и часто его попросту низводили до роли предвестника «демократического движения», которое последовало за ним в 1989—1990 годах, приняв уже более традиционную форму оппозиции.
С 1986—1987 годов были созданы тысячи клубов в самых разных сферах (культурной, научной, спортивной, музыкальной, образовательной, религиозной и т.д.), политические организации среди них почти незаметны. Первые советские комментаторы связывали эти клубы с активностью молодежи. Возможно, отчасти это объясняется спецификой употребления термина «неформал», возвращенного в обиход перестроечными журналистами. Этот термин возник двумя-тремя десятилетиями раньше и обозначал одновременно и клубы (самодеятельные) любителей театра, поэзии и кинематографа, создаваемые молодежью в 1950—1960-х годах, и группы подростков 1960—1970-х, чье поведение считалось более-менее девиантным и даже делинквентным. Что интересно, одна из самых первых статей о клубах, опубликованная в очень уважаемом социологическом журнале, подписана именем офицера Министерства внутренних дел7. Использование слова «неформал» позволяет возвести генезис этих нарождающихся групп скорее к истории неполитических практик, объединяющих часть молодежи (пусть даже и девиантной), нежели к движениям оппозиции, таким как диссидентство 1960—1970-х годов. И кстати, с самого начала Перестройки слово «неформал» довольно быстро теряет всякую негативную коннотацию в глазах властей: неформальные клубы имеют возможность легализоваться, зарегистрировавшись в рамках той или иной организации, ответственной за работу с молодежью (Дворцов и Домов культуры, внешкольных учреждений досуга, образовательных учреждений). Сфера компетенции этих организаций объективирует и закрепляет, таким образом, «молодежное» определение неформального движения. Этим, возможно, и объясняется то, что первым научным исследованиям оказалось крайне трудно дистанцироваться от официальных категорий, в которые были вписаны политические клубы.
С 1989—1990 годов неформальное движение определяется уже как феномен, затрагивающий все общество в целом, вне зависимости от возраста участников. Его рассматривают как зародыш «гражданского общества»8. Скорее всего, такое изменение общественного значения, придаваемого неформальному движению, связано с его морфологической трансформацией: в декабре 1987 года «Правда» насчитала в СССР 30 000 клубов, а в 1989 году – уже в два раза больше; с 1990 года говорится о сотнях тысяч организаций, в которых задействовано от 2—2,5 млн до 5 млн человек.
Теперь внутри общего движения «политизированные» клубы начинают выделять в особую категорию. Их считают (в 1990 году таковых было, по одним оценкам, 3000, а по другим – 6000) и вносят в публикуемые каталоги, где они классифицированы по идеологическому профилю. Именно эти политические клубы изучают теперь как форпост и символ неформального движения. Некоторые авторы даже утверждают, что главное свойство этих «неформальных клубов третей волны» – их политический характер9. Им посвящены три серьезных труда10 общим тиражом до 145 000 экземпляров, что дает адекватное представление о том, какую важность придавало этому вопросу реформистское крыло партии.
Мысль о том, что неформальное движение – это зародыш гражданского общества, присутствует во всех российских и западных работах 1990-х годов. В лучших традициях школы, работающей с «тоталитарной теорией», С. Фиш делает акцент на оппозиции государство – гражданское общество: по его мнению, как только в режимах советского типа появляется гражданское общество, оно неминуемо перерастает в политическую оппозицию. А советскому государству свойственны «стремление монополизировать власть, нетерпимость ко всему, что проявляет независимость и бросает ему вызов, принципиальная неспособность или отказ разделять власть и авторитет»11. Все эти черты, утверждает автор, оставались в силе во время Перестройки, что доказывало «фундаментальную и структурную неспособность государства к реформированию»12. Каковы бы ни были внутренние линии разлома в государстве, оно, по словам Фиша, всегда демонстрировало нерушимую сплоченность против гражданского общества13.
По мнению других авторов, перерождение этого «политизированного» общества в политическую оппозицию вызвано внутренними разногласиями и непоследовательностью власти, а вовсе не слаженностью и солидарностью между разными составляющими этой власти. Изначально клубы были вне политики, но потом им волей-неволей пришлось встать в радикальную оппозицию из-за неуклюжести партийных реформаторов, которые не соизволили оказать им поддержку, и из-за враждебности аппаратчиков, которые «подрывали» реформы и провоцировали конфликты с неформалами14. И хотя в данном случае превращение неформального движения в оппозицию не рассматривается как неизбежность, его главным объяснительным фактором остается враждебность консерваторов. Однако мы покажем, что конфликт между партийными консерваторами и неформальными группами был не столь однозначным и что формированию оппозиционного движения способствовало скорее растущее влияние радикального крыла партийных реформаторов. И кстати, нет никаких неоспоримых свидетельств о том, что с 1987 года неполитические неформальные группы стали вдруг политическими. Похоже, в этот момент акторы, изначально намеревавшиеся заниматься политикой, просто использовали единственно возможную форму осуществления подобной деятельности – то есть форму «неформального клуба».
Анализируя неформальное движение в терминах дихотомии «общество vs государство», многие авторы в результате сделали объектом своих исследований организации, избравшие путь прямой оппозиции режиму (тогда как подобные группы были довольно маргинальны в 1987—1988 годах), и даже приписывали движению этого периода характеристики, которые определили его лишь позже, в 1989—1990 годах, когда оно переросло в открытую оппозицию и стало называться «демократическим». Вот в то время оно уже использовало узнаваемый оппозиционный репертуар: массовые митинги, предвыборные кампании против компартии, формирование оппозиционных партий, «антикоммунистическое» самоопределение. Неформальное движение оказалось поглощено своим преемником, которого стали рассматривать как его логическое завершение. Такой телеологический подход порождает некоторую нечувствительность к изменениям в политическом пространстве, к быстро меняющемуся контексту, в котором развивались отношения между действующими лицами и в котором формировались их представления о том, что возможно, а что нет.
Если первые публикации едва упоминали о самом существовании политических клубов и растворяли их в более широких категориях, то в исследованиях 1990-х годов, напротив, их возводили в ранг знаковых представителей этих категорий и всячески демонстрировали, что гражданскому обществу, едва оно появилось на свет, ничего другого не оставалось, как кристаллизоваться в форме оппозиционного движения. Отказываясь изучать политические клубы в качестве особого явления, авторы закрывали глаза на то, что неформалы и сами представлялись, и воспринимались извне как выразители позиций гражданского общества перед лицом политической власти, используя неопределенность своего статуса для легитимации своего места в политическом пространстве. Такая неопределенность – один из элементов их идентичности.
Неформальные клубы остались вне внимания тех авторов, которые элитам15 отводят важнейшую роль в политических и экономических изменениях, перевернувших СССР и Россию в 1980—1990-х годах. Таковы, к примеру, в остальном очень интересные исследования Джерри Хафа и Арчи Брауна16 или труды авторов, причисляющих себя к транзитологам. По мнению последних, если не считать переворотов, осуществляемых «низовыми революциями», все процессы перехода – результат внутренних договоренностей и решений элит. Конечно, они признают важность «сил гражданского общества», но отводят им, как правило, лишь ограниченную роль, особенно если речь идет об этапе, предшествующем самому переходу.
Дж. Хаф, который не принадлежит к школе транзитологии, анализируя определяющие факторы изменений, тоже не рассматривает «низовых» акторов – потому что они не действовали в форме массового движения, способного свергнуть власть. Опираясь на исследования Крэйна Бринтона17, он утверждает, что «успешные революции характеризуются, прежде всего, потерей элитами веры в себя»18. Объясняя распад советского государства, он называет три фактора:
– Исторически сложившиеся предпосылки. С одной стороны, речь идет (как этому учит теория модернизации) о глубокой трансформации социального устройства общества в связи с урбанизацией и общим повышением уровня образования, в результате которой в 1980-х годах на авансцену выходит поколение хорошо образованных, амбициозных людей, испытывающих фрустрации из-за нехватки социальной мобильности. С другой стороны, к середине 1980-х государство вот уже несколько десятилетий пересекают множественные линии разлома: между доминирующими отраслями (тяжелая промышленность) и всеми остальными19; между разными поколениями бюрократии; между Москвой и провинцией.
– Интеллектуальные ориентиры и воззрения Горбачева, который отверг китайскую модель и с 1987—1988 годов склоняется к экономической реформе, напоминающей то, что позднее будет названо «шоковой терапией». По мнению Хафа, Горбачев также уверен, что «центральные» аппараты (партия и министерства) настроены против этой реформы. Поэтому вместо того чтобы опираться на существующие институты, он, по всей видимости, делал ставку на их расформирование, которое должно было стать возможным по мере продвижения реформ. Такая ориентация приводит к тому, что руководители принимают решения, не позволяющие государству противостоять собственному разрушению; именно эти решения косвенным образом и вызывают «революцию».
– Рациональный расчет руководителей властных аппаратов, в какой-то момент понявших, что, проявляя непослушание, они уже ничем не рискуют, но могут многое выиграть благодаря приватизации20.
В своем объяснении условий и последствий «революции» в России 1980—1990-х годов Хаф перекрещивает разные уровни и темпоральности анализа. Тем не менее ему, вероятно, не хватает переходных звеньев между социальными предпосылками, возникающими в 1960-х, ориентациями Горбачева на заре Перестройки и восприятием и реакциями элит, которые проявляются только в 1989—1990 годах. Не стоит думать, будто все воззрения Горбачева целиком сложились в начальный период Перестройки и что они не менялись впоследствии. Остается непроясненным ни собственно влияние контекста, ни то, каким образом головокружительные трансформации политического пространства с 1986 по 1991 год затронули всю систему в целом. А что, если такие акторы, как неформальные политические клубы, появившиеся лишь в Перестройку и игравшие второстепенную роль, смогли подорвать систему изнутри и способствовали ее делегитимации? А может быть, не покажется безумным предположение, что акторы, занимающие аналогичную позицию в других общественных сферах, совершали точно такую же подрывную работу и что общий распад системы был вызван этими нападениями с разных сторон?21 Не стоит ли для понимания происходящего переместить фокус внимания на взаимодействие акторов, занимающих позиции на разных уровнях политического пространства? Ограничивая анализ элитами и традиционными институциональными акторами, невозможно постичь этот процесс. И так ли уж важно знать, кто же все-таки, наверху или внизу, явился самым важным фактором распада системы? Один из наиболее любопытных аспектов – то, что происходит на границах институтов власти, то, каким образом последние теряют свою внутреннюю целостность и как некоторые акторы на их периферии становятся серьезными игроками в борьбе за власть в верхах. Хотя неформалы и не совершили «низовой революции», они ускорили процесс разложения партии и системы в целом.
Вторая причина, по которой некоторые исследователи не принимают во внимание значение неформальных клубов, состоит в том, что последние не вписываются во временны́е рамки, считающиеся релевантными. Многие работы, вдохновляющиеся транзитологией, берут в качестве отправной точки «демократизации» проведение первых свободных выборов (founding elections), которые определяются как «первые многопартийные выборы на состязательной основе, имевшие место после длительного периода авторитарного режима»22. Неформальные клубы появились до первых выборов, поэтому их часто игнорируют. Зато в центре неустанного внимания транзитологов всегда остается демократическое движение: его представляют как великого победителя на выборах народных депутатов РСФСР в марте 1990 года, ему ставят в заслугу победу Бориса Ельцина на президентских выборах в России в июне 1991 года.
Нормативный подход, принятый в транзитологии, заставляет усомниться в обоснованности априорной периодизации процессов перехода, которая руководствуется критериями, применимыми ко всем странам, – такая периодизация, как мы видим, накладывает серьезные ограничения на поле наблюдения и на выбор объекта исследования. Сомнения вызывает также понятие «основополагающие выборы», да и сама идея отправной точки перехода. В транзитологическом подходе этот момент требуется определить для того, чтобы понять, о каком типе перехода идет речь, и потом, при помощи сравнений, судить об «успехе» или «провале» того или иного пути развития. Телеологическое видение, лежащее в основе этой объяснительной модели, критиковали многие исследователи23, и такая критика тем более полезна, что труды по транзитологии легко применимы вне академического контекста, например для установления классификации стран по признаку их демократической «эффективности»24.
Если началом перехода считать «основополагающие выборы», то, применяя этот принцип к СССР, придется, как ни парадоксально, частично или полностью исключить из «перехода» саму Перестройку, поскольку она соответствует лишь фазе «либерализации»25.
Первые относительно свободные выборы относятся к 1989 году (Съезд народных депутатов СССР); однако, по мнению большинства транзитологов, они недостойны статуса «основополагающих выборов». Дж. Линц и А. Степан полагают, что эти выборы нельзя считать вполне свободными, поскольку часть депутатских мест была закреплена за КПСС и подконтрольными ей общественными организациями, процедура отбора кандидатов позволила партии избавиться от многих конкурентов и выборы эти проходили в отсутствие многопартийной системы26. Без особых на то доказательств Линц и Степан называют выборы 1990 года в российский парламент (Съезд народных депутатов) более «важными» (может, потому, что они были более состязательными, хотя официально КПСС оставалась монопольной партией). Затем некоторые наблюдатели пришли к мысли, что «основополагающие выборы» произошли в декабре 1993 года (выборы в Государственную Думу после роспуска и расстрела российского парламента по приказу президента Ельцина)27. Макфол уточняет, что две предыдущие попытки перехода (Перестройка и первая Российская республика 1991—1993 годов) провалились, поскольку обе они закончились жестокими столкновениями между претендентами на власть, а не «договором» или по крайней мере «новым сводом правил политического соревнования»28. Таким образом, то или иное событие (например, выборы) считается достойным статуса «отправной точки» перехода только в том случае, если оно приводит к заранее известному желаемому результату (установлению договора). Изучая российскую историю с такими установками, возможно, придется откладывать эту «отправную точку» до бесконечности.
Некоторые авторы, критикующие транзитологию, считают, что выборы 1989 года – предшествующие распаду СССР – все-таки знаменуют начало демократизации и что они стали «важнейшей точкой перелома», ибо впервые вызвали всеобщий энтузиазм и дали возможность избирателям отвергнуть кандидатов от партии29. Эти критики утверждают, что о важности выборов следует судить не только по достигнутым ими результатам, но и по тому значению, которое они обретают в момент своего проведения. Не менее важными отправными точками считались также политические события другого рода: августовский путч 1991 года, распад СССР в декабре 1991 года, XIX партконференция летом 1988-го, на которой были заданы важные политические ориентиры30.
Правомерно задаться вопросом: а не является ли сам поиск отправной точки перехода (точно так же, как и его завершения) тщетным и наивным занятием? Ведь на самом деле процессы распада и переструктурирования политического пространства происходят параллельно. И с чего тогда начинать анализ? Есть ли определенная точка перехода между «авторитарным режимом» и «началом демократизации»? По мудрому замечанию В. Банса, в Восточной Европе граница между авторитарным прошлым и либерализированным настоящим крайне размыта31. Х. Виарда, в свою очередь, напоминает, что главные социальные изменения в Испании имели место до смерти Франко, которая дала лишь последний «легкий толчок»32 к падению режима. Хотя предшествовавшие Перестройке социальные и политические изменения не столь заметны, как в случае Испании, невозможно объяснить политику либерализации, начатую Горбачевым, не вспомнив о периоде хрущевской оттепели – хотя бы уже потому, что она сама в разных формах напоминает о себе: восстанавливается взаимная поддержка между реформистским крылом партии и некоторыми секторами Академии наук, Горбачев боится, что его постигнет участь Хрущева, поколение оттепели обладает значительным интеллектуальным влиянием во время Перестройки, в частности на поколение тридцатилетних, которые и организуют неформальные клубы.
Можно также добавить, что определяющую роль в структурировании политического пространства России сыграли не столько «основополагающие выборы», сколько последовавшие одни за другими выборы 1989-го и 1990 годов (вне зависимости от степени их состязательности) – ведь в обоих случаях ставки были очень высоки. И не очень понятно, почему частично состязательные выборы 1989 года были неспособны привести к тем же результатам (появлению организаций и структурированию политической повестки дня), что и какие-нибудь более состязательные выборы. Почему «основополагающие выборы», в силу самого своего значения, следует считать самыми решающими из всех в определении правил политической игры, и почему только они способны породить path dependence?
Один из важнейших тезисов, который мы постараемся развить в этой работе, состоит в том, что если считать электоральный процесс единственным фактором, объясняющим формирование политического пространства, то другие сцены, на которых происходит соревнование, окажутся в забвении. То есть нормативная модель демократизации, предложенная транзитологами, не дает понять, что в 1989—1990 годах партийные структуры становятся столь же важной ареной соревнования, что и избирательное пространство.
Одним из существенных недостатков всего огромного корпуса литературы по переходному периоду в целом и по неформальным политическим клубам в частности является его относительное невнимание к разнообразным социальным характеристикам акторов. Лишь немногие исследования рассматривают политическую биографию этих людей, их семейную историю, социальное происхождение и профессиональную карьеру. Большинство лидеров московских политических клубов происходят из привилегированных слоев, у их семей наблюдается вертикальная мобильность при советском режиме, но при этом многие из них познали тяготы репрессий в сталинские времена. Какое влияние оказало семейное прошлое на политическую социализацию акторов? Как мы увидим далее, из биографического измерения можно извлечь полезную информацию для исследования. И не следует забывать, что эти люди, как все вместе, так и каждый в отдельности, обладают историей, и их социализация начинается задолго до момента Перестройки и переходного периода. Это измерение очень важно для того, чтобы понять, какой тип демократии возник в то время.
Некоторые авторы, вследствие своего относительного безразличия к социальному бытию акторов, используют преувеличенно однородные категории, не лишенные двусмысленности («маргинальная интеллигенция», «низовые» акторы), для идентификации неформалов в социальном и политическом пространстве. Мысль о том, что для неформалов характерны те или иные формы социальной маргинальности, часто проскальзывает уже в первых исследованиях по этой теме33 и, в неявном виде, в работах, сфокусированных на элитах. Но на основании каких признаков они считаются маргиналами? Потому, что они в самом низу социальной лестницы; потому, что они еще не вступили в трудовую жизнь (в силу своей молодости); потому, что они принадлежат к социальным группам с нисходящей траекторией (негативно окрашенное деклассирование) – или же потому, что они отказались прогибаться под систему и были вытеснены из официальной сферы (позитивно коннотированное деклассирование)? С одной стороны, все эти формы маргинальности имеют совершенно разное значение как для всего общества в целом, так и в рамках неформального движения. С другой стороны, едва ли маргинальность является общим признаком деятелей неформальных клубов (по крайней мере московских политических клубов): многие из них далеко не подростки, не маргиналы и не являются деклассированными элементами, и лишь у немногих из них пролетарское происхождение.
Мало кто из исследователей обратил внимание на важнейшее изменение в социальном составе неформального движения начиная со второй половины 1988 года34. А. Арато отмечает, что в ходе мобилизаций 1989—1990 годов в связи с выборами в движение приходят люди с иными характеристиками, нежели у его пионеров:
Люди, боявшиеся участвовать в независимых движениях, чья легальность всегда была под сомнением (особенно в Советском Союзе), и те, кто, вероятно, желал «загребать жар чужими руками», впервые смогли вовлечься в однозначно легальную и вместе с тем «нерискованную» предвыборную деятельность35.
И наконец, избрав в качестве объекта исследования коллективного актора, который не принадлежит к когорте «принимающих решения», мы можем усомниться в адекватности подхода, сфокусированного исключительно на принятии решений и применяемого некоторыми авторами в отношении действующих лиц переходного периода. Транзитология в центр процесса ставит акторов и их выбор, хотя при этом и уточняется, что этот выбор не всегда рационален, учитывая высокую степень неопределенности, которая присуща таким историческим моментам. Предполагается, что на основе подобного стратегического выбора должны формироваться правила игры36. Поэтому акторы, которых принято считать значительными, вроде бы обладают властью определять процесс своими решениями.
Но что именно анализируют, говоря о решениях: процесс принятия решения, намерение, которое ему предшествовало, или его результаты? Стоит напомнить, что «великие исторические события (то есть, по мнению транзитологов, точки бифуркации в траекториях перехода) есть результат множества решений акторов, которые тоже, в свою очередь, множественны», и что к тому же эти решения могут привести к непреднамеренным результатам37. Если судить по тому, как часто в литературе указывают на «ошибки» Горбачева, складывается впечатление, что анализируются скорее результаты решений, нежели процесс их принятия. И многие склонны забывать об ограничениях, которые накладываются институциональными структурами и правилами игры: в соответствии с транзитологическим подходом в контексте неопределенности, свойственном периодам перехода, выбор решения в меньшей степени детерминирован ограничениями, с которыми считаются в «обычной» ситуации, а то даже и вовсе свободен от них38. Если же вместо актора, который всегда на виду в силу того, что принимает важнейшие решения, мы станем исследовать менее бросающегося в глаза коллективного актора, такого как неформальное движение, быстро проникающее в разные места политического соревнования, то это позволит нам понять, как именно вырисовывается и как меняется топология политического пространства. Благодаря своей тактической подвижности, это движение тоже участвовало в структурировании данного пространства.
Если сосредотачиваться исключительно на решениях, есть также риск упустить из поля зрения работу по категоризации, осуществляемую акторами в отношении самого понятия «решение». Акторы трактуют как результат принятых решений некоторые знаки, которые на самом деле не обязательно таковыми являются (неформалы, к примеру, убеждены, что их первая всесоюзная конференция в августе 1987 года была разрешена в высших эшелонах власти). Эти неявные знаки обладают таким же эффектом, как решения: от догадок акторы быстро переходят к убежденности, и пусть кому надо, тот и опровергает эту интерпретацию (что отнюдь не всегда возможно). В иных случаях акторы характеризуют отстаиваемые ими позиции по тому или иному вопросу как решения, тогда как на самом деле те являются лишь угрозами, и именно так, по всей видимости, другие акторы должны их понимать. «Демократическая платформа» – объединение неформальных партийных клубов (или партклубов), которое на самом деле является первой внутрипартийной фракцией, – выходит из КПСС в июле 1990 года. Шестью месяцами раньше ею было объявлено об этом намерении, однако ошибочно считать, что она окончательно приняла это решение уже тогда; в январе 1990 года речь шла лишь об угрозе с целью получить доступ к власти. Если не замечать разницу между угрозой и решением, мы не поймем стратегию, принятую «Демократической платформой» ради того, чтобы реформистское крыло партии уступило ее требованиям.
Непрерывные изменения политического пространства
Политическое пространство, появляющееся в 1987 году, состоит из двух полей, или арен, состязания. «Легитимное» поле состоит из официальных организаций: партия, комсомол, организации в других социальных сферах (академические институты, газеты, творческие союзы39 и т.д.). Новые политические организации: неформальные клубы, «националистические» или «патриотические» группы, «необольшевистские» или «сталинистские» организации, – лишенные официального статуса, образуют «нелегитимное» поле. Но эти поля находятся в процессе постоянного изменения, трансформирующем отношения между ними, да и самих акторов, которые их составляют; границы между этими полями становятся все более размытыми, проницаемыми. Ритуальное упоминание категории «политического поля», рассматриваемого как обездвиженный объект, ни в коем случае не должно подменять настоящий анализ его вызревания и сотрясающих его перемен. Сформированное таким образом политическое пространство за изучаемый период (1987—1991) прошло через несколько стадий развития, или конъюнктур40.
Неформалы меняются, их «социальное бытие» трансформируется под влиянием конъюнктур, которые они к тому же сами меняют своими мобилизациями. Поэтому очень важно принять реляционный подход к осмыслению неформального движения и избегать эссенциалистской его интерпретации. Одна из опасностей, поджидающих исследователя, кроется в самоопределениях акторов. Какими бы интересными эти самоопределения ни были, они не всегда дают ключ к пониманию происходящего. Неформалы определяют себя то через тактическое противопоставление диссидентам, то через оппозицию националистам («Память») и коммунистам-консерваторам («сталинистам», «большевикам»). В другие моменты им приходится определять себя по отношению к КПСС. Содержание движения тоже меняется: со временем его наполняют несколько когорт с разным политическим прошлым и габитусом, они вводят разные и меняющиеся формы самоорганизации (неформальные дискуссионные клубы, партклубы, клубы избирателей и т.д.). Меняется и сама структура движения: в Москве оно увеличивается с нескольких сотен до нескольких сотен тысяч участников. С 1989—1990 годов движение называет себя «демократическим», и это изменение названия отражает трансформацию его стратегии и его социальной реальности. Если изначально движение стремилось к сотрудничеству с партийными реформаторами, то теперь оно определяет себя через открытую оппозицию по отношению к партии, включая Горбачева, и примыкает к радикальному крылу реформаторов-аппаратчиков. Смысл политического «радикализма» тоже меняется: в 1987—1988 годах он был уделом маргинальной группы, определяющей себя в качестве наследников диссидентства, а с 1989—1990 годов становится сердцевиной идентичности демократического движения; «радикализм» отстаивают самые разные акторы, включая «аппаратчиков» и новобранцев движения. Эти изменения, через которые проходит движение, в конце концов приведут к размыванию его изначальной идентичности.
Партия тоже трансформируется: она перестает представлять себя единой (каковой, скорее всего, она никогда и не была), отныне внутри нее открыто проявляется политическая конкуренция; она теряет монополию на политическую репрезентацию, и некоторые сегменты партии добьются фиксации этих изменений в Конституции.
Однако один устойчивый элемент оставил глубокий отпечаток на социальной идентичности неформалов – вопреки трансформациям, которым они и партия подвергались. Речь идет об отношениях, выстроенных ими с некоторыми акторами, занимающими властные позиции в официальных организациях. В первое время неформалы вступают в отношения взаимной поддержки с партийными реформаторами. Они поддерживают реформы и в обмен на это получают признание и доступ к ресурсам. Речь, разумеется, не идет о сговоре между равными: данное отношение асимметрично, поскольку реформаторы обладают более значительными ресурсами и занимают доминирующую позицию. Но это и не клиентелистские отношения, поскольку в них есть элемент конфликта. Неформалы по большому счету являются оппозиционерами, хотят изменить систему, и некоторые надеются сделать это с помощью тактического сговора с реформистским крылом власти. Тем не менее подобные взаимодействия делают их уязвимыми по отношению к некоторым акторам политического пространства. Поэтому они должны постоянно демонстрировать независимость, непокорность своим союзникам. Таким образом, они не выказывают той лояльности, которой вправе ожидать патрон от своего клиента. Для клиентелистских отношений требуется некая минимальная стабильность в ожиданиях и в поведении обеих сторон. Здесь же содержание отношений и их смысл становятся предметом почти непрерывных переговоров.
С 1989—1990 годов неформалы, ставшие «демократами», примыкают к «радикальным реформаторам» из аппарата (Ельцину, Афанасьеву и др.), которые откололись от «умеренных реформаторов» (Горбачев). Отношение остается асимметричным, но в силу специфической конфигурации политического пространства неформалы-демократы теперь гораздо менее независимы от новых союзников, их поле для маневра сужается. И наконец, за изучаемый период иерархические отношения между двумя сторонами ни разу не переворачиваются, несмотря на то, что они развиваются на фоне распада системы и что идентичность и позиции акторов меняются. «Аппаратчики» все время остаются в доминирующей позиции.
Процесс мобилизаций и распада системы, начинающийся в СССР в ходе Перестройки, разворачивается одновременно на многочисленных аренах. Это явление объясняется множественными линиями разлома, которые пересекают государство и партию. Этот процесс невозможно понять, если всерьез принимать версию о том, что СССР до Перестройки являлся тоталитарной системой. Как же тогда некоторые неформальные клубы смогли появиться и развиваться внутри самой этой системы? И даже если не идентифицировать тоталитаризм как идею организации или социальной реальности, а свести его к идеологической ориентации господствующей элиты, к политическому видению, которым проникнута большая часть политического режима, этот тезис все равно не выдерживает критики. Те, с кем неформалы контактируют, не «тоталитарны», поскольку они уже не верят в систему. Действующие лица, трансформировавшие систему, вышли из самой сердцевины КПСС и разных ее аппаратов. «Ревизионисты», противостоящие «тоталитарной школе», прекрасно показали, что соперничающие группы интересов существовали уже давно, что между противоположными тенденциями внутри различных институтов шла борьба41, что в лоне государства развивались разные сети влияния и критика системы, которые воздействовали на разные властные инстанции42. В свою очередь, официальные институты, потерявшие свою автономию по отношению к партии, постепенно «изъяли у государства некоторые сферы его полномочий» и создали «зоны микроавтономии», которые, не бросая открытого вызова системе, исподволь подтачивали ее43. Советская система испытывала внутренние трансформации задолго до 1980-х годов.
Но во время Перестройки появляется новый феномен: мобилизации затрагивают одновременно несколько разных сфер деятельности и оказывают отныне глубокое влияние на эти сферы и их взаимоотношения. Институты изменяют свое функционирование и свое место в игре, некоторые (например, партия) распадаются. Прежние ориентиры, которыми акторы пользовались для позиционирования и самоопределения, теряют свою состоятельность. И даже правила игры, сформированные в ранний период Перестройки (например, между неформалами и их партнерами внутри партии), переворачиваются самим ходом событий. Тем не менее ничто не позволяет утверждать, что советская система была обречена на крах и что она должна была распасться именно таким образом. В считанные месяцы Горбачев и Ельцин полностью меняются как акторы, меняется и поле для маневра каждого из них. То, что казалось возможным в начале 1990 года, уже невозможно шесть месяцев спустя, потому что отношения между центром и республиками, между партией и советами уже не те. И, по всей видимости, все это произошло за очень короткий отрезок времени; когда политическое пространство неожиданно стало местом всеобщего яростного соревнования, система прекратила существование в прежнем виде, потеряв тот минимум координации, на котором была основана. История клубов и их трансформаций дает нам представление о разных состояниях политического поля между 1987 и 1991 годами.
Таким образом, можно выделить три основные исторические конфигурации, или конъюнктуры. В первой (1987—1988) система ослабляет свое давление и функционирует несколько иначе, чем прежде. Внутрипартийная борьба заставляет реформаторов искать внешней помощи против консерваторов. Они мобилизуют творческую интеллигенцию (журналистов, деятелей искусств, ученых) и ищут народной поддержки; в порядке эксперимента они позволяют развиваться неформальным политическим клубам, которые соглашаются играть роль «низовой поддержки». Неформалам и реформаторам КПСС эта игра в сговор представляется выгодной. Однако, как мы уже сказали, клубы претендуют на реальную политическую роль; они отказываются быть в подчинении у реформаторов и требуют новых полномочий, пытаются создать прецеденты, втиснуться в зазоры системы, расширить пространство для своего действия, несмотря на то что у них нет на это особого разрешения. Они занимаются подрывной работой и ведут двойную игру с реформаторами.
Ситуация начала Перестройки уникальна: никто точно не знает, каковы правила игры, но акторы с обеих сторон – и с официальной, и с неформальной – пытаются избежать воспроизводства схемы «чистого» конфликта, которая действовала в отношениях между властью и диссидентами в предыдущие десятилетия (эта контрмодель служит для них, кстати, одним из основных ориентиров). Неформалы не имеют точного представления о том, как далеко они могут зайти, и тестируют границы возможного в отношениях с властью; партийные реформаторы не знают точно, когда и как их остановить; защитники клубов (в частности, представители академического истеблишмента) тоже не знают, как далеко может и должна заходить их поддержка. Все стороны наблюдают, интерпретируют, угадывают стратегии друг друга. Для стабилизации этих отношений вводятся некоторые правила, но им никто и никогда полностью не следует.
Во второй конфигурации (1989—1990) соревнование становится всеобщим. Появляется множество арен соревнования в политическом пространстве, что приводит к полному распаду изначальной игры. Этот процесс запущен длительной избирательной кампанией 1989—1990 годов. Наступает период очень высокой флюидности, когда рушатся прежние нормы и ориентиры44. Внутри партии отношения власти теряют объективность: составляющие ее комитеты становятся автономными и вступают в конкуренцию; политическая иерархия больше не действует на акторов (так, главный соперник Генерального секретаря не является членом Политбюро). Партия теряет свое главенство, советы составляют ей конкуренцию. Властная иерархия пошатнулась также в результате борьбы между центром и республиками, как в советах, так и внутри партии. Границы между акторами рушатся: разные комитеты КПСС стремятся присоединить к себе неформальные партклубы; некоторые руководители аппарата становятся их членами. Речь идет уже не о простой оппозиции между консерваторами и реформаторами: оба лагеря сами, в свою очередь, распадаются на части. Акторам все сложнее понимать ставки борьбы за власть и локализовывать властные инстанции. Поэтому, чтобы оценить свои способности к действию и оказанию влияния, а также понять позиции других участников игры, им приходится действовать методом все более многочисленных проб и ошибок.
Рассеивание фронтов борьбы напрямую повлияло на неформальное движение. Последнее разворачивается на избирательной и на партийной аренах. Первые неформалы сталкиваются с конкуренцией внутри собственного движения – со стороны вновь пришедших. Они уже не могут отстаивать право на наименование «клуб», поскольку появляются другие типы клубов (клубы избирателей, партклубы). Идентичность «неформала» оказывается даже дискредитирована, и они в конце концов с ней расстаются. Новые игроки примыкают к «радикальным» реформаторам из КПСС, которые пускаются в создание оппозиции. Лидерам первых клубов приходится терпеть неожиданное вторжение на политическую арену этих крупных фигур оппозиции из среды аппаратчиков; теперь им приходится постоянно с ними пересекаться, чтобы политически выжить. От логики сотрудничества с реформаторским лагерем движение переходит к логике противостояния власти. В этой трансформации первые неформалы уже не знают, какую идентичность им отстаивать и какое место занять в своем собственном движении и в общем политическом пространстве.
Третья конфигурация, после выборов в марте 1990 года в российский парламент, также отмечена флюидностью, но теперь появляются некоторые элементы структурирования. Становится понятно, что избирательное поле получает главенство над всеми остальными: политические игры все более организуются вокруг предвыборных кампаний. К тому же противостояние между центром и республиками становится принципиальным и способствует прояснению игры. Эти точки отсчета во многом задают направление трансформации движения. Например, ему теперь приходится самоопределяться как «российское».
Эти исторические ситуации, в которых акторы постоянно вынуждены изменять свои позиции, сговоры и идентичности в связи с очень быстрым изменением конфигураций, позволяют выявить стратегическое измерение коллективного действия и то, как акторы действуют и мобилизуют свои ресурсы. Они приобрели габитусы, «на основании которых порождается, в соответствии с искусством изобретения, аналогичным музыкальному письму, бесконечное множество конкретных схем [поведения], напрямую применимых в конкретных ситуациях»45. Благодаря своей пластичности, габитусы в небывалых прежде обстоятельствах способны порождать «новое». Вчерашние оппозиционеры, вроде некоторых неформальных лидеров, вдруг втягиваются в отношения сговора с одной из фракций власти, зная, что тем самым рискуют своей репутацией (но именно благодаря своей репутации оппозиционеров они и могут попытать счастья в такой двусмысленной игре). Приобретенные диспозиции не исключают наличия у акторов расчета, который влияет на их позиционирование. Этот расчет производится под внешним давлением и в отсутствие исчерпывающей информации; он определяется позицией, занимаемой акторами во властных и соревновательных отношениях, а также тем, что они представляют собой в социальном плане. Таким образом, речь не идет ни о механическом результате работы однородного и неизменного габитуса, ни о рациональном расчете.
Полевое исследование и используемые материалы
В своей работе мы применяем метод перекрестного анализа исторических конфигураций политического пространства, стратегий «политических предприятий»46 и биографических траекторий, которые выкристаллизовались в клубах Перестройки. В анализ включены две временные шкалы: с одной стороны, мы рассматриваем группу индивидов на большом временном промежутке (семейные биографии начиная с революции 1917 года и индивидуальные биографии на протяжении двадцати лет), с другой стороны – ряд политических организаций, существовавших в короткий исторический период (1986—1991). Для объяснения форм мобилизации и стратегий неформального движения необходимо принять во внимание обе эти шкалы.
Наша работа не претендует на всеохватный анализ неформального политического движения в СССР. Мы рассмотрим в ней около тридцати московских организаций. Десяток из них появился в 1987—1988 годах, а еще двадцать были созданы со второй половины 1988-го. Все они поддерживают друг с другом отношения в 1986—1991 годах. По некоторым данным, в Москве в 1987—1988 годах существовало около сотни политических организаций, а в 1989—1990-м – от 160 до 20047.
Москва как поле для исследования представляет двойной интерес. Столица традиционно рассматривалась властью как место политических экспериментов, которое легче контролировать, и неформальное движение стало одним из (последних) таких опытов. Сами неформалы это прекрасно осознавали: именно по этой причине ленинградцы, решив создать один из самых первых дискуссионных клубов («Перестройка»), приехали в Москву, а уже затем, пользуясь этим прецедентом, основали аналогичный клуб в своем городе, где городской комитет КПСС находился под контролем консерваторов. Выбор Москвы позволяет также оценить способность неформалов к сближению с центральной властью, ибо в этом и состояла их цель.
Объектом исследования выступает скорее сеть клубов, нежели ряд организаций, выбранных по отдельности в соответствии с предзаданными критериями (размер, тип структуры, тип коллективных действий, выдвинутое политическое самоопределение и т.д.). Речь идет одновременно о сети взаимодействий, взаимозависимостей и о мире конкурентной борьбы. Анализируемые клубы организовывали собрания или участвовали в собраниях, которые считаются вехами в истории неформального движения, благодаря чему сыграли основополагающую роль в формировании и репрезентации движения. Они не только были признаны партийными реформаторами как достойные переговорщики, но им еще и удалось занять место в «большой политике».
Клубы выбирались в зависимости от их известности (упоминания в исследованиях по неформальному движению и в прессе) и от интенсивности их отношений с официальными структурами (партией, академическими институтами, комсомолом). Особое внимание мы обращали на тех, кто стремился к установлению отношений сотрудничества с партийными реформаторами, и в меньшей степени интересовались другими, относительно маргинализированными группами движения, которые следовали логике открытой оппозиции, перенятой у диссидентов. Таким образом, наш взгляд на движение отчасти зависит от того, откуда мы его наблюдаем.
В 1987—1988 годах три клуба выделяются своими тесными отношениями с официальными организациями: «Перестройка», «Клуб социальных инициатив» (КСИ) и «Община». Они пользуются административными ресурсами (помещениями, доступом к прессе и др.) и пытаются координировать деятельность других клубов. «Перестройка» (в 1988 году ставшая «Демократической Перестройкой») занимает особое место, поскольку это единственный клуб, располагавший помещениями в престижных академических институтах и в этой связи привлекавший на свои заседания большую часть членов других клубов. Вокруг этих центральных клубов вращается несколько групп: «Федерация социалистических общественных клубов» (ФСОК), общество «Мемориал», «Гражданское достоинство» (ГД), «Перестройка-88», семинар «Демократия и гуманизм», «Всесоюзный социально-политический клуб» (ВСПК), «Московский народный фронт» (МНФ) и «Демократический союз» (ДС).
В течение второго периода (1989—1991) политических организаций в Москве становится вдвое больше и их формы меняются. Этот подъем определяют следующие факторы: 1) две судьбоносные избирательные кампании 1989 и 1990 годов (в делегаты Съезда народных депутатов СССР, а затем в республиканские, городские и районные советы), в ходе которых появляются клубы избирателей; 2) растущая фрагментация КПСС, которая способствует появлению внутри нее все большего количества неформальных клубов (партклубов); 3) принятая в марте 1990 года поправка к Конституции СССР, позволяющая создавать партии48; 4) либерализация прессы, позволившая неформалам приняться за создание своих «официальных» газет. Двадцать организаций, созданных в этот период, включены в наше исследование:
– организации, активно действующие на арене выборов: «Клуб избирателей Академии наук СССР» (КИАН), «Московское объединение избирателей» (МОИ), включающее около тридцати районных клубов избирателей, избирательный блок «Демократическая Россия», движение «Демократическая Россия»;
– партклубы: «Межклубная партийная группа» (МПГ), московский партийный клуб «Коммунисты за Перестройку» (МПК), «Межклубная партийная организация» (МПО), «Демократическая платформа в КПСС»;
– оргкомитеты партий и партийных организаций: «Социал-демократическая ассоциация» (СДА), «Социал-демократическая партия России» (СДПР), «Московский комитет новых социалистов» (МКНС), «Союз конституционных демократов» (СКД), «Конфедерация анархо-синдикалистов» (КАС), Республиканская партия Российской Федерации (РПРФ), Демократическая партия России (ДПР), Российское христианско-демократическое движение (РХДД), «Христианско-демократический союз» (ХДС), Конституционно-демократическая партия – партия Народной свободы (КДП—ПНС), Партия конституционных демократов (ПКД), «Демократическое движение коммунистов» (ДДК), Народная партия «Свободная Россия» (НПСР);
– пресса и информационные агентства: «Век XX и мир» (официальный журнал Советского комитета защиты мира, «колонизированный» неформалами), М-БИО (Московское бюро информационного обмена), «Панорама», «PostFactum» и «Коммерсантъ».
Мы не включили в нашу выборку экологические группы неформального движения. Мы также не рассматриваем ни отношения между неформальными клубами разных советских республик, ни их позиции по федеральному вопросу, хотя все это, безусловно, сыграло важную роль в процессе распада режима.
В биографических траекториях нас интересует в первую очередь то, кем были неформалы, прежде чем прийти в движение, как они вовлеклись в эти клубы и какой путь проделали внутри движения. Учитывая различные стадии социальной мобильности, выявленные в СССР, мы посчитали нужным поднять семейную историю начиная с революции, чтобы лучше идентифицировать этих людей социально и понять истоки их политической социализации.
При составлении выборки мы не принимали во внимание последующие траектории индивидов в 1990—2000-х годах, что позволило нам избежать ретроспективного определения мира неформалов. Тем не менее в конце книги мы приводим некоторые данные об их политическом и профессиональном становлении после Перестройки.
Биографический анализ помог нам выявить две группы людей, отличающихся по тому, когда и каким образом они пришли в движение. Первые неформалы создают клубы или вступают в них с 1986 по 1988 год; чаще всего они принадлежат к уже существующим дружеским сетям, связанным с академической или диссидентской средой. Вторые приходят в движение со второй половины 1988 года, рекрутируясь через митинги и демонстрации, и не связаны с существовавшими ранее сетями. Один из вопросов, которые встают в связи с наличием двух когорт, столь сильно различающихся по своему набору, состоит в том, можно ли объяснить таким образом радикализацию неформального движения.
Мы попытались обнаружить здесь некоторый поколенческий эффект49 или некую неизменную сердцевину движения, сложившуюся на основе общности опыта и жизненных ситуаций участников50. Возрастная структура выборки изученных нами неформальных лидеров действительно демонстрирует, что поколенческое ядро составляют родившиеся с 1948 по 1964 год; их особенно много в первой когорте (см. таблицу 1).
Мы выявили около 160 клубных лидеров (см. таблицу 2), которые обеспечивали функции руководства, организации и представительства. Мы собрали биографические данные о 87 активистах, с 65 из них мы провели интервью.
Стоит подчеркнуть, что все цифры, приводимые в этой книге, призваны лишь продемонстрировать некоторые тенденции и, учитывая малые размеры выборки, не имеют большого статистического смысла.
Выборка охватывает разные типы клубов неравномерно (см. таблицу 3). Члены двух центральных клубов («Перестройка» и КСИ) составляют половину выборки в первой когорте. Во второй волне вступления в движение было опрошено больше членов клубов избирателей, чем участников партийных клубов. Тем не менее мы смогли дополнить информацию о последних материалами идеологического отдела Севастопольского райкома Москвы по поводу «Московского партийного клуба» (МПК) (см. таблицу 3).
Таблица 1
Структура выборки по году рождения и когорте вступления в движение
Таблица 2
Распределение выборки по когортам вступления в движение
Мы включали в анализ некоторых неформалов из других городов – в том случае, если они сыграли важную роль в московском демократическом движении 1989—1990 годов (как, например, в случае с ленинградскими депутатами). И наконец, мы не включили в выборку «партаппаратчиков» и представителей академического истеблишмента (Б. Ельцина, Ю. Афанасьева, Г. Попова, А. Собчака, А. Сахарова), с которыми вступали в сговор «рядовые» неформалы и демократы.
Таблица 3
Структура выборки по неформальным группам
Бо́льшая часть интервью была проведена вскоре после разгона Съезда народных депутатов России президентом Ельциным в октябре 1993 года и в ходе президентских выборов 1996 года. Это два переломных момента в политической карьере бывших неформалов (в частности, российских депутатов, которые оказались на противостоящей Ельцину стороне, то есть в лагере проигравших, а также тех, кто не были переизбраны в Госдуму несмотря на то, что примкнули к президентскому лагерю). Некоторые ретроспективно склонялись к острой критике своей собственной роли в процессе, приведшем Ельцина к власти.
Использованные материалы включают архивы неформальных клубов и Коммунистической партии. Если архивы клубов подробно изучены многими исследователями, то архивы партии оказались забыты. Эта работа уникальна, в том числе, и потому, что мы использовали архивы самых низовых уровней в иерархии КПСС (в частности, архивы заведующего идеологическим отделом Севастопольского райкома Юрия Чабанова). Ведь именно на этом уровне просматриваются непосредственные отношения партии с неформальными клубами. Одна из характеристик клубных лидеров состоит в том, что у них нет доступа к верхам партийной иерархии. Их контактные лица – либо служащие райкомов, либо члены первичных партийных организаций двух академических институтов или Советской социологической ассоциации. Тем не менее эти посредники вовсе не являются простым «передаточным звеном», они ведут свою собственную игру. Поэтому данный уровень необходим для понимания ситуации, в которой находились неформалы. Проявив интерес к низам иерархии, мы, однако, не смогли уделить достаточного внимания архивам высших инстанций (Московского городского комитета партии и ЦК КПСС); это один из недостатков нашего исследования. Более общие работы по Перестройке, вроде тех, что мы уже цитировали (Дж. Хафа и А. Брауна), а также мемуары М. Горбачева, А. Яковлева и их близких соратников представляют для нас ценные источники, позволяющие понять процессы, происходившие в верхах, хотя они и не затрагивают напрямую тему неформальных клубов.
Архивы и устные источники дают нам дополнительную информацию о предмете исследования. До Всесоюзной конференции неформальных клубов в Москве в августе 1987 года (Информационная встреча-диалог «Общественные инициативы в Перестройке») не обнаруживается почти никаких письменных упоминаний о политических клубах, тогда как первые из них появились еще осенью 1986 года. Поэтому данная встреча существенно повлияла на формы репрезентации движения. Едва начав публиковаться, неформалы предназначают свои тексты – помимо, разумеется, самих сторонников движения – партии: они знают, что та за ними наблюдает, и даже поддерживают непосредственные отношения с теми, кто наблюдает. В этой связи каждый документ следует интерпретировать на двух уровнях. Так что не стоит удивляться тому, что источники, относящиеся к центральным клубам, никоим образом не упоминают о сложных переговорах с партией (письменные и устные партийные источники отчасти восполняют этот пробел).
В течение последних лет в России наблюдается некоторое возрождение интереса к Перестройке, в 1990-х отодвинутой на второй план. Некоторые исследователи усматривают в путинской политической системе, которую считают закрытой (особенно со второго путинского срока, 2004—2008), аналогии с брежневским «застоем». И хотя эти аналогии спорны, некоторые исследователи заново задаются вопросом: а что же позволило «открыть» советскую систему в середине 1980-х годов?
Прежде чем перейти к рассмотрению генезиса московского неформального политического движения, мы представим индивидуальные и семейные траектории тех, кто станут его главными лидерами. Во второй части мы проанализируем появление и изменения движения 1987—1988 годов, а также отношения сговора, которые устанавливаются между неформалами и партийными реформаторами. В третьей части мы покажем глубокие трансформации, которые претерпело неформальное движение с 1989 года, его постепенный распад и перерастание в демократическое движение. В качестве эпилога мы представим основные пути биографической реконверсии главных акторов движения после 1990 года.
Первая часть
ИЗ КОГО СОСТОИТ НЕФОРМАЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ? ЛОГИКИ И ТЕМПОРАЛЬНОСТИ ВОВЛЕЧЕНИЯ
Неформальное политическое движение – феномен, характерный для определенного политического поколения. Большинству лидеров московских клубов в 1987 году было около тридцати лет51. Каким же образом можно определить положение этого поколения или, если вспомнить термин Карла Маннгейма, этого «поколенческого союза», который в момент Перестройки, пользуясь возможностями, открытыми находящимися у власти реформаторами, решил испытать себя в новых типах деятельности (в политике, предпринимательстве, искусстве)? Под поколенческим союзом К. Маннгейм понимает всех индивидов (которых нельзя свести к той или иной конкретной группе), которые принадлежат к соседним возрастным когортам и занимают «схожую позицию в социальном пространстве»52: они участвуют в одних и тех же общественных и интеллектуальных движениях, и это способствует формированию у них «особого рода опыта и мыслей, особых способов воздействия на исторический процесс»53. Поколенческая ситуация руководителей политических клубов, их позиция в социальном пространстве и общий опыт, пережитый ими до Перестройки, дают нам ключи к пониманию мотивов их вовлечения в деятельность на общественно-политической сцене в момент ослабления советского режима. Общностью политического прошлого можно также объяснить формы их коллективного действия, их стратегии по отношению к власти и специфические способы самоопределения, к которым они склонны. Активизм руководителей клубов в период Перестройки вдохновлен как их собственным опытом, так и опытом предшествующих политических поколений, которые предоставляют своего рода модели (или контрмодели), присваиваемые или трансформируемые ими при создании нового типа мобилизации.
Поколенческий союз, по мнению Маннгейма, – это вовсе не монолит; он состоит из разных поколенческих единиц, то есть групп, которые «различаются по способу освоения опыта» и типу социализации. Эти единицы по-разному структурированы и по-разному воспринимают реальность. В Пруссии начала XIX века «романтическо-консервативная» молодежь совершенно четко отличается своей политической чувствительностью от молодежи «либерально-рациональной». В случае, который нас здесь интересует, в одном и том же движении участвуют две разные поколенческие единицы. Они отличаются своим политическим прошлым: первая состоит из людей, которые уже были оппозиционерами в 1970-х годах, вращались в средах, критично настроенных по отношению к советскому режиму; во второй же ничего подобного не наблюдается. Две эти группы соответствуют разным волнам вступления в движение: первая приходит с 1986-го до начала 1988 года, вторая – лишь с середины 1988-го. Момент прихода в движение отмечен существенными различиями в социализации, которые позволяют понять характер биографических траекторий членов обеих когорт. Эти различия в политическом и профессиональном прошлом – один из факторов, объясняющих сущностные изменения в развитии неформального движения (и самой его природы), которые оно претерпело с прибытием второй когорты. Разумеется, изменения в движении объясняются также и эффектами конъюнктуры, то есть быстро меняющимся состоянием политической игры. Вторая когорта, прибывшая год или полтора года спустя после первой, сталкивается уже с иным контекстом взаимодействия с представителями власти, ведь властная структура сама претерпевала тогда мощные трансформации. Как отмечает Н. Уитьер, сосуществование следующих одна за другой когорт вовлечения, имеющих разное восприятие реальности, – достаточно частое явление в социальных движениях. Их коагуляция, иногда сопровождающаяся борьбой, создает новую коллективную идентичность54. Мы выделили две группы, вступившие в движение, поскольку считаем, что их внутренние характеристики и различия особым образом обусловили саму историю неформального движения.
В анализе траекторий первой когорты мы взяли за точку отсчета центральное ядро, сформированное поколением рожденных с 1948 по 1964 год, и рассмотрели его позицию в качестве политического, биологического и демографического поколения. Первые неформалы приходят на смену двум мощным политическим поколениям, которые оказали на них сильное интеллектуальное влияние: людям хрущевской оттепели, или шестидесятникам, и диссидентам. Пионеры неформальных клубов осознают свою преемственность по отношению к двум этим поколениям: некоторые из них в свое время посещали протестные мероприятия и места, созданные их предшественниками, и в неформальном движении обнаруживаются следы этой социализации. Но судя по всему, у них еще до Перестройки появилось смутное ощущение своей инаковости, и они попытались установить с властью иной тип отношений, нежели их предшественники. В своих семьях неформалы центрального ядра движения являются третьим биологическим поколением со времени революции. Их бабушки-дедушки и родители прошли через периоды интенсивной социальной мобильности, восходящей или нисходящей: первые – в 1920—1930-х годах, вторые – в 1950-х. Большинство этих неформалов происходят из привилегированных социальных групп, получили образование в престижных вузах и, как правило, успешно начали профессиональную карьеру. Так что они в совершенстве владели правилами социальной интеграции. Однако многие из них уже в лоне семьи были приучены к критическому взгляду на официальный дискурс, и это предрасположило их к поиску сред политического инакомыслия. Амбивалентность такой первичной социализации зачастую связана с одновременным сосуществованием в семейной истории восходящей, благодаря советскому режиму, мобильности – и падений, связанных со сталинскими репрессиями. И наконец, в качестве демографического поколения центральное ядро первой когорты испытывает особые напряжения. Принадлежа к многолюдным поколениям послевоенного периода, его члены испытывали серьезную конкуренцию в рамках образовательной системы и на рынке труда; в этой связи им было сложно поддерживать относительно высокую социальную позицию, унаследованную от родителей.
Члены второй когорты, даже те, кто принадлежат к тому же демографическому поколению, что и первые неформалы, в их политическое поколение не входят, хотя при этом обнаруживают примерно те же самые социальные характеристики. Однако они не имели опыта посещения мест политического инакомыслия; удаленность от таких сред поддерживалась их образовательными и профессиональными траекториями. Они не читали самиздат и не вступали в конфликт с властью, пусть даже неявный. Напротив, они в большей степени были интегрированы в официальный политический аппарат. И только на продвинутой стадии Перестройки (конец 1988 – 1989) члены второй когорты начинают воспринимать себя как оппозиционеров и вступают в неформальное движение. Как мы увидим, с момента своего прибытия эти новообращенные в оппозицию акторы способствуют радикализации движения, форм его организации, его публичных выступлений и заключаемых им сговоров. Если в 1987—1988 годах родоначальники неформального движения отказываются открыто определять себя как оппозиционеров и стараются найти точки соприкосновения и возможности сотрудничества с партийными реформаторами (демонстративно порывая тем самым с диссидентством), то прибывшая вторая волна приведет неформальное движение к открытой оппозиции режиму.
1. Политическая социализация первых неформалов
С самого своего появления в 1986 году неформальные клубы вызывают живой интерес в академической среде55. Некоторые авторы усматривают в нем молодежное протестное движение, вызванное кризисом прежних моделей социализации, наподобие тех, что имели место на Западе в 1960-е годы; другие видят в этих клубах типично советский феномен, порожденный административной и бюрократической системой, вытеснявшей за свои пределы все, что было ей чуждо. Эти объяснительные принципы (исходят ли они из того, что советское общество – это «нормальное общество», которое просто отстает, постулируют ли они, напротив, его «специфичность») совпадают в том, что оба указывают на процесс «социальной маргинализации», из которого якобы берет начало неформальное движение, и склонны располагать неформалов на периферии системы. Вплоть до 1988—1989 годов термин «маргинал» имел скорее позитивную коннотацию: он характеризовал всех, кто отказывался подчиняться правилам режима, противостоя «выдвиженцам системы». Неформальное движение, таким образом, было концептуализировано в рамках бинарных оппозиций между «официальной» и «неофициальной» сферами, между «выдвиженцами системы» и «маргиналами», между «верхами» и «низами».
А между тем, принимая такие линии раздела и классификации, мы рискуем пройти мимо самого главного. С одной стороны, ничто не позволяет сделать выводы о какой-либо социальной однородности тысяч участников неформальных клубов, и представляется более чем сомнительным характеризовать их всех как маргиналов. С другой стороны, те, кто постулируют дихотомию – официальная сфера и сфера, обреченная на нелегальность, – неизбежно игнорируют существование более свободных зон, открытых влиянию диссидентства, внутри официальной сферы. Ведь известно, что уже с конца 1950-х годов внутри самой системы развивались очаги критической мысли и что некоторые интеллектуалы публиковались как в официальных, так и в диссидентских журналах. Именно этой промежуточной средой уже до Перестройки были выпестованы многие основатели неформальных политических клубов.
Возможно, разумнее было бы объяснить появление политических клубов в начале Перестройки сочетанием трех феноменов, пронизанных разными темпоральностями. Во-первых, это, начиная с 1960-х годов, рост очагов инакомыслия, которые станут питательной почвой для первых неформальных клубов; во-вторых, это способы политической социализации особого поколения: в период Перестройки ему около тридцати лет и оно воспитано в этих очагах альтернативной политической мысли; и в-третьих, это поощрение со стороны власти: в связи с внутренней борьбой в КПСС, начавшейся после прихода М. Горбачева на пост Генерального секретаря, она позволяет развиваться новым формам мобилизации, которые по-своему используют представители этого нового политического поколения.
Очаги критической мысли, способствовавшие зарождению неформальных клубов, обнаруживаются прежде всего в академической и диссидентской средах. Под влиянием всплеска оптимистических настроений после XX съезда партии в 1956 году шестидесятники отстаивали идею социализма с человеческим лицом и жаждали реформировать советскую систему изнутри. В 1970-х политическая элита держала их на удалении, однако они сумели сохранить свой социальный статус и развивать заповедники альтернативной мысли в рамках некоторых институций, в частности в академической среде. Что касается диссидентов, и прежде всего правозащитников, то они появились на политической сцене после смещения Хрущева в 1964 году. Порывая с шестидесятниками, они отказались «играть в игры режима и служить ему», предпочитая социальную маргинализацию любым формам компромисса56.
Две эти модели политического действия и отношения к власти служили ориентирами для тех, кто образовали первые неформальные клубы. Рожденные после войны, на пятнадцать-двадцать лет моложе правозащитников и на двадцать пять – тридцать лет моложе шестидесятников, они принадлежат к той категории интеллектуалов, которые, занимая критическую позицию в отношении режима, стараются при этом социально интегрироваться. Тем не менее по сравнению с шестидесятниками их социальная интеграция гораздо менее совершенна, и они выработали более дистанцированное отношение к власти, хотя и отказывались следовать диссидентской логике маргинализации. Обретаясь в промежуточных средах между официальной и неофициальной сферами, границы между которыми стали размываться, инициаторы неформальных клубов интегрировали эту взаимопроникаемость в свои собственные траектории.
Кратко характеризуя положение первых (по крайней мере московских) неформальных политических активистов в социальном пространстве, можно отметить, что они обладали относительно высоким происхождением и большинство из них делали свои интеллектуальные карьеры в науке и преподавании. Чтобы лучше понять их поколенческую ситуацию и обстоятельства политической социализации, нам представляется необходимым сделать экскурс в историю двух сред – академической и диссидентской, – где они завязывают знакомства, которые служат для них ориентирами. Анализ индивидуальных траекторий первых неформалов позволит нам проследить их перемещения между этими разными средами и местами, коррелируя их с семейным бэкграундом (социальной и политической позицией) и первыми политическими опытами в студенческой среде. Через эти перемещения и формируется их зачастую амбивалентное отношение к власти, которое они затем принесут в неформальное движение.
Два пространства протестной инициации
Реформистская академическая среда и диссидентство поддерживали совершенно разные отношения с советским режимом. После смерти Сталина в 1953 году между частью академической элиты и хрущевской властью наладилась взаимная поддержка. Эти отношения ослабли после смещения Хрущева и с приходом к власти в партии консервативного течения. Реформистские институты превратились тогда в очаги инакомыслия внутри системы и отвоевали некоторую автономию по отношению к политической власти. Что касается диссидентства, оно стало внесистемным оппозиционным движением и набирало обороты до тех пор, пока в начале 1980-х годов власть не совершила против него опустошительный крестовый поход. Правда, в самом диссидентском движении идея прямого противостояния системе перестала быть популярной еще до этого, и новые группы уже стремились к официальному признанию. С конца 1970-х и до начала 1980-х линии раздела между властью и оппозицией начинают терять свою четкость, и именно тогда будущие неформалы вступают в контакт с академической и диссидентской средами.
Реформаторская академическая среда
Академическое поле претерпевает глубокие трансформации после смерти Сталина. Реформаторы получают в нем доступ к властным позициям и занимают новые стратегические территории благодаря поддержке со стороны хрущевского аппарата. В 1956—1964 годах создаются новые институты, и Академия наук разрастается на восток страны; реформистское крыло научного поля инвестируется в эти новые пространства. С приходом Брежнева в 1964 году прежде тесные связи между политической властью и прогрессистскими институтами ослабевают. Но круги неортодоксально мыслящих интеллектуалов сохраняют силу в науке и пытаются расширить свое влияние на другие сферы общества (в частности, на промышленность и государственный аппарат).
Для оценки и переопределения позиции СССР на международной арене ученые широко востребованы хрущевским правительством, которое в 1956—1964 годах поощряет создание новых институтов. Если говорить прежде всего о социальных науках, то институты создаются в соответствии с двумя логиками: они либо специализируются на изучении отдельных экономических и геополитических зон (социалистические страны, капиталистические страны и третий мир), либо воплощают новые теоретические и методологические подходы.
В апреле 1956 года появляется Институт мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) – для изучения экономических и политических систем капиталистических стран, их отношений с бывшими колониями и социалистическим блоком. В политическом поле это маркирует поражение сталинистского течения, ратующего за ужесточение отношений с Западом57. Кроме того, это событие наносит удар и по консерваторам в Академии наук, поскольку создание ИМЭМО официально обосновывается «неспособностью» Института экономики (созданного при Сталине в 1930 году) производить «серьезную научную работу» по вопросам международной экономики и экономическому и политическому развитию капиталистических стран58. Два года спустя Институт экономики лишили еще одного сектора эмпирических исследований: экономика социалистических стран была передана новому Институту экономики мировой социалистической системы (ИЭМСС), который приступил к изучению реформ в Венгрии и Югославии и стал важным центром реформистской мысли. В качестве сопровождения экономических реформ 1957 года, направленных на рассредоточение центров принятия экономических решений59, реформаторы из партии стараются децентрализовать науку, развивать восточную часть страны и сближать образование, науку и НИОКР60 (в этом состоит одна из целей реформы образования в 1958 году). Для этого в 1957 году под Новосибирском создается Академгородок, который становится резиденцией Сибирского отделения Академии наук. При Хрущеве и Брежневе оно будет главной цитаделью реформаторов в экономике и социологии. Позиция Новосибирска на удалении от центра позволяет обходить некоторые идеологические ограничения, навязываемые московским институтам, но по той же причине исследователи оказываются оторваны от центров принятия решений в науке и политике.
На волне появления новых дисциплин и методов, таких как математическая экономика и социология, создаются и другие институты. Быстрыми темпами институционализируется эконометрика. За каких-то восемь лет, с 1958 по 1966 год, лидеры этой школы занимают ведущие посты в двух экономических институтах и устанавливают тесные связи с социологией, которая тогда тоже находилась в стадии институционализации. Первоначальный импульс задан знаменитым статистиком, членом Академии наук В.С. Немчиновым61, который стремится противостоять господству консерваторов и облюбованного ими сектора политической экономии62. В 1963 году правительство, желая ускорить введение методов информатики в экономику, разрешает создать в Москве Центральный экономико-математический институт (ЦЭМИ)63. Представители эконометрики установят также контроль над Институтом экономики и организации промышленного производства (ИЭОПП) в Новосибирске, работавшим под руководством А. Аганбегяна. Эта быстрая институционализация стала знаком официального признания определенного метода (введения математики и информатики в управление и планирование народного хозяйства) и определенной идеологической ориентации («рыночного социализма»). Исследователи из ЦЭМИ развивают теорию под названием «система оптимального функционирования экономики» (СОФЭ), призванную ввести некоторые рыночные механизмы в теорию и практику социалистической экономики. Исследуя процессы инфляции в СССР, они приходят к выводу о необходимости децентрализации экономики, предоставления большей автономии предприятиям (благодаря возможности их прямого доступа к ресурсам через оптовый рынок), определения цен не через затраты, а через стоимость, и их свободной флуктуации. В 1965 году работы основателей эконометрики награждены наивысшими знаками отличия, присуждаемыми правительством (в том числе Ленинской премией).
Институционализация социологии продвигается гораздо медленнее. Ее первое оформление происходит в 1958 году, но речь идет не о лаборатории и уж тем более не об институте, а всего лишь об «ассоциации» – Советской социологической ассоциации (ССА). Первая лаборатория, занимающаяся исследованиями труда и повседневной жизни, создана в 1961 году в московском Институте философии64. Вплоть до 1968 года, когда появляется первый институт социологии (Институт конкретных социологических исследований, ИКСИ), эта дисциплина остается под каблуком у философии, хранительницы марксистской догмы. Чтобы выйти из-под власти марксистско-ленинской идеологии, социология, как и некоторые исторические школы, отдает предпочтение эмпирическим исследованиям. На ниве исторической науки школа так называемой «новой ориентации» и ее лидер Михаил Гефтер призывают к развитию исследований по модели «Восемнадцатого брюмера Луи Бонапарта», выступают против «исторического материализма, который отказывается поверять теорию социальной реальностью»65. С социологией же было сложнее. Если первые исследования труда поощрялись властью, то работы в других областях принимались настороженно. Однако в 1960-е годы им по крайней мере никто не пытался препятствовать. В институциональном плане социологи стремились найти защиту под крылом у экономистов, в частности в эконометрике. В 1961 году новосибирский ИЭОПП принимает в свое лоно Центр исследований по проблемам молодежи, а в 1966-м – Отдел социологии труда под руководством Татьяны Заславской.
Институты, созданные в 1960-е годы, расширяют сферу своего влияния за пределы научной сферы – в вузы, в государственный и партийный аппарат. Постсталинская власть не тормозит эту экспансию, а даже, наоборот, ее поощряет. Ища поддержки у академического истеблишмента, она, возможно, вынашивала план наделить этот сегмент советской элиты полномочиями по принятию решений «наравне с партаппаратом, административной бюрократией и ВПК»66.
Некоторым из этих новых институтов разрешено создавать кафедры в самых элитных вузах, например в МГУ, на этом стратегическом плацдарме для интеграции во властные структуры, или в Новосибирском государственном университете, призванном стать кузницей кадров для Сибирского отделения Академии наук. Иметь кафедры в таких учреждениях означало обладать мощным подкреплением собственной легитимности в академическом поле, особенно на случай изменения политического курса.
Хрущевская власть жаждет заручиться поддержкой со стороны новых институтов. С самого своего создания ИМЭМО и ИКСИ должны вырабатывать рекомендации для правительства. ЦЭМИ расширяет свою сферу влияния в органах, связанных с планированием. В 1966 году отдельные его научные сотрудники вступают в Государственный комитет по материально-техническому снабжению (Госснаб), получая доступ к операционному центру системы планирования, в задачи которого входит снабжение предприятий всем необходимым для выполнения плана. Их цель – реформировать это учреждение. По мнению отцов-основателей эконометрики, оно составляет «основное препятствие экономическому развитию», поскольку фиксирует цены «совершенно произвольно» и подталкивает к растратам капитала, который достается предприятиям даром67. В 1970-х годах представители эконометрики внедряются также в Государственный комитет по науке и технике (ГКНТ), ведающий планированием в науке и помощью в принятии решений в сфере промышленного развития. Наконец, исследователи из реформистских институтов в индивидуальном порядке привлекаются в качестве советников Центральным комитетом партии (ЦК КПСС). Эта позиция открывает им доступ к ответственным постам в университетской и академической иерархии (в руководстве институтов). Ю. Андропов, заведующий сектором социалистических стран в Отделе международных отношений ЦК с 1957 по 1967 год, набирает своих консультантов в Академии наук. «Внутри того бастиона догматизма, каковым являлась Старая Площадь (штаб-квартира ЦК), – отмечает М. Левин, – отдел Андропова был “свободным миром”»68. Андропов занимал тогда высокую позицию в иерархии (он – секретарь ЦК с 1962 года). Это означает, что его советники были достаточно надежно «застрахованы». Среди них фигурируют Г. Арбатов и О. Богомолов; первый в 1967 году станет директором Института США и Канады (образовавшегося на базе подразделения ИМЭМО), а второй – в 1969-м директором ИЭМСС.
При Брежневе связи между реформистскими институтами и политической властью ослабевают. Изменение политического курса становится ощутимым с 1968 года: теория «оптимального функционирования экономики» ЦЭМИ не попала ни в одну публикацию с 1968 по 1974 год; исторической школе Гефтера перекрыли кислород в 1969-м; в 1972 году ИКСИ и Советская социологическая ассоциация переходят под контроль консерваторов69. Исследователи реформистского течения продолжают тем не менее свои критические размышления, но теперь им приходится использовать обходные маневры: они изучают проблемы советского общества, «опираясь на материалы, заимствованные из других стран и эпох»70. Так, при анализе господства советского бюрократического аппарата часто прибегают к концепту «азиатский способ производства», применявшемуся к странам третьего мира71.
Институты, созданные в 1960-х годах, в силу своей методологической и эмпирической ориентации добились некоторой интеллектуальной близости с Западом, что считалось среди интеллектуалов определенной фракции знаком престижа и даже отличия «настоящей» науки от идеологии. Институты, прежде всего экономические, оставшиеся в руках реформаторов, становятся прибежищем для впавших в немилость исследователей из других дисциплин. Некоторые проводят там «полуофициальные» и «полуподпольные» семинары на периферии официальных исследовательских программ. Реформистские институты стремятся сохранить и даже расширить влияние и вне Академии наук. Несмотря на многочисленные нападки, они удерживают кафедры в университетах. Представители эконометрики компенсируют слабость своей политической позиции усилением влияния в промышленной сфере. Это проникновение происходит в том числе посредством журнала «Эко», публикуемого с 1970 года Новосибирским отделением АН под руководством А. Аганбегяна (Т. Заславская входит в редакцию журнала); в его работе участвуют экономисты ЦЭМИ, социологи и философы. Журнал выходит тиражом 163 000 экземпляров и широко распространяется среди руководителей предприятий и управленцев экономических министерств72.
Расширяя сети взаимодействий в своем собственном поле и устанавливая связи с другими секторами, реформистские институты сформировали то, что Марк Ферро называет «зонами микроавтономии»73. После периода 1920-х годов, когда государственные и общественные институты были изнутри подорваны большевиками и лишены своей социальной роли (по примеру профсоюзов, у которых отобрали функцию защиты работников на предприятиях), какие-то из них сумели, отчасти еще в 1930-е годы, а в основном при Хрущеве и Брежневе, присвоить себе новые области компетенции. Они вступали во внутри- и межинституциональные взаимодействия, внедрялись в органы власти и защищали свои позиции. Когда политическая власть ослабила свои связи с академическими институтами, созданными в 1960-е годы, она тем самым невольно подтолкнула их к тому, чтобы расширять влияние за пределы своего сектора и приобретать определенную автономию. Свои стратегии адаптации к ситуации (выбор методов и объектов исследования, близость к Западу, связи с экономическими акторами) они превратили в почетный знак отличия от более близких власти институтов, завоевывая престиж в рамках академического поля. Более того, пользуясь внешним (со стороны Запада или со стороны промышленного сектора) признанием, они постепенно смогли делегитимировать институты, «обслуживающие партию».
Диссидентское движение на стадии кризиса
Некоторые неформалы первой когорты завязывают отношения с диссидентскими группами в 1970-е годы, когда инакомыслие переживает острый кризис в связи с ужесточившимися преследованиями со стороны властей и внутренними спорами по вопросу о лидерстве среди правозащитников.
Сразу после вторжения в Чехословакию концепция демократического социализма, продвигаемая шестидесятниками, желавшими демократизировать партию и реформировать власть изнутри, теряет всякую поддержку в протестных интеллектуальных кругах. Вследствие этого отступления несоциалистическое течение правозащитников быстро занимает все пространство инакомыслия, и отныне между правозащитниками и диссидентами практически ставится знак равенства. Однако оппозиционное движение очень разнородно: в него входят и движения национального освобождения в советских республиках, и этнические и религиозные группы, и коллективы по защите экономических и социальных прав. Ядро правозащитных лидеров удерживает доминирующую позицию благодаря сильной внутренней сплоченности и относительной закрытости по отношению к новичкам. Оно навязывает всему диссидентскому движению «юридическое» видение политической игры, в которой противостоят два лагеря – общество, представленное диссидентами, и власть. Все это разворачивается под внешним взглядом Запада, который выступает гарантом норм международного права. В период с 1976 по 1982 год, как объясняет Людмила Алексеева, правозащитники стремились «навязать власти диалог с обществом при посредничестве правительств стран свободного мира»74.
В конце 1970-х верховенство правозащитников и их концепция политической игры становятся шаткими. С 1979 по 1981 год власть нейтрализует их ядро, арестовав пятьсот самых известных диссидентов. Эти аресты привели к глубокой трансформации всего движения: те, кто еще вчера были в тени вождей, занимают теперь ведущее положение; появляются новые организации, стремящиеся порвать с прежним видением политической игры, свойственным диссидентам. Некоторые ратуют за сближение с властью, будучи убеждены, что неофициальная и официальная сферы неразрывно связаны друг с другом. Новый журнал «Поиски» заявляет, что готов к диалогу. Некоторые организации обращаются к конкретным сферам деятельности (в частности к трудовому праву), вместо того чтобы заниматься абстрактной защитой прав человека, и стремятся к официальному или хотя бы негласному признанию. Левые снова заявляют о себе в диссидентской среде (одной из первых в этом течении появилась московская группа «Молодые социалисты»). Как мы увидим далее, именно в такого рода новые организации вступают будущие неформалы. Тем не менее власть предпочитает не замечать эти ростки изменений и, приписывая оппозиции мощный мобилизационный потенциал75, без разбору преследует как «традиционных» диссидентов, так и тех, кто им противостоит внутри диссидентства. В 1983—1984 годах движение фактически было уничтожено.
Академия наук и диссидентское движение стали теми пространствами, где будущие неформалы смогли наблюдать взаимодействия с властью в разных формах. Эти способы мышления и действия, к которым акторы (как неформалы, так и их покровители из Академии наук и партийного аппарата) оказались приобщены, станут неявным ориентиром в политической игре между неформальными клубами, партией и Академией наук в момент Перестройки.
Социальные механизмы изобретения двусмысленной практики
Многие неформалы первой когорты довольно рано и серьезно вовлеклись в политическую деятельность вне официальных структур. Такое дистанцирование от «системы» тем не менее не помешало им задействовать все доступные ресурсы, чтобы поступить в лучшие вузы и получить наиболее выгодное распределение. Под воздействием противоречивых установок (социальная интеграция, с одной стороны, дистанцирование от режима – с другой) они избрали двойственный путь:
Жить и процветать в Системе казалось постыдным, сшибаться в лоб – безнадежным и бессмысленным, отъезжать – банальным и не совсем приличным. Приличным выбором казалось жить слегка на отшибе, во «включенно-выключенном» состоянии, отчасти во внутренней эмиграции, отчасти в не до конца переваренных Системой сферах деятельности. Но соблазн социального успеха и страх аутсайдерства были, если честно, равноправными элементами той жизни. Ежедневно приходилось идти на компромиссы, о которых не принято было рассказывать друзьям. Этой ситуации – при нашей жизни – не было видно конца76.
Склонность, которую питали эти акторы к местам параллельной политической социализации, объясняется тремя факторами: во-первых, самой их восходящей социальной траекторией; во-вторых, особой динамикой вузовской среды 1970-х годов, где параллельная политическая активность становилась все более распространенной практикой; и наконец, принадлежностью к очень политизированным семьям, которые способствовали их раннему вовлечению в политику вне официальных сфер. Индивиды, проявлявшие активность в средах инакомыслия во время учебы и по ее окончании, с большей вероятностью попадали в неформальные перестроечные клубы. В нашей работе мы стремимся понять, каким образом эти будущие неформалы включали данные места политической социализации в свои университетские, а затем профессиональные траектории и как они конструировали с их помощью свое собственное отношение к власти.
Семейное наследие, способность выбирать позицию и идти на риск
Студенческие годы – тот отрезок биографии, на котором особенно хорошо просматриваются как семейное происхождение акторов, так и профессиональные перспективы, которые им открываются (поле биографических возможностей). Именно тогда задействуется и переопределяется семейное наследие, и тогда же большинство неформалов первой когорты усваивают «девиантные» политические практики. В вузовскую среду все больше проникают политические явления, выходящие из-под контроля официальных организаций (в ней возникают диссидентские круги и все более многочисленные студенческие группы, независимые от комсомола).
Университетскую карьеру, то есть последовательные «занятия позиций и перемещения», следует рассматривать в историческом контексте, поскольку социальное пространство, в котором разворачиваются биографические траектории, «само, в свою очередь, находится в постоянном становлении и трансформации»77. В период с 1965 по 1980 год, когда поколение, рожденное в 1948—1964 годах (центральное ядро первой когорты), начинает учебу в вузах, функции и очертания института высшего образования претерпевают глубокие изменения. Речь идет уже не о всеобщей социальной мобильности, а скорее об удержании позиций, достигнутых родителями после Второй мировой войны: вузовский диплом призван легитимировать вхождение семьи в ряды интеллигенции, начавшееся одним или двумя поколениями раньше. Но это социальное воспроизводство происходит в ситуации острой конкуренции, поскольку неформалы первой когорты принадлежат к многолюдным послевоенным поколениям.
Чтобы лучше понять стратегии по отношению к высшему образованию, мы разделили все траектории по трем типам достижения позиций, к которым акторы стремятся: достижение позиции через выбор вуза, особенно точно характеризующее семейную позицию в социальном пространстве; выбор той или иной профильной специализации, который демонстрирует склонность будущих неформалов к дисциплинам, имеющим отношение к политике, но не ведущим к партийной карьере; и наконец, вхождение в политическую активность вне официальных рамок.
Престижные вузы
Анализируя семейные траектории первых неформалов, мы обнаруживаем, что у многих из них отцы пошли на повышение сразу после войны78, в тот период, когда бывшие фронтовики из низших социальных слоев (крестьян, ремесленников, рабочих) стали получать высшее образование и массово рекрутировались в армию и военную промышленность79. Но и другие социальные категории также воспользовались открывшимися возможностями социальной мобильности. Дети инженеров, техников и военных получили образование более высокого уровня, чем их родители. Статус «фронтовика» также позволил детям деклассированных элементов 1930-х годов (чьи родители стали жертвами чисток или происходили из таких социальных категорий, как священники, дворянство, «враги народа») начать с чистого листа и избавиться от стигматов деклассированности: некоторые из них во время войны вступили в партию, затем пошли на службу в армию или в промышленность, где в связи с нехваткой рабочей силы80 строгость отбора кадров смягчилась. Эти выдвиженцы получили доступ к высоким постам в профессиональных сферах, хотя при этом своей позицией в иерархии они не всегда были обязаны обладанию престижным дипломом. И поскольку сами они получили диплом, не гарантировавший доступ к более высокой социальной позиции, вузовские стратегии их детей состоят в удержании достигнутой социальной позиции за счет обретения более престижного диплома.
Однако этой цели достигнуть было сложно, так как те, кто составит поколенческое ядро неформального движения, поступали в вузы начиная с середины 1960-х годов, то есть в период обострившейся конкуренции между доминирующими группами за доступ к учебным заведениям, которые находились на вершине образовательной иерархии. Взросление многолюдных послевоенных поколений и всеобщее распространение среднего образования с середины 1950-х годов приводят к увеличению приема в вузы81, однако при этом шансы на поступление уменьшаются. С 1965 по 1975 год доля поступивших в вузы выпускников средних школ падает с 41,4% до 15,8%, тогда как доля выпускников, начинающих работать сразу после школы, возрастает с 16,2% до 55,3%. Таким образом, в 1975 году выпускников средних школ оказывается в шесть раз больше, чем мест в вузах82.
Неформалы первой когорты (поколение 1948—1964), получившие образование в престижных вузах – а таковых более половины (19 из 36), – происходят в основном из трех профессиональных сред: армии, партийного аппарата и интеллектуальных профессий (наука, высшее образование, журналистика). Выпускники немного менее престижных вузов Москвы и Ленинграда (12 человек из 36) или второстепенных институтов (4 человека) происходят в основном из семей инженеров и военных. Эти вполне ожидаемые результаты подтверждают воспроизведение социальной иерархии, сложившейся в послевоенное время.
Учитывая конкуренцию, вызванную демографической ситуацией, позиция главы семьи уже не является единственным фактором, определяющим карьеру детей. Выгода от наличия отца-военного, даже когда он старший офицер, работающий в Москве или Ленинграде (зачастую уже на закате карьеры), в полной мере действует лишь для старших или для единственных в семье детей. На младших детей отцовских ресурсов уже не хватает, и им, как правило, приходится довольствоваться вузами второго эшелона. Среди восьми детей военных из нашей выборки лишь половина учились в лучших заведениях страны. Это распределение можно проиллюстрировать примером братьев Чубайсов. Их отец пошел на повышение во время войны. Он был полковником Политуправления армии и штатным сотрудником кафедры философии Высшего военного института в Ленинграде, когда его старший сын Игорь (род. в 1947 году) поступил на философский факультет Ленинградского государственного университета (ЛГУ), одного из лучших вузов страны. Младший сын, Анатолий83 (род. в 1955 году), поступил в Ленинградский инженерно-экономический институт им. Пальмиро Тольятти (ЛИЭИ) – второстепенное учебное заведение, которое считалось прибежищем для тех, кто не смог поступить в ЛГУ.
В некоторых случаях наследие по материнской линии играет столь же важную роль, что и позиция отца. Часто встречаются такие сочетания: по отцовской линии имело место недавнее повышение и занятие властных должностей, тогда как по материнской линии социальное восхождение произошло раньше и имелся более высокий культурный капитал. У 15 неформалов из поколенческого ядра (из 26 семей, траектории которых нам известны начиная с революции) наблюдается «раскоординация» среди родителей84. Если по материнской линии восхождение началось в 1920-х годах, велика вероятность того, что семья стала жертвой чисток и пережила нисходящую фазу. Отвоевание социальной позиции произошло в следующем поколении благодаря «матримониальной стратегии», то есть через вступление в брак с выходцем из незапятнанной семьи, находящейся в фазе социального восхождения. Вклад по материнской линии выражался в повышенном культурном капитале по сравнению с отцовской линией. Поступление ребенка в элитное учебное заведение объективирует сочетание высокой социальной позиции и обладания культурным наследием. Андрей Фадин (род. в 1953 году) – старший сын в семье. Его отец – с 1956 года чиновник в Центральном комитете КПСС; происходит из семьи крестьян, бежавших с Украины во время большого голода 1933 года и обосновавшихся в Москве. Во время войны изучает немецкий и шведский языки в Военном институте иностранных языков. После демобилизации в 1947 году отец Фадина продолжает лингвистическое образование в гражданском институте и в 1956-м поступает на работу в международный отдел ЦК, отвечая там за связи с норвежской компартией. В то время в ЦК насчитывалась всего тысяча работников высшего звена85. По материнской линии восхождение начинается после революции. В 1905 году материнские предки Фадина покинули «черту оседлости» на западной окраине Российской империи, в которой предписывалось селиться евреям86, и переехали в Харбин, русскую концессию в Китае – место обитания крупной еврейской диаспоры. Дедушка Фадина выучился там китайскому языку. Будучи активистом-социалистом, он покидает Харбин, оккупированный белыми во время Гражданской войны, и переезжает жить в Читу, где участвует в установлении Дальневосточной республики87 и работает в ее Министерстве иностранных дел; затем его посылают в Москву преподавать китайским иммигрантам и коммунистам в Коммунистическом университете трудящихся Востока. Благодаря своему знанию Китая, он занимает разные должности в исследовательских институтах. В конце 1920-х годов становится личным переводчиком Блюхера88 в Китае, а затем работает там в советском консульстве. По возвращении в Москву он находит место специалиста по Китаю в Институте картографии НКВД. В 1938 году его арестовывают и расстреливают по обвинению в шпионаже в пользу Японии, Польши и Германии. Его дочь обучается немецкому языку в пединституте (где и знакомится со своим будущим мужем) и становится учителем в средней школе. Социальное восхождение по материнской линии произошло благодаря политическому активизму и знанию языка, связанного со стратегически важной территорией. После чисток семейный капитал мог быть передан потомкам лишь в атрофированной форме знания иностранного языка (к тому же другого, нежели тот, что послужил восхождению дедушки). Однако потомкам передается одновременно и память о дедушке, бывшем важной фигурой и павшем жертвой чисток, и модель социальной мобильности, в которой карьера в политических учреждениях сочетается со знанием языка, связанного с территориями планируемой экспансии (реальной или символической). Такая модель социальной мобильности будет перенята отцом А. Фадина и самим А. Фадиным. Его отец обязан своей должностью в ЦК знанию скандинавских языков в момент, когда СССР стремится расширить свое влияние на европейские страны несоциалистического блока через связи с их компартиями. В 1971 году А. Фадин поступает на исторический факультет МГУ и параллельно изучает испанский. Его берут в ИМЭМО на должность специалиста по Латинской Америке в эпоху, когда СССР расширяет свою зону влияния на страны третьего мира.
Дети инженеров (среди родителей наших респондентов почти нет начальников предприятий) учатся скорее в среднепрестижных вузах (таковы семеро из восьми детей инженеров). Подобная «средняя» позиция включает в себя разнообразные ситуации: слабоинтенсивное восхождение в периоды сильной социальной мобильности, замедление восхождения, начавшееся еще при бабушке и дедушке (иногда оно сопровождается закреплением в провинциальном городе, тогда как до тех пор у семьи была высокая географическая мобильность). Объективно у этих детей инженеров меньше шансов поступить в очень престижные учебные заведения, чем у детей высокопоставленных военных и ученых. Будучи убеждены в недостаточности своего капитала, они самоустраняются от попыток поступления в элитные вузы. У некоторых наблюдаются и другие мотивы, отвращающие их от попыток поступить, скажем, в МГУ. Двое наших неформалов объяснили, что отказались от мысли попасть в этот университет из-за царящего там антисемитизма. Однако дети из привилегированных слоев, поступившие в МГУ, не воспринимали еврейское происхождение как непреодолимое препятствие. Для тех, кто занимают среднюю и низкую социальную позицию, любая другая характеристика, которую воспринимают как дискриминирующую, становится дополнительным фактором самоустранения, тогда как для детей из доминирующих групп она остается нейтральной. Решение отказаться от попыток поступить в вузы, которые им «не по зубам», оказывается тем более вероятным, что ошибка в оценке своих шансов на поступление может обернуться призывом в армию89. Итак, многочисленные факторы склоняют детей инженеров к тому, чтобы довольствоваться вузами более низкого статуса, например педагогическими или техническими институтами, которые выпускают массы учителей средних школ и штампуют инженерные кадры.
Лишь 3 респондента (из 51) происходят из рабочих. Они начали социальное восхождение в 1970-х, поступив в МГУ после года обучения на «рабфаке». Таким образом, они возвращаются на путь продвижения, открывшийся для рабочих в 1920-е годы, затем закрытый при Сталине и снова открытый в 1958-м. Начиная с 1965 года, когда усиливается социальный отбор на пути к высшему образованию, абитуриенты из низших социальных слоев уже не пользуются прежними льготами при поступлении в самые престижные заведения, хотя для них остаются доступными подготовительные курсы рабфака и особая система вступительных экзаменов90. Механизмы социальной мобильности ставятся на службу главным образом детям из привилегированных семей, тогда как дети рабочих должны «потом и кровью» зарабатывать свое поступление: кто-то сначала проходит службу в армии, другие по несколько лет работают на заводе.
Выбор специализации и профессиональные стратегии
Неформалы первой когорты проявили свою «способность выбирать позицию»91, отдавая предпочтение специализациям в социальных науках и литературе (это касается ¾ нашей выборки, см. таблицу 4) и нацеливаясь на исследовательскую карьеру в реформистских институтах, созданных в 1960-е годы (в тех случаях, когда они могли себе это позволить). Почти все они совершают профессиональную переориентацию, и лишь немногие остаются в той же сфере специализации, что и родители.
Таблица 4
Изучаемые дисциплины
Неформалы первой когорты, рожденные в 1948—1964 годах, в том числе дети военных и инженеров, отказываются от технических специальностей. Ни один сын военного не идет по стопам отца. Из 8 детей инженеров 6 поступают на литературные и гуманитарные факультеты. В 1970-е годы карьера инженера теряет привлекательность: прежде было выпущено слишком много инженеров, и зачастую они работают в качестве техников92. К тому же те из них, кто работают в военно-промышленном комплексе, скованы ограничениями, связанными с секретностью: запретом на контакты с иностранцами и отсутствием целостного представления о проекте, в котором они заняты93.
Выбор специализации происходит прежде всего в пользу экономики, истории (19 человек из 36, то есть половина поколенческого ядра) и в меньшей степени – в пользу философии и права, то есть дисциплин, имеющих политическое содержание; они (за исключением философии) позволяют избежать карьеры в идеологическом аппарате государства и партии и способны (особенно в случае экономики) дать доступ к интересным профессиональным позициям. Каждая политическая веха в истории СССР (военный коммунизм, нэп, коллективизация, оттепель) сопровождалась экономическими реформами, и всякий раз экономическая наука ставилась на службу государству. В 1960-е годы, как мы показали, это научное поле разделилось на два противоположных методологических, институциональных и идеологических полюса: «реформаторы» обосновались в поле математической экономики и эмпирических исследований экономических систем, заняв ведущие позиции в новых институтах, тогда как «консерваторы» удерживали влияние в теоретическом поле политэкономии и доминировали в Институте экономики. Поэтому неудивительно, что как только появляются кафедры математической экономики (или «кибернетики») и экономики социалистических стран, студенты охотно выбирают эти специализации, открывающие прямую дорогу в крупные реформистские исследовательские институты (ЦЭМИ, Новосибирский ИЭОПП, ИЭМСС). Из 5 неформалов, учившихся на кафедрах эконометрики, статистики и экономики социалистических стран, 4 поступили в один из этих институтов.
На втором месте среди специализаций, выбранных неформалами первой когорты, стоит история, дисциплина менее «идеологизированная», чем философия, и в то же время в советской университетской системе более близкая к тому, что один из наших неформалов назвал «политологией». Предпочтение истории в ущерб философии особенно явно в выборке первой когорты: в ней насчитывается 11 студентов-историков и всего 3 философа. Таблица 5 показывает отток студентов от философии к истории начиная с середины 1960-х годов.
Итак, наблюдается охлаждение интереса как к философии, в том виде, в каком она преподавалась в СССР, так и к карьерам, к которым она давала доступ (идеологические отделы партии и комсомола, преподавание марксизма-ленинизма). Историческое образование, хотя оно и позволяет держаться в отдалении от аппарата пропаганды, не ведет к престижным и «надежным» карьерам, на которые можно надеяться, обучаясь эконометрике, поскольку выпускники исторических факультетов в основном идут в учителя средних школ. Неформалы-историки, таким образом, стараются применять стратегии ускользания в момент распределения на работу по завершении учебы. В зависимости от наличных ресурсов (престижности вуза, где они учились, семейных связей и проч.) стратегии они выбирают разные. Некоторые отказываются от распределения, предварительно удостоверившись в том, что у них есть альтернативное назначение, – чтобы избежать обвинения в тунеядстве. Так, А. Фадин, выпускник МГУ, воспользовавшись связями отца из ЦК, получает место переводчика в Институте мировой литературы, а затем идет работать в ИМЭМО. Некоторые совершают тактические перемещения в ходе обучения, чтобы получить место в аспирантуре94: перейдя на факультет философии и защитив диссертацию в МГУ, В. Лысенко смог получить место преподавателя на кафедре научного коммунизма Московского авиационного института (МАИ). Другие неформалы иначе уворачиваются от учительской карьеры. С. Митрохин, студент филфака Московского государственного педагогического института им. Ленина (МГПИ), сумел избежать службы в армии, имитируя психическое расстройство. Прибегнув к этой стратегии, он тем самым закрыл себе доступ к преподавательским должностям.
Таблица 5
Распределение студентов по специальности «философия» и «история» (первое высшее образование) по поколениям и когортам вступления
* Проценты от N.
Итак, неформалы первой когорты выбирают дисциплины с политическим содержанием, но не ведущие к карьерам в партии и комсомоле. Обладающие связями и ресурсами находят себе место в науке и системе высшего образования, а все остальные впадают в неустойчивое профессиональное состояние (преподаватели поневоле).
Опыты «параллельной» политической социализации
Бо́льшая часть неформалов первой волны участвуют в более-менее подпольных студенческих группах или вступают в контакт с сетями распространения самиздата еще в годы учебы. Такие практики широко распространены во многих вузах больших городов в 1970-е годы. В чем-то они напоминают то, что Э. Гоффман назвал «формами вторичной адаптации» к институции, то есть «любую обычную диспозицию, позволяющую индивиду использовать запрещенные средства или добиваться запретных целей (или и то, и другое) и обходить таким образом претензии организации относительно того, что он обязан делать или получить, то есть каким должен быть он сам. Формы вторичной адаптации дают индивиду возможность дистанцироваться от роли, которую институция навязывает ему естественным образом»95. Такая адаптация позволяет не только держать дистанцию по отношению к роли студента и комсомольца, но и маркировать свою принадлежность к определенной поколенческой и социальной общности. Она помогает реализовать специфическую стратегию интеграции в привилегированную социальную среду, но вместе с тем в ней заключен и риск социальной маргинализации. Истоки такой склонности к посещению мест параллельной социализации, возможно, следует искать в политической истории семьи, в отношениях, которые она поддерживала с режимом и в передаче порой рассогласованных между собой схем политического восприятия.
Участие в неофициальных формах политической активности является знаком отличия в студенческой среде. На факультетах гуманитарных наук, филологии и физики циркулирует самиздат, распространяемый в основном диссидентскими группами. Некоторые будущие неформалы участвуют в подпольных левых организациях. А. Фадин и П. Кудюкин основывают социалистический кружок на истфаке МГУ в середине 1970-х годов96. Студенты-историки из МГПИ, будущие лидеры неформального анархистского клуба «Община», создают «Революционную марксистскую партию» в конце 1970-х.
С этого времени власти осознают масштабы циркуляции самиздата в университетских кулуарах и роста числа подпольных политических групп. Принимаются меры пресечения, и тем не менее некоторые учреждения закрывают глаза на весьма неофициальные формы политического общения. Так, в 1971 году студенты МГУ организуют «Лабораторию экспериментальной пропаганды», не зависящую от комсомола, и регистрируют ее при домкоме физфака. Раньше и представить было невозможно, чтобы университет потерпел существование неофициальной организации97. Причем такое большое количество студентов (около 150 человек) было привлечено в «Лабораторию…» не столько характером ее деятельности (ни в кой мере не подрывной: выставки по истории франкизма, по войне в Испании, по Парижской коммуне и перевороту Пиночета), сколько ее особым статусом и удаленностью от комсомола98. По всей видимости, степень терпимости к девиантным формам деятельности и общения зависит от «клиентуры» заведения. Элитные гуманитарные вузы проявляют больше «понимания», усиливая, таким образом, роль социального маркера подобного рода практик. И напротив, терпимость падает до нуля в институтах, готовящих технические кадры и находящихся в сфере влияния ВПК, они более склонны блюсти строгие нормы поведения, учитывая характер будущей профессиональной деятельности своих выпускников.
Альтернативные политические кружки посещают студенты, происходящие как из элиты, так и из рабочей среды. Но цена такой двойной социальной интеграции – то есть интеграции как в «систему», так и в поколенческий и социальный союз, предполагающий дистанцирование по отношению к режиму, – оказывается явно более высокой для детей из рабочих семей. Зачастую эти молодые люди обязаны своим продвижением в вузы активным взаимодействием с режимом (они отслужили в армии, стали секретарями партийных организаций, отработали на заводе). Поэтому чтобы попасть в места критической мысли, им приходится преодолевать гораздо более длинный путь, чем их товарищам, которым не приходилось «прогибаться». Они также более уязвимы в случаях, когда становится известно об их «подрывной деятельности»: исключение из университета лишает их не только перспективы получения диплома, но и права проживания в Москве (все студенты рабочего происхождения родом из провинции).
Некоторые неформалы происходят из очень политизированных семей, как лояльных, так и враждебных режиму. Самыми политизированными семьями оказываются, безусловно, те, которые выше были названы «раскоординированными», то есть где у предков очень несхожие траектории. В некоторых семьях под одной крышей оказываются и те, кто поднялись по социальной лестнице благодаря участию в актах репрессий или в мобилизационных кампаниях сталинского режима, и те, кто стали жертвами чисток или были заклеймены как враги народа в 1920—1930-е годы. В других семьях разворачивается драма кардинальной перемены отношении к режиму от одного поколения к другому. Переплетение нисходящих (вследствие стигматизации) социальных траекторий с восходящими (благодаря служению режиму) в большинстве случаев приводит к сильному идеологическому раздору между родителями. В такого рода конфигурациях политические позиции оказываются персонифицированы, и личный политический выбор будущего неформала часто делается по принципу близости с материнской или отцовской линией либо с тем или иным поколением предков.
Как мы уже показали, некоторым семьям удается снять клеймо, полученное родителями в 1930-е годы, за счет заключения брачного альянса в следующем поколении (с выходцами из семей с восходящей социальной мобильностью, служащих режиму). В результате отцовская и материнская линия ведут между собой символическую борьбу за третье поколение99. Противостояние развертывается не только и не столько в рамках родительской пары, сколько между членами всей расширенной семьи. А. Фадин вспоминает, что оказался между двух огней: с одной стороны, отец – чиновник ЦК, с уважением относящийся к власти, с другой – бабушка по материнской линии, врач, которая «испытывала стойкую ненависть к Сталину»; с одной стороны, «патриархальная, христианская, полулюмпенская среда [по отцовской линии], с различными антисемитскими комплексами»; с другой стороны, материнская линия, происходящая из образованной среды, «не просто еврейская семья, а еще семья, в которой отец был репрессирован»100.
В других случаях стратегия снятия клейма состоит в том, что дети жертв репрессий добиваются профессиональных и социальных позиций, символизирующих сталинский режим (военные, стахановцы), и придерживаются ортодоксальных политических взглядов. И тогда линия водораздела проходит не между отцовской и материнской семьями, а между поколениями в рамках одной семьи. Неформалы первой когорты, попадающие в эту конфигурацию, формируют свое политическое сознание через противостояние «перековавшемуся» поколению. Дедушка В. Кардаильского по отцовской линии был арестован в 1937 году, как и многие председатели колхозов. Во время войны его сын стал высшим офицерским чином в Политуправлении армии. Ему удалось закамуфлировать свое тяжелое семейное наследие, он влился в ряды «военной интеллигенции» и был послан корреспондентом в страны Восточной Европы (Польшу, Венгрию). Однако вследствие доноса становится известно, что его отец был арестован, и его карьера замедляется. Кардаильский враждебно относится к своему отцу, который «ненавидит демократов», и, по его словам, испытывает гордость за то, что его дедушка стал жертвой сталинских чисток101.
«Обращенные» в служение режиму предки часто описываются как некое исключение в семейной среде, которая по идее должна была не сделать из них «убежденных сталинцев», а, напротив, заставить их дистанцироваться от режима. В каком-то смысле они встали на сторону режима (и социального продвижения) в пику своим семейным позициям. В. Игрунов характеризует своего отца как «человека системы, с иерархическим мировоззрением». Тот происходит из крестьянской семьи; продвижение получил благодаря войне; на фронте был ранен и стал надзирателем в тюрьме НКВД. В награду за верную и усердную службу после войны ему была предоставлена возможность поступить в Одесский институт народного хозяйства. Став партийным чиновником, Игрунов-отец руководит плановым отделом нескольких провинциальных заводов. С самого детства он был верен режиму, несмотря на растущее недоверие к власти со стороны его отца и еще более явную оппозиционность со стороны семьи его жены. Дедушка Игрунова по отцовской линии вступил в ряды большевиков во время революции и стал редактором региональной партийной газеты. По доносу жены он был исключен из партии в 1935 году и потерял свое место. «У моего деда выработалось очень скептическое отношение к существующему режиму. Он говорил, что социализм никогда не будет построен, что социализм – это выдумка, что все планы, о которых говорят, нереализуемы. И он по этому поводу спорил с моим отцом, который был правоверным школьником»102.
Весь этот жизненный опыт, в ходе которого индивиды «скомпрометировали» себя участием в репрессивных действиях (коллективизации, подавлении восстаний, работе в НКВД, репрессиях на территориях, освобожденных советской армией) или интегрировались в институты, олицетворяющие советскую власть (армия, партия и т.д.), является одним из факторов «лояльности» по отношению к режиму. Как подчеркивает А. Хиршман, чем выше цена, которую приходится заплатить за вход в организацию (имеется в виду вход, позволяющий двигаться по восходящей траектории), тем дороже обходится выход из нее и тем менее вероятен выход вообще103. Неформалы первой когорты с подобной семейной конфигурацией не просто убежденно противостоят такой «лояльности»; некоторые из них еще и замечают, что слишком последовательная привязанность к декларируемым ценностям режима на самом деле оказалась препятствием на пути к социальному преуспеванию их предка. А. Фадин объясняет, что его отец, чиновник ЦК, «карьеры не сделал отчасти потому, что слишком серьезно воспринимал идеологические постулаты, в то время как основное мироощущение в этой среде было достаточно циничным». По прошествии лет пятнадцати он начинает адаптироваться к нормам поведения, бытующим в ЦК, и в частности к весьма прозаичному, но крайне важному для стратегий продвижения ритуалу: он начинает пить со своими коллегами, интегрирует сети отношений, и с этого момента начинается его быстрое продвижение104.
Наконец, есть третий тип политизированных семей, из которых вышли неформалы первой когорты: в них критическая позиция по отношению к режиму не только разделяется обоими родителями, но и сильно влияет на их карьеру, хотя они и не уходят в диссидентство. Некоторые родители внесли немалый вклад в интеллектуальную жизнь страны с приходом оттепели. Отец А. Данилова, Виктор Петрович, был один из самых известных специалистов по аграрной истории. Он происходил из семьи ремесленников и поступил в провинциальный педагогический институт благодаря своему статусу фронтовика. В своих трудах 1960—1970-х годов, созданных в Институте истории СССР, он стремится показать, что производственные отношения в российской деревне 1920-х невозможно считать капиталистическими, оспаривая тем самым главный аргумент в пользу коллективизации. Он открыто критикует политику доступа к архивам по коллективизации сразу после XXII Съезда КПСС в 1961 году. В 1966 году, как объясняет А. Берелович, он, будучи секретарем парторганизации в Институте истории, «празднует десятую годовщину XX Съезда; в 1970-м он организует защиту историка А. Некрича, на которого нападали за его описание поражений советской армии в 1941 году. Вследствие этой борьбы Институт истории реорганизован и поделен надвое. Виктора Данилова чуть не исключили из компартии, и он оставался в маргинализированном положении до самой Перестройки»105.
Клеймо, приобретенное в 1920—1930-е годы, так или иначе влияет на семейные траектории, и, возможно, это является решающим фактором в формировании предрасположенности будущих неформалов к ранней инициации в политическую деятельность вне официальных рамок. Чтобы социально затушевать эти стигматы, их родителям приходится заключать «мезальянсы» или быстро менять позицию (социальную и политическую), инкорпорируя внутрь семьи конфликты, свойственные отношениям между социальными группами. В таких семейных конфигурациях дихотомическое видение социальной и политической жизни («лояльность и социальное продвижение» vs «оппозиция и понижение в статусе») передается третьему поколению. Последнее чувствует близость к тому или иному политическому «лагерю», но при этом с 1960—1970-х годов оказывается свидетелем размывания границ этого двухполюсного видения. В конъюнктуре оттепели становится возможным открыто выражать определенную критику без риска для своего статуса; и хотя в брежневскую эпоху критические дискурсы в официальной сфере стали менее острыми, некоторые неформалы интуитивно чувствуют, что лояльность «старой школы» им уже не поможет. В их университетских траекториях вертикальная социальная мобильность сочетается с приобщением к оппозиционной политической культуре.
Четыре типа активистских карьер
В рамках первой когорты неформалов можно выделить четыре идеальных типа профессиональных и политических траекторий106. Одним удалось заниматься политической деятельностью без ущерба для профессиональной карьеры. Такова ситуация исследователей, работающих в социальных науках и поступивших на службу в реформистские институты, и диссидентов, которые вынесли как политическую, так и профессиональную деятельность за пределы официальной сферы. Во всех остальных случаях индивиды, задействованные в профессиональных сферах, далеких от сред инакомыслия, инвестировались в параллельную политическую активность менее интенсивно107. И наконец, следует упомянуть последнюю, четвертую, категорию неформалов: тех, кто не посещали ни одного из перечисленных нами мест неортодоксальной политической социализации, но оказались в начале Перестройки в промежуточной зоне между академической средой и партией; эта стратегическая позиция позволила им сыграть решающую роль в формировании первых клубов. Индивидуальные траектории часто приближаются к этим идеальным сконструированным типам, но, разумеется, есть и такие, которые довольно сильно от них отличаются, оказываются более сложными и извилистыми.
Внимательное изучение этих траекторий позволит нам, помимо более тонкого понимания «мотиваций» и факторов вовлечения, четче выделить типы «ресурсов» и «социального капитала», с которыми индивиды приходили в появившиеся позднее клубы. В частности, мы увидим, каким образом в конце брежневской эпохи оказались возможными попытки установления новых отношений с властью. Эти попытки отмечены меньшей оппозиционностью, чем диссидентские, и нацелены на то, чтобы сблизить официальную и подпольную политическую культуру, обеспечить их взаимопроникновение, изменить традиционный репертуар действий и восприятия диссидентов, с одной стороны, и власти – с другой. При Брежневе такое поведение воспринималось как неуместное, не давало видимых результатов и наказывалось как властью, так и оппозицией. Но несмотря на неуспех в тот период, те, кто предпринимали подобные попытки сближения, займут доминирующие позиции в перестроечных неформальных клубах: отныне именно они будут задавать тон. Другой ресурс, обеспечивающий доминирующую позицию в московских неформальных клубах, – это принадлежность к реформистской академической среде.
Исследователи в реформистских институтах
Доля исследователей в выборке первой когорты весьма существенна: 25 из 51 работали в том или ином академическом институте, университете или научно-исследовательском институте при министерстве; 15 из них работали в реформистских учреждениях (ЦЭМИ, ИЭМСС, ИМЭМО, на кафедре математической экономики в МГУ или в Новосибирском университете) или поддерживали с ними контакт. Среди них обнаруживается большая доля экономистов, получивших диплом в очень престижных вузах, и выходцев из привилегированных слоев общества. Поэтому они обладают всеми необходимыми ресурсами для успешной карьеры.
Тем не менее около 2/3 исследователей, принадлежащих к поколению 1948—1964 годов рождения, не защитили кандидатскую диссертацию. Некоторые, как руководители группы «Молодые социалисты» (созданной в 1977—1978 годах), параллельно втягиваются в подпольную деятельность. Фадин изучает авторитарные режимы в странах третьего мира, Кудюкин – франкистскую Испанию; арест в 1982 году положил конец их карьере еще до окончания работы над диссертацией. Другие не задаются целью целиком посвятить себя выстраиванию образцовой научной карьеры или дискуссиям об общественных реформах в рамках менее официальных кругов: они работают в науке, но не завершают диссертацию, довольствуясь самой принадлежностью к престижному и политически реформистскому институту. Ни один из них не вступил в партию. Интеллектуалу, не намеренному заниматься пропагандистской работой либо делать партийную или комсомольскую карьеру, в 1970-е годы стало сложно вступить в партию из-за введения системы квот по социальным категориям. А большинство неформалов первой когорты, как мы видели, самим выбором своей специализации (в частности, избеганием философского образования) решительно устраняются от этих путей. Им свойствен другой способ интеграции в академическую среду – скорее через принадлежность к сетям, объединенным по принципу интеллектуальной и политической близости, нежели благодаря обладанию более объективированными благами, такими как научные степени или партбилет. Такой способ интеграции был вполне возможен в реформистских институтах.
Совсем небольшая доля научных работников из нашей выборки делают более «эффективную» карьеру: защищают диссертацию, вступают в партию и быстро продвигаются по служебной лестнице. Анатолий Чубайс вступает в КПСС в 1980 году, в возрасте 25 лет. Он защищает диссертацию по экономике и начинает работать в Ленинградском инженерно-экономическом институте (ЛИЭИ), который не относится к числу престижных вузов. В 1980-м он вступает в контакт с группой московских экономистов, которые вводят его во властные политические круги. Этой группой руководит Е. Гайдар, молодой ученый, незадолго до этого защитивший диссертацию под руководством С. Шаталина, сотрудника кафедры математических методов в МГУ (1970—1983) и заместителя директора Всесоюзного НИИ системных исследований. С 1983 по 1985 год Гайдар участвует в работе Комиссии по совершенствованию управления народным хозяйством при Политбюро, готовившей экономические реформы108. В 1985 году А. Чубайс выдвигает свои предложения этой Комиссии и в следующем году напрямую участвует в ее работе. Обладание учеными степенями и членство в партии открывают новые возможности и способствуют довольно внушительному прорыву в карьере. И, безусловно, тот факт, что эти экономисты проникли во властные круги, играет не последнюю роль в их последующем участии в «правительстве реформ», сформированном в 1991 году тогдашним президентом России Ельциным.
Наряду с работой по выстраиванию карьеры большая часть будущих неформалов стремится войти в прогрессистские академические круги, исходя из более политизированной перспективы – с целью участия в дискуссиях об экономических и социальных реформах; некоторые вступают в группы, руководимые шестидесятниками. Ю. Самодуров (род. в 1951 году) постоянно следит за достижениями социологии организаций, присутствует на полуофициальных семинарах и осуществляет радикальную профессиональную переориентацию. Получив образование геолога, он в течение семи лет работает по своей специальности и в 1985-м защищает кандидатскую диссертацию. Однако с начала 1980-х годов решает специализироваться в социологии труда и организаций, оставаясь исследователем в Московском геологоразведочном институте (МГРИ). Его переориентация начинается с периода самообразования, а затем он ходит на семинары А.И. Пригожина (изгнанного из ИКСИ в начале 1970-х), Т. Заславской в Новосибирске и Г.П. Щедровицкого, «советского родоначальника управленческого консультирования и ролевых игр». Там Самодуров и знакомится с будущими неформалами109.
Другие исследователи, позднее принявшие участие в неформальных клубах, стараются создать свои собственные дискуссионные кружки в академической сфере или в пограничной зоне между нею и диссидентскими кругами. Один из таких примеров – группа «Молодые социалисты», созданная в 1977—1978 годах и распущенная в 1982-м. Ее влияние явственно ощущается в некоторых московских неформальных клубах Перестройки. Именно из нее вышли многие важные фигуры неформального движения, обогатив его своим опытом взаимодействия с властью. Группа сформировалась вокруг А. Фадина и П. Кудюкина, студентов исторического факультета МГУ, а затем научных сотрудников ИМЭМО. Она актуализируется как место перехода и посредничества между официальной и подпольной сферами в научном и политическом поле. В группе участвуют как исследователи (из ИМЭМО) и студенты (истфака МГУ), так и левые диссиденты (в том числе группа Б. Кагарлицкого110). Эта сеть состоит примерно из сорока человек. Ее бюллетень «Варианты» тоже задуман как платформа, открытая исследователям, работающим со спецификой советского режима, но не имеющим возможности публиковаться в официальных журналах111.
Л. Алексеева упоминает, что хотя «Молодые социалисты» и не стремились к установлению контакта с брежневской властью, «в отдаленной перспективе они [все-таки] надеялись, что при достаточно остром кризисе властвующий блок расколется и определенная его часть пойдет на сотрудничество с оппозицией (опыт Чехословакии 1968 года, Испании после 1976 года, Бразилии после 1978 года, Польши в 1980—1981 годах и так далее)»112. Это сотрудничество могло бы привести к появлению «полулегальных независимых объединений – клубов, профсоюзов и т.п.»113. Иными словами, «Молодые социалисты» ратуют за появление нового пространства мобилизации – отличного от диссидентства, в котором «правозащитники» не занимали бы уже центральное место. Но эту срединную позицию, на которую претендует группа, трудно удерживать, поскольку она противоречит господствующим схемам восприятия. Стремясь дистанцироваться от «правозащитников» за счет своей левой политической позиции и сблизиться с реформаторами партии, «Молодые социалисты» подставляют себя под удар со стороны «традиционных диссидентов». Их «двусмысленные» отношения с системой вызывают у диссидентов сомнения в подлинности их борьбы на стороне оппозиции. Двусмысленными эти отношения считаются прежде всего потому, что «Молодые социалисты» избрали левую позицию, а также потому, что их определяют как детей номенклатуры114, представителей «золотой молодежи», «предателей», не побрезговавших запятнать себя близостью к власти. Эти ярлыки, навешиваемые на них диссидентами, останутся с ними до самой Перестройки115. В апреле 1982 года шесть членов группы (в их числе А. Фадин, П. Кудюкин и Б. Кагарлицкий) арестованы и помещены в СИЗО. Все они соглашаются покаяться в обмен на помилование, за исключением двоих, которые из принципа отказываются признать свою вину. Все остальные освобождены, но привлечены в качестве свидетелей против их товарищей на суде, в результате которого один из них осужден на семь лет лагерей и пять лет ссылки. Власть, в свою очередь, использует одновременное присутствие группы в оппозиции и в академической сфере, чтобы свести счеты с противниками внутри официального поля: «дело “Молодых социалистов”» позволило нанести удар по ИМЭМО и, в частности, по его директору Н. Иноземцеву, которого КГБ подозревал в «покрывательстве» группы. Это «дело» имело также целью ослабить позиции Андропова в Центральном комитете. По словам Б. Кагарлицкого,
…они из маленьких вот этих дел (самиздатовский журнал) пытались создать, видимо, грандиозную, страшную, подрывную организацию с подготовкой террористических актов и т.д. […] Его и сделали при Федорчуке [председатель КГБ с мая по декабрь 1982 года]. Одна из задач, которую ставили внутри КГБ, – доказать, что при Андропове, в частности, социалисты практически безнаказанно развернули крайне опасную и антигосударственную деятельность […]. Но в это время это был элемент внутренней борьбы между группой Андропова и группой Черненко. Но в тот момент, когда Федорчук уже сделал все это дело огромное и сделал его в таком виде, чтобы оно несло удар по Андропову, Брежнев умер, и Андропов сел на место Брежнева116.
Таким образом, власть тоже по-своему пользуется проницаемостью границ, однако по стечению обстоятельств «делу “Молодых социалистов”» не суждено было произвести ожидаемого эффекта. После того как Андропов в ноябре 1982 года стал Генеральным секретарем ЦК, ИМЭМО остается в руках реформаторов: руководство им перепоручено А.Н. Яковлеву, которого рекомендовал М. Горбачев, в то время член Политбюро и один из близких соратников Андропова117. Преследования в отношении членов группы, помещенных в СИЗО, остановлены. Власти даже вынуждены прибегнуть к техническому решению, с точки зрения юридической граничащему с бессмыслицей: членам группы даровано помилование, хотя они не были осуждены. После освобождения члены группы «Молодые социалисты» занимаются неквалифицированным трудом (ночной сторож, охранник), а те из них, кто снова находят работу в сфере интеллектуального труда, становятся служащими в учреждениях, не относящихся к Академии наук и намного менее престижных (НИИ при заводах или министерствах). Тем не менее они поддерживают связь с академическими кругами (некоторые участвуют в полуофициальных семинарах).
Незадолго до Перестройки интеллектуальные кружки, которым удалось выжить, постепенно выходят из подполья. Анатолий Чубайс в 1978/1979 году основал «полуподпольную» группу исследований по экономическим реформам в СССР (в частности, по нэпу) и в странах Восточной Европы (Венгрии и Югославии)118. К 1981—1982 годам он находит способ сделать официальным это начинание в рамках своего исследовательского института. Благодаря чему Чубайс, как мы уже упоминали, и войдет в контакт с Гайдаром, тоже руководителем исследовательской группы по экономической истории СССР.
Как бы там ни было, все эти люди развиваются в критически настроенных профессиональных средах. Они не занимают никаких властных позиций в академической иерархии (в силу своей молодости, а также беспартийности и отсутствия соответствующей кандидатской степени у большинства из них). Но почти все они «имеют контакты» с властью в рамках групп, к которым принадлежат.
Диссиденты
Профессиональные карьеры некоторых из будущих неформалов в официальной сфере сворачиваются в пользу «истинной» карьеры в оппозиции. В центральном ядре первой когорты нет почти ни одного «правозащитника» (а те, кто, подобно В. Новодворской, вписывают себя в это диссидентское течение, оказываются маргинализированы). Бо́льшая часть диссидентов, ставших неформалами (например, Г. Павловский, В. Игрунов, Б. Кагарлицкий, А. Фадин, П. Кудюкин), с начала 1970-х годов решают порвать с традиционным диссидентством и искать новые формы взаимодействия с властью. Они оказываются в положении инакомыслящих внутри самого диссидентства. Некоторые традиционные диссиденты (Г. Якунин, А. Огородников), в свою очередь, примыкают к неформальному движению, но лишь со второй половины 1988 года (тогда как к общественной деятельности они возвращаются уже с 1987-го). Таким образом, их приход совпадает по времени с началом деятельности второй когорты119.
Восемь членов этой группы происходят скорее из «средних» социальных категорий: у шестерых родители инженеры или военные. Почти все пошли работать на те должности, на которые их распределили после университета. Но по истечении обязательного трехлетнего периода их траектории становятся более подвижными, что зачастую связано с их параллельной политической деятельностью. Мобильность между отраслями иногда сопровождается географическим перемещением (к Москве) – чтобы выйти из-под контроля местных властей. В некоторых случаях принадлежность к диссидентству становится способом вырваться из провинциальной жизни. Переезд в Москву позволяет приблизиться к эпицентру политической активности. Г. Павловский (род. в 1951 году) был под наблюдением КГБ за свою диссидентскую деятельность с 1968 года; в возрасте 23 лет он покидает свой родной город Одессу, оставляет должность преподавателя и свою семью и начинает «новую жизнь» в Москве, полностью уйдя в диссидентство120.
Их «истинная», «единственно стоящая» профессиональная карьера развивается в диссидентской сфере. Они становятся главными редакторами самиздатовских журналов, руководят работой кружков и организуют сети распространения подпольной литературы.
Те, кто вступили в неформальное движение во время Перестройки, с середины 1970-х годов стали стремиться к диалогу с властью, к продвижению по пути «наверх» через зоны взаимной проницаемости между легальной и нелегальной сферами, пытаясь сформировать некоторые каналы коммуникации. Эти диссиденты внутри диссидентства избрали в качестве посредников некоторых шестидесятников, таких как историк Михаил Гефтер и журналист Григорий Водолазов (историк по образованию). Оба они при Хрущеве публиковались в журнале «Новый мир». В конце 1970-х Г. Павловский знакомится с М. Гефтером, и тот становится его «учителем»121. После того как в 1969 году был распущен сектор методологии истории под руководством М. Гефтера, ему запретили публиковаться и фактически лишили возможности вести исследования. Тогда он постепенно отдаляется от Академии наук (уйдя на пенсию в 1976-м), выходит из партии в 1982-м и обращается к самиздатовским кругам. В 1977 году он участвует в создании диссидентского журнала «Поиски», редактором которого становится Павловский. Осознавая пользу промежуточности своей позиции между диссидентством и официальной сферой, Гефтер отказывается уходить в подполье. Когда его допрашивают в 1982 году в ходе следствия по делу «Поисков», он подчеркивает, что никогда не скрывал своего участия в этом журнале (хотя его имя и не фигурирует в списке членов редколлегии). Основатели «Поисков» стремились также внедрить новый тип журнала, который не был бы ни подпольным, в отличие от других самиздатовских изданий, ни официальным.
Можно заметить, что некоторые диссиденты и научные работники, задействованные в этих кругах (наподобие «Молодых социалистов»), схожи в своем стремлении войти в контакт с властью и порвать с логикой правозащитников. Однако отличие между первыми и вторыми состоит в том, что научные работники стремятся к социально одобряемому статусу (они интегрируются в престижные исследовательские институты, хотя и не делают там карьеру классического типа), тогда как остальные целиком и полностью отдаются диссидентству, отбрасывая саму идею официального статуса.
В начале 1980-х годов некоторые из этих неортодоксальных диссидентов, как В. Игрунов, открыто выражают идею о том, что власть и оппозиция должны вести переговоры, чтобы стабилизировать свои отношения и прийти к взаимовыгодным результатам. По мнению Игрунова, государству невозможно навязать процесс переговоров. Поскольку договаривающиеся стороны следуют несовместимым логикам, именно слабая сторона, то есть диссидентство, должна пойти на уступки и допустить, что диалог может происходить не в публичной форме, не в условиях «абсолютной прозрачности» и не в виде «максимально широкого обсуждения» (как любили требовать правозащитники). По мнению этих диссидентов, власть способна лишь к «неконтролируемому распространению информации, к нарушению этикета, исключающему диалог»122. Г. Павловский, как и «Молодые социалисты», надеется на возможность переопределения правил политической игры, то есть на раскол блока власти и сближение между реформистскими фракциями партии и оппозицией. Из периферийной эта конфигурация должна была отныне стать центральной в новом пространстве игры:
Идея [в 1981 году] была в том, что система в силу принципиальной нереформируемости социума, в котором мы находились, Советского Союза… не давала никакой возможности… То есть возникла тупиковая ситуация как для власти, так и для любых оппозиционных сил – радикальных или нерадикальных, все равно, реформистских или нет, неважно. […] Реформа будет вынуждена в кратчайший срок перерасти в неконтролируемый, революционный процесс без какого-либо политического субъекта, потому что времени на создание такого субъекта тоже не будет. А оппозиционные силы не могут сформировать такого субъекта, ни своими силами изменить власть, ни воздействовать на нее в силу того, что как бы концепция движения, его идеология не изменилась. А в противостоянии просто не то чтобы уничтожается человеческий состав движения, но нарастают, как я считал, неправовые интонации, неправовые акценты в деятельности самой власти. […] Шло постоянное ухудшение. Вот мне казалось, что в случае начала по какому-то поводу пускай даже неравноправных каких-то контактов движения и власти произойдет, с одной стороны, как бы временное ослабление репрессий, с другой стороны, некоторая консолидация движения. Потому что возникнут какие-то поводы для консолидации интеллектуальных сил движения, которые были оттеснены на периферию […]. С другой стороны, в составе власти произойдет тоже некоторый отбор, может быть, со временем будет некоторый отбор ориентированных на конструктивные силы людей123.
Попытки неортодоксальных диссидентов переопределить расклад политической игры, сблизиться с властью и поставить под сомнение схемы восприятия, господствующие среди диссидентов и представителей власти, наталкиваются на сопротивление с обеих сторон. Правозащитники стигматизируют эти «нелегитимные» вылазки в официальную сферу и обличают их как предательство и провокацию; власти без разбору репрессируют и арестовывают всех диссидентов, как «традиционных», так и «неортодоксальных». С обеих сторон строго зафиксированные репертуары действия накладывают жесткое ограничение даже на тех, кто им сопротивляется. Но именно эти опыты и составят основу будущего неформального движения.
Акторы с изменчивыми траекториями
По остаточному принципу среди неформалов первой когорты можно выделить третью группу. Хотя в ней и нет заметных лидеров, она, безусловно, самая многочисленная, и ее сложнее всего охарактеризовать. Ее члены – это и не молодые исследователи, располагающие местами критической рефлексии в своем профессиональном поле, и не индивиды, явно отмеченные печатью диссидентства. Члены третьей группы поддерживают связи с диссидентскими кружками, созданными в конце 1970-х годов124; однако их деятельность там весьма умеренна и чаще всего сводится к чтению самиздата. В большинстве своем они проводят более четкую границу между разными сферами своей активности и реже идут на риск. Поскольку они не были в первых рядах оппозиции, то и арестам не подвергались. Их политический активизм и прямые контакты с властью до начала Перестройки менее интенсивны, чем у двух других групп125. При этом, несмотря на отдаленность профессиональной карьеры от подпольной политической деятельности, нельзя сказать, что члены этой группы ведут какую-то отдельную, параллельную, «двойную жизнь».
Среди них наблюдается сильная тенденция к профессиональной мобильности (межотраслевой и/или географической). Одним из возможных объяснений этой склонности к мобильности является тот факт, что они попадают в ситуацию «подневольной» рабочей силы сразу после окончания вуза. Именно в этой группе обнаруживается самая высокая концентрация детей инженеров, военных и рабочих, которым, как мы уже упоминали, приходилось довольствоваться не самыми престижными вузами и учиться на педагогических и технических специальностях, ведущих к не особо прельщавшим их карьерам преподавателей в средних школах и инженеров. Вполне возможно, что их положение на рынке труда и подтолкнуло их к поискам мест параллельного политического общения.
Члены этой группы пытаются скорректировать свою слишком жестко предопределенную стезю и диверсифицировать свою идентичность как во времени (за счет профессиональной мобильности), так и в социальном пространстве (за счет девиантных политических практик). Отсюда и происходит столь большое разнообразие наблюдаемых профессиональных траекторий. В некоторых случаях межотраслевая мобильность была преднамеренной, в других – вынужденной, став следствием «неадекватного поведения». Как бы там ни было, девиантное поведение оказывает разный эффект на профессиональные траектории в зависимости от того, какими ресурсами располагает семья. Для москвичей и ленинградцев, происходящих из привилегированных сред, последствия почти безболезненны. Так, И. Чубайс, сын полковника, устроил в Одессе индивидуальный пикет против вторжения в Чехословакию в 1968 году. В отличие от других представителей этой категории он совершил публичный акт протеста и мужества, причем вплоть до Перестройки ничем другим не отличился. Его исключают из Ленинградского государственного университета, правда, тремя годами позже снова принимают по ходатайству его отца. Однако для детей рабочих, прибывших на обучение в столицу, малейшее отклонение в поведении оборачивается тяжкими последствиями и вполне может привести к выдворению из Москвы и краху всякой надежды на социальное продвижение. Поэтому лишь небольшое (относительно) количество будущих неформалов пополняет ряды «поколения дворников и сторожей»: даже не будучи завзятыми оппозиционерами, они подвергаются исключению из профессиональной среды, и им удается найти лишь неквалифицированную работу. При этом они не компенсируют это деклассирование какой-либо заметной позицией в диссидентстве, которая могла бы стать источником социального престижа.
У представителей этой группы наблюдаются очень подвижные профессиональные траектории, и они быстро отклоняются от карьер, к которым были предназначены в силу своего социального происхождения и специализации своего высшего образования.
Посещение мест альтернативной политической коммуникации дает им доступ к другой культуре и к интеллектуальным кругам, удаленным от их изначальной профессиональной сферы. Вполне вероятно, что эти внепрофессиональные связи открывают им новые возможности и тем самым расширяют сферу доступной переориентации.
Посредники
И наконец, последняя группа неформалов, пришедших в клубы с 1986—1987 годов, состоит из «восходящей элиты» партии (выражение В. Игрунова). Это члены КПСС, которые принадлежат к реформаторскому крылу и осуществляют функции пропаганды в академических и университетских учреждениях. В отличие от всех остальных они (почти) не посещают места критической мысли, идентифицированные как таковые властями, и приходят на полуполитические-полунаучные должности в результате двух типов траекторий. Первые после обучения философии преподают марксизм-ленинизм в вузах. Вторые, придя из производственной сферы, занимают должности в комитетах комсомола или партии, служащих им стартовой площадкой для дальнейшей работы в социальных науках. С. Скворцов (род. в 1956 году) вступил в партию в двадцать лет, еще в бытность студентом Тульского политехнического института. Тула, город в двух сотнях километров от Москвы, является одним из крупнейших центров производства оружия и боеприпасов. Скворцов начинает карьеру инженера в конструкторском бюро ВПК и параллельно становится инструктором райкома комсомола. Отслужив в армии (1980—1982), он получает должность в Москве в Совете по пропаганде конкретной экономики (тогда под руководством Шаталина) в рамках общества «Знание» РСФСР. Эта организация, специализирующаяся на распространении научно-популярного знания и пропаганде, служит ему ступенькой в академическую сферу. В 1984 году он начинает работу над диссертацией в Институте экономики (защитит в 1988-м), занимая при этом должность в Институте экономики и проблем научно-технического прогресса АН СССР. В 1987 году Скворцов становится одним из организаторов первого крупного съезда неформального движения (Информационная встреча-диалог «Общественные инициативы в Перестройке» в августе 1987 года).
Этим «посредникам» удается пристроиться в промежуточной зоне между партией и научным миром. Благодаря своему прошлому «девиантному» опыту, а также потому, что они не являются чистыми «агентами партии»126, в начале Перестройки они становятся стратегическими посредниками по проведению политики партии в отношении появляющихся неформальных клубов.
Изучение мест альтернативной политической социализации до Перестройки позволяет выделить некоторые основополагающие элементы генезиса поколенческого союза и политического поколения. Некоторые неформалы происходят из очень политизированных семей. Эта политизированность проявляет себя в двух смыслах: 1) у этих семей есть политическое прошлое (будь они сторонники режима или его жертвы), которое сильно повлияло на траектории последующих поколений; 2) эти семьи становятся театром столкновения между однозначными и зачастую антагонистическими политическими позициями. В период учебы в вузах многие из будущих неформалов вовлекаются в не- или полуофициальную деятельность. Последняя в 1970-х годах постепенно становится знаком социального престижа и привлекает также студентов из менее политизированных и менее привилегированных семей, выполняя, таким образом, функцию настоящего очага, где выплавляется новое политическое поколение. Места параллельной социализации являются важными элементами в индивидуальных траекториях, и их влияние распространяется на послеуниверситетский период. Наблюдаются разные варианты переплетения профессиональных и политических траекторий в академической и диссидентской средах и «взаимовлияние» между ними.
У поколения (будущих) неформалов есть два основных ориентира – шестидесятники и диссиденты. Они как вдохновляются ими, так и отталкиваются от этих примеров. Они не стремятся ни к критике системы изнутри, как это делали шестидесятники, ни к тому, чтобы оставаться вне ее, как диссиденты. В конце 1970-х годов некоторые будущие неформалы переходят к действию, стараясь порвать с господствующими моделями поведения и восприятия. Через эти отдельные (и бесплодные) попытки они и получают свой первый опыт взаимодействия с властью.
2. Социальные логики позднего вовлечения (вторая когорта)
Вторая когорта вступает в неформальное движение, когда оно становится заметным и легкодоступным. Вплоть до весны 1988 года московские клубы собираются в основном в закрытых помещениях. Накануне XIX Всесоюзной конференции КПСС (июнь—июль 1988) некоторые из них начинают организовывать еженедельные митинги в самом центре столицы, на Пушкинской площади. Именно в этом российском «Гайд-парке» рекрутируется часть представителей второй когорты. Позднее, в ходе кампании перед выборами депутатов СССР в начале 1989 года, новобранцы привлекаются в движение через неформальные клубы двух типов: районные «клубы избирателей» и «партийные клубы» (партклубы, куда приходят именно члены КПСС). И наконец, в 1990 году некоторые клубы первого поколения сами преобразуются в «партии» и расширяют свою «социальную базу».
В отличие от первопроходцев новобранцы второй волны вступают в движение, в основном не проходя через какие-либо сети предшествующих отношений. У них нет почти никаких связей с академической или диссидентской средами, и, за редким исключением, они не занимались никакой «девиантной» политической активностью до Перестройки. Поэтому им незнакомы альтернативные практики и знания, сформировавшие опыт первой когорты. Чем объяснить тот факт, что участники второй волны, которые в общем и целом не отличаются от первой по своему социальному происхождению, оказались вне влияния различных форм политического протеста или инакомыслия?
Это отличие в политическом поведении может быть связано с иной ориентацией университетской и профессиональной карьеры. Специализация образования вновь прибывших менее «политизирована», поскольку они изучали скорее точные и технические науки, нежели социальные. Первым неформалам свойственна сильная межпоколенческая мобильность, тогда как у вторых она гораздо слабее, и они зачастую остаются в той же образовательной и профессиональной специализации, что и их родители. Наконец, последние широко прибегают к официальным механизмам социального продвижения (военная служба, активизм в комсомоле, вступление в партию, карьера в партаппарате), которых, как правило, избегают представители центрального ядра первой когорты. Такой выбор (его так и хочется назвать осторожным) приводит к предпочтению социальной интеграции, соответствующей установленным нормам, и делает менее вероятным посещение мест, где были распространены девиантные политические практики и критика режима. Запоздалое прибытие второй когорты в неформальное движение само по себе отражает некую осторожность, поскольку оно происходит в 1988—1989 годах, когда уже стало ясно, что процессы реформ необратимы, а риски санкций – весьма маловероятны.
Прежде чем приступить к анализу траекторий, которые держат участников второй волны вдалеке от критично настроенных политических сред вплоть до самой Перестройки, полезно было бы остановиться на некоторых аспектах семейного наследия, предрасположивших многих из них к большей предусмотрительности, а главное, к большему конформизму в их жизненном выборе, к более «ортодоксальной» социальной интеграции, чем в случае первых неформалов. Затем, сделав скачок во времени, мы увидим, что их приход в движение – поздний, но крайне интенсивный – приводит к очень быстрой трансформации некоторых черт неформального движения.
Разнородное социальное происхождение предрасположенности к «конформизму»
Семейная история и сталинские репрессии
Самое разительное отличие между двумя группами состоит в их поколенческой структуре (см. таблицу 1). Если первая когорта принадлежит в основном к послевоенным поколениям, то вторая состоит из оных лишь наполовину, а остальную часть составляют активисты, родившиеся с 1937 по 1941 год, в другой период высокой рождаемости127. Две группы различаются прежде всего по положению семей их участников в политической истории. Для большой части вновь прибывших вся советская история концентрируется всего в двух поколениях. Родители (а не бабушки и дедушки) сделали карьеру в 1920—1940-е годы, в период высокого риска репрессий (чистки 1930-х, понижения в должности после смерти Сталина), тогда как родители активистов центрального ядра первой когорты вступили в профессиональную жизнь уже после войны, в гораздо более стабильный период.
Чистки оказали разный эффект на семейные траектории, и вторая когорта в этом отношении неоднородна. В целом она несколько менее ими затронута, чем первая, однако пострадавшее меньшинство испытало на себе гораздо более жесткий удар, поскольку жертвами были их родители. Отец Г. Водолазова, крестьянского происхождения, являлся одним из основателей комсомола в годы революции. В ходе Гражданской войны он сражался на стороне красных и получил звание «героя». Затем изучал историю и философию в МГУ. Во время коллективизации он поддержал группу Бухарина. В 1930 году его арестовали и приговорили к расстрелу, который был заменен на заключение в лагерях. С 1930 по 1954 год Водолазов-отец был арестован несколько раз и почти весь этот период провел в лагерях или в маргинализированном состоянии (его последний арест пришелся на 1948 год, когда его сыну было десять лет).
Все та же близость к революции и сталинскому периоду обнаруживается и у неформалов второй когорты, рожденных после войны, в семьях, где вследствие чисток и войны дети появляются настолько поздно, что от родителей их отделяет полвека. Так, например, отец Александра Механика (род. в 1947 году) 1901 года рождения. Он был сыном еврейского портного, вступил в партию в 1917 году и участвовал в боях Гражданской войны. В 1920 году он становится секретарем райкома партии в Крыму, а затем учится в Институте красной профессуры в Москве128. В 1927-м участвует в подавлении демонстрации троцкистов, хотя в 1923-м сам был троцкистом. До 1937 года он занимал высокие должности в Московском горкоме партии, а затем был арестован и сослан в Семипалатинск (Казахстан). Вернувшись из ссылки во время войны, Механик сражается на фронте. После демобилизации ему, как бывшему ссыльному, запрещено пребывание в Москве. Он возвращается в Казахстан, в Алма-Ату (где и рождается его сын). В 1947 году он снова арестован и отправлен в лагерь. По возвращении стал ученым-экономистом.
Можно предположить, что родители, пережившие сталинский период и тем более поднявшиеся по социальной лестнице, осуществляя важные политические функции после революции, более или менее сознательно прививали своим отпрыскам привычку к осторожности. Что касается большинства вновь прибывших, чьи семьи не подверглись чисткам, то им свойственна не осторожность, а скорее некоторый конформизм.
Относительная межпоколенческая стабильность
При равных социальных характеристиках две когорты отличаются между собой способами трансформации семейного наследия. Участники второй волны склонны воспроизводить как профессию родителей, так и их политическую позицию.
Социальное происхождение у двух когорт примерно одинаковое. Лидеры клубов обычно происходят из семей с вертикальной социальной мобильностью, хорошо интегрированных в систему. В обоих случаях обнаруживается одинаковая доля семей, занимающих высшие позиции в социальной иерархии или принадлежащих к «среднему классу». Главы семей заняты в одинаковых сферах: армии, промышленности, партии. Однако две эти группы отличаются между собой способами трансформации семейного наследия. Представители второй когорты склонны воспроизводить специализацию своих родителей (полностью или в смежной области), сохраняя, таким образом, структуру семейного наследия (образование и профессию), тогда как участники первой когорты проявляют более сильную горизонтальную мобильность.
Поздно присоединившиеся к движению участники во многом склонны «довольствоваться» наследованием результатов усилий по социальной мобильности, межпоколенческой и даже внутрипоколенческой (переориентация или двойная специализация), уже совершенных их родителями. Самым типичным примером этой двойной, вертикально-горизонтальной, мобильности служат отцы, поступившие на службу в армию во время или после Второй мировой войны. Армия послужила рычагом социального восхождения не только для детей рабочих и крестьян, в ней также служили гражданские специалисты (медики, юристы, физики, инженеры, историки). Она производила профессиональную переквалификацию боевых офицеров (в частности необходимую для политических работников). В большинстве случаев дети военных, принадлежащие ко второй когорте, наследуют специализацию своих отцов, перенося ее в гражданскую сферу. Социальная позиция, таким образом, удерживается с помощью минимальной трансформации профессионального семейного наследия. Василий Липицкий объясняет это:
Мой отец [крестьянского происхождения] учился на историческом факультете Московского университета. Затем война изменила его направление. Воевал, был летчиком. После войны учился в Военной академии. Затем его оставили в аспирантуре. И его специальностью стала военная история, история авиации. Он стал доктором исторических наук, достаточно известным специалистом по раннему периоду нашей военной истории – Первая мировая война, Гражданская война129.
Василий Липицкий (род. в 1947 году) перенял эстафету своего отца в гражданской сфере, став после учебы в МГУ историком КПСС.
Представителям второй волны удается лучше сохранить семейное наследие (уровень в социальной иерархии). Исходя из большей способности их семей передать им средства воспроизводства семейного наследия с наименьшими потерями и пристроить их в самые престижные учреждения, можно сделать вывод, что эти семьи занимают более высокие социальные позиции, чем в первой когорте. Одним словом, они чаще принадлежат к доминирующим фракциям в доминирующих сферах. Достаточно привести пример отцов-военных. Все они – офицеры высокого ранга (что не всегда наблюдается в первой когорте), выпускники военных академий, занимающие посты в командовании и регулярно отправляемые за границу. И кстати, все они служат в авиации, то есть в одном из престижнейших родов войск.
Как мы помним, самыми политизированными семьями ранних неформалов были те, чьи отцовская и материнская линии конфликтовали из-за их расходящихся траекторий. Будущие неформалы, принадлежащие к следующему поколению, часто становятся объектом борьбы между ними; они вынуждены очень рано вырабатывать четкую позицию и начинают искать формы политического активизма вне официальных путей. К этой первичной социализации добавляется эффект горизонтальных перемещений. Например, возможно возникновение межпоколенческого конфликта, проистекающего из противостояния ценностей и образа жизни вследствие разрыва с родительской профессиональной средой130. В следующей же когорте неформалов не проявляется ни один из тех факторов, что привели первых неформалов к раннему вовлечению в активизм: нет ни феномена расходящихся траекторий родителей, ни горизонтальных перемещений. Родительская семья не является местом политического воспитания; в лучшем случае это место, где происходит пассивное наследование позиции родителей (будь она лояльной или критичной в отношении режима). Политическое сознание не кристаллизуется в противостоянии главе семейства. Однако степень «предрасположенности к протестному активизму» может быть различной в зависимости от ситуации.
В некоторых случаях семейная история подталкивает родителей к тому, чтобы удерживать детей подальше от политики. Эту стратегию избегания можно объяснить стигматизацией, перенесенной после революции. Отец Михаила Астафьева был дворянского происхождения и не смог поступить в университет. Он стал специалистом по электронике в военной промышленности, получив среднетехническое образование. Таким образом, становление советского режима обернулось для него социальным нисхождением. Несмотря на то, что – а может, и потому, что – эта деградация не была такой жесткой, как сталинские чистки, ее хватило, чтобы пресечь на корню всякую склонность к радикальной оппозиции. Отец М. Астафьева вжился в новую идентичность, которую ему навязали. Его аполитичность представляется следствием осторожности, которая выработалась у него одновременно как у выходца из стигматизируемой социальной среды и как у человека на скромной технической должности в профессиональной сфере, принесшей ему социальное спокойствие и не способствующей появлению протестных настроений. М. Астафьев объясняет, что сам выработал в себе критичное политическое сознание тем, что с 13 лет регулярно читал «Правду», подвергая все прочитанное дистанцированному осмыслению131. После обучения в МГУ он становится физиком – то есть сыну удалось «наверстать» потерянные отцом социальные позиции. В других случаях поддержка режима принимается с тем большей очевидностью, что семейная история не дает никакой «объективной» причины усомниться в его правоте. Ирина Боганцева объясняет:
Я считала, что система нормальная, хорошая. […] Я с ней не ссорилась, и не потому, что я ее боялась. А просто вот с самого детства как-то у меня не было таких ситуаций, когда вокруг меня были эти конфликты. Так сложилось все мое окружение. Отец мой – военный, мама – учительница музыки. Даже родственники у меня не были репрессированы132.
И наконец, даже в семьях, где политика не вытесняется, «политизация» при этом не подкрепляется противостоянием главе семьи. Дистанцирование по отношению к режиму совершили уже родители; а дети, опять-таки, всего лишь следуют по их стопам. Отец Ильи Ройтмана, сын и внук военных, был офицером в инженерных войсках Бакинского военного округа, затем, уйдя на пенсию в 1969 году, стал заместителем директора московского театра «Современник». И. Ройтман рассказывает:
Круг, в котором были и мои друзья, общение, которое было у моих родителей, это был круг людей, которые были […] близкими к диссидентским кругам. И поэтому всю литературу, которая была запрещена тогда, я имел дома, я ее читал. […] Мой отец меня приучил в детстве слушать «Голос Америки», «Би-би-си»133.
Наряду с этой семейной традицией свободомыслия и принадлежности к артистической среде, развивающейся вне официальных институций, И. Ройтман наследует и другую традицию, противоречащую первой: сразу после окончания школы он идет служить в армию (тогда как те, кто собирались продолжить обучение в вузах, обычно без колебаний использовали возможность отсрочки, которая им таким образом предоставлялась). Иными словами, он в точности воспроизводит отцовскую траекторию, во всех ее противоречиях.
Отдаление от мест альтернативной политики
В продолжение своей университетской и профессиональной карьеры участники второй когорты оказываются в ситуациях, которые объективно открывают им меньше возможностей посещать места политической социализации наподобие тех, которые способствовали появлению первых неформальных клубов. Отсутствие «девиантной» социализации – не результат сознательной стратегии, а косвенный эффект выбранной ими образовательной и профессиональной траектории. Их незнание или удаленность от этих интеллектуальных и политических сетей дают ключ к объяснению их более позднего прибытия в неформальное движение.
Университетские траектории
Поздние неформалы не состоят в контакте с сетями распространения самиздата или со студенческими группами, независимыми от комсомола, тогда как для первой когорты такая ситуация типична. Выбор места обучения, вуза и факультета во многом объясняет это отсутствие контакта.
Представители второй когорты склонны специализироваться в сферах, лишенных какого-либо политического содержания. Они гораздо чаще, чем неформалы первой волны, выбирают точные науки и техническое образование, тогда как доля отцов с техническим образованием одна и та же в обеих когортах (около 40%). Поскольку техническое образование часто ведет к занятости в военном деле и промышленном секторе, оно вряд ли может привести к попаданию в критические и диссидентские среды (возможно, за исключением некоторых институтов, связанных с физикой). Когда представители второй когорты выбирают социальные науки, они в равной степени выбирают историю и философию, вне зависимости от периода поступления в вуз. В результате среди поколения 1948—1964 годов в два раза больше студентов-философов во второй когорте, чем в первой134. Эта разница в поведении может объясняться либо большей склонностью участников второй когорты к партийной карьере, либо тем, что их карьерные стратегии формируются так, чтобы не уклоняться от проторенных путей. По всей видимости, им присуща склонность делать менее рискованные ставки при своем жизненном выборе. Чтобы подстраховаться, они отдают предпочтение классическим техническим факультетам (точные науки) или философии – где есть более ясная перспектива. Это не означает, что они делают плохие ставки. Просто они не способны предвидеть возможность переопределения игры, в результате которого места изначально менее интересные могли бы получить бо́льшую ценность.
В зависимости от своего типа и географического положения разные вузы дают большие или меньшие возможности прохождения через девиантные формы политической социализации. Отраслевые технические институты гораздо более непроницаемы для внешнего влияния: будучи привязаны к промышленному сектору, они готовят специалистов, которым предстоит быть зафиксированными на определенных рабочих местах, и они менее склонны к «идеологическому попустительству» в отношении студентов, чем учреждения, дающие более теоретическое образование. А ведь специалистов в точных науках и инженеров, вышедших из отраслевых институтов, во второй когорте почти в три раза больше, чем в первой. Местонахождение вуза является еще одним фактором доступа к формам альтернативной политической социализации. Москва занимает центральное место в этой политической географии; в 1970-х годах студенческий активизм вне комсомола был там очень динамичным и касался выходцев из самых разных социальных слоев. Москва – это место относительной свободы и меньшего контроля по сравнению с провинцией. И показательно, что во второй когорте большинство провинциалов прибывают в столицу лишь после окончания вуза. Это запоздалое прибытие, возможно, объясняется их географическим происхождением: многие из них родились в маленьких городках или поселках, так что сначала им пришлось пройти период внутри- или межрегиональной мобильности в период учебы в вузе, а уж потом «прорваться» в Москву. Их пространственное и временно́е удаление от столицы не только сделало менее вероятным включение в протестную политическую активность; оно вынудило их не играть с огнем во время учебы в вузе, а затем старательно накапливать кредит доверия своей образцовой лояльностью системе, чтобы сохранить шанс однажды быть переведенными на работу в Москву.
Профессиональные траектории и интеграция в систему
Участники второй когорты склонны накапливать одобряемые системой знаки успешной социальной интеграции (активное членство в комсомоле, вступление в партию, служба в армии). Среди них пропорциональное число членов КПСС в два раза больше, чем в первой когорте; и этот разрыв углубляется в послевоенных поколениях. Стоит отметить, что многие из них работают в секторах, где членство в партии является обязательным условием интеграции (военная промышленность, теория педагогики и др.).
Таблица 6
Распределение членов КПСС по когортам вступления в движение и по годам рождения
* Поколение рожденных в 1958 году достигает обычного возраста вступления в КПСС (29 лет) в 1987 году. Однако некоторые категории (ответственные комсомольские работники, военные) могут вступать в партию и до 29 лет.
Военная служба и получение партбилета не сводятся к ритуалам интеграции в установленный социальный порядок. Они также дают возможность расширения пространства профессиональной мобильности – как вертикальной (давая начальный импульс к социальному восхождению и/или к более быстрому карьерному росту), так и горизонтальной (открывая сразу несколько возможных путей роста и упрощая межотраслевую мобильность). Для семей, которым не посчастливилось подняться на волне массовых продвижений по службе в 1930-е годы135 или после войны, совмещение военной службы с членством в партии является эффективным способом начать карьеру. Георгий Гусев (род. в 1939 году), сын рабочего, в 18 лет поступает на службу в военно-морской флот, а затем в десантные войска сроком на четыре года. Во время службы в армии вступает в партию. Затем он зачислен в Московский энергетический институт, но продолжает работать монтажником на заводе. Благодаря военной службе, статусу рабочего и членству в партии он занимает руководящую должность среднего звена в Московском научно-исследовательском телевизионном институте. Впоследствии он получает образование в Институте марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, что знаменует его вхождение в ряды номенклатуры. В других случаях военная служба или вхождение в комсомольскую элиту оказываются единственным способом профессиональной переориентации. Провалившись на вступительных экзаменах на медицинский факультет во Львове, Вячеслав Шостаковский (род. в 1937 году) вынужден довольствоваться фармацевтическим образованием. За год до получения диплома, в 1959-м, он начинает карьеру в комсомоле, а затем в партии и всего за три года получает назначение в Москву, в аппарат ЦК. В 1986 году он достигает пика своей карьеры, став ректором Московской высшей партийной школы при ЦК КПСС136.
В секторах, где поощряются знаки лояльности системе, членство в партии является решающим фактором карьеры. Отказ от вступления в партию оборачивается остановкой на относительно низком иерархическом уровне. Поэтому инженеры и исследователи второй когорты, оставшиеся работать в ВПК больше трех обязательных лет после вуза, почти все являются членами партии.
Активная работа в комсомоле, вступление в партию и военная служба дают также возможность занимать позиции в разных отраслях. Владимир Жириновский137 (род. в 1946 году) выстраивает свою университетскую траекторию так, чтобы сделать карьеру в дипломатии и/или в партии. Он изучает международные отношения в Институте марксизма-ленинизма при ЦК и турецкий язык в Институте восточных языков МГУ, где занимает также должность секретаря комсомольской организации. Во время военной службы в Политическом управлении Кавказского военного округа он специализируется на Ближнем Востоке. Затем изучает международное право в МГУ. Работая в Советском комитете защиты мира в течение двух лет, Жириновский наблюдает за деятельностью западноевропейских пацифистских движений. Затем, с 1973 по 1984 год, работает в адвокатской конторе, занимаясь международными разбирательствами в гражданских делах по вопросам собственности. И в конце концов возглавляет юридическую службу издательства «Мир» Советского комитета защиты мира. Таким образом, он работает не напрямую в дипломатическом корпусе, а в институциях, имеющих отношение к международным отношениям.
Итак, новички движения делают карьеры такого типа, который не встречается у первых неформалов, поскольку те, во имя поддержания «чистоты» своей социальной идентичности, держатся на расстоянии от некоторых властных институтов. Тем не менее иногда они не брезгуют прибегать к ресурсам партии: Андрей Фадин задействует связи своего отца в ЦК, чтобы избежать распределения учителем средней школы после окончания университета; Борис Кагарлицкий становится кандидатом в члены партии, надеясь обеспечить себе прикрытие для подпольной политической деятельности. Но и у того, и у другого эти компромиссы не принимают больших масштабов и не затрагивают основы их идентичности. Как бы там ни было, вторая когорта не соблюдает те табу, которые свойственны первой.
Политические траектории
Поздние неформалы, за редким исключением, не ведут подпольной или параллельной политической деятельности. Бо́льшая их часть объявляет поддержку реформаторам лишь на продвинутом этапе Перестройки. В их профессиональных карьерах не наблюдается отклонений, которые были бы вызваны их политическими позициями. Если не считать шестидесятников второй когорты, они не пытались использовать свою должностную позицию (порой довольно высокую), чтобы поменять правила игры.
Во второй когорте шестидесятники представляют собой исключение, несмотря на то что поколение оттепели представлено там широко. Это особенно чувствуется в партклубах: 53% из 66 активных членов «Московского партийного клуба» (МПК) родились до 1939 года, тогда как эти поколения составляют лишь 40% от общего числа членов партии. Создается впечатление, что неформальное демократическое движение дает второй шанс тем, кто в 1960-х «упустил момент».
Профессиональная деятельность и семейная среда рожденных с 1948 по 1964 год способствовали их удаленности от центров притяжения протестного активизма, однако волны, исходящие от этих мест, все-таки широко распространялись по советскому обществу. Поэтому членам второй когорты довелось контактировать с политизированными кругами, но они, сознательно или неосознанно, не использовали свои возможности. Это объясняется тем, что представители этого поколения выстраивали свою социальную идентичность таким образом, что не могли опознавать девиантные роли как легитимные. Так, Владимир Боксер постфактум считает, что не примкнул к «правильной» фракции интеллигенции, хотя имел все возможности доступа к диссидентству:
Я погрешил бы так против истины, если бы считал, что я был каким-то диссидентом до 1988 года. […] Я вообще не только не был диссидентом активным, но и пассивным я не был. […] Я не вращался в такой среде, которая имела больше информации, чем другие люди. Если взять тех, кто стал диссидентом, то в основном это представители чисто творческой интеллигенции и те люди, которые имели возможность в этот момент уезжать как-то на Запад… А мы138 жили в таком информационном вакууме […]. Среди моих родственников были какие-то родственники, которые имели в силу своего положения доступ к другой информации. […] Я помню, что я даже спорил с ними. Теперь понимаю: очень глупо при этом выглядел. У меня был троюродный брат, который был близок к Сахарову. С его отцом я спорил, говорил, что все не так по поводу событий в Чехословакии, даже в Афганистане139.
Даже когда у представителей второй когорты имеется политический опыт вне официальных рамок, в нем обнаруживаются элементы самоцензуры: этот опыт длится недолго, он ограничен в социальном пространстве и в самих формах, которые принимает мобилизация. Будучи студенткой исторического факультета МГУ, Ирина Боганцева участвует в спонтанной политической мобилизации, на которую руководство смотрело сквозь пальцы и которая воспроизводила официальный репертуар коллективного действия, ни в коей мере его не переворачивая:
В 1973 году, когда случился в Чили переворот, то это ужасное впечатление такое… очень гнетущее на всех произвело. И в университете поднялась такая буча по этому поводу. И мы организовывали субботники. Не комитет комсомола – он был против, он с нами боролся. И не комитет партии. А вот просто какие-то неформальные такие… еще тогда нельзя сказать, что лидеры, но… мои приятели там. Не только на нашем факультете эти люди были. На биофаке, я помню, было много. И мы организовывали сами… мы находили место работы. Например, мы работали в метро. […] И мы зарабатывали деньги, и эти деньги мы отдавали чилийцам, которые тут были, чтобы они могли, например, вернуться на родину, чтобы они там могли купить оружие. […] И обязательно в этих субботниках участвовало человек по сорок, по-разному было. Был маленький митинг всегда140.
Хотя комсомол и партия демонстрируют скепсис в отношении этой инициативы, ее организаторы не пытаются использовать одобряемые формы в неодобряемых целях в логике «вторичной адаптации» – в отличие от некоторых членов «Лаборатории экспериментальной пропаганды» (появившейся в МГУ двумя годами раньше), которые продолжат свою деятельность в подпольной группе «Молодые социалисты», а затем окажутся в первой когорте неформалов. Ирина Боганцева не стала трансформировать свой опыт, слегка уклоняющийся от официальных путей, в «девиантный» политический активизм.
Таким образом, новобранцы движения делают карьеры, более соответствующие официально установленным моделям. Иногда встречающиеся отклонения в поведении остаются весьма ограниченными. Причины могут быть связаны с семейной историей (когда кто-то из родителей пережил период чисток), с местом рождения (позднее прибытие в Москву не способствует ранней эмансипации от некоторых давящих социальных норм) или с политической историей семьи (слабая степень вовлеченности в политику в рамках семьи или слабая трансформация родительской политической позиции). Этот конформизм оказывает влияние на стратегии в профессиональной сфере: отсюда слабость горизонтальной (межотраслевой) переориентации от поколения к поколению, настойчивая погоня за знаками социальной интегрированности, выбор карьеры, уменьшающий вероятность контакта с местами инакомыслия или социального деклассирования (доля людей, не имеющих стабильной занятости, во второй когорте гораздо меньше). Со второй волной на сцену неформального движения выходят акторы нового типа: они не принадлежат ни к категории шестидесятников (являвшихся в каком-то смысле «духовными отцами» первой когорты), ни к тому более или менее протестному поколенческому единству, из которого вышли многие участники первых клубов. В движении произойдут качественные изменения, поскольку эта новая волна активистов привнесет в него другие способы восприятия политической ситуации (прямая оппозиция режиму) и трансформирует его формы организации и мобилизации.
Вовлечение в неформальное движение
Поздний приход
В отличие от первых неформалов, быстро уловивших изменения в партийной элите, новобранцы не стали бросаться на поиски новых возможностей с самого начала Перестройки. Они приходят в движение лишь с весны 1988 года или даже в 1989 и 1990 годах. Некоторые не замечают текущих трансформаций или, по крайней мере, считают их недостаточными, чтобы решиться на вступление в общественную деятельность. Во многих случаях их рекрутирование происходит как бы случайно, будь то на Пушкинской площади или в клубах избирателей по месту жительства, проявляющих большую активность. Они отнюдь не сразу осознают, что ситуация изменилась, продолжая бояться запретов, которые на практике уже давно сняты. И. Боганцева, например, понимает это только во время выборов 1989 года, но и тогда не верит до конца, что ситуация действительно изменилась. В марте 1989 года милиционер позвонил в ее дверь и спросил, за кого она будет голосовать на выборах народных депутатов СССР.
Этот случай с милиционером меня страшно возмутил. […] Я нашла Инициативную группу Ельцина, в Госстрое, и сказала: «Знаете, если той стороне помогает милиция, то я готова помогать вашей стороне. Что мне делать, скажите, я буду делать. Давайте я буду клеить листовки». […] Прошло три дня этой всей деятельности [наклеивания листовок], и тут был пленум партии [16.3.1989], который осудил Ельцина за его «неэтичное поведение» […]. И мне было очень страшно. […] Я, член партии, агитировала за человека, который… ну в общем, его поведение партия осудила. То есть я веду антипартийную деятельность. […] И вот я выхожу из дома, у меня пачка этих листовок, я думаю, что, если я сейчас себя не преодолею, этот страх, он всегда будет внутри меня, то есть я всегда буду помнить, что было такое в моей жизни, чего я не смогла переступить. Я этого не хотела. […] И вот понимаете, это было самое начало. И они меня в это втягивали. У меня не было такого намерения141.
После выборов 1989 года неформальные группы стали восприниматься «всерьез» многими «видными представителями» КПСС как локального, так и общенационального уровня. Отныне партийные деятели присоединяются к ним без колебаний. Некоторые из них уже давно заинтересовались движением, но до поры до времени довольствовались тем, что наблюдали за ним издалека142, иногда оказывая поддержку, но не вступая в него: сделать такой шаг было тогда для них немыслимо. После выборов они смело вступают в клубы, сохраняя свои должности в партаппарате. Такой процесс стал возможен лишь потому, что само политическое пространство начало трансформироваться. Его флюидность проявляется в смыкании нескольких разных социальных сцен и в проницаемости границ между разными коллективными акторами. Так, Игорь Яковенко, заведующий идеологическим отделом Дзержинского райкома КПСС города Москвы, сближается с неформальным движением поэтапно. В конце 1986 года он дает неформалам разрешение на митинг, вследствие чего его увольняют с должности. До той поры он следовал по проторенному пути самой обычной партийной карьеры. Вступив в партию в 20 лет (в 1971-м), он получил философское образование в МГУ и стал ответственным комсомольским, а затем партийным работником. В партии он сделал карьеру и возглавил идеологический отдел райкома, получив параллельно образование в Московской высшей партийной школе (МВПШ) (1982—1986). После его увольнения из райкома в начале 1987 года ректор МВПШ В. Шостаковский, который считается протеже Александра Яковлева (правой руки М. Горбачева), берет его под свое крыло и делает его одним из своих ближайших соратников. Получив бо́льшую мобильность, И. Яковенко изучает клубы и становится сторонником «Московского народного фронта». В январе 1990 года он окончательно вступает в движение, присоединившись, одновременно с самим Шостаковским, к «Демократической платформе в КПСС». С приходом высокопоставленных аппаратчиков все сложнее становится провести границу между партклубами и самой партией, поскольку видные деятели последней используют клубы в своей борьбе за власть и предоставляют им некоторые партийные ресурсы (помещения, партийную прессу и т.д.). Правда, стоит отметить, что такого рода пополнение движения касается лишь небольшого количества людей: «профессиональные аппаратчики» остаются в абсолютном меньшинстве во всех неформальных клубах, даже в партийных.
В целом участники второй когорты вступают в движение только после того, как были приняты законодательные решения, сделавшие необратимыми текущие политические трансформации. Их вступление в движение привязано к трем ключевым моментам в политической жизни страны:
XIX партконференция летом 1988 года; на ней обсуждаются реформы КПСС и новые избирательные правила. Неформальные клубы пополняются в основном в ходе митингов на Пушкинской площади.
Первая избирательная кампания 1989 года перед выборами на Съезд народных депутатов СССР (январь—май 1989). Появившиеся тогда клубы избирателей, а также партклубы становятся главными каналами входа в движение.
Принятие в марте 1990 года поправки к Конституции СССР, отменившей монополию КПСС на власть и разрешившей многопартийность. Возникновение партий не стало переломным в развитии демократического движения, поскольку бо́льшая их часть образовалась в рамках клубов первого периода, или партклубов. Они стали новой формой организации и новым каналом рекрутирования в движение.
По приходе в движение новички сразу же начинают практиковать активизм в радикальных формах, проявляя политический радикализм и целиком и полностью предаваясь этой новой деятельности.
Проблемные отношения с участниками первой когорты
Поскольку у вновь прибывших иное политическое прошлое, нежели у пионеров движения, и они вступают в него в ином контексте, у них вырабатывается совсем иное видение того, чем является и чем должно быть движение, а также какими должны быть отношения, устанавливаемые с «властью» и «реформаторами». Они имеют существенный вес, потому что столь же многочисленны, что и представители первой кагорты; в Москве их насчитывается более тысячи.
Первая и вторая когорты располагают разными формами компетентности, и эта разница станет одной из причин их соперничества. Самые первые неформалы создают дискуссионные клубы, придают большую важность дебатам, проводимым зачастую по академической модели. Они пытаются повлиять на партийных реформаторов. А новобранцы стремятся в первую очередь задействовать места большого скопления людей, организуя митинги и демонстрации. У большинства из них нет таких исторических и политических познаний, как у лидеров первых клубов. И хотя они не брезгуют малопрестижной рутинной работой (расклейкой плакатов, распространением листовок, организацией охраны во время митингов, наблюдательской работой на избирательных участках), им доводится исполнять и более престижные роли (готовить депутатов-демократов к публичным выступлениям в преддверии первой парламентской сессии, организовывать первую демократическую парламентскую фракцию). Но главное, они выступают в роли организаторов митингов, а для этого опыт, приобретенный за годы работы в партии и комсомоле (привычка к публичным выступлениям перед неакадемической публикой, проведение мероприятий в партийных и комсомольских организациях, работа в советах), оказывается гораздо более полезным, чем «интеллектуальные» компетенции центрального ядра первой когорты.
Первые неформалы пытаются внедриться во властные игры, поддерживая порой двойственные отношения с партийными реформаторами. Ведя такую двойную игру, они склонны при этом занимать умеренные позиции. Новички же, в целом не привыкшие проникать в зазоры системы, плохо приспособлены к ситуации амбивалентности, к двойной игре, к интерпретации и переопределению смысла институций. Первые неформалы вступили в движение, когда система еще только начинала раскрываться вовне; когда же приходит вторая волна неформалов, система уже сдает позиции по многим пунктам. Да и сама предпочитаемая ими форма массовых акций, доказавшая свою успешность, заставляет их быть более резкими в отношении представителей партии и толкает к открытой оппозиции власти. Однако у такого рода радикализма совсем иной смысл, нежели у того, который был распространен в движении 1987—1988 годов, когда «радикальные» группы, приписывающие себя к диссидентству, оказались маргинализированы. Хотя радикализм новобранцев отчасти можно объяснить рвением неофитов и стремлением отделить себя от «старых» неформальных клубов, прежде всего он позволяет сблизиться с «радикальными» реформаторами внутри аппарата, такими как Ельцин. Этот радикализм, диктуемый (как и умеренность первой когорты) стратегическим чутьем, идеально вписывается в тенденции времени, и его выигрышность подтверждается результатами выборов на Съезд народных депутатов СССР в 1989 году.
Отсюда и происходит то, что на первый взгляд может показаться парадоксом: именно социально интегрированные индивиды, остававшиеся вдали от инакомыслящих и диссидентских сред, становятся главными проводниками политической радикализации143 и противостояния режиму, тогда как акторы, начавшие свою оппозиционную деятельность задолго до Перестройки, предпочитают разыгрывать сценарии сотрудничества с властью и весьма умеренны в своем противостоянии ей.
Вторая часть
ИСТОРИЧЕСКОЕ ФОРМИРОВАНИЕ ОСОБОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ (1987 – ВТОРАЯ ПОЛОВИНА 1988 ГОДА)
Неформальное движение – это подвижный объект, развивающийся в политическом мире, который сам находится на стадии формирования. Тем не менее создание движения и его коллективной идентичности опирается на отдельные элементы стабильности. Конфигурация отношений клубов с другими политическими акторами, существовавшими ранее или появляющимися одновременно с ними, обнаруживает определенное постоянство с 1987 года и до второй половины 1988-го. Однако содержание этих отношений, правила, по которым они развиваются, весьма различаются в зависимости от конъюнктуры. Иными словами, при некой постоянной структуре игры наблюдаются значительные вариации происходящего внутри этой структуры.
Несмотря на то что неформальное движение отсылает к очень разнородной совокупности типов организаций и форм мобилизации, ему удается сформировать некую коллективную идентичность. Как форма «клуб», так и термин «неформал», существовавшие до Перестройки, присваиваются новыми акторами, которые переопределяют и по-новому их используют. Вскоре лидеры основных политических клубов уже стремятся привести всю эту разнородность к общему знаменателю, к идентичности, способной создать между ними некую связь, а также обозначить отличие от других политических акторов, порождая общий эффект «движения». Термин «неформал» оказывается в эпицентре этого формирования идентичности. Прежде всего, он является синонимом «неофициального», «независимого» от государственных органов. Но это также и политическое позиционирование: неформалы в основном принадлежат к «левым». Однако сам термин «левые» неоднозначен. С одной стороны, он отсылает к классической западной типологии: большинство клубов определяют себя как «социалистические» (с разными нюансами), что в контексте 1987—1988 годов означает близость с партийными реформаторами. С другой стороны, этот термин обретает специфический смысл в традиционной российской терминологии, которая тогда вновь всплыла на поверхность, обозначая силы, выступающие за политическую и экономическую либерализацию. Два эти смысла не обязательно совпадают друг с другом, и двойственность понятия будет оказывать глубокое влияние на «неформальную» идентичность в течение всего ее существования.
