Читать онлайн Немецкая философия. Философия времени в автопортретах. Том 1. Под редакцией доктора Раймунда Шмидта бесплатно
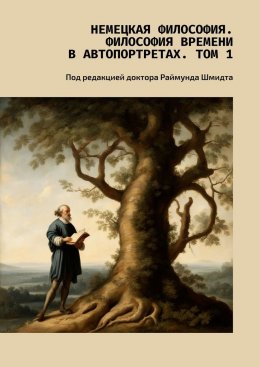
Переводчик Валерий Алексеевич Антонов
© Валерий Алексеевич Антонов, перевод, 2024
ISBN 978-5-0062-4758-1 (т. 1)
ISBN 978-5-0062-4759-8
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Предисловие редактора
От того, какую философию человек выбирает, зависит, что он за человек: ведь философская система – это не мертвый предмет обихода, который можно отбросить или принять по своему усмотрению, но она одушевлена душой того, кто ею владеет».
Фихте, Первое введение в теорию науки.
Эта коллекция автопортретов живых философских личностей имеет как фактологическое, так и педагогическое обоснование. Он составляет определенный контраст со всеми «введениями в современную философию», со всеми «изложениями современных философских течений1», которые являются вторичными и которые почти всегда оказываются в заблуждении, что полностью адекватное изложение современной философии вообще возможно. Точно так же, как, несомненно, возможен рассказ о достижениях техники, отчет о современном состоянии медицинских исследований и прочее.
«То, что передает художник, – пишет Алоис Риль в своей монографии о Ницше,1 – и на чем основывается его действительный эффект, – это не объект его работы в отдельности или в первую очередь, а он сам в своей работе: его концепция объекта, его настроение, радость от его работы. Произведение и личность едины в каждом подлинно художественном творении». Аналогичная ситуация и с философом. Его творчество – это тоже комплекс его высшего философского опыта и тех проблем, которые ставит перед ним его среда, его время. Даже в тех произведениях современной философии, где явно прослеживается стремление оторвать мысль от личности того, кто ее мыслит, т.е. «обезличить» свое творчество, присутствует необычайно значимая личностная нота.
Стремление отдельных авторов рассматривать каждую из своих проблем sub specie aeter-nitatis вытекает из личности автора, является симптомом своеобразия его душевного склада. В работах наших философов также постановка проблемы и ее решение оказываются настолько тесно связанными с личностью решателя, что разделить эти два фактора было бы равносильно нарушению работы. Разумеется, не мелкие черты повседневного опыта должны оказывать широкое влияние на жизненный путь философа. «Философы имеют, – как выразился Пауль Менцер в превосходной ректорской речи,2 – право требовать, чтобы их учение понимали из их высшей жизни».
Если уже сейчас необычайно трудно нарисовать картину жизненного пути философа далеких веков так, чтобы не возникло противоречий, то насколько же сложнее это сделать в отношении живого, нарождающегося человека! Труд умершего человека завершен и говорит сам за себя. Богатство данных, относящихся к его личному опыту, было передано как руководство к его «высшей жизни», так сказать. Это относительно неизменный набор факторов, позволяющих нам судить о его творчестве, понимать это творчество с точки зрения его личности и его времени, и все же его образ колеблется в веках. Каждая эпоха и каждый историк, живущий в ней, зависят от конкретных потребностей, опираются на конкретные стандарты. Тем не менее, в ходе историографии, которая заключается в постоянном обобщении и сравнении найденных особых перспектив, могут возникать образы относительной стабильности и некой «вечности». Тем не менее, несмотря на все уверения исторического мышления и реконструкции, объективный контроль невозможен. Накопленные предрассудки, накопленные ошибки реконструкции в хорошем и плохом смысле легко вкрадываются в этот «образ вечности» и таким же образом увековечиваются, и поэтому, по мнению редактора, даже самую совершенную реконструкцию исторической личности мы должны сравнить с мифом в определенном смысле. История, которая в конечном счете является наукой и провозглашением души, – говорит Эрнст Бертрам 3в своем «Мифосе Ницше», – никогда не является синонимом реконструкции чего-то, что было, с максимально возможным приближением даже к той реальности, которая была. Скорее, это именно де-реализация этой прежней реальности, ее перевод в совершенно иную категорию бытия; это замена, а не создание реальности».
Причина этого исторического процесса обессмысливания кроется уже в наших отношениях с современниками. Вероятно, никто не в состоянии получить всеобъемлющее представление о современной философской литературе путем обширного, непредвзятого изучения источников, да и вообще всех источников, и в то же время имеет счастье находиться в таком тесном контакте с достаточным числом философских личностей, что решающие для философского развития черты чисто личного развития, внутренней жизни и характера не являются для него тайной. Тот, кто не находится в таком положении, а это более или менее каждый из нас, зависим от сведений из вторых рук и не имеет возможности исключить из своего представления о «философских течениях современности» игру случая, каприз моды дня, предрассудки рецензентов, односторонность направления и тому подобные искажающие факторы. Ведь даже те писатели, которые ставят перед собой задачу описать современную философию, редко черпают достаточно из обоих источников: из знания произведений и личностей. Слишком часто им не хватает непосредственного, всеобъемлющего, сравнительного знания всей философской литературы, и даже там, где оно примерно доступно, человек редко может освободиться от влияния своей собственной философской позиции на его способность интерпретировать чужие мыслительные процессы без предубеждения, от своих собственных стремлений и желаний, которые делают невозможным для него полное ознакомление, полное понимание и передачу творений других. Таким образом, первый шаг к фальсификации исторической реальности, к мифизации в хорошем и плохом смысле, о которой мы говорили выше, делается уже при жизни автора. Поскольку у нас нет объективного отчета о философии наших современников, поскольку мы не можем иметь такого отчета, мода того времени и капризы случая играют самые губительные игры с нашими попытками видеть и судить объективно. Поэтому понятно, что в общественном мнении играют роль ошибки самого трагического свойства, что, несмотря на всю добрую волю, «система невежества и смертельного молчания» никогда не перестанет действовать, что искренний крик одинокого мыслителя остается неуслышанным и что модные фигуры без глубины и вдумчивой дисциплины привлекают все лучи общественного внимания.
Идея этого сборника возникла из таких фактических возражений против сообщений из вторых рук. Никто, кроме создателя системы, никто, кроме самого творца мысли, не может дать отчет о «психогенезе» этой мысли. Только он знает значение отдельных этапов ее интеллектуального развития. Он один способен указать, при каких судьбоносных личностных и фактических условиях проблема стала для него проблемой, а решение – решением. Ему легче всего классифицировать себя в концерте умов своего времени и продемонстрировать историческую привязку своего мира мысли. У него тоже, несомненно, будут «ценности», и его категоризация также будет субъективной. Однако субъективный момент, который таким образом вливается в такой отчет, совершенно не похож на источник ошибок, возникающих при субъективном восприятии и сообщении литератора X, который совершенно равнодушен к философии. Напротив, поскольку в философии фактический и личностный аспекты образуют нерасторжимое единство, он является абсолютной частью той картины, которую мы обязаны составить о данной личности и ее философии. Более того, этот субъективный элемент в достаточной степени уравновешивается и нивелируется противопоставлением самых разных личностей в сборнике для тех, кто имеет в виду только судьбу конкретной проблемы и стремится избавиться от всех субъективных источников ошибок.
Такое неприятие репортажей из вторых рук накладывает серьезные обязательства на редактора этого сборника. Он тоже является источником ошибок, по крайней мере, благодаря тактике отбора, которую он применяет среди ведущих умов философского настоящего. В этом деликатном вопросе он должен оправдаться перед публикой. Однако обзор доступных на данный момент материалов сборника показывает, даже самым предвзятым, что не может быть и речи об отборе, основанном на каких-либо личных философских пристрастиях. Суровый. Сборник объединяет противоположности, хотя изначально предлагает лишь часть общей картины современной философии. Он задуман как бесконечная задача. Он должен постепенно превратиться в своего рода «энциклопедию философских личностей нашего и грядущего времени». Поскольку начинать нужно было с какой-то группы людей, имело смысл ограничиться вначале самыми выдающимися фигурами в академической философии, в той мере, в какой они достигли или уже прошли определенную вершину в своем творчестве. Разумеется, с каждым новым изданием тома эти авторы получают возможность пересмотреть свой вклад и добавить вновь обретенные этапы своего творчества, новые взгляды на уже пройденный ими путь развития. Однако это ограничение более узким кругом специализированной академической философии ни в коем случае не должно оставаться таковым. Как только здесь будет достигнута определенная полнота, последующие тома будут посвящены личностям, сфера деятельности которых включает пограничные философские области, философию права, педагогику и т.д., и, прежде всего, будут также включать автопортреты философских личностей, стоящих вне академической жизни и оказавших значительное и зрелое философское влияние. В этом отношении редактор не намерен полагаться исключительно на свои собственные суждения или предубеждения. Скорее, он просит общественность высказать свои предложения по организации публикуемой коллекции. Он постарается добросовестно изучить эти предложения и представить их на рассмотрение всех авторов. Он хотел бы, чтобы его собственный научный вкус и его философские склонности, в той мере, в какой они могут быть субъективными источниками ошибок при редактировании этой работы, были устранены.
Здесь редактор хотел бы парировать возражение, которое было высказано ему некоторыми лицами в ответ на его приглашение к сотрудничеству, будто желаемый акцент на личностном моменте в философском развитии является приглашением к саморекламе, авторскому тщеславию и демонстрации публике: «Смотрите, какой я мужчина!» Если бы публичность, американизм действительно были краеугольным камнем этого сборника, это было бы преступлением против соавторов и публики.
В его осмыслении проблемы, в развитии мысли со стороны ее создателя, в его самопрезентации так много от личности автора, что он не смог бы искоренить ее даже из своих научных трудов. Если он попытается сделать это успешно, то тот личный момент скромного отступления* за пределы рассматриваемого вопроса также заметно отразится в этих трудах. Уверенная в себе личность будет преподносить себя с осознанием, даже если в данном случае речь не идет о том, чтобы писать именно об этом. Сдержанная личность также непреднамеренно и без прикрас раскроет момент сдержанности в самоописании. Чтобы предоставить каждому автору полную свободу в этом более бессознательном представлении собственной личности, своей «высшей жизни», редактор оставил за каждым право решать, как он хочет представить психогенез своего мира мысли.
Помимо фактической, этот сборник преследует и образовательную цель. Она вытекает из тех же убеждений. Как в наш век специализации и разделения труда, позволяющий лишь очень небольшому числу людей черпать непосредственно из многих источников, человек может осознать философскую личность, быть приведенным к ней, которая своим судьбоносным развитием и уникальным состоянием души предлагает ему то мировоззрение, которого он так жаждет? Перед лицом этого чрезвычайно важного вопроса все представления из вторых рук меркнут, превращаясь в простые схемы. Только автопортреты, подобные тем, что представлены здесь, ставят под вопрос серьезного искателя. Только они дают краткий, но неискаженный фактический обзор философских достижений наших лидеров в области философии и широкую поверхность контакта с людьми, стоящими за этими достижениями. В рамках этих самоописаний ищущий вскоре обнаружит адекватную ему личность, чтобы направлять ее к прямым источникам, которые открываются перед ним в ней и через нее.
Лейпциг, октябрь 1920 г.
Доктор Раймунд Шмидт
Пауль Барт
Почетный профессор Лейпцигского университета.
Если говорить о моем интеллектуальном развитии, то даже в последние годы студенчества мое стремление было направлено на полное и единое осознание всего сущего. Я считал, что это должно быть естественной целью каждого поэта и мыслителя, и был очень разочарован, когда нашел в «Мудрости брамина» Рюккерта лишь знание жизни, причем несистематическое, но никак не знание природы. Однако у меня было чувство, что это универсальное знание можно получить только из всего богатства отдельных наук, как обобщение их результатов, возведенное в высшую степень, дающее широкий, большой обзор настоящего и отсюда предвидение будущего.
Свои академические занятия я начал в 1875 году (родился в 1858 году). Большая любовь к классическим языкам и их литературе заставила меня обратиться к классической филологии. Я рассматривал ее как углубленную историю и надеялся получить глубокие знания об одной части прошлого. Я не игнорировал другую часть, историю Средних веков и современности, я хотел получить знания обо всей истории, по крайней мере, разобраться в этой половине бытия, поскольку у меня был большой интерес к естественным наукам, но мало времени. Мой план когда-нибудь получить мировоззрение, основанное на всей совокупности наук, оставался непоколебимым. Моим идеалом были те философы, которые охватывали или казались охватывающими вселенную в своих знаниях, такие как Лейбниц и Гегель. В Лейпцигском академическо-философском обществе, куда я приехал после шести месяцев, проведенных в Бреслау, летом 1876 года я прочитал лекцию о гегелевской философии истории, которую я не до конца понял, но которая захватила меня своим стремлением подвести под одну формулу все развитие человечества. Естественно, я слушал философские лекции, по внешним причинам больше с историком Максом Гейнце, чьим «famulus» я был, чем с Вундтом, а также с тогдашним приват-доцентом Рихардом Авенариусом, в которых он знакомил нас со своей теорией познания. Я также был многим обязан вышеупомянутому Академическому* философскому обществу, которое я с радостью обнаружил в Лейпциге, где сразу же стал его членом и оставался им до конца своих студенческих дней. Все проблемы философии и современные вопросы обсуждались там в горячих дебатах, тем более плодотворных, что среди нас был старший студент, Мориц Вирт, который был уже в зрелом возрасте и поэтому имел авторитет и умел подкреплять его снова и снова своими обширными знаниями и логической проницательностью, который видел свою задачу в этом воспитании молодых студентов и посвятил себя этому с большим усердием. Впоследствии он активно писал, особенно как прекрасный знаток поэзии и музыки Вагнера и последователь национал-экономиста Родбертуса, и умер в очень бедных обстоятельствах в Лейпциге в 1917 году. Он также продолжал заниматься филологией. Отто Риббек, редактор «Вергилия» и автор «Истории римской поэзии», обучал меня филологическому методу и критике. Моя докторская диссертация была посвящена использованию инфинитива у римских драматургов. Меня привлекли сцены частной жизни, раскрытые в их пьесах, и тонкое использование языка, предложенное Теренцием. Моя работа доказала, что я «понимаю ремесло», которое Карл Штумпф справедливо считает необходимым условием для философа.
Я покинул Лейпциг на Пасху 1881 года. За этим последовал год военной службы, затем четыре года (1882—1886) я работал учителем в Бреслау и Лигнице. Моя педагогическая работа давала мне много стимулов, и не в последнюю очередь потому, что, хотя я был новичком, я не получал никаких наставлений, а только учился на своих ошибках и поэтому мог наслаждаться своими собственными приобретениями. В течение этих четырех лет я преподавал во всех классах гимназии, а также в течение двух лет был членом экзаменационной комиссии Матура, так что у меня было много возможностей для приобретения педагогического опыта. Я начал карьеру учителя в надежде, что эта работа оставит мне достаточно времени для академических занятий и философского анализа. Однако я понял, что это иллюзия, и решил отказаться от этой должности, чтобы полностью посвятить себя науке. Я отправился в Лейпциг, который снова привлек меня как памятное место моих студенческих лет, и погрузился в новую работу над собственным образованием. В 1887—1888 годах в Йене я снова попытался совместить эту работу с преподаванием в гимназии. Этот год в Йене принес мне окончательное осознание невозможности такого сочетания, но также и ценный педагогический опыт благодаря искусству и личности Густава Рихтера, тогдашнего директора гимназии. Я вернулся в Лейпциг весной 1888 года, еще два года изучал естественные науки и экономику и в 1890 году получил звание профессора философии, защитив диссертацию «Die Geschichtsphilosophie Hegels und der Hegelianer, ein kritischer Versuch». (Лейпциг, О. Р. Рейсланд).
Из двух частей реальности история оставалась для меня наиболее близкой, несмотря на весь мой интерес к природе, в то время как я все больше понимал, что познание исторического мира по существу еще не достигнуто, что Гегель, несмотря на свои богатые исторические знания, видел его только с одной стороны, сверху, с идеологического птичьего полета. Я считал, что более глубокое проникновение в исторический процесс возможно лишь при условии, что человек – существо социальное, что историческим событием является лишь то, что касается не отдельного человека, а совокупности, что индивид становится предметом рассмотрения лишь в той мере, в какой он руководит совокупностью, что закон жизни общества есть в то же время закон истории, что философия истории совпадает таким образом с «социологией», социальной наукой, которую Огюст Конт и Герберт Спенсер не создали окончательно, но пытались это сделать. В частности, Гегель находил действенными только сменяющие друг друга системы идей, отдельных «народных духов», но слишком мало внимания уделял реальным факторам, особенно экономическим. Он слишком мало признавал, например, экономические причины падения античного государства и его культуры и всемирно-историческое значение Гракхов, неудача которых представлялась мне трагическим поворотным пунктом в судьбе античного мира. Увлечение этими великими деятелями, превосходившими всех античных государственных деятелей духом, характером и человечностью, побудило меня написать поэтическое изображение старшего Гракха, трагедию «Тиберий Гракх», которую я опубликовал в 1892 году и, с некоторыми изменениями, во втором издании в 1893 году. Я полагал, что проблема, касающаяся не одного, а целого народа, сочувствующая всемирно-историческая личность и всемирно-исторический кризис должны быть привлекательны для театральной публики. Меня постигло глубокое разочарование. Литературная критика была в основном благосклонна, но режиссеры, некоторые из которых также признавали ее ценность, отвергали драму «из-за темы». Она стала жертвой дурной репутации римских драм. Лишь один венский театральный режиссер, Адам Мюллер-Гуттенбрунн, в феврале 1899 года решился поставить спектакль с частично неадекватными актерскими силами. И здесь серьезная критика была благосклонна, но зрителей привлечь не удалось из-за сюжета, точнее, из-за связи между сюжетом и уровнем образования. Спектаклей было всего четыре. Все это было не только полезным для моего самопознания, но и социологическим опытом.
Социология теперь оставалась в центре моей работы, хотя мои лекции касались не только ее, но и истории философии и отдельных философов, так же как мои семинарские занятия были связаны с объяснением философских работ. Прежде всего, я хотел ознакомиться со всеми уже существовавшими социологическими попытками, основанными на различных принципах, а также с односторонними взглядами философии истории. В результате появилась книга: Die Philosophie der Geschichte als Soziologie, 1. Teil, Einleitung und kritische Übersicht. Она была переведена на русский язык в 1900 году и вышла во втором, значительно расширенном издании в 1915 году.
В этой книге, второе издание которой гораздо подробнее первого, я прежде всего попытался дать критическую историю социологии и определение ее задачи, которая – в силу сложности предмета, предлагающего столько направлений взглядов и атак – не менее противоречива, чем, например, задача философии. Более того, поскольку социология для меня – это еще и наука об истории, я должен был занять позицию по вопросу о природе исторической науки.
Очень долгое время, начиная с Тюрго, проводилось различие между предметом естественных наук и предметом истории. Виндельбанд считал, что естествознание занимается общими законами и понятиями, история – описанием отдельного человека, что естествознание «номотетично**, а история «идиографична». Однако очевидно, что детали бесчисленны, как отдельные объекты, так и характеристики каждого отдельного объекта, и поэтому любая наука становится невозможной без применения критерия отбора. Ученик Виндельбанда Г. Риккерт в качестве такого критерия хочет использовать «ценность», которую событие, личность, народ или духовное движение имеет для соответствующей культурной системы. Высшей ценностью, однако, является мораль, должное в понимании Канта, или, скорее, добрая воля, которая следует за должным. По мнению Виндельбанда и Риккерта, философия – это критическая наука об общезначимых ценностях. Риккерт считает невозможными социологию, стремящуюся установить исторические законы, и любую философию истории, которая делает то же самое. Для него «исторические законы» – это contradictio in adjecto. Вера в «единственную жертвенную научную процедуру» концептуализации и исследования законов абсурдна; в истории эта процедура бесполезна. Он вообще не должен «объяснять», а должен «судить». Поэтому Риккерт также отвергает психологию, ставшую объяснительной естественной наукой, как основу истории; он хочет, чтобы у историка была другая психология.
Дильтей хотел охарактеризовать такую психологию, подходящую для историка, противопоставив ее «описательной и препарирующей» современной психологии, которая является частично экспериментальной, но всегда «научной, объясняющей, конструктивной». Разумеется, Дильтей не может проводить свою психо-логию, не скатываясь к «научной и объяснительной», поскольку наука, которая не объясняет, никогда не может нас удовлетворить. Но и Дильтей, разработавший свои тезисы еще в 1883 году, почти за двадцать лет до Риккерта, и сам Риккерт согласны с тем, что история никогда не должна следовать научному способу познания; по мнению Дильтея, социология, которая это делает, до сих пор была лишь тем же, чем алхимия среди естественных наук.
Очевидно, что Дильтей и Риккерт правильно характеризуют процедуру работы историков. Тот, кто пишет историю, выбирает из обилия людей и событий то, что кажется ему ценным, то есть то, что он в целом рассматривает как добро или зло или как условие добра или зла. Отсюда различные направления, «тенденции» историографии. Есть католическая, протестантская, национальная (Трейчке), международная (Бакл), материалистическая (в марксизме), идеологическая (Ранке). Конечно, эта тенденция не мешает нам объяснять поступки появляющихся людей, часто делая определенные предположения об их характере, а в остальном применяя популярную психологию, не очень понимающую свои принципы.
Но такая историография – не наука, а искусство. Как художник изображает не все подряд, а только то, что кажется ему эстетически эффектным, так и историк рассказывает не все, что ему известно из источников, то есть из старых изображений, документов, надписей, монет и т. д., а только то, что кажется ему достаточно важным, при этом нельзя исключать чувство, то есть субъективное суждение. Такое событие, как, например, сожжение Сервета в Женеве, одному человеку может показаться важным для протестантизма, а другому – неважным, и поэтому один человек будет о нем широко рассказывать, а другой – упоминать вскользь. Но то, что изображает историк, он стремится воплотить в жизнь как нечто конкретное и индивидуальное, со всеми деталями, как это делает художник; он не будет довольствоваться бледной схемой. Например, в случае с Периклом он не преминет упомянуть, что у него была остроконечная голова и поэтому он никогда не появлялся на публике без шлема, даже если это не имеет никакого отношения к политической личности Перикла и к причинному контексту политических событий. Все античные историки считали себя художниками. Ведь все они, за исключением Полибия, вплетали в свои труды художественные речи, которые не были произнесены, но могли бы быть произнесены в том контексте, в котором они были написаны, и которые поэтому не научны, а эстетически ценны.
Но все это – история как искусство, а не как наука. Необходимо провести различие: историческое исследование, историография, историческая наука. Это три этапа, которые мы находим и в других отраслях знания. Зоология, например, должна сначала установить факты, что отнюдь не просто, а зачастую возможно только благодаря кропотливой микроскопической работе (например, чтобы обнаружить одноклеточных животных), затем описать и классифицировать факты, то есть формы животных, и, наконец, попытаться объяснить их, применяя идеи теории происхождения. Таким образом, и здесь есть три этапа: исследование природы, описание природы, наука о природе.
История оставалась на втором уровне до недавнего времени; только под влиянием «социологии» Конта Г. Тайне вышел из режима историографии. Он больше не дает картины частностей, а общих условий, личностей только в той мере, в какой они служат для иллюстрации и объяснения условий; он стремится доказать причинную связь между условиями, например, между условиями старого режима и вспышками народного гнева во время революции; он также прослеживает отдельных личностей, таких как Наполеон, до их корней, то есть до их прошлого и их предков, чтобы объяснить их характер.
То, что делает Тайне в ограниченном поле, является задачей истории как науки о судьбе всего человечества. Она совпадает с задачей философии истории в той мере, в какой последняя обобщает результаты отдельных областей, подобно тому как философия природы означает синтез общих истин отдельных областей. История как наука или философия истории может лишь следовать естествознанию как своему образцу; она стремится продемонстрировать определенные стадии развития отдельных народов и установить в них «эмпирический» закон. Таких «эмпирических» законов может быть много или мало, но в любом случае к ним нужно стремиться. Социология преследует ту же цель, за исключением того, что она не просто подчеркивает изменения, как философия истории, но также имеет «статический» раздел, который исследует причины продолжительности и стабильности определенных условий, например, определенных классовых отношений.
Возможность такой истории как науки и такой социологии отрицается Дильтеем и Риккертом. Я же, напротив, попытался утвердить ее и обосновать это утверждение. В частности, именно органический характер человеческого общества заставляет нас ожидать закономерности в его жизненных явлениях. Общество часто рассматривалось как организм, еще Томасом Гоббсом. С тех пор как Шванн открыл животную клетку, в этом есть нечто большее, чем просто внешнее сравнение, а именно реальный параллелизм. Ведь организм – это еще и общество, а именно общество клеток; и животное тело, и человеческое общество подпадают под термин «органическая система». Однако, чтобы не делать слишком больших выводов из равенства видов, необходимо помнить о специфическом неравенстве. Единицей, составляющей животное тело, является клетка; единицей, из которой строится общество, является или, по крайней мере, все больше становится человеческая воля, направляемая духом; общество, таким образом, в этом смысле является духовным организмом. Как таковой, он, однако, проявляет основные органические характеристики: 1. Единая связь всех его элементов, стремящаяся противостоять нарушениям; 2. Взаимодействие частей друг с другом; 3. Передача органической связи новым элементам, которая в животном организме называется размножением, а в социальном – воспитанием. Никто не сомневается, что жизнь животного организма подчиняется определенным законам развития и регресса, если не принимать во внимание насильственные возмущения, приходящие извне. Очень похожие законы действуют и в развитии всего животного мира, что очень убедительно показал Геккель в своей теории параллелизма филогенеза и онтогенеза. Поэтому мы вправе ожидать органического развития и духовного мира. Рост и упадок. Только такая закономерная последовательность явлений позволяет предсказывать будущее, что в конечном счете является целью любой науки и особенно важно и ценно для предмета истории – общественной жизни.
Однако, к сожалению, большинство немецких историков придерживаются позиции историографии, а не исторической науки. Поскольку, подобно Дильтею, они не хотят отказываться от предположения о свободной воле человека, они сторонятся законности. Эта робость почетна, но необоснованна. Ведь несмотря на всю законность, человек, и особенно коллективный человек, не игрушка каких-то внешних сил, не автомат, приводимый в движение средой, а собственная сила с собственными намерениями и способностью отстаивать их перед средой. Но страх перед автоматизмом приводит к тому, что историки предпочитают верить в беззаконие, а не в предопределенный порядок. Хотя они признают, что нельзя отрицать отдельные линии развития, история в целом остается хаосом, из которого вылавливаются «ценности». Таким образом, они никогда не приходят к общему взгляду на историю или, по крайней мере, не приходят к ясному, осознанному взгляду. Ведь у каждого историка есть некий неясный, более эмоциональный общий взгляд, поскольку без такого взгляда он был бы совершенно беспомощен перед массой деталей.
На мой взгляд, этот отказ от исторической науки пагубно сказался на интеллектуальной жизни Германии. Большинство историков не занимались исследованием «смысла» истории, который сам по себе является душой исторического преподавания, но в наших школах – несмотря на официальное поощрение – не был достаточно акцентирован ни как теоретическая проблема, ни как практическая цель. Только Карл Лампрехт попытался выделить в немецкой истории определенные «культурные эпохи», которые должны следовать друг за другом с психологической необходимостью, но которые характеризуются скорее способами воображения, чем ядром исторических событий – волей.
Практическая политика также пострадала от этого самоограничения историков. Те, кто верит в законность истории, найдут в ней нравственный прогресс, а именно: в каждой цивилизации или, по крайней мере, среди арийских народов, которые одни до сих пор переживали более длительное развитие, постоянный рост зрелого, ответственного человека в законных правах и постоянное распространение свободы на тех членов народа, которые раньше ее не имели. Внешние оковы, сковывающие человека, разрушаются, на смену им приходят внутренние, законы, которые человек сам себе устанавливает, чтобы укротить элементарную, животную грубость своих инстинктов и аффектов, чтобы дикость все больше и больше превращалась в цивилизацию. Исторически обоснованная вера в этот прогресс дает надежду на будущее, определенный ориентир для воли и действий, короче говоря, политический идеализм, который и сегодня недостаточно распространен в Германии. Ведь слишком многие историки и слишком многие преподаватели истории считают любой прогресс, если он появляется, эпизодом, который вскоре может смениться регрессом, так что возникает неровный зигзаг, но не постоянное восхождение, утверждающее себя вопреки всем препятствиям.
Однако часть немецкого народа верит в очень твердую теорию, которая выглядит как строгая наука, но которая является лишь очень односторонним тезисом, учитывающим только часть исторического развития, в так называемую «материалистическую» философию истории, которая была выдвинута Карлом Марксом и Фридрихом Энгельсом после различных предложений более ранних мыслителей, особенно Сен-Симона. Она утверждает, что действительными движущими мотивами истории являются экономические, а все остальные – лишь их последствия или маскировка. Согласно ей, первоосновой прогресса всегда является новая технология; из нее вытекает новая экономическая структура, то есть определенная форма предприятия, например фабрика, с определенным масштабом транспорта, который, однако, в эпоху фабрик простирается очень далеко и должен, по возможности, охватывать весь мир. Экономическая структура базируется на правовой надстройке, то есть на определенной системе собственности, а также на определенной форме правления и даже на определенной модификации религиозных, художественных и философских идей, господствующих в обществе, в соответствии с изменениями в экономике. История опровергает это заблуждение о всемогуществе экономики, что я и попытался продемонстрировать.
Технологии, конечно, обладают огромной силой. Каждое ее достижение создает новый способ работы и, следовательно, поскольку выгоды распределяются по-другому, новое распределение собственности. Но великие принципы собственности, «формы собственности», как можно было бы сказать, имеют не экономическое, а политическое происхождение. Феодальная собственность возникла в Западной Европе в результате необходимого господства над обширными земельными пространствами при франкских королях, для которых не было государственных служащих, так что крупные помещики должны были заменить их и для этого приобрели государственные суверенные права над своими крепостными, крестьянами, приобретя, таким образом, одновременно и высшую собственность на их имущество. И эта высшая собственность, из которой возникло «феодальное бремя» крестьян, была отменена не экономическим прогрессом, а идеями гражданского равенства и свободы, которые, возникнув из возрожденного естественного права XVI века, проникли в теории конституционного права и были реализованы на практике Французской революцией. Неправда и то, что в основе религиозных потрясений лежат только экономические причины, что, как утверждают Маркс, Энгельс, Каутский и другие, Реформация была церковным, необходимым сопутствующим элементом восстания буржуазии против феодализма. Тогда она должна была бы возникнуть сначала в Италии, где буржуазия была независимой с XIII века. Скорее, это дальнейшее развитие в истории религии от религии закона католического средневековья к религии убеждений, дальнейшее развитие, подобное тому, которое произошло в Китае от религии старых книг, собранных Конфуцием («Цари»), к даосизму Лао-цзы, в Индии от брахманизма к буддизму, в исламе от старой ортодоксии Корана к суфизму, В случае с евреями – от Моисеева закона к религии «апокрифов» и далее к религии Иисуса и Святого Павла – развитие, которое, по общему признанию, происходило только там, где были люди, заинтересованные в религии, но для них это была психологическая необходимость, совершенно независимая от экономических факторов.
Но, несмотря на научную неправоту, исторический «марксизм» был и остается сильным в социал-демократической партии, особенно в ее левом крыле. Желание было и остается отцом мысли. Если все обстоит так, как утверждали Маркс и Энгельс, если экономическое желание действительно всегда является решающим фактором, то ничто – так думали они – не будет препятствовать «накоплению» собственности, происходящему сейчас в промышленности и сельском хозяйстве; оно закончится тем, что небольшое число собственников окажется перед бесправной массой народа, поэтому обязательно произойдет «переворот», прежние «экспроприаторы» будут экспроприированы самой совокупностью, т. е. будет достигнут социализм – общая собственность на средства производства.
Развитие не пошло по пути, предсказанному «материалистическим взглядом на историю». Стабильное накопление действительно имело место в промышленности, но не в сельском хозяйстве, где, напротив, мелкий фермер без поденщиков значительно вырос в числе и значении и, вероятно, останется господствующим типом в ближайшем и отдаленном будущем. Не концентрация собственности, возросшая до предела, привела к перевороту в Германии, а политическое событие, проигранная мировая война, которая потрясла и взбудоражила армию так, что она свергла правящие силы. Старая социал-демократия, вероятно, также признала это; односторонний марксизм, со всей его механизацией исторической борьбы, исключающей идеи, перешел в «независимую» социал-демократию, где он объединился с требованием «диктатуры пролетариата», которая, по Марксу, необходима как переходная конституция к социализму, чтобы подавить здравое мышление. Те, кто не доверяет идеям и власти, в конечном итоге придут к чисто физическому насилию, они должны ожидать всего от классовой борьбы, и в конечном итоге от ее элементарной, насильственной формы, как это делает крайне левая часть рабочих. Мы не знаем, почему эти политики являются пацифистами, почему они ненавидят и отвергают борьбу между народами, но считают борьбу между классами народа, которые по природе своей ближе друг к другу, чем разные народы, священным долгом.
Материалистическая, или, вернее, экономическая, концепция истории не получила бы такого широкого распространения, если бы наши историки не воздерживались от борьбы с ней путем противопоставления фактов. Это поразительно, но вполне объяснимо их интеллектуальной позицией. Марксизм верит в закономерность истории, хочет создать науку о ней, какими бы неадекватными ни были ее средства. Наши историки, однако, с самого начала не готовы к этому, а готовы лишь к историографии, которая делает акцент на ценностях, то есть, как было показано выше, не на науке, а на искусстве. Но с теорией, которая хочет быть научной, можно бороться только с помощью науки, а не искусства. Журнал «Vierteljahrsschrift für wissenschaftliche Philosophie und Soziologie», который я редактировал с 1902 по 1916 год, как новое издание «Vierteljahrsschrift für wissenschaftliche Philosophie», который я основал в 1876 году и редактировал с 1899 по 1901 год, был расширенным журналом с намерением ввести «социологию» в Германии. Он был международным, имел много иностранных подписчиков, в том числе и иностранных авторов, и поэтому стал жертвой мировой войны. Исход войны, возможно, приведет к тому, чего еще не достигла теория. Он заставит нас задаться вопросом о причинах нашего поражения и, более того, о причинах мирового пожара, а значит, научит историков мыслить каузально.
Стою, систему и историческое влияние которой я попытался описать, очень убедительно показала мне, насколько сильны философские идеи в формировании мира. 4Простые, логичные линии ее системы и глубокая серьезность взглядов на жизнь сделали ее мировоззрением простых людей, огромных масс в Римской империи, а также мыслителей среди рабов, в то время как эпикурейство было распространено среди богатых и знатных. Очень привлекательно представить себе, как развивалась бы мировая история, если бы Стоа не уступила христианству, если бы она завоевала духовное лидерство у всех народов Средиземноморья и если бы она пришла к германским народам в качестве римского мировоззрения вместо христианства. Тогда они пережили бы не свое «средневековье», а культурную эпоху, в которой античная наука и искусство получили бы новую жизнь и новый импульс благодаря юношеской энергии нового народа.
Однако стоицизм был вытеснен христианской религией, которая в еще большей степени, чем стоицизм, обращалась к эмоциям и таким образом одержала победу, как бы мало она ни привнесла в мышление. Однако, когда стоицизм был заново открыт и воскрешен в эпоху Возрождения, он дал мощный толчок западноевропейской цивилизации. Из своей системы он вынес идею естественного права, которое отнюдь не является законом сильнейшего, но идеальным законом всеобщего равенства и вытекающей из него всеобщей свободы. Стоики обосновывали это тем, что каждая человеческая душа – это частица всепроникающей божественной мировой души, из которой она приходит в тело при зачатии и в которую возвращается после смерти, и что все люди, таким образом, имеют одинаковое происхождение, то есть братья и сестры, и что никто не имеет никакого преимущества перед другими. За два столетия до прихода христианства стоицизм римских юристов императорской эпохи стремился сделать равенство и свободу, насколько это было возможно, действенными в праве, и поэтому действительно улучшил правовое положение угнетенных, особенно рабов, женщин и детей, и постепенно ввел в действие «права человека» этих классов. В XVII в. В XVII веке естественное право стало почвой, на которой выросли великие практические идеи: новое конституционное право, которое предоставляло каждому гражданину долю в управлении государством путем избрания народного представителя; новое уголовное право, которое рассматривало преступника как человека, наказание не как вспышку гнева, а как разумную меру для предотвращения новых преступлений, и таким образом гуманизировало весь судебный процесс; наконец, новое международное право, которое стало необходимым, поскольку европейские народы больше не признавали общего авторитета в лице папы, и которое теперь нашло новую почву в равенстве народов по аналогии с равенством граждан. Таким образом, мы видим, как идеи античности приносят плоды в современности.
Через несколько лет после получения хабилитации обстоятельства в Лейпциге побудили меня расширить свою преподавательскую деятельность до практической науки, а именно педагогики. Ведь она основана на этике, которая является ее целью, и на психологии, которая указывает ей путь. Кроме того, образование тесно связано с социологией. Ведь образование – это воспроизводство общества. Нет необходимости говорить, что это духовное воспроизводство. Ведь, как уже говорилось выше, общество – это духовный организм, а значит, и размножаться оно может только духовно. Физическое воспроизводство лишь создает материал для нового общества, которое может сформироваться только в том случае, если от старого поколения к новому передается общий взгляд на мир и жизнь. Таким образом, я надеялся найти в педагогике новые социологические факты и сделать социологические истины плодотворными.
В последние десятилетия XIX века психология достигла больших успехов, в частности, стала на путь эксперимента и тем самым получила достоверные результаты по некоторым вопросам. Я попытался построить педагогическую систему на основе этого и наиболее жизнеспособных элементов современной философии. Она должна была стать определенной заменой системе Гербарта, которая, также основанная на психологии и философии, все еще оставалась доминирующей благодаря своему прочному единству, хотя ее психология односторонняя, устаревшая в результате новых исследований, а ее философия не имеет отношения к современной науке. Таким образом, мой «Elemente der Erziehungs- und Unterrichtslehre» 5стал одним из первых учебников, поставивших новые приобретения науки на службу педагогике. Он был опубликован до работы Э. Меймана «Vorlesungen zur Einführung in die experimentelle Pädagogik». Основные положения «Элементов»: факты психологии и наследственности означают, что после долгого периода пессимизма мы снова можем верить в силу воспитания; что прежде всего необходимо укреплять волю; что современная переоценка и почитание спонтанной воли детей может быть опасной и привести к недостатку энергии; что эмоциональную жизнь необходимо культивировать больше, чем раньше, а также больше использовать внимание; что некоторые отрасли, такие как религиозное воспитание и уроки истории, а также уроки немецкого языка, нуждаются в тщательной реорганизации.
Если образование означает воспроизводство общества, то очевидно, что его история следует за историей общества, которое, конечно, еще не написано как единое целое, но должно быть создано заново. Исходя из этого, я попытался в своей «Истории образования в социологической и интеллектуально-исторической перспективе» 6показать происхождение образования в естественных формах общества и его трансформацию параллельно с социальными изменениями. В учебниках, например, известно только одно греческое образование, тогда как их было три: гомеровское, республиканское в эпоху расцвета эллинов и, наконец, эллинистическое классовое в так называемый период упадка, в котором возник идеал образования для человечества. Однако влияние интеллектуальных движений в обществе на образование проявляется в эпоху Возрождения, Реформации и Просвещения. Последнее, в частности, еще не получило достаточного признания в этом отношении. Поэтому я постарался подробно показать, как Просвещение выдвинуло не только негативную программу – «выход человека из его самозрелости» (Кант), но и позитивную – систему естественных наук, а именно: естественную религию, естественное право, естественную этику (Камберленд, Спиноза, Шафтсбери) и «естественную свободу» в экономике (Адам Смит). Этот позитивный дух породил и «естественную» педагогику, которая осознанно зародилась в Германии под девизом Ратке: Omnia juxta methodum naturae! Природа и разум – синонимы для эпохи Просвещения. Требование Ратке постоянно расширяется и получает более глубокое обоснование у Коменского, Локка, Руссо, Базедова и его круга, Песталоцци. За исключением Песталоцци, эта педагогика, как и все Просвещение, по сути своей индивидуалистична, включая естественное право и вытекающую из него «естественную свободу» в экономике, экономический либерализм. В экономике индивидуализм оказался несостоятельным, и в последние десятилетия XIX века возникло противодействие, сосредоточившееся на социализме или, по крайней мере, на социальном ограничении эгоизма. В то же время возникла новая теория образования – социальная педагогика. Таким образом, общественное движение и образовательные тенденции тесно переплетаются повсюду.
Особенно важным сейчас является вопрос о нравственном воспитании молодежи. Ни одна эпоха не находилась в более трудном положении в этом отношении, чем наша. Нравственное воспитание легко в обществе, где все его члены единодушны в своем взгляде на мир и жизнь. Тогда молодые люди принимают нравственные заповеди с обоснованием, которое дается этим взглядом и которое не поколебать в дальнейшей жизни противоречиями со стороны окружения. В нашем обществе все иначе. Оно очень дисгармонично с точки зрения мировоззрения. Старые конфессии, отголоски «естественной религии» (вера в Бога, бессмертие и воздаяние в загробном мире), научный материализм, так называемый «исторический» материализм, о котором говорилось выше, теория развития, вытекающая из биологии, – все эти взгляды поднимают свой голос, увлекая молодежь то туда, то сюда. Официальная школа, однако, по-прежнему, как и в XVI веке, основывает правила жизни на догматах своей конфессии. Они имеют жизнь и действуют только в тех частях Германии, где сохранилось сельскохозяйственное производство, а значит, и старый порядок жизни, религиозность и обычаи. В промышленных же регионах, где вместе с новыми методами труда и новым образом жизни возникли новые идеи, догматизм, принесенный из школы, вскоре выкорчевывается критическими голосами окружающей среды, и насаждается новая, часто очень неясная вера в земные цели, а то и вовсе отсутствует, так что молодые люди лишены яркого и руководящего нравственного идеала, особенно в опасное время юношеской самонадеянности.
Вот почему я считаю необходимым, чтобы нравственное воспитание было поставлено на иной фундамент. Как бы ни расходились теоретические взгляды, ни одна партия не смеет отвергать определенные человеческие добродетели. Если одна партия не может этого сделать, она обвиняет других, которые вынудили ее это сделать, но не смеет кичиться своей виной. Таким образом, можно создать этическую систему, в которой не нужно бояться, что философия в самопрезентации. 1. 2 в будущем будет вырвана из души ребенка. Но любая этика должна опираться на мировоззрение, которое оправдывает ее предписания. Религиозное не может сделать этого сейчас, поскольку оно не имеет власти над всеми; остается научное, философское.
Кто-то сразу же возразит: Не существует универсально обязательной этической системы, их столько же, сколько философских систем. У каждого философа своя этика. Кому же должен следовать учитель нравственности? Однако при ближайшем рассмотрении оказывается, что разнообразие не так велико и даже есть определенное согласие. Прежде всего, это касается целей морали. Классическими системами этики являются Стоа, Спиноза и Кант. Все три имеют одну и ту же высшую цель: сильная воля и социальная воля. Поэтому учитель этики сможет преподавать эти две цели без противоречий. Оправдания, ответы на вопрос: почему я должен стремиться к этическим целям, следовать этическим заповедям? Но разнообразие ответов на этот вопрос – не недостаток для педагогики, а скорее преимущество. Философу для единства его системы необходимо единство этического мотива, а педагог может утверждать разные мотивы в надежде, что если не один, то другой сработает. Он может со всей строгостью повторить кантовскую доктрину о том, что добро следует делать только ради закона, но не должен, подобно Канту, исключать стремление к счастью. Ведь вполне возможно, что исполнение долга – это одновременно и наше счастье, которое Шиллер представляет как идеал. Кроме того, педагог может указать на то, что нравственность соответствует закону развития, то есть подчиняется воле природы или – как еще можно сказать – воле Бога, но что безнравственность противоречит и тому, и другому и поэтому обязательно должна вести к наказанию, к несчастью. Педагог должен избегать только одного – объединять противоречащие друг другу причины. Если он считает нравственной сильную волю к жизни (animo-eitas), которую требует Спиноза, то он не должен в то же время проповедовать шопенгауэровское отрицание воли, которое едва ли какой педагог принесет в школу. И если религиозное воспитание учит вместе с Павлом неизлечимой слабости человеческой воли, следствию первородного греха, а учитель нравственности требует сильной воли, это было бы противоречием, которого руководство школы должно по возможности избегать. Если догмат о первородном грехе необходим, то религиозный учитель должен по крайней мере указывать на сильную веру, которой должен обладать христианин, что в конечном итоге также является характеристикой воли.
Все эти вопросы я рассмотрел в двух книгах: Die Notwendigkeit eines systematischen Moralunterrichts7 и Ethische Jugendführung (Grundzüge zu einem systematischen Moralunterricht),8 а также составил руководство по преподаванию морали для старших классов начальных школ и для школ дополнительного образования. 9Разумеется, я не считаю, что религиозное обучение должно быть исключено из государственных школ. Религия в ее высших проявлениях – это ощущение вечных ценностей, которые научная, философская этика стремится достичь путем размышлений и исследований. Поэтому настоящие религиозные герои – это возвышенные фигуры, образцы жизни, которую нужно вести в более высоком стиле, постоянно помня о вечном. И сама полноценная моральная система никогда не обойдется без религии. Конечно, она будет не основой, а ее венцом. Сами нравственные заповеди вытекают из реалий жизни. Тот, кто хочет жизни, должен хотеть и нравственности как высшей жизненной силы. Но если мир в целом основан на морали, то и причина его должна быть моральной, то есть божественной. Так Платон, Шафтсбери, Кант, Гете, даже Спиноза пришли к религии. Таким образом, высшее чувство в конце концов объединяется с высшим познанием.
В настоящее время, однако, на первый план выходит познание. Мы переживаем переломный момент в мире, который, вероятно, никогда в прошлом не переживался так резко. Мировая война не только разрушила европейскую экономику, но и пошатнула старые авторитеты, частично уничтожив их. Непоколебимой осталась только одна – наука. Поэтому она является самым мощным рычагом для восстановления. Отдельные науки должны войти в более тесный контакт друг с другом; их синтез и кульминация, философия, должны определить смысл и направление жизни.
Философ должен стоять рядом со священником религии. Как тот через откровение, так и философ через свет мысли должен внести в разум ясность, успокоение и доверие; он должен, как в свое время Фихте, учить, что природа человека – это деятельность. Это важное условие социальной гармонии. Ведь деятельность – это радость творца, а его труд приносит пользу другим и тем самым преодолевает дихотомию между собственными и чужими интересами. Таким образом, наука и труд избавят нас от многообразных бед, которые нас угнетают. Эта надежда не даст нам пропасть.
Эрих Бехер
Биографический. Научная деятельность
Родился 1 сентября 1882 года в Райнсхагене, хуторе близ Ремшайда. В 1889—1893 годах я посещал начальную школу в Райнсхагене, а с 1893 года – реальную гимназию в Ремшайде, которую окончил в 1901 году. В доме моего отца я получил богатое вдохновение и глубокие впечатления от искусства, науки и религии. В раннем возрасте у меня появились религиозные, этические и социальные интересы, а также научные и технические. Мощная, бурно развивающаяся промышленность моей родной страны накладывала отпечаток на мои мысли о грандиозных успехах техники, а также о социальных проблемах, которые еще недавно были предметом кровавых сражений в моем родном городе. В школе меня в первую очередь увлекали математика и естественные науки. У меня были прекрасные учителя. В частном порядке я изучал математику, естественные науки, философию и книги по обществознанию.
На Пасху 1901 года я поступил в Боннский университет. Я намеревался стать преподавателем математики и естественных наук или химиком. Однако обилие предлагаемых предметов вскоре побудило меня посещать лекции на всех факультетах по самым разным темам. Однако в первую очередь я посвятил себя математике, физике, экономике и философии. Философские лекции и семинарские занятия Б. Эрдмана произвели на меня огромное впечатление. Вскоре они вдохновили меня на работу над премиальным заданием и, таким образом, на написание моей первой печатной работы – трактата о концепции атрибутов Спинозы, который был завершен в 1903 году.
Эрдманн также познакомил меня с психологией и пробудил мой интерес к этой дисциплине, которой я раньше пренебрегал в пользу эпистемологии и этики. Зимой 1903/04 года я закончил диссертацию по психологии чтения, на которую меня вдохновил Эрдманн; в феврале 1904 года я сдал докторские экзамены по философии, физике и математике.
В том же семестре я был ассистентом по математике в сельскохозяйственной академии в Бонн-Поппельсдорфе у Й. Зоммера, который читал там лекции и упражнения для студентов-геодезистов. Затем я вместе с Эрдманом ассистировал в Боннском философском семинаре, особенно в экспериментально-психологических упражнениях.
Летний семестр 1904 года ознаменовал конец моей студенческой жизни. В течение трех лет обучения в Рейнской высшей школе у меня были прекрасные, даже блестящие учителя. В особенности я многим обязан Эрдману. Кроме того, ценную помощь в чтении лекций и проведении занятий мне оказывали философы Веймкер, Дирофф и Фрей-тег, математик Хеффтер, физики Кайзер и Кауфман, химик Аншютц, ботаник Штрасбургер, народные экономисты Дитцель и Готейн и другие.
В раннем возрасте на меня сильно повлияло чтение Ст. Милля; его эмпиризм, его идеалистический позитивизм и прежде всего его утилитаризм произвели на меня глубокое впечатление, но не удовлетворили меня полностью. Позже Фехнер стал моим любимым философским писателем; под влиянием Эрдмана, Фехнера и механистического направления в биологии, которому я отдавал дань, я стал убежденным параллелистом. Кант изучался мною с большим старанием, но вызывал гораздо больше неприятия, чем одобрения. Самые значительные работы Ницше я читал с яростным внутренним неприятием. Занятия математикой приучили меня предъявлять высокие требования к доказательству и обоснованию утверждений. Ницше совершенно не отвечал этим логическим требованиям. Его доктрины о воле к власти, о вечном повторении и т. д. казались мне недоказанными и недоказуемыми, его антисоциальная направленность резко противоречила моим этическим убеждениям и идеалам, его чрезмерность отталкивала меня. Мне очень нравилась идея высшего развития человека; она вытекала из моих дарвинистских и евгенических взглядов. Однако я стремился к принципиально иному типу сверхчеловека, чем Ницше, – к типу, важнейшими характеристиками которого являются разум и любовь.
Некоторые профессора в Бонне познакомили меня с идеей карьеры университетского преподавателя, которая была далека от моих мыслей в первые годы учебы. Профессия показалась мне очень заманчивой, и я почти решился попробовать, пока смерть матери в январе 1904 года, которая сильнее всего ударила по нашей семье и по мне, не заставила меня снова колебаться. В конце концов, я решил все-таки поступить в хабилитацию, но летом 1904 года записался на государственный экзамен на высшее педагогическое образование, чтобы в случае необходимости перевестись из университета в среднюю школу. В ноябре я сдал устный экзамен по философии, физике и математике.
После этого я начал работу над диссертацией: «Philosophische Voraussetzungen der exakten Naturwissenschaften». В этой книге была сделана попытка обосновать критический реализм как основу физики и химии и защитить великие атомистические и кинетические гипотезы от нападок Маха, Оствальда и других. Работа меня очень устраивала, и я быстро продвигался вперед. В то же время я работал ассистентом в семинарии и репетитором; я также начал изучать греческий язык.
В начале весны 1905 года я заболел и был вынужден полностью прекратить свою работу примерно на 15 месяцев. Затем я смог продолжить работу над диссертацией по абилитации и вскоре вернулся к другим занятиям. В январе 1907 года я стал приват-доцентом по философии в Боннском университете.
В том же году я закончил небольшую книгу «Основной вопрос этики», в которой попытался обосновать и защитить принцип наибольшего всеобщего содействия счастью, исходя из этики совести и критикуя учение Канта. В то время меня также волновал вопрос о разуме и теле, который я всегда считал центральной проблемой метафизики. В работе, опубликованной в 1907 году, я защищал параллелизм от возражений, выдвинутых Г. Дришем, но в том же году в другой работе я объяснил, что закон сохранения энергии отнюдь не исключает теорию взаимодействия. В следующем году я показал с помощью новых математико-механических соображений, что влияние души на тело совместимо с законом сохранения энергии. Это понимание устранило важное возражение против теории взаимодействия, но, с другой стороны, мои оговорки относительно параллелистических гипотез постепенно усиливались. В то же время слабые стороны дарвиновской теории отбора и неадекватность обоснования биологического механизма становились для меня все более очевидными, и поэтому моя оценка витализма, тесно связанного с теорией взаимодействий, постепенно росла.
В связи с этическим направлением моей мысли решение некоторых эмоционально-психологических вопросов казалось мне крайне необходимым. Все ли чувства приятны или неприятны? Существует ли одно или несколько качеств удовольствия или неудовольствия? Эти и другие проблемы эмоциональной психологии занимали меня на протяжении нескольких лет после хабилитации. Временами я намеревался написать психологию эмоций; отдельные части работы были записаны. Однако вскоре я понял, что не в состоянии удовлетворительно справиться с такой сложной, обширной и противоречивой областью. Длительные попытки усовершенствовать метод выражения как вспомогательное средство для исследования эмоций, некоторые из которых проводились во время моего пребывания в Мюнстере, привели лишь к неадекватным результатам, ни один из которых не был опубликован. В этих экспериментах, однако, я также зависел от чрезвычайно скромных технических средств.
Более успешными были эксперименты по изучению чувствительности внутренних органов, на которые меня натолкнуло рассмотрение сенсуалистической теории ощущений Джеймса-Ланге. Например, в пищеводе давление, тепло, холод и электрическая стимуляция приводили к соответствующим ощущениям, которые также можно было достаточно точно локализовать.
В 1909 году, по случаю столетия со дня рождения Дарвина, я прочитал в Бонне лекцию, которая вскоре была опубликована в расширенном виде, в которой объяснил, что дарвинизм никоим образом не подразумевает, что в человеческом обществе также должна преобладать жестокая, беспощадная борьба за существование; напротив, нормы социальной этики вполне могут быть обоснованы с дарвиновской точки зрения. Как и лекция, более поздние статьи (три, 1918) также отстаивали идеал евгеники, основанный на максиме филантропии.
Примерно одновременно с дарвиновской лекцией я написал «Теоретические вклады в дарвинизм», опубликованные в 1910 году, в которых, помимо прочего, был сформулирован «принцип утилизации» для объяснения некоторых адаптаций и указана совместимость селекционизма и витализма.
Последней моей работой, завершенной в Бонне, было небольшое экспериментальное исследование факторов, определяющих восприятие обратимых рисунков. Как утверждалось ранее, важны не только направление взгляда и движения глаз. Влияние оказывают также направление внимания, готовность соответствующих идей или следов памяти и желание видеть рисунок определенным образом.
1 октября 1909 года я был назначен полным профессором Университета Мюнстера и В*, где должен был стать преемником Меймана. Я с радостью принял этот вызов, хотя и покидал Бонн с тяжелым сердцем. Мой отъезд был облегчен тем, что Эрдманн, мой высокочтимый учитель, которому я многим обязан, покинул Бонн в то же время, чтобы перейти в Берлинский университет.
Начало моей работы в Мюнстере поначалу было прервано болезнью. Но вскоре я освоился с новыми профессиональными обязанностями. Книга «Мозг и душа», которую я начал писать в Бонне, была завершена в 1911 году. В ней я сначала описал то, что известно и предполагается о строении и функциях мозга, в той мере, в какой это важно для интерпретации отношений между телом и душой. Затем особое внимание было уделено физиологическим объяснениям психологических феноменов. Физиологическая гипотеза памяти, объясняющая феномены памяти предположением о наличии в мозге материальных последействий возбуждения (остатков и ассоциаций), при ближайшем рассмотрении оказалась совершенно неадекватной. В последней части книги рассматривается проблема «разум-тело». Материализм несостоятелен, но параллелизм в его различных формах также вызывает ряд опасений и возражений. Наилучшей теорией взаимодействия является та, которая предполагает, что физические процессы протекают в мозге непрерывно, но при этом вызывают помимо физических еще и психические эффекты, которые, в свою очередь, оказывают направляющее влияние на физический ход. Если мы приписываем особенность жизненных процессов по сравнению с явлениями мертвой природы такому влиянию и руководству со стороны психических факторов, то мы приходим к психовитализму, который представляет собой продолжение нашей гипотезы взаимодействия.
Книга «Мозг и душа» давала лишь общее представление о психовитализме. Более подробно она была разработана и защищена как обоснованная гипотеза в лекции «Жизнь и анимация», которую я прочитал на собрании немецких естествоиспытателей и врачей в Мюнстере в 1912 году.
Во время моей преподавательской деятельности в Мюнстере я почувствовал, что вынужден обратиться к сфере образования. Педагогические проблемы часто обсуждались в доме моего отца, и я пришел к выводу, что социальный вопрос в значительной степени является вопросом образования. Живой педагогический интерес, который я обнаружил среди своих студентов, стал для меня приятным стимулом для рассмотрения проблем образования с психологической, этической и социальной точек зрения, в основном на семинарских занятиях. Мои студенты с удовольствием работали над педагогическими диссертациями, которые я опубликовал в сборнике «Философские и педагогические работы» в Лангенсальце. В частности, я хотел, чтобы система помощи была исследована в серии работ в ее исторических формах. Я рассматриваю соответствующим образом направленную деятельность учащихся по оказанию помощи как средство приобщения их к альтруистическим и социальным действиям, как я объяснил в короткой статье «Воспитание филантропии и система помощи», которая появилась в вышеупомянутом сборнике в 1914 году. Лишь немногие из запланированных диссертаций о системе помощи были завершены, поскольку война и смерть вскоре вырвали перо из рук моих докторантов, а затем мой переезд в Мюнхен положил конец моей педагогической деятельности; поскольку там была кафедра педагогики, я ограничил свои лекции и занятия областью философии.
С 1911 года я был занят написанием «Натурфилософии», которая была опубликована в 1914 году в виде тома антологии «Kultur der Gegenwart» под редакцией К. Штумпфа. Введение к работе содержит очерк истории натурфилософии, определение понятия природы и объяснение соотношения между естествознанием и натурфилософией и их задач. Натурфилософия должна обработать наиболее важные для концепции мира и жизни научные результаты в фактическом порядке, чтобы сформировать картину природы в целом; эта картина должна быть дополнена предварительными гипотезами и обоснована эпистемологическими исследованиями. Соответственно, в первой основной части книги предлагается углубленная теория познания природы в русле критического реализма, которая развивается путем критики эпистемологического идеализма и феноменализма позитивизма, конвенционализма и кантианства. На основе созданной эпистемологии во второй основной части работы рисуется общая картина природы в четырех разделах, посвященных строению и элементам обычных тел, проблематичным физическим реалиям в «пустом» пространстве, тому, что происходит с неживыми телами, а также с живыми телами и событиями жизни. Во многих местах изложение не приводит к конкретным результатам, а зачастую вынуждено довольствоваться перспективой возможностей, учитывая текущее состояние исследований. Многое говорит в пользу строения обычной материи из электрических частиц, а также в пользу предположения, развитого на основе критики гипотезы эфира, о том, что поля вокруг электрических зарядов и нечто, мчащееся в луче света, имеют материальную природу. Кинетическая концепция природы, которая интерпретирует все природные события как события движения, не кажется невероятной в том, что касается неживой природы. В живых телах, возможно, в материальные события движения направляющим и органически целенаправленным образом вмешиваются психические факторы. Психовиталистическая гипотеза выводится в последнем разделе из рассмотрения характерных особенностей живых существ и «метода проб и ошибок», который приводит к целесообразным результатам в эмоционально обусловленном действии.
Вскоре после «Натурфилософии» появилась книга «Weltgebäude, Weltgesetze, Weltentwicklung» (1915), которая обобщает значительные части первоначальной рукописи «Натурфилософии», которые пришлось исключить из этой работы ввиду ее предполагаемого объема, и завершает ее соответствующими дополнениями. Новая книга начинается с очень краткого изложения теории познания природы. Последующее описание устройства мира начинается с вопроса о том, является ли он пространственно бесконечным или конечным, – проблемы, которая должна оставаться нерешенной, несмотря на все научные и философско-априорные аргументы. Далее следуют устройство и составные части мира неподвижных звезд и Солнечной системы, строение Земли, теории микроструктуры (молекулярная, атомная и теория электронов), электрическая теория материи, вопрос о реальностях в «пустом» пространстве (эфир, полевые субстанции) и электрокинетическая концепция природы. В разделе «Мировые законы» развиваются и обсуждаются принципы теории движения Галилея-Ньютона, теории относительности Эйнштейна (прежде всего в ее старой форме), ее развитие в теорию четырехмерного «абсолютного мира» Минковского, принципы сохранения материи и энергии и принцип Карно – Клаузиуса. Изложение сочетается с критическим взглядом, который приводит, например, к отказу от энергетической концепции природы Оствальда. В разделе «Развитие мира» рассматривается общий ход энергетических событий и развитие физических веществ, неподвижной звездной системы и нашей Солнечной системы. То, что ход природных событий имеет определенное направление, что физический мир в целом все ближе и ближе подходит к цели, кажется, вытекает из ряда научных опытов и соображений. Однако не исключено, что такое направление существует лишь для отдельных частей Вселенной в течение определенного, для нас, людей, правда, безмерно долгого времени, а в целом события физического мира не стремятся к определенной цели.
Завершив работу над рукописями двух последних упомянутых книг, я вернулся к психологическим исследованиям. Наблюдения, которые я опубликовал в статье «О качествах боли» в 1915 году, относились к области моей работы в эмоциональной психологии. Помимо тупой и яркой боли, я различал и другие качественные оттенки боли, возникающие в определенных частях тела (в слуховом проходе, на чувствительном дентине).
В 1916 году он опубликовал эссе «Gefühlsbegriff und Lust-Unlustelemente» («Понятие чувства и элементы удовольствия и неудовольствия»), в котором пришел к выводу, что удовольствие и неудовольствие принципиально отличаются от всего остального, что называется чувством. Удовольствие и неудовольствие – это элементы сознания, то есть элементы, основанные на других фактах сознания, которые отличаются от всех других элементов сознания особенностью своего качества, своей неиндифферентностью, а значит, своей уникальной функцией в жизни воли и своим отношением к расцвету физико-психического организма, своим биологическим значением. Другие чувства, которые, в отличие от «алгедонических» или элементов удовольствия-неудовольствия, возможно, следовало бы называть только чувствами, – это сложные факты сознания, представляющие себя как состояния субъекта, состоящие из слияния ощущений, алгедонических элементов, интеллектуальных компонентов, возможно, также волевых импульсов, и особенностей хода сознания, при которых тот или иной компонент может преобладать или отсутствовать.
В книге «Мозг и душа» я подробно критиковал гипотезу физиологической памяти и рекомендовал гипотезу памяти психической. В принципе она очень проста: предполагается, что следы или остатки памяти – это сознательные факты, которые стали бессознательными (неощутимыми) и продолжают существовать в (психическом) бессознательном, а ассоциации между остатками представляют собой связи между бывшими сознательными фактами, которые продолжают существовать в бессознательном. Но если остатки памяти и ассоциации следует искать в душе, а не в мозгу, то как получается, что повреждение мозга может вызвать нарушения памяти? По этому вопросу я заявил в опубликованном в 1916 году эссе «О физиологической и психической гипотезах памяти», что психическая гипотеза памяти должна предполагать, что воспроизведение остатков, возвращение содержимого души из бессознательного владения памяти в сознание, требует сотрудничества мозговых процессов, чтобы объяснить те физически вызванные расстройства памяти. Расширение этого взгляда привело меня к той форме теории взаимодействий, согласно которой психические процессы оказывают направляющее влияние на физические процессы, сопровождающие их в тесной причинно-следственной связи. Если расширить теорию взаимодействий до психовитализма, то получается, что душе приписывается ведущая роль во всей области жизни, которая определяет различие между живыми и мертвыми, функциональные явления и т. д.
Другое эссе, также появившееся в 1916 году, было озаглавлено «О критике параллельно-спиритуалистического монизма». Эта особенно впечатляющая форма параллелизма, которую отстаивали Фехнер, Паульсен, Хёффдинг, Эббингауз, Хейманс, Стронг, Эйслер и другие, основана на предположении, что «внутреннее существо», бытие-в-себе мозга или определенных небесных явлений идентично нашему сознанию. Теперь можно показать, что «бытие-в-себе» мозга или определенных небесных явлений или процессов должно обладать определенными формальными, например числовыми, характеристиками. Сознание и его компоненты, однако, не обладают этими характеристиками, а потому не могут быть тождественны «самому» мозгу или определенным мозговым явлениям.
Косвенным образом эта критика приносит пользу особенно значительной форме параллелизма в теории взаимодействия и психовитализма. Я попытался развить эту мысль в небольшой книге «Die fremddienliche Zweckmäßigkeit der Pflanzengallen und die Hypothese eines überindividuellen Seelischen», написанной в Мюнстере в 1916 году и опубликованной в 1917 году. Я называю чужеродной целеустремленность, которая приносит пользу не организму, демонстрирующему ее, не его потомкам и даже не его сородичам, а чужому организму, для которого она, по-видимому, создана и предназначена. В очень ярко выраженной форме мы сталкиваемся с этой чужеродной целеустремленностью во многих растительных опадах. У многих растений галлы не полезны сами по себе, но полезны для паразитов, которые привлекаются в эти галлы каким-то стимулом; эти паразиты иногда наносят серьезный ущерб растениям, которые предоставляют им в галлах подходящее убежище, пищу и защиту. Возникновение этой чужеродной целенаправленности растительных галлов нельзя объяснить обычными биологическими гипотезами целенаправленности (теория отбора, ламаркизм); принцип утилизации и психовитализм также не работают в представленных до сих пор формах. Только когда последняя расширяется предположением о надиндивидуальной духовности, которая, выходя за пределы отдельных организмов, соединяет их, но в то же время проецирует и действует в них как целенаправленно направляющий жизненный фактор, целеустремленность желчи, подаваемой извне, находит свое объяснение; тот факт, что растение «альтруистически» заботится о паразите, становится понятным, если оно психически связано с ним через надиндивидуальную духовность.
Осенью 1916 года я принял вызов в Мюнхенский университет, где стал преемником Кюльпе. С тех пор я написал ряд небольших эссе на различные темы, большинство из которых перечислены ниже. С 1917 года я также работал над более крупным трудом: «Geisteswissenschaften und Naturwissenschaften. Исследования по теории и классификации реальных наук». Поскольку рукопись этой книги уже завершена и, надеюсь, скоро будет опубликована, я считаю неуместным упоминать о ней здесь.
Непосредственной целью исследования является категоризация реальных наук, а именно адекватная категоризация, соответствующая всей совокупности этих наук. Для достижения этой цели вся природа наук должна быть рассмотрена сравнительно со всех сторон. Таким образом, книга должна стремиться к сравнительной анатомии наук, в частности реальных наук; эта задача является фактическим намерением, в то время как проблема категоризации – скорее внешняя, непосредственная цель.
Рассмотрение природы науки и изучение ее подотраслей показывает, что три основных фактора являются решающими для всей науки: объекты познания, методы и основания знания. Методы и основания зависят от объектов. Соответствующая классификация наук должна основываться на их объектах познания, методах и основаниях.
Во-первых, рассматривается различие между идеальными и реальными науками и показывается, что оно действительно соответствует объектам исследования, методам и основаниям знания и, следовательно, является адекватным.
В случае с реальными науками эти три основных аспекта должны быть снова рассмотрены. Наиболее четкая классификация реальных объектов – физические и психические. Это соответствует разделению реальных наук на естественные и гуманитарные. Гуманитарные науки можно дополнительно разделить на психологию и культурологию. Основными и главными методами реальных наук являются методы сенсорного восприятия, с помощью которых мы постигаем физическое, и методы самовосприятия и физические признаки психического, с помощью которых мы постигаем духовное. Таким образом, основные и главные методы соответствуют объектам; классификация реальных наук по этим методам, таким образом, возвращает нас к объективной классификации на естественные и гуманитарные науки. То же самое относится и к классификации по основаниям знания, которые рассматриваются более подробно. Таким образом, деление реальных наук на гуманитарные и естественные соответствует всей природе реальных наук, всем их основным аспектам. Другие классификации (Виндельбанда, Риккерта и др.), которые подробно рассматриваются и изучаются, не в такой степени соответствуют всей природе наук.
Краткое изложение основных взглядов.
Содержание моих трудов в основном намекалось или излагалось выше. Однако основные взгляды, на которых базируются отдельные книги и эссе, изложены недостаточно полно. Поэтому сейчас эти основные взгляды будут кратко изложены. Однако я хотел бы ограничиться взглядами, которые уже были высказаны в завершенных работах. Свои индивидуальные научно-психологические взгляды я здесь полностью оставляю в стороне.
Перед философией стоит задача выработать научный взгляд на мир и на жизнь. Эта задача настолько велика, а попытки ее решения настолько противоречивы, что с самого начала возникает вопрос, насколько наше познание способно ее решить. С этим вопросом мы вступаем в сферу эпистемологии или науки. Она рассматривает познание с той точки зрения, которая является для него наиболее существенной, – с точки зрения истины.
Это подводит нас к фундаментальному вопросу доктрины науки – вопросу: что есть истина? Ответ на этот вопрос должна дать теория истины.
Решив его, теория познания или науки должна решить свой главный вопрос: что обеспечивает истинность знания? Как устанавливается истина?
Истина часто устанавливается с помощью определенных мыслительных процессов, а именно с помощью индуктивного доказательства. Исследование умозаключений и доказательств с точки зрения истинности является основной задачей логики.
Умозаключения предполагают наличие знаний, из которых делаются выводы. Поэтому умозаключение и убедительное доказательство требуют конечных оснований знания, которые уже не могут быть прослежены дальше с помощью убедительного доказательства. Их исследование с точки зрения истины является основной задачей эпистемологии в более узком смысле.
Все остальные задачи, которые можно отнести к теории познания или науки, группируются вокруг этих основных задач как второстепенные проблемы.
Начнем с фундаментальной задачи, с вопроса: «Что есть истина?», т. е. с теории истины. Истинность или ложность – это особенность, которая изначально относится только к суждениям. Причем вопрос об истине зависит не от психологической реализации суждения, а лишь от его абстрактной стороны. Абстрактную сторону суждения, которая может быть истинной или ложной, мы называем логическим содержанием суждения. Поскольку вся теория науки рассматривает познание с точки зрения истины, логическое содержание знания, логическое содержание суждения, важно везде. В этом смысле более поздние логики были совершенно правы, поставив суждение в центр своих исследований, хотя особая основная задача логики состоит в исследовании рассуждений и доказательств.
В донаучном мышлении мы понимаем истину как соответствие суждения оцениваемому реальному. Это понятие истины должно быть расширено, поскольку в науке мы высказываем суждения не только о реальных, но и о нереальных объектах (например, о мнимых числах). В целом мы понимаем истину как соответствие логического содержания суждения оцениваемому объекту, или, точнее, как соответствие смысла предиката определенности субъекта объекту. Другие (локковские, неокантианские, прагматистские) концепции истины не выдерживают критики.
Вся эпистемология и логика должны быть последовательно разработаны с точки зрения концепции истины. Мы начинаем с логики, потому что эпистемология должна привести нас к дальнейшим проблемам.
Во многих логических суждениях истинность, согласие с объектом, должна быть установлена путем неопровержимого доказательства, при этом, однако, суждения всегда носят предположительный характер. Логика имеет дело с инференциальным доказательством. Убедительные доказательства образуются из умозаключений и в простых случаях тождественны умозаключениям. Поэтому основная задача логики – анализ умозаключений. Заключения состоят из суждений, и сами они представляют собой (сложные, а именно гипотетические) суждения, поскольку могут быть истинными или ложными (правильными или неправильными). Соответственно, учение об умозаключении предполагает учение о суждении. Поскольку суждения сами по себе являются составными сущностями, придется рассматривать и их компоненты, «понятия», но всегда в связи с суждениями, поскольку понятия как таковые еще не подчинены точке зрения истины; поэтому логика должна начинаться с учения о суждении, к которому должно быть отнесено учение о составных частях суждения. Затем идет учение об умозаключении, за которым следует учение о доказательстве и рассуждении. Остальные задачи, которые обычно ставятся перед логикой, являются более или менее важными второстепенными проблемами.
Собственно ядром логики, согласно изложенному (после предварительного рассмотрения теории истины как общего основания логики и эпистемологии), является учение о дедукции. Оно делится сначала на учение о дедуктивных умозаключениях и учение об индуктивных умозаключениях, к которым следует добавить учение об аналогии. Не все дедуктивные умозаключения идут от общего к частному; такие умозаключения могут также идти от общего к столь же общему или от единичного к единичному. С другой стороны, аналоговые (а значит, индуктивные в более широком смысле) умозаключения могут вести от частного к частному, от частного к общему, от общего к частному и от общего к общему. Для всех индуктивных (в том числе аналоговых) умозаключений характерно то, что они являются умозаключениями расширения, в то время как для дедуктивных умозаключений это не так. Это связано с тем, что все индуктивные выводы (молчаливо) предполагают наличие правила или закона, который делает возможным расширение знания, тогда как дедуктивные выводы не требуют такого предположения.
Поскольку любой вывод или убедительное доказательство требует суждений, на основании которых делаются выводы, должны существовать окончательные, фундаментальные суждения, которые должны быть признаны без убедительного доказательства, чтобы все убедительные доказательства не повисли в воздухе. Эпистемология занимается этими окончательными, фундаментальными суждениями в подлинном смысле этого слова. Существует четыре типа фундаментальных суждений. Во-первых, это ряд перцептивных суждений. Они имеют дело только с текущим содержанием сознания того, кто выносит суждение. Например, я могу судить^ что ощущение белого, которое я испытываю в данный момент, очень яркое. Это суждение сразу же очевидно, поскольку я непосредственно вижу, что предикатный смысл: «очень яркий» соответствует определенности субъект-объекта: «присутствующее у меня ощущение белого».
Второй класс конечных суждений образуют аналитические суждения, которые также, как нетрудно заметить, сразу очевидны.
В-третьих, это суждения об отношениях сущности, которые постигаются мышлением. К ним относятся такие суждения, как: Красный и зеленый цвета различны, или: Два объекта, которые равны третьему, также равны друг другу.
Как и суждения второго и третьего классов, суждения четвертого являются априорными, то есть не могут быть установлены опытом; но они не очевидны, не необходимы для мышления. Сюда относится последняя, недоказуемая предпосылка, которая заключается в нашем доверии к памяти и которая позволяет нам узнавать прошлое. К этому же классу относится предположение о закономерности реального, которое, будучи применено к той или иной области, делает возможным индуктивное и аналоговое рассуждение, предвидение будущего и знание трансцендентного сознанию внешнего мира и психической жизни других существ. Суждения четвертого класса можно назвать необходимыми для познания, поскольку без них наше познание реальности было бы принципиально невозможным. Конкретизацией предположения о закономерности является предположение о законности реального; специализацией этого предположения о законности является каузальный принцип. (Поскольку предпосылка закономерности и каузальный принцип не являются необходимыми для существования реального, индетерминизм как таковой, вероятно, был бы возможен. Однако, на наш взгляд, аргументов против него гораздо больше, чем в его пользу).
Идеальные науки, такие как математика, основаны на фундаментальных суждениях II и III классов и поэтому являются априорными. Реальные науки используют фундаментальные суждения всех четырех классов. Использование перцептивных суждений придает реальным наукам характер эмпирических наук.
Идеальные науки имеют дело с идеальными объектами, то есть объектами, не имеющими реального существования; реальное существование может быть устранено путем абстрагирования. Возможны априорно-синтетические реляционные суждения о сущности идеальных объектов (например, чисто математических), постигаемых мышлением (возможно, создаваемых мышлением через определение), которые, в свою очередь, делают возможным математическое знание.
Реальные науки исследуют реальные объекты, объекты, которые реальны, т.е. существуют независимо от того, составляют ли они содержание мысли. Существуют не только конкретные, но и абстрактные реальные объекты, такие как удельный вес, интенсивность чувства, дух романтизма. Такие абстрактные реальные объекты играют очень важную роль во всех реальных науках, в естественных и гуманитарных, в психологии и культурологии.
Из общей реальности я могу непосредственно распознать только настоящее содержание моего собственного сознания. Предпосылка, лежащая в доверительной памяти, сначала делает прошлое моего собственного сознания доступным для моего познания. Затем предпосылка регулярности или закономерности реальности и каузальный принцип открывают для познания будущее, внешний мир, выходящий за пределы сознания, и психическую жизнь других людей, в целом внешний психический мир.
Поскольку мое собственное сознание, взятое само по себе, отнюдь не удовлетворяет предпосылкам законности и каузального принципа, эти предпосылки требуют допущения реальных объектов, выходящих за пределы сознания, объектов-в-себе, в частности, прежде всего причин моих ощущений вне моего сознания. Требуемый таким образом реальный внешний мир-в-себе должен быть понят так, чтобы удовлетворить предпосылку законности и каузальный принцип. Из этого, однако, сразу же следует, что этот мир-в-себе не является сам по себе непознаваемым. Различные сенсорные эффекты, например, также предполагают различные причины в мире-в-себе. Если ощущение возникает три раза подряд, то причина, выходящая за пределы сознания, также возникнет три раза подряд. Поскольку ощущения 3» существуют во времени, их причины в мире-в-себе также должны существовать во времени. Таким образом, в мире-в-себе мы можем распознать различные отношения, например, отношения различия, а также отношения числа и времени. Пространственное сопоставление и расстояние в восприятии должны основываться на определенных отношениях в мире-в-себе; в целом, структура отношений нашего эмпирического пространства должна соответствовать контексту отношений в мире-в-себе, чтобы мы могли говорить о внешних мир-пространственных отношениях и свойствах в переносном смысле.
Таким образом, трансцендентный сознанию внешний мир сам по себе не является непознаваемым. Числовые, временные и внешние мир-пространственные отношения в мире-в-себе могут быть познаны. Таким образом, обеспечивается основа для научного познания внешнего мира; эпистемологически обосновывается реализм, который можно назвать более критическим, чем наивный, и который весьма близок к физическому реализму.
Качества ощущений не должны приписываться объектам внешнего мира, вызывающим ощущения, поскольку причина не обязательно должна качественно совпадать со следствием. Однако качественно разные ощущения, например, красного и зеленого цвета, так или иначе будут основаны на разных внешних причинах. Качественные характеристики трансцендентных причин, объектов-в-себе, остаются неизвестными; таким образом, наш критический реализм приближается к феноменализму.
Исходя из вышеизложенных результатов, легко показать, что понятия вещи, субстанции и тела могут быть применены и к объектам-в-себе. За восприятием куска железа, например, стоит объект-в-себе, который можно описать как тело внешнего мира.
Вещи-в-себе, тела внешнего мира, выводятся нами из их эффектов. Таким образом, они представляют собой эффективные возможности, силы или комплексы сил. Это начало динамистической концепции природы (которая, однако, не обязательно должна превращаться в энергетическую). Таким образом, составные части материи, электроны и т. д., а также поля, исходящие от них, предстают как своеобразная структура сил, а материальный мир – как огромный, закономерно упорядоченный комплекс сил.
Если существование и узнаваемость трансцендентных сознанию тел внешнего мира обеспечены, то признание инопланетной души легко обосновать. За восприятием моего тела и тела другого человека стоят аналогичные тела внешнего мира. Если с моим телом, его органами и функциями связана душевная жизнь, то на основе предположения о правилах и законах, или, как можно сказать, на основе аналогии, можно предположить наличие связанной душевной жизни и в теле моего ближнего. Прямо или косвенно телесные органы (органы чувств и нервы), функции (смех, речь, письмо, строительство) и продукты душевных функций (слезы, письмо, здания) становятся физическими знаками для чужой души. Использование этих знаков, «метод физических знаков», является, наряду с самовосприятием, фундаментальным и основным методом гуманитарных наук, психологии и культурологии.
Предположение о бессознательной душе также основано на предположении о закономерности и каузальном принципе. Это предположение наиболее просто вытекает из феномена памяти; психовитализм распространяет его очень далеко.
Наши эпистемологические объяснения неоднократно приводили нас к границам метафизики. На самом деле она тесно связана с эпистемологией и должна опираться на нее. Метафизика – это наука, изучающая реальность в целом и ее составляющие как части реальности в целом. Поскольку вся реальность состоит из физического и психологического, проблема «разум-тело» должна привести в центр метафизики.
Из различных гипотез о теле-душе строго материалистические не работают, поскольку непосредственно воспринимаемые ментальные объекты, например, чувства, не обладают существенными характеристиками физических вещей и процессов. Различные параллелистические гипотезы в большей или меньшей степени затруднены тем, что структура сознания, как мы его знаем, сильно отличается от структуры мозга и телесных процессов. Некоторые формы теории взаимодействия не учитывают интимную связь между душой и телом. Меня больше всего устраивает та форма теории взаимодействия, которая признает, с параллелизмом, что все наши психические процессы связаны с телесными, но которая, отклоняясь от параллелизма, предполагает, что телесные процессы вызывают и влияют на психические процессы и что эти психические процессы целенаправленно направляют телесные процессы в сети проводящих путей мозга. Это предположение о том, что психическое влияет на мозговые процессы, вытекает и из более конкретных соображений (ср. с тем, что было сказано выше о гипотезах психической памяти). На это наводит сложная сеть проводящих путей мозга, в которой должны протекать и рассеиваться неуправляемые «слепые» материальные процессы. Это соответствует уже проявившемуся в повседневной жизни мнению, что душа играет направляющую роль в действиях людей и животных. Наконец, в их пользу говорит и то, что психические воздействия, оказывающие направляющее, руководящее влияние на физические процессы, вполне совместимы с законом сохранения энергии. Кстати, даже самые удачные эксперименты Этуотера не исключают минимальных нарушений принципа сохранения в нашем мозге, и если бы этот принцип потерял свою строгую обоснованность в результате взаимодействия в нашем теле, то с самого начала можно было бы ожидать лишь крайне незначительных отклонений в положении вещей.
Если рассматривать психическое не с точки зрения внутреннего восприятия, а как фактор, действующий в мозге, то оно предстает как сила или комплекс сил, оказывающих направляющее влияние на мозговые процессы. Если же в психических реалиях мы также видим способность к действию или силы, то указанный выше динамистический взгляд на материальный мир расширяется до взгляда на реальность в целом. Этот пандинамизм «означает, конечно, только то, что психические и физические строительные блоки мира представляют собой эффективные способности.
Если теперь те мировые блоки или силы, которые доступны нашему внутреннему восприятию, проявляют себя как психические реальности, то это наводит на мысль, что все мировые блоки или силы, даже недоступные нашему внутреннему восприятию, которые образуют физический мир, имеют психическую или психически родственную природу в соответствии с их бытием-в-себе или «внутренней» природой. Таким образом, мы приходим к своего рода панпсихизму: все, что реально, является психическим или связанным с психическим по своей внутренней сущности; более того, из этого следует, что то, что является психическим или подобным психическому по своей внутренней сущности, предстает повсюду как сила, когда мы постигаем ее «извне», из ее воздействия. Эта формулировка сильно напоминает психомонистический параллелизм, согласно которому все реальное является психическим по своей внутренней сути, но предстает как физическое при взгляде извне.
Однако пандинамистический подход и сама гипотетическая панпсихическая интерпретация не должны ослеплять нас тем, что в нашей метафизике сохраняется дуализм. Остается различие между «низшими» силами, лежащими в основе физического внешнего мира, и «высшими» силами, направляющими физические процессы в мозге, которые, в той мере, в какой они доступны самовосприятию, проявляют себя как психические реальности.
Теперь возникает очевидный вопрос: почему эти высшие, направляющие силы или комплексы сил не предстают перед нами в виде тел или компонентов тел. Первый ответ на этот вопрос заключается в том, что системы сил представляют собой тела только тогда, когда силы пространственно объединены подходящим образом. Тела можно представить как образованные из притягивающих и отталкивающих центральных сил, но не, например, из сил одного направления, которые одинаково сильны везде в направлении действия силы. Конечно, это не окончательный ответ на наш вопрос; он тесно связан с вопросом о том, что лежит в основе пространственных отношений во внешнем мире. Возможно, эта проблема когда-нибудь даст толчок дальнейшим метафизическим исследованиям.
Психовиталистическая гипотеза, усматривающая действительные принципы жизни в психических реалиях, взаимодействующих с физическими и химическими факторами организма, представляется весьма примечательной в связи с изложенными выше мыслительными процессами. Согласно психовитализму, разница между живыми и мертвыми основана на том, что в последних обитает и действует душа; где есть жизнь, там есть и одушевление. Предположение о том, что вся живая субстанция, например, все клетки и органы, одушевлены, может быть подкреплено рядом аналогий, соображениями преемственности и развития. В онтогенезе из оплодотворенной яйцеклетки появляется одушевленный головной мозг; не должен ли он также быть одушевленным? Но из яйцеклетки появляются все клетки и органы тела; если яйцеклетка оплодотворяется, то правдоподобно, что все клетки и органы оплодотворяются. Считается, что все живые существа произошли от простейших одноклеточных организмов; не будут ли они, а значит, и все живые существа, одушевленными? Растения также имеют органы чувств, поэтому не будут ли они также иметь ощущения, то есть психические импульсы? Эти и другие соображения говорят в пользу предположения, что все живое, будь то животное или растение, орган или клетка, обладает сознанием. А отсюда всего один шаг до психо-виталистического предположения, что душа является фактором жизни в организме, в органе и в клетке. Душа в организме определяет характер жизненных процессов, воздействуя на материальные события в живом веществе.
В этом мнении нас укрепляет рассмотрение феномена целесообразности. Дарвиновская гипотеза отбора и механистический ламаркизм не в состоянии полностью решить биологическую проблему целенаправленности. В некоторых случаях^, а именно в наших действиях, мы можем теперь непосредственно наблюдать, как организм приходит к целесообразным действиям. Здесь он обязан им руководству психологических факторов, таких как разум, опыт и т. д. Отсюда следует, что и другие функциональные явления в сфере жизни также обусловлены направляющим влиянием психических факторов. Эта психовиталистическая гипотеза целенаправленности была разработана автором по-новому (подобно С. Бехеру и О. Прохнову). Анализируя столь распространенный в царстве организмов «процесс проб и ошибок», то есть достаточно примитивные действия, он показывает, как очень простые психические факторы (восприятие, удовольствие и неудовольствие, память) уже могут приводить к возникновению феноменов целесообразности. Под влиянием внешних и внутренних раздражителей, особенно неприятных впечатлений и возбуждений, организм производит всевозможные бесцельные реакции движения, выделения, деления и роста клеток. Если одна из этих «пробных реакций» воспринимается как полезная, приятная или неприятная, она сохраняется организмом, его органами или клетками, усиливается и, если необходимо, воспроизводится в памяти при повторении стимула или ситуации. Таким образом, организмы, органы и клетки благодаря своим простым психическим способностям обучаются полезным, целенаправленным реакциям движения и выделения, процессам деления и роста клеток, сохраняя полезные реакции из обилия бесцельных реакций и отбрасывая бесполезные и вредные. Таким образом, под руководством души происходит отбор целесообразного среди процессов движения, выделения, роста и т. д. в организме.
Однако даже эта форма психовиталистической гипотезы не может полностью решить проблему биологической телеологии. Подобно дарвиновскому селекционизму и ламаркизму, она также терпит неудачу перед лицом «внешне полезной» целенаправленности, которую мы встречаем в ярко выраженной форме в некоторых галлах растений. Как организм – галловое растение – может производить нечто, полезное не для себя, а для совершенно постороннего организма – паразита, который производит галлы? Почему растение строит в галлах специально построенный дом для паразита, предлагая ему пищу и защиту? Чтобы сделать понятным этот «альтруизм» желчного растения, психовитализм должен предположить, что психическое в растении и психическое в паразите являются ветвями одного и того же супраиндивидуального психического, которое проникает в различные индивидуальные организмы.
Гипотеза о над-индивидуальной душе, которая своими ветвями проникает в отдельные организмы и отдельные клетки, может быть рассмотрена для многих проблем биологии и психологии; вспомните, например, о животных состояниях и других объединениях жизненных единиц, о различных «ясновидческих» и альтруистически-социальных инстинктах и чувствах у животных и человека. Учение о ведущей роли души в мире приобретает благодаря нашей гипотезе расширенное и усиленное значение. Весь ход развития жизни от самых примитивных начал до наивысшего расцвета цивилизации, возможно, представляет собой единый процесс, направляемый надиндивидуальным духовным существом, которое своими разветвлениями охватывает и затрагивает как низшие, так и высшие организмы. Таким образом, переживания, радости и страдания всех живых существ были бы в то же время переживаниями, радостями и страданиями этого единого духа жизни, который участвовал бы в восходящем развитии самой жизни.
Из таких эмпирически-индуктивно обоснованных метафизических помыслов вытекают не только дальнейшие метафизические гипотезы, но и этические убеждения. Альтруизм, распространяемый на все живое и одушевленное, приобретает, так сказать, метафизическую или религиозную санкцию. Сострадание, любовь, социальная совесть предстают как голоса сверхиндивидуального внутри нас.
Однако этика должна также попытаться ответить на вопрос о том, что имеет моральную ценность, независимо от метафизических гипотез. При этом ей придется опираться на теоретико-ценностные принципы. Только душа, духовное, имеет непосредственную ценность. И сам дух в конечном счете является той инстанцией, которая должна решить, является ли нечто духовное, переживаемое им самим, непосредственно ценным. Однако то, что переживается как непосредственная ценность, и есть истинное счастье. Разумные действия в конечном итоге будут направлены на то, что непосредственно ценно, на истинное счастье.
Должен ли я сейчас стремиться к своему истинному счастью или к истинному счастью всех духовных существ? В обеих целях есть что-то рациональное. Но разум, этот надличностный авторитет, скорее всего, примет решение в пользу надличностной цели. Как будущее истинное счастье само по себе столь же ценно, как и соответствующее настоящее, так и истинное счастье других столь же ценно, как и наше собственное. Обогащение всех духовных существ – вот более великая, более богатая цель. И только те, кто стремится к большему, чем собственное счастье, могут стать по-настоящему счастливыми.
Нравственно ценным является такое отношение, такая воля, которые имеют тенденцию к увеличению истинного счастья, непосредственно ценного духовного содержания, в мире. Перед человеком стоит нравственная задача – служить истинному счастью всех существ. По соображениям целесообразности ему придется начать с «ближнего», с члена семьи, с соотечественника, с того, кому он может помочь. Но забота о будущих поколениях также требуется нашей социал-демократической этикой. Это порождает важные социальные обязанности и альтруистически-социальную евгенику.
Самые важные факторы, способствующие истинному счастью всех живых существ, находятся в самом разуме и в отношении к нему. Развитие и культивирование этих факторов – главная задача воспитания и самовоспитания. Высшей целью воспитания представляется любовь, направляемая разумом, caritas sapientis.
Список публикаций
(Доклады и очень короткие статьи опущены).
Публикуется самостоятельно:
Der Begriff des Attributes bei Spinoza. In Abh. hrg. von B. Erdmann. Halle 1905. Philosophische Voraussetzungen der exakten Naturwissenschaften. Leipzig 1907. Die Grundfrage der Ethik. Köln 0. J. (1907).
Der Darwinismus und die soziale Ethik. Leipzig 1909.
Gehirn und Seele. Heidelberg 1911.
Erziehung zur Menschenliebe und Helfersystem. Langensalza 1914.
Naturphilosophie. In Kult. d. Gegenw. Red. von C. Stumpf. Leipzig u. Berlin 1914. Weltgebäude, Weltgesetze, Weltentwicklung. Berlin 1915.
Die fremddienliche Zweckmäßigkeit der Pflanzengallen und die Hypothese eines fiberindividuellen Seelischen. Leipzig 1917.
Demnächst erscheint:
Geisteswissenschaften und Naturwissenschaften.
In Zeitschriften sind erschienen:
Experimentelle und kritische Beiträge zur Psychologie des Lesens. Zeitschr. f. Psychol. 36, 1904.
The Philosophical Views of Ernst Mach. Philos. Rev. 14, 1905.
Kritik der Widerlegung des Parallelismus auf Grund einer naturwissenschaftlichen Analyse der Handlung durch Hans Driesch. Zeitschr. f. Psychol. 45, 1907.
Das Gesetz von der Erhaltung der Energie und die Annahme einer Wechselwirkung zwischen Leib und Seele. Zeitschr. f. Psychol. 46, 1907.
Energieerhaltung und psychophysische Wechselwirkung. Zeitschr. f. Psychol. 48, 1908.
Über die Sensibilität der inneren Organe. Zeitschr. f. Psychol. 49, 1908.
Einige Bemerkungen über die Sensibilität der inneren Organe. Arch f. d ges.Psychol. iS» 1909.
Über umkehrbare Zeichnungen. Arch. f. d. ges. Psychol. 16, 1910.
Theoretische Beiträge zum Darwinismus. Arch. f. Rass.– u. Gesellsch.-Biol. 7, 1910. Rassedienst. Grenzboten 70, 1911.
Lehen und Seele. Deutsche Rundschau 39, 1912.
Leben und Beseelung. Verh. d. Naturf. u. Ärzte zu Münster, Leipzig 1912.
Über Schmerzqualitäten. Arch. f. d. ges. Psychol. 34, 1915.
Gefühlsbegriff und Lust-Unlustelemente. Zeitschr. f. Psychol. 74, 1916.
Über physiologische und psychistische Gedächtnishypothesen. Arch. f. d. ges. Psychol. 35, 1916.
Zur Kritik des parallelistisch-spiritualistischen Monismus. Zeitschr. f. Philos. u. philos. Krit. 160, 1916.
Hermann Lotze und seine Psychologie. Die Naturwissenschaften 5, 1917.
Carl Stumpf. Zu seinem 70. Geburtstage. Die Naturwissenschaften 6, 1918.
Über Ausnutzungsprinzip, Zweckmäßigkeit und fremddienliche Zweckmäßigkeit.
Die Naturwissenschaften 6, 1918.
Моя система и ее развитие.
Ганс Дрлезох (Кёльн)
I. Развитие моей системы
В основе моей философии лежит стремление интеллектуально овладеть биологическими проблемами, поскольку я двадцать лет был зоологом.
Как и многие мои сверстники, я начал с дарвинизма и учения Геккеля, не имея глубоких знаний о реальных биологических фактах, поскольку учился (с 1877 по 1886 год) в гуманистической гимназии, школе ученых Йоханнеум в Гамбурге. То, чего мне не хватало, я быстро восполнил в университете; я изучал зоологию и, конечно, другие естественные науки во Фрайбурге, Мюнхене и, прежде всего, в Йене, а затем (1889) получил докторскую степень под руководством Хеккеля с диссертацией «Тектонические исследования гидроидных полипов», в которой ставил перед собой задачу исследовать регулярность строения стеблей полипов из отдельных особей. Тенденция этой работы была точной, и в этом отношении она уже была несколько гетеродоксальной в джененсианском смысле; конечно, ни мой учитель, ни я не осознавали этого в полной мере. Но вскоре все сложилось иначе: сразу после защиты докторской диссертации я ясно осознал, насколько шаткой была надежность «филогенетических деревьев», да и вообще биологической методологии; длительная поездка в тропики дала мне возможность собраться с мыслями, а затем (в 1890 году) последовал решающий шаг. Еще будучи студентом, я мечтал о «динамической биологии» – побочной ветви геологии, названной так, – как о непременном условии филогенетических исследований; кроме того, после работы с полипами у меня появились несколько фантастические идеи о возможности геометрической маркировки органических типов на основе изучения способов их формирования. Теперь я занялся поиском абсолютно необходимого нового: Я прочитал всех тех биологических авторов, к которым Геккель и его школа относились враждебно, т.е. основные работы Виганда, Гетте, Бера, Хиса, Бертольда и т.д., а также наткнулся на речь В. Рюкса в Инсбруке, которая побудила меня прочитать все публикации этого мыслителя. Я начал с систематического изложения того, что я узнал в маленькой книжке: Die mathematisch-mechanische Betrachtung morphologischer Probleme der Biologie (1891); к сожалению, публикация этой работы также привела к внешнему разрыву с Геккелем. Затем я продолжил свою собственную работу, сначала экспериментально, следуя некоторым работам Рюкса.
Это была экспериментальная проверка известной эмбриогенетической теории Хиса и Вейсмана. Хисс выдвинул «принцип органообразующих зародышевых округов», Вейсман предположил, что в основе развития личности лежит разложение материальной тектоники – зародышевой плазмы, находящейся в ядре яйца, и экспериментальный результат Ру*, казалось, доказывал правоту обоих: Ру выводил половину эмбриона, правую или левую, из первой правой или левой линяющей клетки яйца лягушки, которая выживала одна. Тут-то я и подхватил идею; я повторил эксперимент Ру в несколько измененной форме на зародыше морского ежа, который, как я знал, был очень благоприятным объектом.
Даже первая короткая серия экспериментов, проведенная в Триесте в 1891 году, дала результат, который был столь же определенным, сколь и удивительным: из изолированных спаривающихся клеток двухлинейной стадии был выращен не «половинный», а целый эмбрион вдвое меньшего размера. Это было противоположно результату Roux и представляло большую трудность для его и Вайсманна теорий. С осени 1891 года я продолжал работать в Неаполе (с небольшими перерывами до 1900 года), и здесь мне особенно повезло: мне удалось вырастить целые уменьшенные личинки из зародышей 1/4 и 3/4, а также из зародышей, ядерный или клеточный материал которых был помещен в относительно ненормальные положения, и т. д. Все это привело меня к отказу от теории His-Roux-Weismann и к разработке собственной эмбриогенетической теории.
Но теперь мы должны поговорить о философии. Будучи студентом, я однажды посетил часовую философскую лекцию о свободе воли во Фрайбурге вместе с Рилем. Однако в Йене «хорошие манеры» запрещали молодым ученым-естествоиспытателям посещать философские лекции, и поэтому фрайбургский курс остался единственным. Но потом, когда я только-только защитил докторскую диссертацию, мне попалась работа Либмана «Анализ реальности». Эта работа оказала на меня очень сильное влияние и привела меня, прежде всего, к изучению оригинальных работ Канта и Шопенгауэра, а затем Декарта, Локка и Юма. Таким образом, у меня вскоре появился определенный философский фундамент, усовершенствованный «Критикой» Риля, на котором основывались мои последующие биотеоретические труды, написанные под влиянием экспериментов. В книге: Die Biologie als selbständige Grundwissenschaft» (1893, 2-е изд. 1911) я сознательно ввел понятие телеологического как незаменимого инструмента для работы с органическим; в «Analytische Theorie der organischen Entwicklung» (1894) я дал свою экспериментально подкрепленную эмбриологическую теорию, которая также была телеологически ориентирована.
Моя концепция телеологии была, однако, бессознательно для меня самого, неопределенной в очень существенном пункте, том самом, в котором, по моему мнению, находится кантовская концепция. Я всегда говорил о «целевом», о «телеологическом». Однако я имел в виду отнюдь не «витализм», а то, что я сам позже назвал «статической телеологией» или также «заранее сформированной целесообразностью»; ибо тогда я имел в виду, что констелляция материи, как нечто раз и навсегда данное, является заданной основой целесообразных и «гармоничных» органических процессов, а сами эти процессы относятся к физико-химическому типу.
Только позже, сначала в 1895 году, я понял, что я на самом деле «имел в виду», и понял это только тогда, когда я имел в виду нечто другое, нечто совершенно новое. Внезапно и одним махом я понял, что для некоторых моих экспериментальных результатов на механической основе, в отношении локализации происходящего, не было достаточных оснований. Чему же я на самом деле учил? Машинной теории органики. Внезапно я понял: это работает не так, то есть с помощью машинной теории. Это была первая концепция моего последующего витализма. Я держал свои крайне еретические мысли при себе до 1899 года и записал их в маленькой книжке: Die Maschinentheorie des Lebens (Biolog. Zentralblatt Bd. 16, 1896) в резком фокусе то, что я на самом деле преподавал ранее; это считалось витализмом Э. де Буа-Реймонда. Только теперь я понял, что это был не настоящий витализм, и я должен был сказать об этом, чтобы проложить себе путь в дальнейшем.
В 1899 году появилась первая подлинно виталистическая или динамико-телеологическая работа: Die Lokalisation morphogene-tischer Vorgänge, доказательство виталистических событий. Концепция «гармонически-эквипотенциальной системы» и доказательство ее механической неразрывности занимают центральное место. Я сам собрал богатый новый экспериментальный материал с 1895 года, когда я впервые, как молния, убедился в необходимости витализма; я получил дополнительный материал зимой I901/2 года и время от времени позже. Гармонически-эквипотенциальными системами я называю те совокупности клеток, которые возникают в эмбриологии или при восстановлении нарушенной организации (реституции), для организационной работы которых нет разницы, брать ли из них части или перемещать их по своему усмотрению. Именно здесь концепция «машины» оказывается несостоятельной. Кстати, все это изложено в очень тщательном концептуальном анализе и с использованием ряда терминов, которые впоследствии были натурализованы, таких как «проспективная потенция», «проспективный смысл» и др. значение» и т. д. До сих пор я не нашел причин отказываться от чего-либо существенного в своих объяснениях; совсем недавно (1918—19) я, как мне кажется, существенно углубил их в своих «Логических исследованиях развития I и II».
Статья о локализации была заключением и новым началом. Завершением в той мере, в какой, хотя и не совсем с 1899 года, но с 1902 года и далее биологическая экспериментальная работа перестала быть центром моей деятельности (последний эксперимент я провел в 1909 году: крупные единичные образования из двух яиц), началом в той мере, в какой передо мной внезапно встало почти пугающее количество новых проблем, сначала как в тумане. Это постепенно привело меня к чистой философии.
Первой задачей было перенести учение об «автономии жизненных процессов» из ограниченного морфогенетического поля на всю область биологии, то есть, строго говоря, рассмотреть, где можно найти (косвенные) «доказательства» механической неразрывности органической группы процессов, или, другими словами, где предположение о лежащей в основе «машине» может быть фундаментально наполнено. В этом смысле я прошел через всю физиологию; две работы: Die organischen Regulationen (1901) и Die «Seele» als elementarer Naturfaktor (1903), были плодом этих исследований. Во второй работе центральное место занимает анализ человеческого действия, рассматриваемого исключительно как природный феномен; здесь же я впервые выступаю против так называемого психофизического, в действительности всегда психомеханического параллелизма.
Но требовалось нечто большее, чем просто расширение основ теории автономии: необходимо было доказать, что эта теория возможна в рамках естественных наук. Поэтому необходимо было связать с ней наиболее фундаментальные аспекты всего естествознания, энергетику и механику; необходимо было рассмотреть старую декартовскую проблему тела-души в новой форме. Я уже изучал высшую математику и теоретическую физику в старших классах гимназии, а затем, после защиты докторской диссертации, в Цюрихе и поэтому был в состоянии понять хотя бы основы оригинальных работ по физике и химии, о которых идет речь. В книге «Naturbegriffe und Natururteile» (1904) я суммировал то, что имел сказать о взаимоотношениях между органической и неорганической материей. Эта книга содержит, в качестве основного пункта, подробную критику энергетики и, как наиболее существенный пункт, доказательство того, что так называемый «второй закон» состоит из двух логически совершенно разнородных частей; с другой стороны, она впервые содержит философские объяснения в более узком смысле, а именно некоторые эпистемологические основания и критические замечания о понятии причинности; наконец, конечно, в ней делается попытка решить основной вопрос о том, как энтелехия относится к материи и энергии. Но именно здесь все застряло на полпути; то, что предлагается, не ошибочно, но совершенно неполно; я продвинулся здесь только в 1908 году.
В 1905 году по просьбе одного издателя я написал краткую историю витализма и в то же время представил в краткой и полной форме свою собственную биотеоретическую систему. Для меня было полезно ознакомиться со старой литературой. Работа, озаглавленная «Витализм как история и как доктрина», стала довольно известной и была переведена на 4 иностранных языка (польский, итальянский, русский, английский).
В 1905 году я «решил стать философом», если можно несколько иначе применить к себе слова Р. Вагнера. Это «решение», конечно, не следует понимать как так называемую смену направления, оно могло означать лишь то, что я осознал существование еще одной стороны моей натуры, помимо естественнонаучной, которая до сих пор развивалась лишь фрагментарно и в угоду первой. Но если я хотел «стать философом», то я хотел сделать это полностью, а не дилетантски, и поэтому сначала я вознамерился создать большие, похожие на учебники, представления о естественных науках. Я начал с тщательного и систематического изучения основных учебников, таких как «Логика» Зигварта и Лотце, «Психология» Хёфлера и Вундта, «История философии» Виндельбанда и Убервега-Хайнце. Разумеется, это сопровождалось расширением моих знаний об оригинальных классических работах.
В г. В 1905 году также появились первые заметки по чистой логике и теории категорий, которая позже стала теорией порядка.
Чего я, собственно, хотел, иными словами: почему я должен был «стать философом», читателю, вероятно, уже стало ясно. Была ли вообще логически допустима моя теория автономии жизни? Ведь она противоречила обычным теориям причинности и категорий, особенно неокантианским.
Поэтому витализм нужно было обосновать логически, а это можно было сделать только на основе самой логики.
Если бы не внешние обстоятельства, я бы, наверное, сразу после завершения собственно философских занятий перешел к логическому изданию в более узком смысле. Но я думаю, что это событие, которое само по себе было очень приятным, было благом, потому что оно привело к временной отсрочке и, таким образом, к созреванию моих логических планов. Шотландский университет Абердина избрал меня лектором Гиффорда на 1907—1908 годы. В течение двух лет я должен был прочесть десять основных лекций; они должны были выйти в виде книги; я выбрал своей темой «Науку и философию организма» и потратил 1906—1908 годы на всестороннее изложение всей моей биотеоретической системы. Лишь теперь я подошел к проблеме «Энтелехия и материя» – (насколько вообще можно подойти к ней); теперь, к концу второго тома работы, я также сделал первую, пока еще фрагментарную попытку логического обоснования моего учения, которое я признавал необходимым. В «Гиффордских лекциях» я также впервые увидел и рассмотрел проблемы супраперсонального, возникшие на основе личного витализма, особенно так называемой философии истории. Гиффордские лекции появились в печати в 1908 году; в 1909 году я сам свободно «перевел» их на немецкий язык под названием «Философия органического» (Philosophie des Organischen). Если говорят, что эта работа написана мною наиболее легко и свободно, то это, вероятно, объясняется тем, что сначала я писал ее по-английски и, несмотря на плохое владение английским языком, естественно зависел от максимально возможной простоты выражения; таким образом, недостаток превратился в достоинство.
В 1907/08 годах я впервые стал университетским преподавателем, хотя и за границей и лишь на короткое время. Мне это понравилось, и поэтому некоторые коллеги в Гейдельберге без труда уговорили меня пройти хабилитацию по «Натурфилософии». Все обычные формальности были улажены, и вот (1909) я стал приват-доцентом, сначала на факультете естественных наук и математики, в 1911 году стал доцентом, а в начале 1912 года перешел на философский факультет.
Летом 1909 года я написал рукопись своей «Системы логики»; затем я много читал об этом предмете, улучшил рукопись, наконец, выбросил ее, чтобы написать заново с нуля, и опубликовал работу под названием «Ordnungslehre I912».
Какова цель и чего хочет «Теория порядка», которая в своем подзаголовке называет себя «системой неметафизической части философии»?
Намерением, которое первоначально привело к ее созданию, было логическое обоснование витализма.
Это вполне можно было сделать в русле мысли Канта, и в 1911 году я действительно провел исследование такого рода (уже кратко упоминавшееся во втором томе «Философии органического») и опубликовал его в 16-м томе «Kantstudien» под названием: Die Kategorie «Individualität» im Rahmen der Kategorienlehre Kants. Пересмотрев «Таблицу частей», на которой основана «Таблица категорий» Канта, можно было «вывести» «категорию», которую требует витализм. Но эта дедукция меня не удовлетворяла, потому что кантовское учение о категориях, да и вся методология кантовского философствования не удовлетворяла меня в существенных моментах.
Отсюда вытекала вторая, главная задача моей теории порядка; она больше не должна была служить только витализму. Поэтому она стала самостоятельной. Она рассматривает вопросы: что такое категория вообще? Как я прихожу к категориям?
Да, что на самом деле означает мышление и с чего должно начинаться всякое мышление? Таким образом, я постепенно продвигался к первому (или последнему, как хотите, так и называйте).
О том, как все это было концептуализировано, будет кратко рассказано в систематической части данного исследования. Здесь же необходимо лишь сказать, что в учении о становлении, и особенно в учении о четырех априорно возможных основных формах становления, обоснование витализма также вступило в свои права, но на этот раз по новым собственным путям.
В коротком эссе: Die Logik als Aufgabe» (1913) я еще раз кратко обрисовал то, к чему, собственно, стремилась теория порядка, и при этом разобрался с современной психологией мышления, в основном в ее пользу.
И вот последний на данный момент шаг: теория порядка была сознательно ориентирована на «методологический солипсизм». О том, что это не последнее слово философии, я, однако, уже говорил в ее введении, а также в конце второго тома Гиффордских лекций. Метафизика как учение о «реальном», о «самом по себе», гипотетически и индуктивно возможна как наука. В 1913 году я впервые набросал общие контуры работы, позже опубликованной как «Теория реальности» (1917), которая развивает эту идею. Эта книга содержит множество
В этой книге содержится множество мыслей о телеологии и механизме, этике, проблеме свободы и т. д., часть из которых была опубликована ранее, а часть – впоследствии отдельно в «Логосе», в трудах Гейдельбергской академии и в антологии «Weltanschauung». Учение о порядке и учение о реальности вместе образуют целостную систему философии.
В исследовании «Тело и душа» («Leib und Seele», 2-е изд. 1920), написанном в 1916 году, я считаю, что окончательно опроверг психомеханический параллелизм с помощью новой идеи, а именно путем сравнения «степеней множественности» физического и психического. Статья: Wissen und Denken» (1919) извлекает все так называемое «эпистемологическое» из двух основных работ и обрабатывает его в расширенном виде. Логические исследования развития (1918 и 1919), опубликованные в трудах Гейдельбергской академии, могут показать читателю, что виталистическая проблема для меня также еще не решена; то же самое относится и к эссе: Der Begriff der organischen Form (1919), в «Abhandlungen zur theoretischen Biologie» Шакселя.
Свою следующую задачу я вижу в логическом развитии психологии на основе того, что дано в основных работах, с особым вниманием к понятию «подсознание». Начало работы над этой новой проблемой совпадает с моим назначением на должность полного профессора философии в Кельне.
II Система
A.
Философия – это структурированное знание о знании и обо всем, что известно, как известное. Добавление «как известное» отделяет философию от науки в собственном смысле слова; часть науки сразу же становится частью философии, когда она рассматривается как известная и, помимо своего содержания, постигается в сознании.
Философская система состоит из трех частей: учения о происхождении, учения о порядке и учения о реальности. Из этих трех частей, однако, первая не является собственно «доктриной», но предшествует всем доктринам; она состоит в простом саморефлексивном утверждении, что существует причинный факт, отличный от всех других фактов, который один только не подлежит сомнению и поэтому один только подходит в качестве источника доктрины знания. Эту причину можно резюмировать в короткой формуле:
Я, зная о своем знании, сознательно сделал нечто, 1 Причинный факт состоит из трех компонентов: (я, знающий о своем знании), (сознательно сделал), (нечто). Однако все три компонента являются зависимыми, иными словами, каузатив триедин. Ни один из входящих в него смыслов не является «определяемым», тем более что знание не поддается какому-либо дальнейшему разрешению или экспликации; это, если хотите, первичное отношение (но не связанное ни с каким другим видом «отношения»).
На одной только причинности дальше не продвинешься.
Но теперь – «застенчивый» я, тот, кто знает о своем знании, – то, что я сознательно имею, есть нечто упорядоченное. Я в неразрывной форме вижу, что означает порядок и в силу каких особенностей нечто упорядочено, иными словами: какие признаки порядка есть на этом нечто. Я вижу себя как обладающего изначальным или предварительным знанием порядка и знаков порядка,
Из этого вытекает первая собственно доктринальная часть философии – доктрина порядка (или логики в самом широком смысле этого слова). Я, так сказать, нахожусь под «задачей» порядка, я хочу полностью осознать нечто как упорядоченное; и как философ я знаю о своей задаче и о своем желании ее решить (как естественное человеческое существо я также нахожусь под изначальной задачей порядка, но я не знаю о ней и не хочу явно ее решать).
