Читать онлайн Жила, была… Историческое повествование о Тане Савичевой бесплатно
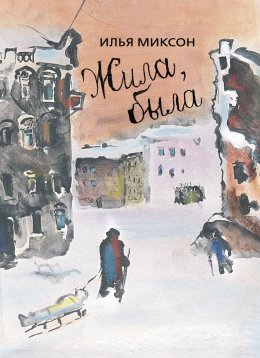
От автора
Она жила в Ленинграде, обыкновенная девочка из обыкновенной большой семьи. Училась в школе, любила родных, читала, дружила, ходила в кино. И вдруг началась война, враг окружил город.
Блокадный дневник девочки до сих пор волнует людей, обжег и мое сердце. Я решил рассказать о былом и отправился по следам горя, безмерных страданий, безвозвратных потерь. Но отыскались родственники, семейные фотографии, архивные бумаги, нашлись свидетели. Я держал в руках вещи, что хранили касание рук девочки, сидел за партой в классе, где она училась, смог бы с закрытыми глазами обойти ее прежнее жильё и назвать все предметы.
Порою казалось, что я рядом с той девочкой. В том блокадном, трагическом, непокорном городе. И мучало бессилие помочь, спасти. И вспомнилось пережитое лично.
…Никому не дано творить чудеса, ничто не изменить, не исправить в прошлом, но можно и должно предупредить и оградить будущее. Я расскажу, обязан рассказать.
Итак, жила-была девочка. Звали ее Таня Савичева.
Глава первая
Савичевы
Ленинград стоит на островах. Самый большой из них — Васильевский. Вдоль, как полосы на спине бурундука, тянутся проспекты с названиями, поперек — безымянные улицы. Зато каждая сторона улицы — линия имеет свой номер. На 2-й линии, в доме 13/6 жили Савичевы.
Внизу — Таня с мамой, братьями, сестрами и бабушкой, во втором этаже, прямо над их квартирой, — два одиноких брата, Танины дяди. Так что в одном подъезде жили сразу девять Савичевых.
Таня
В доме только и разговоров о скором отъезде в Дворищи. Потому, наверное, и приснилась дедовская рубленая изба-пятистенка. Будто выходит Таня из полутемных сеней на светлое крылечко. Вся такая нарядная, городская. Синее, в крупный белый горошек платье, зонтик курортный в руке, через плечо сумочка матерчатая из того же ситца и тоже мамой сшитая, белые носки с двумя голубыми полосочками и спортсменки со шнуровкой. Русые волосы прижаты обручем, пружинистой дужкой, обтянутой цветным целлулоидом.
Сошла по ступенькам на землю. Позади со стуком оконные створки распахнулись, кто-то спросил: «Ты куда навострилась?» И Таня этак по-взрослому: «На Вельское озерцо, искупаться».
Миг — и за околицей. Идет-бежит на деревенский пляж, перепархивает луговые цветы и травы. И чувствует: захочет — поднимется выше зеленых косогоров, поплывет над псковским краем.
И вот она уже в небе.
В Дворищах вся родня на улицу высыпала. Улыбаются, ахают, машут. Кто ладошкой, кто платком.
А это еще кто-что? За огородами, на солнцепеке лежит коза не коза. Голова у нее человеческая, как у египетского сфинкса. И колышек, к которому привязана, высокий, фигурный, чашей увенчан. Точь-в-точь бронзовый светильник у Невы.
«Бе-е, — зовет коза. — Бе-бе! Спускайся, молочком угощу».
«Спасибо, — отвечает Таня. — С удовольствием бы, и пить ужасно хочется, но такая красота в небе!»
В лиловой дали город, древний Гдов у знаменитого Чудского озера; вблизи — многолюдные Дворищи. Вдруг рядом бесшумно планер объявился. За прозрачным колпаком пилотской кабины сестра видна. В комбинезоне, летчицком шлеме, в больших очках — будто с запомнившейся Тане праздничной демонстрации на Дворцовой площади.
Покачала сестра дриветственно крыльями, спросила: «Нравится?» — «Прекрасно, дух захватывает! И ничуть не страшно», — восторженно кричит Таня. Нина вздыхает: «А мама запретила мне летать, заставила бросить аэроклуб…»
Таня шепчет: «Ты смелая, я горжусь тобой». Планер грустно отмахнулся крыльями. Что уж теперь говорить об этом. Ни к чему душу бередить.
«Летим в Ленинград!» — Нина не предлагает, командует. Она не только внешне, но и характером в маму: добрая и решительная.
«Летим!» — с радостью соглашается Таня.
С высоты поднебесья видно далеко-далеко. Вон уже Исаакиевский собор, Адмиралтейство. Заблистали золотые…
«Бе-елые», — поправил, заикаясь, мужской голос.
«Почему — белые?» — возражает Таня. Купол храма и шпиль с корабликом — золотые.
Заспорила — сон и оборвался, кончился полет.
— Черных сама насушу, — сказала мама.
Мама
Голос мамин особенный, с улыбкой.
— Как в Дворищах говорят? «От Марии Игнатьевны без сухарей не уедешь». Так, Мишулька?
Брату уже двадцать лет, Мишулькой называли его в детстве.
— То д-давно было, когда г-голодовали, — Миша с малолетства заикается.
— В деревне и ныне не очень сытно, — говорит мама. — Прикупи сухариков, батонов белых. Да пряников с повидловой начинкой.
— Дорога сама з-знаешь какая… — продолжает упрямиться Миша.
Путь в Дворищи не очень долгий, но сложный. Поездом до Кингисеппа, затем километров десять лесом и полем. В дождь и парная упряжка застревает. А пеши, с громадным чемоданом и тяжеленным рюкзаком…
— Все руки об-борвешь.
— Надо, Михаил, — совсем уже иначе произносит мама. Человек мягкий, добрейший, но слово ее твердо. Бесполезно перечить. И непринято в семье старших не слушаться.
— Л-ладно.
* * *
Таня лежала с закрытыми глазами: жаль расставаться с полетом.
В другой комнате застрочила, как пулемет в кино, швейная машина: мама принялась за работу. В передней возился Миша, собирался идти по магазинам.
«А почему он не на заводе?» — удивилась Таня и вспомнила, что брат с сегодняшнего дня в отпуске и завтра уезжает в деревню. Через две недели поедут следом и Таня с мамой. Отпразднуют бабушкин день рождения и поедут. На все лето. А Лека, Нина и Женя прибудут в Дворищи тогда и на столько, когда и какой кому отпуск дадут на работе.
Бабушка
Таня приоткрыла глаза: сон все равно не вернется.
Кровать с никелированными шарами на высоких спинках отгорожена гигантским буфетом и трехстворчатой ширмой. Буфет с резными дверцами, множеством отделений и бесчисленными ящичками разделяет комнату на спальню и гостиную. Ширма красного дерева с узорчатыми стеклами — сбоку.
Из-за ширмы выглядывала бабушка. Ее давняя подруга и родственница как-то гостила здесь и рассказывала, что бабушка — тогда, конечно, еще не бабушка, совсем молодая женщина — выделялась умом и красотой. Она и сейчас такая, уверена Таня.
Умные, выразительные глаза, чистый и высокий лоб; несмотря на седые волосы, ни за что не угадать, сколько на самом деле лет. А бабушке 22 июня исполнится семьдесят четыре. Знакомые и соседи обращаются к ней почтительно, по имени и отчеству — Евдокия Григорьевна. Она старее всех Савичевых, но очень бодрая и все успевает, со всем управляется, главная кормилица…
— Пробудилась, маленькая?
Таня самая младшая в семье — но какая же она маленькая?
— Ба-абушка, я в четвертый класс перешла, мне скоро двенадцать будет!
Счастливый сон не забылся. Таня сладко потянулась, будто крылья развела, похвалилась горделиво:
— А я опять летала.
— Ну и хорошо, ну и замечательно. Стало быть, растешь, взрослеешь. Ну, поднимайся, маленькая, одна ты еще не кушала. Некогда мне, я в гости навострилась. Поедешь к тете Дусе?
Дуся — бабушкина племянница и, значит, никакая Тане не тетя, да и знают о ней всего ничего. Сюда не ездит, к себе на Лафонскую улицу не зовет. Время от времени ее навещает бабушка и берет иногда с собою Таню.
Прокатиться через половину города к Смольному заманчиво, но и упустить прогулку с дядей Васей жаль. С ним так всегда интересно!
— А можно, я останусь? — вежливо отказывается Таня.
Бабушка ничуть не обиделась:
— Оставайся.
Родословная
Таня ела без охоты. На завтрак яичница, булочка с маслом и чай.
— Молока в Дворищах вволю попьешь. Козье. Оно вкусное, целебное, врачами тебе прописанное.
— Не люблю козье, — поморщилась Таня. — Жирное, сладкое.
— Любишь не любишь, а надо. Для здоровья твоего требуется. Ну, кушай, кушай.
— Ба-абушка, «кушай» говорят маленьким. Евдокия Григорьевна сдвинула брови:
— Яйца курицу учить будут!
Строгое выражение лица тотчас и пропало, сменилось обычной веселой ласковостью.
— Все вы для меня маленькие, все мои дети. Вообще, усадить рядышком бабушку, маму, Леку,
Нину, Мишу, Таню — сразу признаешь близких родственников. Все темно-русые, сероглазые. А вот у Жени черные, жгучие глаза и волосы черные почти. Она вся в папу, в Николая Родионовича. Он в конце жизни, конечно, иначе выглядел. Облысел, в усах и бороде клинышком густая проседь…
— О чем размечталась? Ешь, не отвлекайся на фантазии.
Таня послушалась, но вилка опять замерла в руке.
— Ты — Федорова, и мама была Федорова, пока папа не женился на ней.
— В тех самых Дворищах и поженились, — с удовольствием подхватила историческую семейную хронику бабушка. — Мы с твоим дедом были направлены туда из Петербурга. Так назывался тогда Ленинград. Дед твой — рабочий-металлист, участник революционного подполья… А с чего ты вдруг в родословную ударилась?
— Так все мы на тебя похожи, какой ты на старой карточке снята.
— Порода, стало быть, такая, в Арсеньевых-Федоровых пошли, — не без удовлетворения подтвердила бабушка. Девичья фамилия ее была Арсеньева.
— Но Женя…
— Она брюнетка, в Савичевых.
— А тогда почему у дяди Васи и дяди Леши глаза тоже серые и волосы…
— Ешь! На часы погляди своими серыми глазами: сколько над тарелкой сидишь?
Настенные часы-ходики показывали без пяти десять.
— Через минуту чтоб ни крошки, ни капли! — приказала бабушка и ушла переодеваться.
Таня посмотрела в окно. Напротив кухни глухая стена другого дома, слева арка — проход во второй внутренний двор. Ничего интересного.
— Кушаешь или опять в облаках витаешь? — донеслось из глубины квартиры.
— Ем! — И Таня, чтоб не огорчать бабушку, совладала наконец с несчастной глазуньей.
— Ну и молодец. Убери за собой, а я поехала.
— Маня! — крикнула уже из передней. — Я поехала к Дусе!
— Счастливо, мама, — отозвалась Мария Игнатьевна.
И Таня пожелала доброго пути.
— Ну, с богом. Бабушка рассмеялась:
— «Богомолка»! А еще в пионерки готовишься. Таня надула припухлые губы:
— Сама же так говоришь всегда.
Кто и куда ни уходил бы из дому, обязательно докладывал: «Я пошел», «Я пошла, бабушка». А та неизменно напутствовала: «Ну, с богом».
— Ну говорю, ну привычка такая, — оправдалась бабушка. — Я же когда родилась и росла? В прошлом столетии! И в церкви венчалась. Тогда иначе нельзя было, незаконно. Да и мама твоя еще в старое время замуж выходила.
Таня знала, что в лакированной шкатулке с красивой палехской росписью хранятся как фамильные драгоценности мамины свадебная фата и свечи. А еще там лежит небольшой листок с безысходным названием «Свидетельство о смерти», где написано, что Савичев Николай Родионович умер 5 марта 1936 года.
Жара
Такого жаркого лета не помнила и бабушка, уроженка Ленинграда. Коренная жительница, она считанные годы была в разлуке с родным городом. И Танины родители, поженившись, еще в начале века переселились в северную столицу. Так что, как полагала Таня, Савичевы жили в Ленинграде всегда. Правда, она и большинство ее братьев и сестер появлялись на свет в Дворищах, ныне Псковской области.
С маминых слов выходило, что она специально ездила туда за своими детьми: «Природа там красивая, молоко парное и дышать легко. Зимой не холодно, летом не жарко».
* * *
Ленинградский климат от Псковского мало чем отличается, но в том, тысяча девятьсот сорок первом году лето в городе было действительно тяжелым.
* * *
Запотевший стакан с «газировкой» приятно холодил руку. В подкрашенной лимонным сиропом воде метались пузырьки, выскакивали на поверхность, лопались в пене, щипали в носу.
— Еще? — щедро предложил Миша. Таня отрицательно качнула головой:
— Колется.
— Тогда все, с-спасибо.
Продавщица, женщина средних лет с бородавкой на щеке, толстая, жирная — весь халат в буграх и складках, — выудила из тарелки мокрые медяки.
Миша ссыпал сдачу в кошелек и заглянул в бумажку.
— Та-ак, мука пшеничная — два пакета, макароны для Дворищ… Ладно, м-макароны легкие, они с дырками.
Таня не поняла шутки, спросила:
— А как в них дырочки делают?
Брат посмотрел на нее сверху вниз, улыбнулся:
— На расточных с-станках или дрелью, вручную.
— Каждую макаронину?!
— Персонально! — И не выдержал, заулыбался: — Какая ты еще маленькая!
Миша давно окончил фабрично-заводское училище и работал слесарем-сборщиком на заводе. Таня надула губы: «Большой, а обманывает».
— Ладно, не обижайся. Не спец я в м-макаронной технологии. Спроси чего полегче.
— А почему в этому году лето такое жаркое?
— Много будешь знать, скоро состаришься, — выкрутился Миша.
— А я про все хочу знать. И не состарюсь никогда! — с вызовом заявила Таня.
— Фантазерка ты, верно бабушка говорит. Все люди в стариков и старух обращаются, а ты, з-значит, будешь вечно молодой?
— А вот и не состарюсь!
— Л-ладно, — уступил милостиво брат, — живи вечно!
* * *
Поезд Ленинград — Кингисепп отправлялся вечером. Жара к тому времени отступила, хотя солнце висело еще высоко, как и должно в разгар белых ночей.
На вокзал Мишу провожал только Лека. Таня с Василием Родионовичем дошли до трамвайной остановки у моста Лейтенанта Шмидта.
Трамвай шестого маршрута «Кондратьевский проспект — Балтийский вокзал» подошел почти сразу же. И поговорить на прощание не успели. Брат уже с площадки прокричал:
— Танечка, жду тебя с мамой через две недельки!
Скрежеща и тренькая, вагон укатил по мосту через Неву.
Сфинксы
Попрощались на две недели, а расстались будто навсегда, так стало тяжко. Обратно шли молча, по набережной, вдоль каменной береговой ограды.
У гранитного спуска несли караульную службу сфинксы.
Дядя Вася изумленно поднял мохнатые брови, словно впервые увидел сказочные фигуры:
— Эт-то еще что и откуда?
Таня сперва неохотно вступила в излюбленную игру:
— «Сфинкс из древних Фив в Египте перевезен в град Святого Петра в 1832 году», — ответила словами русской надписи на постаменте.
— А что за фигуры и значки? — выводя Таню из грустного состояния, спросил дядя, показав на иероглифы, и она «расшифровала» древние письмена:
— «Сын Ра Аменхотеп, правитель Фив, строитель памятников, восходящих до неба, подобно четырем столпам, несущим небесный свод».
Царь Египта, сын Солнца Аменхотеп, высеченный из камня сиенита в образе человека-льва, бесстрастно и незряче глядел вдаль. Высокий двухъярусный головной убор немее и гофрированный воротник, ниспадающий гладкими латами на грудь с многорядным ожерельем, придавали фараону божественность; туго сплетенная бородка, подвязанная ремешком, означала жизненный опыт и мудрость.
У левого сфинкса бородка и губы с отколами. Раны, нанесенные завоевателями Фив, или дорожные увечья. Путь от места археологических раскопок до Европы неблизок.
«Ему, наверное, до сих пор больно», — думала с состраданием Таня. Сфинксы для нее были как живые.
Дядя Вася рассказывал, что эти самые сфинксы несколько тысячелетий назад стояли у священного храма в древней столице Египта. Они считались самыми надежными стражами, но, увы, не спасли от разрушения ни храм, ни город. Завоеватели снесли Фивы с лица земли, похоронили под обломками грозных сфинксов. «Нашествия врагов, — заключал Василий Родионович, — не могут отразить ни божества, ни фараоны».
Он знал, что говорил, сам на фронте сражался в мировую. И дядя Леша, Алексей Родионович, солдатом был.
Засиделись
Серебристый таинственный свет белой ночи играл в чешуйчатой ряби Невы, отражался в окнах зданий на другом берегу, яростно горел золотом в ребристом шлеме Исаакиевского собора, в граненом шпиле с парусным корабликом Адмиралтейства.
Деревья же в сквере на Сенатской площади, между Адмиралтейством и памятником Петру Первому, виделись сплошной чернильно-лиловой зарослью.
Медный всадник на скале — совсем черным.
— Чудо как хорошо, — умиротворенно произнес Василий Родионович.
Они сидели на гранитных ступенях пандуса, наслаждались речной прохладой. Внизу, у самых ног, с легким журчанием всплескивала Нева, позади и над ними глядели друг на друга древнеегипетские сфинксы.
Три с половиной тысячелетия несли они свой бессменный караул на земле и под землей в жаркой Африке, второе столетие лежали тут, где, быть может, восхищенный поэт бормотал вдохновенно строфы нарождающейся поэмы: «Люблю тебя, Петра творенье, люблю твой строгий, стройный вид, Невы державное теченье, береговой ее гранит…»
— Так прекрасно, что дух захватывает.
Будто очнувшись от колдовства, дядя вытянул за цепочку часы из кармашка, серебряные, с крышкой, откинул пятерней волнистые пряди волос, вздохнул:
— Загуляли мы с тобой, дружок. Поплелись? Они и в самом деле плелись, шли нога за ногу. Завернули в Румянцевский сад.
На скамейках вокруг обелиска с бронзовым шаром и орлом, монумента в честь виктории над турками в позапрошлом веке, сидели влюбленные.
В громадном здании, к которому примыкал сад, некогда был Кадетский корпус. В нем воспитывался будущий фельдмаршал.
Таня рано выучилась чтению и не пропускала ни одной вывески, ни одной надписи. «Румянцева победам» на цоколе обелиска она переиначивала на «Румяным победам».
— Поплелись?
Идти оставалось совсем ничего — миновать несколько домов, два магазина.
В доме одиннадцать керосиновая лавка, издали доносится всепроникающий, неистребимый запах керосина.
А в тринадцатом, через стенку от квартиры Савичевых, помещалась булочная.
Из дома напротив, то есть с Третьей линии, из раскрытых настежь окон студенческого общежития Академии художеств лилась патефонная музыка, быстрые фокстроты и тягучие танго.
Солнцестояние
Самые долгие дни в Ленинграде начинаются 22 июня. В сорок первом черном году начало солнцестояния выпало с субботы на воскресенье.
В школах гремели медью оркестры, торжественно вручались аттестаты. После выпускного бала веселые нарядные стаи уже вчерашних десятиклассников бродили по набережным, сидели на каменных скамьях и гранитных ступенях. Вся жизнь впереди!
А мир был уже взорван, надежды сокрушены, но миллионы людей в России еще не знали об этом.
Таня в субботу легла рано: надо хорошенько выспаться. Нина обещала свозить ее с подружкой на Ки-ровекие острова. На все воскресенье!
И опять снились полеты. Над свинцовой рекой, медно-золотыми куполами и шпилями, над сиенитовыми сфинксами. В грозовом, в тучах и молниях небе с диким ревом кружили боевые самолеты, того и гляди, полоснут острыми крыльями. Пришлось снизиться, погрузиться в зной, в духоту.
Таня беспокойно ворочалась, раскрывалась. Мама то и дело укрывала ее, шептала успокаивающе:
— Спи, спи, доча.
Они спали в одной кровати. С раннего детства так повелось, когда обнаружилась болезнь — костный туберкулез в ребрах. Тогда жив был еще отец и стояли рядом, впритык, две кровати. Танюшка спала то с папой, то с мамой. Ей хорошо и им по ночам спокойнее.
— Спи, спи, доча.
А самой уже не уснуть. С трех часов ночи гул самолетный не утихает. «С чего так разлетались? Учение, маневры проводят», — объяснила сама себе Мария Игнатьевна, а на душе все равно тревожно.
«Нет, не будет сна», — поняла и тихо ушла на кухню.
Утро
На часах-ходиках стрелки показывали половину пятого. «В шесть заговорит радио, на весь дом заиграет, — подумала Мария Игнатьевна и выдернула из розетки вилку громкоговорителя. — Сегодня воскресенье, пускай отоспится трудовой народ».
Первым делом — тесто на крендель поставить. На все семейные торжества выпекались особенные, савичевские крендели с изюмом, красавцы великаны почти метровой длины. Когда-то такую традицию завел Николай Родионович. И выпекал сам…
Вспомнив покойного мужа, Мария Игнатьевна пригорюнилась, но — дело есть дело. Закатала рукава сатинового халата с поблекшими турецкими узорами, надела передник. Подумала было с досадой, что банка с изюмом в комнате, в буфете осталась, но успокоилась, рассудив, что до изюма черед дойдет, когда весь дом уже на ноги поднимется.
Только опару поставила, пришла бабушка.
— Что ни свет ни заря встала?
— Утро доброе, мама. С днем рождения тебя, с праздником!
— Какой уж праздник, Маня. Восьмой десяток почти споловинила, — без сожаления и грусти как факт отметила Евдокия Григорьевна. — Чем в завтрак кормить будем?
— Яичницу можно, сыр. — Мария Игнатьевна неопределенно повела округлым плечом. Дети не избалованы разносолами.
— Приелись им яйца да сыр. Нажарю я котлеток.
— Вот угодишь. Они твои котлеты обожают. Ни у кого такие сочные и вкусные не получаются, — без лести, ничего не преувеличивая, сказала Мария Игнатьевна.
Бабушка открыла форточку, прислушалась.
— Отлетались. Полночи жужжали.
— И Таню — самолеты тревожили, раскрывалась поминутно.
— Изнурила маленькую жара. Что за лето? Не припомню такого.
— Войны бы только не было, — сказала вдруг Мария Игнатьевна невпопад. С ночи отчего-то мысль эта в голову лезла.
— Ну, с Германией у нас теперь пакт о ненападении, — авторитетно напомнила бабушка.
В будние дни радио на кухне разговаривало с утра до ночи, бабушка всегда была в курсе всех событий.
Лека
Пришлёпал босой, полуголый Лека. Так Леонид сам себя в детстве окрестил.
— С днем рождения! Будь здорова, живи сто лет!
— Сто не сто, а правнуков понянчить надеюсь, — со значением отозвалась бабушка. — Жениться-то думаешь? Какой год Вале голову морочишь.
— Я бы на ее месте давно на него рукой махнула, — включилась заинтересованно мама. — Такой девушке проще простого свою жизнь устроить.
— Внешностью, характером — куда уж лучше, — пустилась агитировать бабушка. — И не посторонняя какая-нибудь, на одном заводе трудитесь. Не ценишь, не видишь, даром что очки на носу.
Лека предупредительно выставил ладонь:
— Ниже пояса не бить.
Сильная близорукость — Лёкина беда. Разлучила с любимым футболом, закрыла мечту стать радистом-полярником, превратила в белобилетника, то есть негодного для службы в армии.
Бабушка потеребила русый вихор, произнесла назидательно и ласково:
— Разве я боль тебе причинить хочу? О счастье твоем пекусь. Двадцать четыре, а все в холостяках.
— Женюсь, бабушка, женюсь.
Пустил воду из крана над раковиной. Сильная струя ударила в зашарканную эмаль, во все стороны полетели брызги.
— Лека!
Он уменьшил поток, наклонил мускулистую спину, стал плескаться. Уже растирая плечи жестким полотенцем, вспомнил о подарке, припасенном загодя и спрятанном в одном из ящичков необъятного буфета.
— Прости, бабушка, забыл! — и направился в комнаты.
Мать шикнула вслед:
— Потише там, девочек не разбуди.
— А я уже здесь!
На пороге кухни стояла Таня. Глазища сияют, точно не со сна, а с прогулки человек явился. И — сразу к бабушке с поздравлением.
Бабушка медленно-медленно развернула сверток. В нем оказалась пластмассовая фигурка, восточная девушка с кувшином.
* * *
Евдокия Григорьевна любила всякие безделушки, в доме было множество статуэток из фарфора, керамики, стекла, деревянных и металлических. Пастушки с ягнятами, мальчики со свирелями, собачки, птицы, котята в корзинках, лилипуточки в кринолинах и даже большой, полуметровой высоты рыцарь. Вообще, рыцарем его только называли, в действительности это был древний римлянин или грек, воин с копьем. Все Савичевы, конечно, знали про бабушкину слабость.
— Прелесть какая! И дорогая, видать, слоновой кости.
— Что ты, бабушка! — успокоила Таня, радуясь, что так удачно выбрала подарок. — Она из пластмассы.
— Не может быть. Такая тяжелая!
— Это подставка, много весит.
— Все равно замечательная вещь. Ну прямо как из Эрмитажа!
— Тогда вот тебе для пары еще одну турчанку-персиянку, — и Лека протянул точно такую же статуэтку. — И духи в придачу.
Нина — от себя и Миши — преподнесла теплый клетчатый платок, а Мария Игнатьевна — нарядный передник собственной работы.
— Вконец задарили, — растрогалась бабушка.
— А кто-то еще должен что-то подарить, — интригующе сказала Таня. Она имела в виду дядей и Женю.
Женя
После замужества старшая сестра переселилась на Моховую улицу. Однако не сладилось у нее с Юрием, разошлись. Женя осталась одна, в доме на Васильевском бывала по воскресеньям и праздничным дням и приезжала обычно к обеду. Бабушку поздравить явилась утром.
— Где ты раздобыла этакое чудо? — Бабушка со всех сторон разглядывала старинный фарфор — чашку с блюдцем. Синий кобальт с золотом, в овальных рамочках цветные миниатюры, кавалеры и дамы на фоне королевского замка. — В Гостином и Пассаже такие не продают.
— В комиссионке, — небрежно пояснила Женя. Она понимала в вещах, но была к ним равнодушна.
— Уйму денег, должно, ухлопала. — Бабушка радовалась и, одновременно, беспокоилась: издержалась Женя сильно. Скромный заводской архивариус, много ли получает? Такой фарфор треть зарплаты поглотил. — Сколько ж ты заплатила, Женечка?
— Сколько стоило, столько и отдала. Не твоя забота, оставим эту тему, бабушка. — И уже к матери: — Чем помочь?
— А ничем, дожарятся котлеты, завтракать сядем.
— Мы в комнате будем? — спросила Таня. В семейные торжества ели за большим столом.
Отличный был стол, раздвижной, устойчивый. На нем даже в китайский теннис играли, в пинг-понг. Вечерами вся семья вокруг усаживалась, каждый своим делом занимался, а Таня, когда совсем маленькой была, сидела посредине, в плетеной бельевой корзине. Низко над столешницей свисал шелковый колокол абажура.
— Конечно в комнате, — сказала мама. — Вот и займись этим, а Женя поможет.
И сестры, самая старшая и самая младшая, пошли готовить стол к праздничному завтраку.
— А что у тебя нового? — сразу приступила к расспросам Таня. — Где была, что видела?
— Какие у меня новости, — досадливо произнесла Женя. — Сижу в архивных бумагах, как мышь в норе. Позови-ка Леку, пусть уберет свою музыку.
Стол был занят инструментами: гитары, банджо, балалайка, мандолина. Мандолина итальянская, с инкрустацией, на ней Лека играет. Вчера здесь была очередная репетиция. Самодеятельные артисты струнного оркестра — Лёкины друзья-товарищи. Неспособные в музыке тоже при деле. Игорь Черненко считается «директором», а Вася Крылов — «администратором».
— Сейчас все будет чин чином и чин чинарем! — весело заверил Лека.
«Чин чином» — любимое присловье, а если добавляется еще и «чин чинарем», то, значит, настроение распрекрасное.
«Музыка» перекочевала на кровать и диван.
— Вот и полный порядок. Вопросы, предложения, просьбы? Нет? Следовательно, я свободен.
— Свободен, свободен, — подтвердила Женя. — Без тебя управимся. Посуду я сама, Танюша. Ты приборы раскладывай.
Это она умеет, и не только это, всем по дому помогает.
— А почему, как мышь? — возвратилась к прерванному разговорю Таня.
— Какая мышь?
— Которая сидит в архивных бумагах.
— Ну, это же не в буквальном смысле, — улыбнулась Женя. — Образное сравнение.
— Как в театре, когда артисты просто наряжены в костюмы крысиные, — вспомнила сразу «Щелкунчика» Таня. Женя, заядлая театралка, сводила ее как-то на балетный спектакль.
— Ох, как ты испугалась вначале!
— Я же маленькая еще была, — оправдалась Таня. — И не догадалась, что то ненастоящие крысы.
— Да, все мы и не всегда сразу обо всем догадываемся, — непонятно заговорила Женя. — А потом — поздно, поздно, поздно.
Почему сестра вдруг так расстроилась?
— О чем ты, Женечка?
— Да так, накатило, не обращай внимания на старуху.
— Какая же ты старуха! Тридцать два года! — рассмеялась Таня.
Дяди
Что-то они запаздывали сегодня. «Дядя Вася, наверное, уснул только под утро, а дядя Лёша еще с прогулки не вернулся», — решила Таня.
Василий Родионович давно страдал бессонницей; Алексей же Родионович, напротив, засыпал мгновенно и вставал чуть свет. «Привычка — вторая натура, — объяснял он. — Василий кем был? Директором букинистического магазина, а книжные лавки когда открываются? То-то и оно. Заводскому снабженцу залеживаться никак нельзя, с восхода ноги в руки — и пошел добывать то, без чего производству тормоз и крах».
Выйдя на пенсию, дядя Леша добывал только свежие газеты, первым занимал очередь у киоска на Большом проспекте. С пачкой газет под мышкой заходил на Андреевский рынок, долго и придирчиво осматривал прилавки в торговом зале под стеклянной крышей, справлялся о ценах, но покупал редко. Просто удовлетворял любопытство.
В то утро он появился с букетом рыночных гвоздик.
— Дорогая и многоуважаемая Евдокия Григорьевна! — начал со старомодной церемонностью.
— Премного благодарна за внимание, Лексей Родионыч, — в тон ответила бабушка и вежливо осведомилась: — Почем нынче капуста на Андреевском? И какие разные новости вычитали спозаранку? Поделитесь, пожалуйста.
Они всегда так шутливо беседовали.
— На капусту внимания не обратил, хотя урожай в этом году и на нее отменный, а новостей — никаких. Если не считать учения МПВО, местной противовоздушной обороны. Дворники все с красными повязками и противогазными сумками через плечо. Милиционеры при револьверах и противогазах.
— Вот оно что, — облегченно вздохнула мама, — оттого и самолеты ночью гудели.
— Странно лишь, что прессу до сих пор в киоски не подвезли. Очередь выросла, как за хлебом в карточные времена.
— Ну, Леша, вспомнил что, — сказала бабушка. — Слава богу, шестой год без норм обходимся, всего вдоволь.
Тане разговор о нормах и карточках был не ясен. В магазинах, продовольственных и промтоварных, не всегда купить все можно, но то, что есть на полках и витринах, пожалуйста, без ограничений.
— Садись, Леша, завтракать сейчас будем, — пригласила мама.
— Бежать надо, прессу не прозевать, — не без сожаления отказался дядя.
— Жениться бы ему в свое время, — не впервые высказала такое суждение бабушка. — Мужчины, особливо вдовцы, плохо к самостоятельности приспособлены.
— А Василий? — поддержала разговор мама.
— Он, Маня, однолюб.
Василий Родионович после трагической гибели невесты — она утонула на его глазах — поклялся всю жизнь хранить верность любимой.
— Все Савичевы — однолюбы, — убежденно сказала мама. — Женя разошлась с мужем, он давно женился, а она так и не полюбила другого человека.
Война!
Таня никогда не видела дядей такими. Бледные как смерть.
— Слышали? Война! Мама схватилась за сердце:
— Как — война?
Дядя Вася показал на черную тарелку «Рекорда». Таня поняла, включила радио. Духовой оркестр играл боевой марш.
— А мы в Дворищи собрались, — растерянно произнесла мать.
— Поездку отложить, — категорически распорядился дядя Вася, тяжело придыхая.
И бабушка обрела наконец голос:
— У нас же с ними договор…
Странно, а может, и совсем не странно, что никто еще не назвал агрессора, но все и так понимали, кто напал на СССР.
— Нашли кому верить. Фашистам! — с укором сказал дядя Вася. — На рассвете напали. Вероломно! Уже бомбили Киев, Севастополь, Каунас.
Военные оркестры еще долго играли марши по радио, затем, в полдень, все слушали заявление правительства и обращения к народу. Оно заканчивалось бодро и уверенно:
«Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами».
* * *
Тогда, 22 июня 1941 года, в первый день войны, оглушительный, сокрушивший привычный ход бытия, никто и не сомневался в обреченности врага. Более того, мы верили в скорую нашу победу. Не сразу поняли, что началась не простая война.
Потом, позже, ее назовут Великой Отечественной.
Глава вторая
Война
Ничто, кажется, не изменилось в городе. Белые ночи, жара, очереди на остановках транспорта и у кинотеатров, суета и многолюдье. Но в яркой по-летнему толпе все больше зеленого и серого — солдатских гимнастерок и шинельных скаток, наискось через плечо.
По асфальту и брусчатке маршируют колонны. Идут молчащим строем батальоны и полки, сформированные из вчерашних рабочих, крестьян, интеллигенции; лихо печатают шаг морячки и курсанты; стараются держать походную колонну ополченцы в штатском.
Танин дядя тоже попытался записаться в отряд добровольцев. Человек с красными глазами, не обратив внимания на боевую медаль за первую мировую войну, глянул в паспорт и вернул: «Увы, гражданин Савичев… Следующий!»
* * *
— А следующий, — рассказывал обиженный дядя Вася, — щуплый, ниже на голову, в плечах уже. И — взяли!
— Значит, моложе тебя, лет на двадцать, — попытался объяснить и утешить дядя Леша. — Какие из нас солдаты теперь. Отслужили свое, отвоевали, отработали. Н-да. Верно, племянник?
Лека молча кивнул. В семье только Нина была посвящена в его тайную попытку уйти на фронт. Начальник цеха прилюдно выволочку устроил: «Дезертировать, понимаешь, вздумал! Кого надо, того взяли, кого можно, того отпустили. На две трети цех оголился, а кто срочные военные заказы выполнять будет? А вечером, один на один, сказал мягко и сочувственно: «Куда тебе, понимаешь, с такими телескопами, Леонид, в солдатские ряды? В двух шагах без очков ни черта не видишь».
Все верно, все правильно, а смириться невозможно. Друзья-товарищи уже в армии. Игорь Черненко на второй день войны шинель надел. И не только парни. Женщины, девушки, подростки мобилизованы на оборонные работы. Нина с заводчанами роет окопы где-то под Рыбацким. Женя кровь сдает для спасения раненых бойцов и командиров. (В строжайшем, конечно, секрете от бабушки и мамы.) Мама, мастер-надомник швейной артели имени 1 Мая, на военный лад перестроилась: не модные блузки шелковой гладью украшает — строчит рубахи и кальсоны для армии.
Нинин друг и вздыхатель Вася Крылов говорит: «Не судьба нам, Лека, с оружием в руках сражаться, но и фронт без тыла не бывает». У Крылова совесть чиста: не на гулянке пальцы на левой руке потерял, в бою.
Он же, Лека, по всем статьям годен: сердце, легкие, печенки-селезенки, мускулатура — все чин чином, но глаза…
Никогда прежде не страдал так Лека Савичев из-за своего слабого зрения. Думал с горечью и болью: «Школяры и те больше для победы делают».
Задание
— Слыхали радио? — Борька посмотрел на каждого из своей дворовой команды. — В сражения начинают вступать наши главные силы. Теперь Красная Армия врежет фашистам по первое число!
До войны Борька Воронец был как все, ничем особенно не выделялся, разве что неугасающим румянцем на тугих щеках. И вдруг выяснилось, что Борька — прирожденный командир, знаток военного дела.
— Самое верное оружие против вражеской брони — зажигательная бутылка, — доходчиво разъяснял Борька постановление о сборе миллиона бутылочной тары.
В первые дни войны ребята азартно помогали отрывать щели, узкие и глубокие окопчики для укрытия от бомб и снарядов. Потом очищали от хлама чердаки. Теперь срочно требуются пустые бутылки.
— Сделать противотанковую зажигалку пара пустяков. Берется жидкость, которая сама вспыхивает на открытом воздухе, заливается до горла, затыкается пробкой, заливается сургучом — и все. Врежут такой штуковиной по танку — бац! Стекло вдребезги — и пожар! Просто и дешево. Одна бутылка — один танк!
Но к чему тогда целый миллион бутылок?
Вопрос был настолько детский, что Борька даже не счел нужным отвечать лично. Кивнул неразлучному другу и помощнику Коле Маленькому.
— Растолкуй.
Сами-то они, очевидно, обсудили и продумали все до мелочи.
— Погрузка, разгрузка, доставка, — затараторил Коля. — Еще до фронта половину раскокать могут.
И потом, у фашистов же не только танки. Бронетранспортеры, броневики, другие броненосцы.
— Броненосцы — это уже корабли, — поправил Борька.
— А самолеты сбивать можно? — вежливо спросил рыжий Павлик.
Борька Воронец, Коля Маленький, а за ними и вся компания рассмеялись.
— Ими же не из пушек вытреливают, вручную кидают, как гранаты. Подпустят танк совсем близко — и бац!
Сказал и замолчал, и все ребята притихли, об одном и том же подумали: не всякий раз удастся подпустить вражеский танк на близкое расстояние, не каждая бутылка попадет в цель…
— За дело! — приказал Борька Воронец. Буфеты, шкафы и шкафчики, антресоли, кладовки, чуланы уже обыскали. Пошли шарить по чердакам и подвалам.
Карточки
Все строго нормированно: на хлеб, мясо, жиры, сахар, крупы — на все специальные карточки, плотные листочки, расчерченные на талоны. Без них не купить ни крошки, ни капли. Карточки именные и разной категории, то есть не равнозначные. Хлеба, к примеру, рабочим и ИТР, инженерно-техническим работникам, полагается на день восемьсот граммов, служащим — шестьсот, детям и иждивенцам — четыреста.
В столовых, кафе, ресторанах без карточек не поешь: за супы, котлеты, гарниры, кисели и чай вырезают талончики на крупы, мясо, сахар, жиры. А хлеба — по желанию: хочешь, бери сразу всю пайку, хочешь — часть. Для того и поделена в карточке каждая однодневная норма на пятидесятиграммовые доли.
— Ну и хорошо, что карточки ввели, — считает бабушка. — Никто не обойден, а то некоторые в панику ударились. Скупают, выменивают, ловчат, самоличные бадаевские закрома устраивают.
Склады имени Бадаева размещаются в Московском районе. В деревянных хранилищах все городские продовольственные запасы.
Нормы не только на съестное. Одежду, обувь, ткани отпускают только по специальным купонам.
Вместо «купить» стали говорить «отоварить», «отовариться».
— Все ничего, все терпимо, — считает бабушка. — Лишь бы на фронте удача была.
Беда
Военные сводки удручали. Дядя Вася прикнопил к стене карту, наготовил булавки с флажками, но так и не сумел четко обозначить линию фронта. Одесса, Киев, Брест, Смоленск, Таллинн — в наших руках, а часть Украины, Белоруссии, Прибалтики уже заняты фашистами. Гитлеровцы рвутся к Москве и Ленинграду, то есть уже восточнее и Одессы, и Таллинна. Поди разберись, где передний край. И росли, множились недобрые слухи.
— Говорят, немцы уже в Стрельне.
— Не может быть! Туда ведь трамвай ходит, двадцать девятый маршрут!
Ленинград наводнили беженцы. От них узнавали невероятные новости. Будто 9 июля сдали Псков.
— Как же Миша выберется оттуда? — ужасалась мама.
От Михаила не было никаких вестей. В армию его взять не могли: не подлежал пока мобилизации. И домой, очевидно, выехать не успел. Дорогу через Кингисепп перерезали, на Лужском направлении шли жестокие бои.
— Как же он выберется оттуда?!
* * *
Оттуда значило не просто из деревни на Псковщине, а с территории, оккупированной германскими войсками. Уже стало известно, что они творят на советской земле. Жгут дома, зверствуют, убивают, не щадят ни стариков, ни детей. Беженцы такие страшные истории рассказывали, волосы дыбом вставали.
Началась эвакуация из Ленинграда. На юго-восток потянулись эшелоны. Вывозили не только детей, в первую очередь — детей, женщин, больных и немощных, но и целые заводы и фабрики, с оборудованием и людьми.
* * *
Ребят во дворе заметно поубавилось. Уехал и Сережа, добрый, надежный товарищ. Они учились в одном классе, Сережа и Таня. Когда она болела, он был единственным мальчиком, кто навещал ее. Девочки не в счет.
И вот он пришел в последний раз. Грустный, виноватый, будто по собственному хотению покидал Ленинград. Сережин папа — военный инженер, преподаватель. Училище срочно переводят куда-то в глубокий тыл.
— Мы по приказу… — оправдывался Сережа.
Многие эвакуируемые стеснялись своего отъезда, как бегства. Те, что оставались, ничуть не завидовали, даже сочувствие выражали, а Борька Воронец, тот не скрывал презрения: «Драпают».
Такое вот новое словечко в обиходе появилось. Или возродилось из времен гражданской войны.
— Мы по приказу…
— Понятно, — напуская на себя равнодушие, сказала Таня.
— До свидания.
— Прощай.
— Я напишу тебе. Можно?
Таня повела плечом. Пиши, мол, если делать будет нечего.
Потом, позже, она не раз со стыдом вспоминала свое невежливое поведение. Нехорошо, обидно простилась с Сережей. Может, они больше никогда-никогда уже не встретятся, не увидятся. Вдруг свершится мрачное предсказание Серого: «Скоро всем нам крышка».
Серый
Белые ночи кончились, но фонари не зажигались. С заходом солнца город погружался в настороженную темноту. Все окна были перечеркнуты бумажными крестами, плотно зашторены, ни один лучик не пробивается.
Автомобильные фары закрыли щитками с узкими щелями, в трамваях и троллейбусах тлели подслеповатые синие лампочки.
Военные патрули сурово требовали специальные пропуска у запоздалых прохожих.
Тугой размеренный стук метронома из черных раструбов уличных динамиков усиливал ощущение беды.
Разговоры в очередях становились все тревожнее, слухи — один другого ужаснее. Говорили, что Ленинград окружают со всех сторон: скоро не выехать и не въехать, не подвезти продовольствие.
Магазинные полки опустели, исчезли даже банки с камчатскими крабами, которых до войны и за еду не считали. С мясом и маслом трудности, но овощей у зеленщиков и на рынках полным-полно и очереди в булочную не очень длинные.
Выкупать хлеб, отоваривать хлебные карточки стало обязанностью Тани. Магазин в соседнем подъезде, отчего не сходить.
Люди встречались в очереди как старые знакомые. Таня многих знала в лицо, хотя не ведала ни имен, ни фамилий. Один из постоянных обитателей очереди в булочную ходил в любую погоду в долгополом сером плаще с потускневшими армейскими пуговицами. Таня и окрестила его мысленно «Серым».
Сиплым, булькающим голосом Серый высказывал самые безнадежные мысли, устрашал слухами. Дворник Федор Иванович постоянно обрывал его: «Не каркай, а то живо в трибунал сволокем». Никто, однако, не трогал Серого. Какой спрос с несчастного калеки! У Серого кисть левой руки неестественно подвернута, пальцы скрючены — будто лапка мертвой птицы.
Вчера Серый объявил:
— Со всех сторон света напирает, в клещи берет. Скоро нам всем полная крышка.
Дворник цыкнул, пригрозил:
— Ты эти загробные слова брось, а то… Да так и не договорил.
На всех стенах расклеены листовки: «Все силы на защиту родного города!», «Враг у ворот Ленинграда!»
Осада
— Страсти какие! — ахала бабушка.
Мама слушала Нину молча, страдальчески вздыхала и заботливо подкладывала то земляничное варенье, то моченую бруснику из прошлогодних запасов.
— Кормили нормально, — рассказывала Нина. — В Рыбацком. А под Колпином все другое. И кормежка, и жизнь. Как налетят, так все забудешь. Окопы еще до колена, лопатами от бомб закрывались.
— Страсти какие!
Нина ужасно изменилась за эти несколько недель. Исхудалая, измученная тяжелой работой и смертельными испытаниями.
— А потом и артиллерия стал доставать. Убитые, раненые…
Она умолкла, съежилась. Будто морозом на кухне дохнуло.
В коридоре валялась одежда, испачканная глиной и землей, в дырах и пятнах. И запах от вещей шел какой-то неведомый: дымный, кислый, с примесью прогорклого.
— Женское сословие отпустили, а мужчины, годные и негодные к военной службе, остались на фронте.
— Фронт уже в Колпино? — ахнула бабушка.
Нина не знала точно, вошли немцы в Колпино или нет еще, но говорили, что Гатчина и Вырица уже под угрозой, а Чудово…
— Чудово? — мрачно переспросил дядя Вася. — Значит, Октябрьская железная дорога перерезана…
— Не может такого стать, чтоб Ленинград от Москвы отрезали, — запротестовала бабушка. — Такое не допустят!
— Допустили, — с болью произнес дядя Вася.
— До самых ворот, — уточнила Нина.
Все тяжело задумались. Германия в считанные дни, недели, самое большее — месяцы захватывала целые европейские государства, а тут — один город…
— Ничего, — подбодрила себя и других бабушка, — выстоим. Это же Ленинград, а не просто какой-то город. Даже не какая-нибудь… — она проглотила название страны, — которая сразу на колени опустилась. Ничего, я тут три революции и третью войну, наш город не сдается.
— Уже баррикады возводят, — вспомнила Нина. Она пробормотала еще что-то. «Ежи», «рогатки» — остальное не разобрать. Фраза оборвалась на полуслове. Нина уснула.
— Главное — отогнать врага от городских ворот, — шепотом досказала бабушка.
* * *
Германские войска были уже в четырех километрах от Кировского завода. Повсюду слышался орудийный гул и пальба.
Из фронтовых районов города переселяли в центр мирных жителей.
Трамваи возили на грузовых платформах боеприпасы к переднему краю. Город все больше превращался в осажденную крепость.
Прогулка
Они шли по привычному маршруту, по тем же улицам и набережной, мимо тех же зданий и монументов, но все выглядело иначе, стало другим.
В Румянцевском саду военный бивак: машины, повозки, фургоны; стреноженные кони; солдаты вокруг жарких костров; дымят полевые кухни, котлы на колесах.
В бывшем Кадетском корпусе теперь госпиталь. У главного входа всегда толпится народ, ищут своих, показывая фотокарточки, называя фамилии сыновей, братьев, отцов ходячим раненым: «Не встречали?»
Какой-то нерадивый обозник-фуражир, проезжая по набережной, рассыпал овес. Дикие голуби и воробьи подбирали зерна, сыто гулькали, чирикали весело. Все — как всегда, но и сам город построжел, переоделся в полевую форму.
Золоченные шпили и шлемы замазаны маскировочной краской, Адмиралтейская игла зачехлена мешковиной, купол и ротонда Исаакиевского собора сделались похожими на каску с шишаком.
Медный всадник огражден деревянным саркофагом, обложен снизу мешками с песком. Защищены многие статуи, а клодтовские кони покинули Аничков мост, зарылись в землю. Только сфинксы из древних Фив по-прежнему открыты на своих местах. Они на посту, а часовые не имеют права покидать пост.
Дядя Вася и Таня остановились у любимого спуска к Неве. У гранитных ступеней пофыркивал сизыми выхлопами с брызгами бронекатер, ждал кого-то.
Длинные стволы зенитной батареи целились с набережной в небо, где в прозрачной августовской выси медленно опускались после ночного дежурства аэростаты воздушного заграждения, серебристые баллоны, похожие на гигантские рыбы с раздутыми плавниками.
* * *
Считалось, что германские бомбовозы не посмеют летать над городом, побоятся крылья обломать о стальные тросы.
Первая воздушная тревога, в ночь на 23 июня, вызвала большое волнение. Люди набились в бомбоубежища до отказа; отчаянно завывали сирены, гудели паровозы и пароходы.
Тревоги стали привычными, не всякого загонишь в подвал. Паровозы и пароходы теперь молчали, берегли пар в котлах, экономили топливо.
* * *
— Поплелись, — позвал дядя Вася.
Через мост Лейтенанта Шмидта двигалась колонна автобусов с детьми. Было несложно догадаться — эвакуируется детский дом.
— Как же они выедут, если на Москву поезда не ходят?
— Через Волхов, вероятно. Через Волхов пока можно.
Подчеркнутое голосом «пока» вызвало тревожное чувство.
— Пока — что? — спросила Таня.
— Пока Тихвин и Мга в наших руках, дружок. «А если фашисты захватят и Мгу, и Тихвин?» Она не огласила пугающую мысль, только крепче сжала дядину руку.
Налет
Сто двадцать девятую воздушную тревогу объявили вечером 6 сентября, в субботу. Только-только чаевничать собрались. Женя как раз приехала, получила на сутки отгул, две недели не выходила с завода.
Черная тарелка «Рекорда» требовательно повторяла: «Всем укрыться!..»
Быстро собрались идти в бомбоубежище, а Женя и не шевельнулась, безучастно сидела, привалившись к стене. Вялая, бледная, веки с длинными ресницами прикрыты, синие окружья у глаз.
— Пойдем, — заторопила бабушка.
— Никуда я не пойду, — вдруг заупрямилась Женя. — Надоело.
— Ты что такое городишь? — возмутилась мама. — Вставай немедленно.
— Не кричи на меня, — поморщившись, бескровным голосом отозвалась Женя. — Давно не девочка.
И вспомнила с едкой усмешкой:
— Юрочку сейчас в трамвае встретила. В командирской форме, кубики на петлицах. В Кронштадте служит, телефончик дал: «Если какая помощь — всегда готов. Как пионер!» Точно его наш папа покойный окрестил — «Краснобай».
— Пойдем, Женечка, — уже умоляюще повторила мама, отметив с состраданием, что дочь не излечилась от любви к недостойному, ветреному человеку. А он, наглец, новую супругу привел к Жене: «Знакомьтесь, будем друзьями».
— Пойдем, доча.
Зенитки бухали яростно и непрерывно.
* * *
Такого еще не было. Ни за месяцы войны, ни за всю историю города. Сотни вражеских самолетов шли волна за волной, тысячи бомб обрушились на Ленинград.
Через сутки массированный налет повторился. Последствия были еще ужаснее. Пять часов кряду пылали бадаевские склады. Черные холмы и горы, зловеще подкрашенные снизу багровым и желтым, вздымались, разбухали, клубились, расслаивались тяжелым жирным дымом. Пахло горелым зерном, жженым сахаром, пережаренным маслом.
Главные продовольственные запасы города обратились в дым, впитались в землю, а путь на Волхов уже был перерезан, враг блокировал Ленинград со всех сторон.
Телефон
Третьего дня позвонила Нина: — Мама? Это я. Ты не волнуйся… Отец, человек строгих правил, приучил детей, даже взрослых, к одиннадцати вечера быть дома.
— Опять дежуришь?
— Уезжаю, мама.
— Как? Куда?!
— С той же командой, — намекнула Нина. Значит, на окопы.
— Без еды, без вещей? Доча!
— Разъединяю, — вмешался непреклонный голос телефонистки.
— Так куда же ты, Нинурка? Молчание в ответ.
* * *
Каждый день, придя из школы, Таня спрашивала о Нине и Мише. Ни писем, ни телефонных звонков. И вдруг 16 сентября — только вошла, разделась — частая, требовательная трель. Таня подбежала к настенному аппарату.
— Ниночка?!
— Номер семьдесят семь — ноль — три? — скороговоркой проверила соединение телефонистка.
— Да, семьдесят семь — ноль — три.
— Ваш номер отключается.
— Что? — не поняла, растерялась Таня и передала трубку маме.
— Алло, слушаю!
— Ваш номер отключается, — повторила телефонистка.
— Как отключается? Надолго?
— До конца войны.
Аппарат звякнул в последний раз и умолк.
— Как же Нина даст знать о себе? — ужаснулась Таня.
Через два дня узнали от Жени, что Нина в Пушкине.
Мама схватилась за сердце:
— Там же они!
Отступление
В парке бывшего Царскосельского лицея, где учился когда-то великий поэт, уже занимали огневые позиции немецкие батареи…
«Мессершмитты» носились на бреющем, били из пушек, строчили из пулеметов по всему живому.
Нина с подругой бежали с отступающими войсками. Машины и повозки переполнены ранеными, перегружены военным скарбом. Проси не проси — некуда посадить. Вдруг рядом притормозила трехтонка с брезентовым кузовом. Молодой парень, белокурый, белозубый, пригласил:
— Эй, девица-краса, золотая коса!
Коса у Нины и в самом деле была золотой, прекрасной.
— Залезай с подружкой! — Шофер жестом показал на кузов.
Но тут из-за леса выскочили два немецких истребителя. Шофер выжал газ до упора и бросил машину вперед.
— Во-оздух! — запоздало закричали командиры. Девушки нырнули в придорожную канаву, вжались в грязь.
Они догнали трехтонку с милосердным шофером к вечеру. Обгорелая, искореженная машина валялась за кюветом вверх колесами. Поблизости от нее лежала обугленная коряга — то, что несколько часов назад было живым, белокурым, белозубым…
В голосе, в выражении лица, в глазах Нины были еще не отжитые страхи и страдания, свои и других людей, с кем накоротке сводила ее судьба в эти кошмарные дни. За все двадцать три года жизни она не видела столько крови и смерти, но самым ужасным, неизгладимым было то, что сталось с молодым шофером. За себя, даже задним числом, Нина не страшилась, но Таня, представив, что «мессеры» могли вылететь из-за леса чуть-чуть позже и сестра успела бы залезть под брезент кузова, всхлипнула в голос.
— Что уж теперь переживать?! — Нина прижала к себе сестренку. — Все позади.
Таня подавила слезы и вспомнила:
— А у нас телефон отключили. До конца войны.
Блокада
Они думали, что Таня спит, а она в уютной полудреме все слышала, только не подавала виду.
— Каширины свою девочку на Урал отправили, — сообщила мама.
Это не было новостью: Лина уехала еще до начала школьных занятий.
— Надо бы и нашу маленькую вывезти подальше от войны, — сказала бабушка.
Мама вздохнула:
— Куда?
Все родственники остались там, под немцем.
Дядя Леша осторожно вспомнил о детских домах:
— Не все еще эвакуированы.
— Бог с тобой! — напустилась бабушка. — Как можно подумать этакое?! Маленькую нашу — в сиротский приют!
Мама ни слова не произнесла, держалась, наверное, за сердце. Таня чуть не разревелась, так невыносимо сделалось жалко маму, себя, бабушку — всех Савичевых. И ужасно обидно вдруг стало, что за нее без нее решают.
«Никуда, никуда не поеду!» — чуть не вырвался крик, но вместо этого Таня привстала и взмолилась:
— Не эвакуируйте меня, не отдавайте никому! Не хочу одна…
* * *
А эвакуироваться уже и невозможно стало.
8 сентября гитлеровцы прорвались в Петрокрепость, блокировали Ленинград с суши, спустя восемь дней вышли к Финскому заливу, отрезали и от Кронштадта.
Три дуги упирались в водные пространства: моря, реки и озера, большого как море. Две дуги охватывали город с севера и юга. третья оцепила побережье от Финского залива до Петродворца. Самое широкое место блокированного пространства — двадцать шесть километров — насквозь простреливалось дальнобойными пушками.
Германский командующий обратился по радио к своим войскам: «Еще один удар, и группа армий «Север» будет праздновать победу. Скоро битва с Россией будет закончена!»
В штабе лежали, отпечатанные в Берлине еще летом, пригласительные билеты в ленинградскую гостиницу «Астория», на банкет 21 июля 1941 года. Они планировали захватить Ленинград с ходу…
К октябрю наступление выдохлось, фронт перешел к обороне.
Глава третья
Город-фронт
Та осень выдалась удивительно хороша. Сухо, тепло, всюду, где еще не падали бомбы, где взрывная волна и рваный металл не искалечили, не умертвили живую природу, деревья стояли при полном параде — в цветных, расшитых золотом мундирах.
Густые и высокие шпалеры акаций ограждали центральный бульвар Большого проспекта Васильевского острова[1] от проезжей части. Акации для того и высадили так щедро в прошлом еще веке, чтоб оберегать пешеходов от дорожной пыли, вздымаемой конными повозками и каретами.
По пути в школу и сейчас встречались повозки. Армейские.
Школа
Школа от дома близко: завернуть за угол, дойти до конца проспекта — и сразу, напротив и чуть наискось, монастырского вида кирпичная стена с литыми, постоянно распахнутыми воротами, за ними красное четырехэтажное здание.
Танин класс был на третьем этаже, она сидела за партой у окна и часто поглядывала на улицу. Августа Михайловна то и дело замечания отпускала: «Таня, Савичева, не отвлекайся».
Она не отвлекалась, просто взглядывала в окно: в мире столько интересного! Теперь стекла перечеркнуты бумажными лентами, сами же ребята и наклеивали, зарешечивали окна.
Теперь — война.
— Дети, — сказала в первый день занятий учительница, — мы начинаем новый учебный год в городе-фронте. Когда-нибудь вас спросят, что вы делали в исторические дни Отечественной войны? И вы с гордостью сможете ответить: «Мы учились в Ленинграде».
— А где мы еще должны учиться? — пожал плечами Борька, когда во дворе обсуждали слова Августы Михайловны. — Мы же ленинградцы. И потом, чем нам гордиться? Мы же не на передовой фронта, а внутри. Не мы стреляем, а по нам бьют.
— И бомбы сыпят, — добавил Коля Маленький.
Это его прозвище, а не фамилия. Коля — низенький, щупленький, а теперь и вовсе вроде уменьшаться стал, отощал вконец.
С мясом и жирами туго стало, хлебная норма в сентябре снижалась дважды. Рабочим полагалось четыреста, детям — двести граммов. Встаешь из-за стола, дома или в школьной столовой, и уже хочется есть. Не то что голод терзает, а все гложет и гложет постоянное ощущение несытости.
* * *
Сирена в школьном коридоре завывала несколько раз на день. Учителя спешно уводили всех в бомбоубежище, в подвал, где прежде была «раздевалка».
К тревогам привыкли, и разговоры отнюдь не о бомбах и снарядах. Вот и сейчас.
— Я до войны совсем не кушал макароны, — сознался вдруг рыжий Павлик. — Вот дурачок!
— Макароны по-флотски — мировая еда! — авторитетно заявил Борька и добавил мечтательно: — По-честному, я бы сейчас целую кастрюлю слопал и еще добавки попросил.
— А я бы две кастрюли сразу. — Коля Маленький громко сглотнул слюну.
Таня не отказалась бы от макарон с мясом, но, конечно, нет ничего вкуснее на свете, чем бабушкины котлеты.
Она не заметила, что подумала не про себя, а вслух:
— Вкуснее бабушкиных котлет ничего нет на свете.
И все дружно заговорили о котлетах. Настоящих, с мясом, и кто какой гарнир предпочитает. Один — картофель, другой — гречу, третий — овощи. В чем все единодушны — в количестве, в объеме: как можно больше!
В глазах разгорелся нездоровый, голодный блеск. В конце-концов кто-то из, — ребят не выдержал:
— Довольно об этом.
Если перед обедом рассуждать о вкусном, сытном, недоступном, ни за что не наешься супом или щами из хряпы.
И все-таки школьный обед — это еще один обед.
Дрова
Кот Барсик жался к чуть теплой кухонной плите, норовил запрыгнуть на конфорки, залечь в духовке.
В доме печное отопление, и пищу готовят на дровах. В теплое время, конечно, пользовались примусом, но керосин стал нормированным и дефицитным, лавка в соседнем доме на запоре.
Надо поджиматься и с дровами. Зима грядет, а топлива не припасли. До войны савичевская молодежь помогала разгружать баржи у Тучкова моста. Работа оплачивалась натурой, дровами. Сейчас бревна и доски шли на строительство боевых объектов: дзотов, блиндажей, мостов, огневых позиций. Где раздобыть дрова?
Бабушка, понаблюдав за Барсиком, сказала:
— Зима, видать, лютая будет. Кошки, они загодя холода чуют.
— А дров у нас — кот наплакал, — грустно пошутила мама.
Небольшой штабель двухметровой в подвале и поленница на кухне, под самодельной посудной полкой, — вот и все топливные запасы Савичевых с первого и второго этажей.
«Сровнять!»
Радио не выключается: в любую минуту может прозвучать сигнал тревоги. Или передадут фронтовую сводку — «От Советского информбюро…». Но о положении на фронтах и последние новости полнее становятся известны в очередях. Таня сама слышала, как Серый в булочной рассказывал про листовки с угрозами:
— Так и пишут: «Мы сровняем Ленинград с землей, а Кронштадт с водой».
Дворник Федор Иванович сказал на это:
— Вражеская пропаганда, брехня, на психику давят, гады.
* * *
Нет, то было не запугивание, не пустое вранье. Варварский замысел отработан в плане нападения, множество раз повторялся в речах и приказах.
«Фюрер решил стереть город Петербург с лица земли. После поражения Советской России нет никакого интереса для дальнейшего существования этого большого населенного пункта.
…Предложено тесно блокировать город и путем обстрелов из артиллерии всех калибров и беспрерывной бомбежки с воздуха сровнять его с землей».
Директива № 1-а 1601/41 от 22.09.41 г. выполнялась пунктуально. В октябре на город сбросили — только зажигательных! — 42 290 бомб, выпустили 5364 снаряда. В берлинских штабах давно расчертили план Ленинграда на квадраты, пронумеровали важнейшие боевые цели. Объект № 295 — Гостиный двор, № 89 — больница имени Эрисмана, № 192 — Дворец пионеров, № 708 — Институт охраны материнства и младенчества, № 736 — средняя школа… Свой номер получили Эрмитаж, студенческие общежития, церкви и храмы.
Пурга
В последней декаде октября зачастили дожди, навалились промозглые туманы, даже снег срывался, а 28-го обрушилась настоящая пурга.
Бабушка пыталась отговорить Таню:
— Пересидела бы непогоду, маленькая. Как в этакую пургу в школу идти?
— Ба-абушка, я давно не маленькая. И потом, хорошо, что пурга сильная: бомбежки не будет. Нелетная же погода.
— Это я и без тебя знаю. Яйца курицу учить будут. Сказала так, а сама посмотрела на Таню долгим взглядом. Осунулась маленькая до невозможности. Темные подглазья, впалые щеки, бесцветные губы — на всем печать военного лихолетья.
«Боже, да что ж такое делается! Детей изводим, бомбами убиваем, голодом морим!» — беззвучным криком вскричала душа и умолкла, сознавая свое бессилие остановить кровопролитие, оградить от беды хоть одного человека, внучку родную. О себе Евдокия Григорьевна и в мыслях не тревожилась, считала, что достаточно пожила на свете земном, не обделена ни радостями, ни горестями, потрудилась вдосталь и сделала все, что смогла, для своих детей, больших и маленьких.
Хлопнула входная дверь. Таня замерла над книгой. Кто это? Мама не могла так скоро вернуться: повезла сдавать очередную партию солдатского белья. Может, Леку или Нину с работы отпустили? Или — Женя?
Пришел дядя Леша. Заснеженный брезентовик с капюшоном, морозная бахрома на усах.
— Погодка! Н-да… — переводя дух, сказал дядя и расстегнул плащ. Под ним скрывался стеганый ватник. — С ног валит. Представляете? Потому, видно, и газеты не подвезли.
— Слышала? — возобновила уговоры бабушка. — Стало быть, и высовываться на улицу нечего.
— А нам теперь по две тарелки супа в школе дают, — вдруг похвалилась Таня.
Это было правдой, как и то, что такую сказочно большую порцию заставляют съедать на месте, до капли. Выносить из школьной столовой еду запрещено строго-настрого. Разве Таня не поделилась бы с мамой и бабушкой, не принесла бы домой баночку со щами! Не разрешается. Учителя и сам директор следят за неукоснительным соблюдением жесткого блокадного закона. В обычных и заводских столовых такого запрета нет, сестры и брат иногда подкармливают кашей или супом.
Две тарелки супа — от такого не отмахнуться.
— Леша, может, отведешь маленькую? — неуверенно предложила бабушка.
— Отчего же, многоуважаемая Евдокия Григорьевна, я — о удовольствием. Собирайся, Танечка.
Клетчатый деревенский платок перекрещивает грудь, узел — на спине. Из платка, шерстяной шапочки и ворсистого шарфа виднеются лишь глаза, большие серые глазища. Лямка из старого поясочка привязана к ручке портфеля и перекинута через плечо. Так надежнее, не потеряется. И руки меньше мерзнут.
— Бабушка, мы пошли.
— Ну, с богом.
Таран
Занитные батареи не смогли остановить на подступах к городу вражескую армаду. Ночное ноябрьское небо полосовали голубые кинжалы прожекторов, бризантные взрывы выдирали ослепительные клочья, трассирующие авиационные снаряды и пули роились, как пчелы.
В скрещении прожекторов кружили в смертельном хороводе два самолета: истребитель и бомбардировщик. «Чайка» атаковала «хейнкель» с разных курсов, но подступиться не просто. Многомоторный, хорошо вооруженный «хейнкель» яростно отстреливался.
Нина Савичева следила за поединком с заводской вышки поста воздушного наблюдения. Бой шел почти над головой, самолеты высвечивались в ослепительно голубых лучах, точно в кино.
Вдруг «Чайка» ринулась без стрельбы прямо на «хейнкеля».
— У него кончились снаряды! — закричала напарница. — На таран!..
Удар — и оба самолета рухнули. Отвалившиеся плоскости, словно крылышки серебристых мотыльков, исчезли, кружась, в темноте. Лучи прожекторов ринулись было за ними, но сломались о крыши высоких домов и снова рванули кверху.
— Парашют!
Нина крутанула ручку телефона, доложила срывающимся голосом, что немецкий летчик выпрыгнул с парашютом.
Она была уверена: немец, а не наш. Разве после такого страшного удара мог уцелеть в хрупкой кабине пилот!
— Усилить наблюдение! — прозвучало в ответ из штаба заводского МПВО.
Они глядели во все глаза, так и через бинокль. И — проглядели. Уже услышав голоса со двора, увидели белый пузырчатый купол и черную фигуру парашютиста совсем близко, рукой, казалось, дотянуться можно. Он опустился прямо в заводской двор.
— Усилить наблюдение! — крикнула напарнице Нина и бросилась по шаткой лестнице вниз.
Когда она прибежала на место чрезвычайного происшествия, летчика уже обезоружили и крепко держали за руки. Толпа угрожала немедленной расправой: «Попался, стервятник! Бей фашиста проклятого!» Дежурные с повязками на руках с трудом сдерживали наседающих заводчан. Многие уже потеряли родных и близких, на фронте и здесь, в городе.
Пленный летчик, высокий, чуть сутулый богатырь, похожий на молодого Горького, пришел наконец в себя после удара и не совсем удачного приземления.
— Где у вас телефон? Свой я, свой.
* * *
Алексей Тихонович Севастьянов совершил еще много подвигов на Ленинградском фронте и погиб в воздушном бою 23 апреля 1942 года. Ему посмертно присвоили звание Героя, но самолет с останками нашли в торфяном болоте лишь двадцать лет спустя.
На Калининщине, в родной деревне героя установили памятник. Старая крестьянка, Мария Ниловна Севастьянова, прижалась к гранитной, скульптуре, заплакала: «Какой ты холодный, Леша. Дай я тебя хоть каменного обниму…»
Обошлось…
Трамвай еле-еле двигался, замедляя ход до скорости пешехода на участках с предупреждающими табличками «РЕМОНТ», у дощатых ограждений с надписью: «ТИХИЙ ХОД. Опасно — неразорвавшаяся бомба!» Пассажиры ничего этого не видели. Окна были в сплошной наморози, никто не вытаивал дыханием глазки: не было сил.
Нина слышала сквозь липкую дрему голоса. В трамвае обсуждали ночной воздушный таран.
— Наш сокол прямо в Смольный спланировал.
Охрана, значит, к нему, со штыками наперевес: «Хен-де хох! Сдавайся, гад!» А он смеется: «Своих, ребята, не узнаете?»
«Не в Смольный он приземлился, у нас на заводе», — хотела поправить Нина, а язык не ворочается.
— А «хейнкель» прямо в Таврический сад врезался.
— И фашист разбился?
— Нет, выпрыгнул тоже. Его уже на улице Маяковского схватили.
— Ох-о-хо, — горестно протянули по-старушечьи, — дожили: немецкие парашютисты у Невского разгуливают.
Сиплый булькающий голос заговорщически сообщил:
— Листовки кидают: «Седьмого будем бомбить, восьмого будете хоронить».
Нина тоже такую листовку видела. Подумала сейчас сонно: «До седьмого три дня. И дома три дня не была. Как они там?» И еще подумала: получили ли праздничный паек? Ко дню Октябрьской революции дополнительно выдавали детям двести граммов сметаны и сто картофельной муки, а взрослым — по пять соленых помидоров.
— Напугали! — нервно отозвалась женщина. — Будто по праздникам только бомбят. Почти каждый день кидают.
— Академии художеств общежитие начисто порушили, — в подтверждение вставил булькающий голос.
Нину как током ударило.
— Какое общежитие, где?!
Мужчина со скрюченной рукой, в шапке-ушанке со спущенными наушниками, в сером командирском плаще без петлиц и нашивок равнодушно уточнил:
— На Васильевском, Третья линия.
— Напротив нашего дома, — чуть слышно произнесла Нина и ватно поднялась на ноги: — Где мы?
— Мост сейчас будет, — подсказал кто-то.
И в самом деле трамвай, усиленно громыхая, двинулся по мосту Лейтенанта Шмидта. Нина заторопилась на выход. За долгий путь народу в вагоне набилось много.
— Позвольте, позвольте, — лихорадочно бормотала Нина. — Наш дом. напротив…
Люди, сочувствуя, помогали, как могли, пробиться к дверям. Улицу, обе линии, аварийно перекрыли с обеих сторон, от Большого проспекта и от Невы. Военные, пожарные, дружинники, санитары. Небритый милиционер из оцепления преградил путь:
— Назад.
— Пустите!
— Не положено, гражданка.
— Я… Я там живу!
Родной дом, нижние его этажи не видно из-за санитарного автобуса, но напротив… Бомба весом с полтонны ударила в стык студенческого общежития Академии художеств и жилого дома.
В зияющем провале комнаты с остатками мебели и домашних вещей, как бы выставленных напоказ; раскачивающийся на ветру шелковый абажур; лестничный пролет, ведущий в никуда…
— Пустите! Пожалуйста!
— Документы.
У нее пропуск МПВО на право прохода и проезда после сигнала «Воздушная тревога» и паспорт. Милиционер взял только паспорт, раскрыл на странице со штампом прописки.
— Проходите, гражданочка. И не волнуйтесь так, в вашем доме убитых нет.
Под ногами обломки кирпича, известковое крошево, хрустальный бой. Вот и родной дом, «итальянские», без переплетов, окна.
В квартире не уцелело ни одно стекло. В толстой наружной стене глубокие трещины — черные молнии, застывшие в кирпичной кладке.
Нина осторожно приблизилась к слепому проему. Прислушалась.
Ни шороха, ни голосов.
С трудом — силы вдруг покинули ее — отворила двери подъезда, поднялась на тринадцать ступеней, подошла к квартире и потянула за ручку.
В маленькой прихожей темно и пусто.
— Есть кто? — осевшим голосом позвала Нина. В ответ ни звука.
— Эй! — в страхе и отчаянье закричала, и тогда лишь приоткрылась кухонная дверь, пахнуло теплом, колыхнулся желтый свет.
— Нинурка, ты?
— Я, я, мама! Все живы?!
— Живы, доча. Обошлось…
Окна
Маскировочная штора из плотной черной бумаги была приподнята, в перечеркнутое окно вливалось серое ноябрьское утро. Предметы и люди выглядели, как в рыхлом тумане, смутно и расплывчато. Когда приоткрывали дверцу топки, из чрева кухонной плиты полыхало оранжево-багровым, лица и вещи высвечивались, воскрешались.
То, что окно кухни выходило в закрытый двор, было удачей. Вообще, когда единственное теплое место в квартире находится в безопасной глубине дома, большое счастье. Мало вероятно, чтобы снаряд или бомба угодили в дворовый «колодец», высчитал дядя Леша. Окна его и дяди Васиной комнаты смотрят на улицу, а потому наглухо закрыты фанерой и тюфяками, как и бывшие «итальянские» окна в первом этаже.
Раньше, до бомбового удара по общежитию художников, на широких подоконниках стояли кадочки с многолетним виноградом. Отец, покойный Родион Николаевич, любил это растение. Он и лимоны дома выращивал. Лимонное деревце давно усохло, а виноград погубила бомба, иссекла осколками стекол.
Укутавшись в одеяло, Таня лежала на самом уютном месте в доме, в кухне, на бабушкином сундуке. Он был там всегда, с незапамятных времен. Черный, лаковый, с фигурными металлическими накладками, окованный косой сеткой из блестящей жести. И — вечно на запоре. Что уж там хранилось, какие клады прятала в сундуке бабушка, — Тане было неизвестно. Впрочем, эта тайна ее и не занимала.
Она приходила из школы замерзшая. Отопление не работало, в классах стоял холод, да и большую часть уроков проводили в подвале, где даже чернила подмерзали. Ледяные корочки протыкали или вытаивали дыханием, как «глазки» на замерзших оконных стеклах. И вообще, давно подмечено: когда хочется есть, сильнее мерзнешь, холод ощущается еще холоднее.
Барсик
Опять он куда-то исчез. Барсик в последнее время надолго и часто пропадал, охотился где-то или решал свои котячьи дела, затем объявлялся так же внезапно, как исчезал. Дядя Вася шутливо и по-книжному называл его Кот, который гуляет сам по себе. Таня читала сказку Киплинга, у него не кот, а кошка.
Странно: столько крыс развелось, а кошек убавилось, будто не кошки охотятся за крысами, а наоборот. И собаку редко увидишь, да и то лишь с хозяином.
Раньше, когда еще жил папа, в доме была собака, колли по имени Джильда. Красавица и силачка, запросто катала Таню на саночках по дорожкам Румянцевского сада. Сейчас, вспоминая о Джильде, Таня радовалась, что у них нет никакой собаки. Только вчера прочитала объявление на заборе — «Куплю хорошую овчарку!»
Овчарки крупные, а собачье мясо, говорят, не уступает по калориям баранине.
Сразу после ноябрьских праздников стало известно, что войскам сократили норму хлеба на двести граммов. «Уж если воинам урезали, то чего нам, грешным и бесполезным, ждать? — сказал по этому поводу дядя Леша. — Затянуть бы ремешок потуже, ан дырочки кончились». На что бабушка ответила: «Стало быть, новые протыкать придется».
И Женю очень расстроила весть о снижении фронтового пайка. Она как раз в тот день приходила домой. Недели три не виделись, а показалось — годы. Когда все время вместе, когда на глазах худеют и стареют, не так заметно, что с человеком делается.
Женя будто вдвое старше стала. Черные огненные глаза глубоко запали в черные провалы, кажутся потухшими кострищами. И голос тусклый, погасший. Долго, не мигая, смотрела на Барсика, который сидел у Тани на коленях. Прошелестела вдруг отрешенно: «Мама, знаешь, кошек можно резать».
Таня ужасно испугалась, прижала Барсика к себе, а мама спокойно и твердо сказала для всех: «Что вы, ребята. Не будем нашего Барсика трогать».
Маму никто не посмеет ослушаться. Никогда, никому не позволила бы Таня что-нибудь сделать с Барсиком, но он, наверное, уже никому не верил, сбежал во время очередной воздушной тревоги, воспользовался суматохой. Где он, что с ним? Для тех, кто не знает маму, слова ее не указ, не преграда. Для голодного человека — тем более.
Голод
Начальник генерального штаба фашистской Германии записал на 89-й день войны: «Кольцо окружения вокруг Ленинграда пока не замкнуто плотно, как этого хотелось бы… положение здесь будет напряженным до тех пор, пока не даст себя знать наш союзник голод».
К началу блокады, 8 сентября, в Ленинграде насчитывалось два миллиона восемьсот семь тысяч жителей, четыреста тысяч из них — детей. Запасов продовольствия из расчета жестких блокадных норм было на две-три недели. А ждать помощи неоткуда.
К тому времени все железные и шоссейные дороги, все пути перерезали, в небе над Ладожским озером господствовала вражеская авиация. Последняя надежда — изыскать внутренние резервы.
С пивоваренных заводов увезли солод и дрожжи, у интендантов отняли лошадиный корм — овес, на кожевенных фабриках изъяли опойки, шкурки молодых телят. В торговом порту обнаружили тысячи тонн жмыха подсолнечника, в мирное время его сжигали в пароходных топках. Соскребли многолетнюю производственную пыль со стен и потолков в мельничных цехах, вытряхнули, выбили каждый мешок из-под муки и круп.
Ячменные и ржаные отруби, хлопковый жмых и шроты — выжимки сои, кукурузные ростки и проросшее зерно, поднятое водолазами со дна Невы из затонувших барж, — все, что годилось или могло сгодиться в пищу, взяли на строгий учет и под охрану.
Постоянное недоедание подтачивало здоровье, губило людей.
Врачи все чаще называли причину смерти — «истощение организма». Две страшных болезни расползлись по городу: описанная в книгах о полярниках и моряках парусного флота цинга и даже не каждому медику известная — алиментарная дистрофия.
И все же голода еще не было, население трагически сокращалось от бомбежек и обстрелов.
Хлеб
Хлебозаводы выпекали только формовой хлеб — «кирпичики». Круглый, подовый, выкладывается на пол печи и требует особого замеса. В жестяное корытце, форму, можно любую примесь добавить, воды подлить. Но и на такой, на три четверти из примесей хлеб не хватало муки. 30 ноября нормы снизились еще раз. Теперь хлеба рабочим и ИТР — по 300 граммов, остальным — по 150.
Остальным — это служащим, это старикам, немощным пенсионерам — в общем, иждивенцам. И — детям.
— Сто пятьдесят, — пробулькал Серый, словно взвешивая на слух крохотный ломтик хлеба. — Сто пятьдесят…
Таня по-прежнему называла его про себя «Серым», хотя он и сменил затрапезный плащ на кавалерийскую шинель со споротыми петлицами. Человек этот, быть может, до того как стал калекой от несчастного случая или несправедливости, сломавшей всю его судьбу и жизнь, ходил в героях гражданской войны, а то и в мирное время командовал войсками. Впрочем, кроме плаща и шинели, ничто не свидетельствовало благородное и благополучное прошлое человека со скрюченной, как птичья лапка, кистью руки.
Очередь молча внимала Серому, не поддерживая, но и не отвергая его суждений.
— Сто пятьдесят. Еще одно снижение — и… И — смерть, — Серый не рубанул воздух, не отмахнул резко, а как бы выронил свою искалеченную руку.
— Меньше и впрямь смерть, — прошептал кто-то. Очередь не шелохнулась.
* * *
А через неделю в булочной № 403 в доме 13 на 2-й линии Васильевского острова, как и во всех других еще работавших магазинах, появилось новое объявление:
НОРМА ВЫДАЧИ
ХЛЕБА с 20 ноября 1941 г.
Рабочим и ИТР — 250 гр.
Служащим — 125 гр.
Иждивенцам — 125 гр.
Детям — 125 гр.
Сто двадцать пять граммов блокадного хлеба, пепельно-черный кубик на сморщенной ладони, главное, а то и единственное суточное пропитание, роковые сто двадцать пять граммов. Как жить, как выжить?
Урок
Ребята сидели, втянув головы в воротники и нахохлившись, как замерзшие птицы. Столом учительнице служил фанерный ящик из-под вермишели, коптилка — на уровне колен, и тени, уродливо увеличенные, искаженные подвальными сводами, тоже походили на птичьи. Будто поймали стаю, втащили, изломав крылья, в подземелье и оставили в полутьме.
Заниматься в бомбоубежище спокойнее, не надо бежать по тревоге вниз, подниматься после отбоя наверх, опять повторять то же самое. И еще одно новшество: отменены домашние задания. До войны о таком и мечтать было невозможно, но сейчас это, принося облегчение, не давало радости.
— Так, — сказала учительница тихонько, чтобы не мешать другим группам, — теперь повторим общими силами, закрепим в памяти пройденное сегодня. Назови континенты, Воронец.
Борька высвободил из шарфа рот, а остальные наклонились ближе к атласу, раскрытому на земных полушариях. Атлас учительница держала в руках.
— Европа, Азия…
— Не части света, — остановила учительница, — а континенты.
— Бац — и мимо! — сам над собою посмеялся Борька, но ни он, никто другой даже не улыбнулись. — Континенты: Евразия, Америка, Африка, Австралия, Антарктида.
— Так, хорошо. Вспомним, что нам известно о каждом из них. О Евразии нам сообщит…
Африка досталась Тане. Она выложила все, что говорилось на уроке и что рассказывал дядя Вася.
— Египет, Фивы — очень интересно, — похвалила учительница.
— И про сфинксов здорово, — одобрил Борька Воронец.
— А климат какой там?
— В Африке всегда-всегда тепло.
Ребята вздохнули от зависти; взлетели и мигом испарились десять клубочков пара. И Таня вспомнила о жарком-прежарком лете в Ленинграде и что вместо того, чтобы сидеть под открытым небом и впитывать в себя благодатное солнечное тепло, пряталась в тень, надувалась газированной водой с лимонным сиропом.
Все ребята, наверное, об этом подумали, потому что Коля Маленький — между низко надвинутой шапкой и высоко повязанным шарфом, точно мышонок из норы, торчал лишь кончик лилового носа, — Коля Маленький сказал:
— Кипяток с сиропом такая вкуснятина!..
— И с манной кашей — сила.
— Ас мороженым? Высший класс!
— Тихо, — попросила учительница и прекратила опасный разговор. — Так. Кто нам расскажет об Антарктиде?
— Да ну ее, Августа Михайловна, там холодно. Учительница бесшумно всплеснула руками в толстых варежках.
— Воронец! Это что еще за выходка?
— Там же и вправду вечные льды и морозы, — заступился за друга Коля.
— Тем не менее, у нас сейчас зима, а в Антарктиде началось лето.
Всем сразу захотелось в Антарктиду, но затренькал ручной колокольчик, звонок на перемену, долгожданный, вожделенный сигнал — «к супу!».
Глава четвертая
Зима
Зима настала суровая и ранняя. Боевые корабли, выкрашенные белым, со снятыми до половины мачтами, срослись с рекой и берегом. Маскировочные сети шлейфом тянулись к парапетам набережных.
Заиндевевшие сфинксы мерзли на заснеженных ложах, постаменты едва возвышались над сугробами. Близ сфинксов чернел автомобиль со сгоревшими колесами.
Столько снега никогда еще, наверное, не выпадало в Ленинграде. Проспекты и набережные в сугробах, грузовики и санитарные автобусы продвигаются как по каналам, пробитым ледоколами. В улицы не въехать, там лишь проторенные пешеходами снежные траншеи.
Множество трамваев и троллейбусов застряли без электричества на маршрутах, зазимовали в пути. На мосту Лейтенанта Шмидта провода не вынесли тяжести снега и наледи, оборвались, повисли толстыми мохнатыми жгутами на столбах, скорчились на рельсах.
* * *
В запретные комендантские часы город выглядел необитаемым, покинутым людьми, собаками, птицами. Но внешнее впечатление было обманчивым. Ленинград жил, работал, держал круговую оборону.
На помощь рвалась вся страна, а — не пробиться, не попасть. Жители блокадного города гибли, как гибли воробьи и синицы от бескормицы и морозов. Вражеская авиация редко теперь нападала, артиллерии же зимние непогоды не помеха, тяжелые взрывы ухали по всему городу.
Радио
Два-три раза в неделю Ленинградское радио выходит в открытый эфир, вырывается из блокадного плена.
«Слушай нас, родная страна! Говорит Ленинград».
Город-фронт не жалуется, не молит помочь, сдержанно, по-солдатски рассказывает о себе, из гордости и щадящего милосердия скрывает от других свои трагические будни.
Низкий, чуть задыхающийся женский голос напевно декламирует:
- «Я говорю с тобой из Ленинграда,
- Страна моя, печальная страна…»
— Оля, — по-родственному тепло произносит бабушка и усаживается поудобнее. До войны она не очень жаловала стихи. Голос Берггольц — голос доброй соседки, задушевной подруги, близкого человека.
Таня слушает пронзительные и простые слова, как свои собственные. Ольга Берггольц только произносит их. Вслух и для всех. Быть может, для всего мира.
Метроном стучит для ленинградцев, и тревоги объявляются только по местной радиосети, даже не всегда для всего города, лишь для района.
Стук метронома четкий, размеренный, неотвратимый. Будто сердце стучит: тук, тук, тук. Вдруг частота резко увеличивается, как пульс у взволнованного человека: тук-тук-тук-тук. И следом…
Вот и сейчас, заглушив голос поэта, нервно зачастил метроном. Радиослушатели в других городах и странах еще внимают стихам о кронштадтском злом, неукротимом ветре, а из черной тарелки на кухне хрипло звучит:
«Внимание! Граждане, район подвергается артиллерийскому обстрелу. Движение транспорта прекратить, населению укрыться».
Диктор проговаривает это будничным голосом, каким до войны сообщал об изменениях в расписании дачных поездов.
— Пойдем, маленькая.
Таня послушно идет за бабушкой пересиживать тревогу в бомбоубежище. Вход в него из первого двора, сразу за аркой, не успеваешь по-настоящему вдохнуть свежий воздух.
И на улице слышно радио, и где-то совсем близко грохочут тяжелые взрывы.
Крупные хлопья пухово ложатся на крыши, устилают улицу, облепляют нагие ветви деревьев. Все смотрится, как через вуаль с белыми горошинами, а Тане сквозь падающий снег дома видятся изъязвленными, точно оспенной рябью, осколками бомб и снарядов.
Раньше, когда было электричество, в подвале бомбоубежища можно было читать. При свете керосиновой лампы «летучая мышь» удается лишь разглядеть фигуры людей, не наступить на кого-нибудь. А радио не отпускает, следует по пятам. И под землей стучит: тук, тук, тук.
…Звонко радуется рожок. Не сразу удается очнуться от дремы, понять, что радио извещает конец тревоги.
Обстрелы длятся долго, а зимние дни коротки. Когда Таня с бабушкой выходят из бомбоубежища, на воле уже темно.
Булочная
Город погружался в ночь, как в море: разлучался с прозрачным воздушным пространством, опускался в слепую толщу. Глубинная тьма вздымалась, отторгая и гася последние блики закатного солнца. И — уже сверху — наваливалась ночь, затопляя чернильно все и вся.
Ни огонька, ни лучика. Лишь изредка возникнет и сгинет, как призрак, дымчато-зеленый геометрический знак — ромб, треугольник, круг. То прошел человек с фосфоресцирующим значком. Их выпускает артель «Галалит». С такими значками проще разминуться, по такому значку скорее найдут упавшего на улице.
* * *
Длинная змея очереди за хлебом тускло помаргивала зеленым. Если бы не военные строгости, комендантский час, толпа не рассасывалась бы и на ночь, а так возрождается ежедневно, затемно еще.
До войны закупкой продуктов занималась преимущественно бабушка, теперь за всем в одиночку не поспеть: всюду очереди. Дело Тани — отоваривать хлебные карточки. Тем более что булочная — ближе не бывает, за стеной квартиры. Сравнительно недавно они даже соединялись дверью, из комнаты можно было войти в нынешний магазин № 403. Булочная ведь была при пекарне и принадлежала трудовой артели братьев Савичевых.
Когда артель, в числе прочих кооперативов, ликвидировали, Танины дяди сменили профессию. Только отец, Николай Родионович Савичев, до конца жизни работал хлебопеком, замечательным мастером был.
Артельную пекарню перестроили в жилье, булочная же так и осталась булочной[2], но завозили в нее товар с хлебозаводов и кондитерских фабрик.
Долгие часы выстаивала Таня под заколоченными окнами своей квартиры, мерзла в ночной мгле в очереди у булочной, в которой еще на ее памяти отец и его браться выпекали хлеб.
Витрины тоже забраны фанерой и забиты досками, внутри булочной постоянные мглистые сумерки от коптилок и людского дыхания. Но какое счастье подойти наконец к прилавку!
* * *
Таня выпростала из шерстяной варежки руку с карточками и подала продавщице. Женщина в халате поверх зимнего пальто быстро и ловко отхватила ножницами талончики в каждом листке, уточнив мимоходом:
— На два дня, одним куском?
— Одним, — кивнула Таня, — но только за сегодня.
На чашку весов шлепнулся, будто подтаявший пластилин или комок глины, маленький, с ладошку, кубик хлеба. Продавщица добавила несколько довесков, крошек и выравняла язычки весов.
— Триста семьдесят пять.
— Спасибо…
Триста семьдесят пять граммов: сто двадцать пять — маме, служащей, сто двадцать пять — бабушке, сто двадцать пять — Тане. Она еще относится к детям, а когда исполнится двенадцать, станет, как бабушка, иждивенкой.
Таня надежно убрала карточки, намотала на руку ремешок сумки с хлебом и лишь потом выбралась из булочной.
Кипяток
Железную печурку с коленчатой трубой бабушка и мама почему-то называют «буржуйкой». Она не такая прожорливая, как плита, быстро накаляется, в кухне сразу делается жарко, но прогорают дрова, тонкое железо остывает — и конец блаженству.
«Буржуйка» очень экономная, но и на ней не вскипятить чайник без дров, а остатки поленницы из подвала давно перекочевали в квартиру, на глазах догорают. Вода в первых этажах пока есть, хотя перебои очень часты, приходится запасаться впрок, наполнять кастрюли, тазы, чайники, кувшин. На кухне держать все это негде, а в комнатах вода замерзает, растапливать же лед — лишний расход топлива..
Кому хорошо, так это дворнику Федору Ивановичу, в его служебном помещении стоит теперь высокий белый бак-кипятильник. Тепло, и горячей воды сколько хочешь. Остальным, населению домохозяйства, кипяток продается с часу до трех дня по одному литру на человека.
* * *
Если в один присест выпить литр горячей воды, даже без крошки хлеба, возникает ощущение сытости. Будто две тарелки супу съел, бульоном пообедал. Увы, скоро, чересчур скоро организм разоблачает обман, голод возникает с новой силой. Злоупотребление жидкостью приводит к водянке: распухают руки и ноги, вздувается живот, расплывается лицо. Больная полнота еще хуже, чем худоба и голодное измождение. Все это знают, читали, слышали, но как, чем заглушить, задавить неотступное желание, постоянную потребность, саму мысль о еде!
А кипяток стоил сущий пустяк, три копейки за литр.
* * *
Мама берет пятилитровый бидон, сует в карман пальто кошелек.
— Схожу за кипяточком, чайку попьем.
— Ну, с богом, — напутствует бабушка.
Могикане
Во дворе давно никто не гоняет мяч, не лепят снежную бабу, не ищут забав ребячьи компании.
Таня встретилась с Борькой и Колей случайно. Отнесла записку от мамы Ираиде Ивановне и встретилась на обратном пути. (Нащерины живут в третьем дворе, хотя и считается, что в том же доме.)
Они обрадовались, увидев друг друга живыми и на ногах, но не подали виду. На последних занятиях из десяти ребят класса приходили в школу не больше пяти-шести.
— Привет, — сказал Борька Воронец, а Коля Маленький лишь слабо шевельнул лиловым кончиком носа, и Таня невольно улыбнулась: опять ей подумалось, что Колин нос в узком промежутке между шапкой и шарфом, точно мышонок, выглядывающий из норки.
Борька по-своему объяснил Танину улыбку:
— Знаешь уже, слыхала радио! Здорово им наши врезали! Я еще в шесть тридцать узнал, когда первый раз передавали.
Таня в то время стояла в очереди за хлебом, но весть о разгроме немцев под Москвой выплеснулась на улицу. Все были счастливы, даже Серый ликовал: «Теперь и нам сумеют помочь». И все вместе воспрянули надеждой: «Теперь могут и хлебца прибавить!»
Радио стало работать, как водопровод, с перебоями, хрипело, точно простуженное, никто не расслышал подробности сообщения Совинформбюро, но и то, что стало известно, потрясло. Наши, наши наступают, гонят врага, берут в плен, захватывают трофеи!
— Встречала кого-нибудь из ребят? — спросил Борька.
Таня отрицательно качнула головой.
— Значит, мы последние могикане. Читал такую книжку про индейцев? Мировая вещь! Вообще, когда хочется есть, индейцы очень помогают. В смысле, книжки про них.
Дома Таня поделилась Борькиным открытием, но книги «Последний из могикан», к великому сожалению, не оказалось ни в своем шкафу, ни у дяди Васи, а библиотека у него прекрасная.
Наверное, были и другие отвлекающие книги. Одно Таня знала твердо и точно: невыносимо слушать и читать о еде. Слова тотчас оживают, обретают реальную форму, цвет и даже запах.
Декабрь
Прошло больше месяца с памятного сообщения о победе под Москвой, но хлебная пайка не увеличилась ни на грамм даже для войск первой линии и экипажей боевых кораблей. В остальных воинских частях получали чуть больше рабочих.
Как плохо, что не надо ходить в школу, слишком много времени, которое неизвестно куда девать. Оттого и думаешь неотступно о еде, о хлебе.
По радио читали рассказ Толстого «Севастополь в декабре». Таня пропустила начало и не сразу поняла, что это не о Ленинграде. Она никогда не была на Черном море, не видела белокаменный город, который почти сто лет назад тоже сражался в осаде, героически оборонялся триста сорок девять дней и ночей.
«…Далекий неумолкаемый гул моря, изредка прерываемый раскатистыми выстрелами в Севастополе, один нарушает тишину утра».
Море на Второй линии Васильевского острова и летом не слышно, а выстрелы — пожалуйста.
И люди, их лица — будто Лев Николаевич Толстой описывал ленинградцев.
«…Вы видите будничных людей, спокойно занятых будничным делом…».
Но вот:
«…по мертвому, тусклому взгляду, по ужасной худобе и морщинам лица вы видите, что это существо, уже выстрадавшее лучшую часть своей жизни».
Таня подняла глаза на бабушку и мысленно ахнула, с какой жестокой точностью и правдой Толстой нарисовал ее портрет.
Разрыдаться бы, выплакать хоть часть накопившейся боли, но слез у Тани почему-то нет совсем, высохли или замерзли.
«Навстречу попадутся вам, может быть, из церкви похороны какого-нибудь офицера, с розовым гробом и музыкой…»
В Ленинграде похоронные марши давно не играют, а гробы еще встречаются. Не розовые, конечно. Самый простой гроб, обыкновенный прямоугольный ящик из неоструганных досок, и тот не купить за деньги. В придачу нужен хлеб, а где его взять, лишний хлеб?
«Зайдите в трактир направо, ежели вы хотите…»
Трактирами называли дешевые кафе, столовые, и Таня задалась вопросом: «А в трактирах вырезали талоны на крупу и хлеб?»
«…подают котлетки…».
Таня плотно зажала уши. Через варежки, платок и шапочку не проникает ни звука, но все равно какое-то время видятся котлеты. Бабушкины, сочные, поджаристые, с одуряющим волшебным запахом…
Она очнулась в конце передачи.
«…Возвышались духом и с наслаждением готовились к смерти, не за город, а за родину…».
«Это не верно, — мысленно заспорила Таня. — Разве можно отделить Ленинград от Родины? И потом, разве смерть — наслаждение? Смерть — это конец всему: наслаждению, страданию, жизни».
Мама очень беспокоится за Женю. Два или три дня назад приезжала на ночевку Нина, рассказывала, что сестра неважно выглядит, опухла, отекла, еле передвигается.
Вчера, когда мама с бабушкой заговорили о Жене, дядя Вася, до того молчаливо отхлебывавший кипяток, произнес странную, непонятную фразу: «У йом-фру Андерсен, в подворотне направо, можно приобрести самый лучший саван».
Бабушка опасливо взглянула на дядю Васю, но не стала ничего выяснять. И Таня, всегда такая любознательная, не спросила, кто эта Андерсен и почему ее странно обзывают «йомфрой». Саван-то известно что — белое одеяние для покойников.
* * *
Запеленутых в простыни, одеяла, скатерти умерших везли на детских салазках к ближайшим больницам и кладбищам, а то и складывали до первой оказии в заледенелые подвалы. Трупы увозили на грузовиках, как дрова, — навалом…
В Ленинграде лишь по официальным данным умерли от голода в ноябре 11 085 человек, в декабре — 52 881.
Дуранда
Бабушка крошила соевые выжимки. Они были твердые, как окаменевший цемент. На «буржуйке» клокотала в кастрюльке вода, и бабушка вполголоса поругивала самое себя, что загодя не наготовила шроты, попусту вода кипит, топливо расходуется.
— Страсть, какая неразворотливая сделалась.
«Теперь все такие, замедленные», — чуть не сказала Таня. Она и по себе знала, что с каждым днем всякое движение не только дается все труднее и труднее, но и вызывает внутреннее сопротивление. Не хочется вставать, идти, что-то делать, даже разговаривать.
— Что ты, бабушка, — слабо возразила, — ты у нас самая быстрая.
— Была, была быстрой, маленькая, — возразила бабушка, но отметила, оценила такт и поддержку: — А за доброе слово спасибо, оно иной раз дороже всего другого.
Беседу прервал дядя Леша. Он упрямо придерживался давних привычек, спозаранку отправлялся за газетами, потом изучал рынок, а на обратном пути непременно накапливал силы для восхождения на второй этаж, домой. Вот и сегодня постучался, прямо в кухонную дверь. Наружная не запиралась, и звонок электрический давно бездействовал.
— Что с фронтов сообщают? — сразу спросила бабушка.
— Повсеместно идут бои, — отделался общими словами дядя Леша. В сводке почти так и было написано: «Шли бои местного значения». — А мороз, знаете какой? Тридцать два и еще половина.
Он сбросил рукавицы, протянул застывшие пальцы к багровой стенке железной печки.
— Чем нынче на Андреевском торгуют? — уже равнодушнее спросила бабушка.
Таня недавно ходила с ней на рынок. Ничего похожего на довоенное время. Народу толпится множество, а съестного в продаже мало.
Предлагают столярный клей, клочки лошадиных и коровьих шкур. Из шкурок с добавкой клея получается отличный студень. Можно и одним клеем обойтись, запах, правда, очень уж неприятный — гнилостный.
Встречается деликатес — жмых подсолнечника. От него во рту удивительный вкус и аромат семечек и растительного масла. И съедается медленно — такой крепкий.
Торгуют горелой землей с бадаевских складов. Она считается калорийной: не только сладковатая, но и жирами пропитана.
Давно ли мама заставляла рот промывать, если сунешь поднятую с земли ягодку, а теперь земля — обыкновенная еда.
Появился и новый продукт — торф. Его «открыли» ребята из ремесленных училищ, они же и пострадали первыми, набивая голодные желудки коричневой массой.
— Торфа избыток, — ответил бабушке дядя Леша. — Нет на него охотников. И землицы вдоволь, а жмых исчез. Цены же на все и про все — красненькая.
«Красненькая» — бумажные деньги, тридцать рублей.
— Настоящие продукты не достать ни за какие рубли, только в обмен на другое съестное или особо ценные вещи. Представляете?
Нинины золотые часики давно пошли взамен кусочка сливочного масла для Жени, совсем она нехорошей сделалась.
Дядя Леша заставил себя отодвинуться от печки и встать. Наперекор нежеланию.
— Привет дяде Васе, — сказала Таня.
— Передам, — дядя Леша еще помедлил уходить. — Ослаб он. Вот пойду завтрак разогревать, дурандой накормлю.
Две-три недели назад из дуранды пекли лепешки, готовили кашу, теперь экономно варят жидкие супы.
— Ну, когда суп есть, жить можно, — убежденно сказала бабушка. — Врачи нынче шроты и другие выжимки заместо лекарств выписывают.
Дядя Леша кивнул, соглашаясь.
— Пошел.
— Ну, с богом.
На кухне делалось тепло, хоть пальто снимай, но Таня знала: как только бабушка перестанет топить, быстро выстудится, а голодным дыханием не согреться.
Прибавка
Этого дня не просто ждали. Промедление грозило сплошным, катастрофическим мором. Алиментарная дистрофия, болезнь голодного истощенного человеческого организма, распространялась по городу с быстротой жестокой эпидемии. Уж и не дни, а часы решали участь людей. Многие, очень многие просто не смогли дотянуть, дожить до этого Дня.
Впервые за все месяцы войны и блокады, впервые в Ленинграде норму хлеба не уменьшили, а увеличили, прибавили.
* * *
— Прибавили. Прибавили!
Обнимались, плакали от радости, поздравляли друг друга. И все-таки до последнего момента, пока своими глазами не прочтут объявление в булочной, суеверно боялись поверить в спасительное чудо. Нет, все так. на самом деле. Прибавили. При-ба-ви-ли!
* * *
НОРМА ВЫДАЧИ ХЛЕБА 2
5 декабря 1941 года
Рабочие — 350 гр.
Служащие — 200 гр.
Иждивенцы — 200 гр.
Дети — 200 гр.
* * *
Дворник кого-то искал, вглядывался в закутанные фигуры. Мороз за тридцать градусов, все лица в белом кружеве. Кажется, толкнут человека — упадет, рассыплется со звоном, как сосулька.
— А где это Иннокентий Петрович? — обратился к очереди дворник. Ни Таня, никто, наверное, другой не знали такого человека. — Что он теперь пробуль-кает? Крышка всем! Нет уж!
«Вот кого он имеет в виду, Серого», — поняла наконец Таня. Конечно, у человека с искалеченной рукой были имя, отчество, фамилия. Обыкновенный человек. Может быть, он, как другие многие, выкупил хлеб на день вперед, потому и нет сегодня в очереди. Но и вчера Таня не видела его.
Мама запрещает отоваривать хлебные карточки за завтра, она и однодневную пайку не всю на стол выкладывает. Делит на три равные части: завтрак, обед, ужин. Как бабушка делит на утро, день и вечер дуранду или другую горячую жидкость, именуемую супом.
В позапрошлом месяце удалось заполучить на рыбные и мясные талоны баночку шпрот на всю семью, целую неделю блаженствовали. Бабушка, мудрая и хитрая, варила шпротики в марлевом мешочке, по одной на человека.
Обедали ухой, ужинали копчено-вареной рыбой, а в завтрак макали ломтик хлеба в оливковое консервное масло…
— Нет уж! — ликовал дворник Федор Иванович. — Нас не накроешь. Сдвинули ихнюю крышку, щель образовали. По зимнику караваны пошли. С хлебом! Отсюда и прибавка, граждане-товарищи дорогие.
Значит, и это правда. Возобновилась связь с Большой землей. Кто-то не крикнул, выдавил стоном:
— Ура-а…
Зимник
О ледовой дороге через Ладожское озеро, которую дворник назвал «зимником», поговаривали давно. Как ни засекречивай военную тайну, народ все равно до конца запретного срока узнает.
Водный путь не оправдал надежд. Малотоннажным пароходикам, баржам, тендерам, катерам, паромам не под силу штормовые волны, да еще под огнем с неба и земли. Пушки из Петрокрепости били по фарватеру южной губы прямой наводкой. Не случайно встарь Петрокрепость называлась Шлиссельбургом — ключ-городом.
Большая трасса, крюк в сто двадцать пять километров из Новой Ладоги до поселка с маяком Оси-новец, требовала перегрузки с речных волховских судов на морские. Но и морские суда горели, опрокидывались, уходили на дно.
Ранняя и суровая зима закрыла навигацию, а лед на озере-море не вдруг и не сразу обрел толщину и прочность для зимней дороги. Ее опробовали 21 ноября. С Большой земли прибыл санный обоз, груженный мукой.
Ледяной покров местами не превышал десяти сантиметров, много не повезешь. Только месяц спустя удалось доставить через поле Ладоги продовольствия больше, чем выдавалось по смертельным нормам. Тогда и решились на прибавку хлеба.
Украли…
Таня получила хлеб, прижала обеими руками к груди и выбралась из магазина. После душного полумрака и серый день показался чрезмерно ярким, слепил глаза. Таня зажмурилась, постояла так немного. Вдруг — знакомый голос. Сиплый, булькающий, тихий совсем.
— Карточку украли…
Даже не «украли», а — «укр-ра-алии».
Таня инстинктивно пощупала в варежке. Карточки были на месте.
Нет ничего ужаснее, чем остаться без хлебной карточки. На каждой напечатано грозное предупреждение: «При утере карточка не возобновляется». Лишиться карточки — гибель.
— Карточку укр-ра-алии. — Иннокентий Петрович не жаловался, не возмущался, не искал сочувствия, он просто сообщал о личной катастрофе.
В стеклянном, остановившемся взгляде не было страха, растерянности, только обреченность, смиренная покорность перед нею.
И Таня, не раздумывая, не глядя почти, отломила кусочек хлеба, вложила в скрюченную птичью лапку. Кто-то, дворник Федор Иванович, кажется, тоже отщипнул, и еще за ним кто-то. Таня быстро, как могла быстро скрылась в подъезде.
Варежка сразу промокла, когда она ломала хлеб, и мгновенно схватилась морозом. Как бы не сломались карточки…
Квартира считалась на первом этаже, но находилась выше, в бельэтаже, и надо было подниматься до выложенной кафелем площадки перед входной дверью, на тринадцать ступеней. В три приема Таня одолела высоту и присела на «завалинку».
«Завалинкой» бабушка в шутку называла приступок под лестничным маршем на верхние этажи. Очень удобное и уютное местечко. Сумку тяжелую поставить, пока замок отпираешь, с подружкой посекретничать. Гости выходили к «завалинке» на перекуры.
Надо было собраться с силами и духом. Все получилось вдруг, в слепящем порыве жалости и сострадания. Нет, Таня не раскаивалась, что дала хлеб Иннокентию Петровичу. Для него каждая крошка — спасение. Ему одну неделю выстоять, вытянуть. В январе новые карточки дадут.
Таня не жалела, что помогла человеку, но имела ли она право, честно ли распоряжаться без спроса общим, всехним хлебом? Она ведь отломила от семейной пайки.
— Мама, бабушка, — заявила с порога. — Я ему кусочек нашего хлеба дала. У него карточки украли.
Смерть
Мама вернулась ужасно расстроенная. Она застала Женю в постели, в берлоге из одеял и верхних теплых вещей. Отекшую, бессильную, равнодушную ко всему.
Мама изломала последний стул, затопила «буржуйку», вскипятила чай. Женя вроде бы воскресла, ожила и тогда-то и напугала.
— Как дите стала бумажки рвать.
Малые дети, не умевшие ни читать, ни писать, маялись сильнее взрослых. Молча, сосредоточенно рвали или стригли ножницами бумагу, словно талончики от карточки отрезали, отоваривались.
— Ты что это делаешь? — спросила я, а Женечка не отвечает, продолжает свое безумное дело. Потом вдруг говорит: «С Юрой свяжитесь, он поможет. Не хочу без гроба, земля в глаза набьется».
— Страсти какие, помолчи лучше, — запретила рассказывать дальше бабушка, показав на Таню: при маленькой не надо про такое.
— Да, да-да, — сразу подчинилась мама. Ее заколотило, как от холода, хотя на кухне было тепло.
На другой день, в субботу, разбушевалась пурга, добираться до Моховой несколько километров — ни у кого сил не хватит. Ни у мамы, ни у бабушки, а Лека и Нина давно на казарменном положении, не отлучиться с завода без разрешения.
На воскресенье, после ночной смены, Нину отпустили с работы.
Она подоспела к последнему вздоху, к бестелесному шелесту:
— Юре… С Юрой свяжи…
— Хорошо, хорошо, — перебила Нина, успокаивая сестру, и даже взглянула деловито на часы: мол, сию минуту бегу исполнять твою волю.
Когда она опять наклонилась к Жене, ее уже не было на земле.
Блокнот
Часы в доме такие же, как у Жени. Настенные, в дубовом корпусе с окошками. Через верхнее, круглое, видны циферблат и стрелки, за нижним, прямоугольным, качается, поблескивая, бляха маятника. Часы с боем, завод двухнедельный.
Сейчас стрелки показывали то самое время, когда умерла Женя, — 12.30. Совпадение, незначительная, казалось бы, подробность вывели наконец Таню из душевного оцепенения.
Вчера, когда на семью обрушилось горе, Таня не уронила ни слезинки. Не потому, что каждодневные ужасы и трагедии ожесточили сердце, породили безразличие к страданиям других, равнодушие ко всем и всему.
Тане едва исполнилось шесть лет, когда умер папа. Она плакала, дома и на кладбище, не осознавая, что уже никогда, никогда-никогда не увидит его, родного, единственного. Сейчас все было иначе: она понимала, что Жени нет больше на свете, но боль не пронизала сердце. Быть может, потому так получилось, что Таня еще не видела Женю совсем и навсегда не живой.
12.30.
Вчера и сегодня, до двенадцати часов тридцати минут, Таня думала неотступно об одном и том же. Прибавили хлеба, хлеба прибавили! Вместо ста двадцати пяти граммов — целых двести. Двести граммов хлеба на одного! А Женя взяла и умерла.
«Женя, Женечка, дорогая, милая, родненькая! Как же так: хлеба прибавили. В полтора раза, даже больше! А ты умерла…»
Женя умерла в 12.30.
На дубовых часах 12.30. Взгляд застрял на стрелках. Нет, сами стрелки замерли. Сколько времени не меняется Время.
12.30. 12.30. 12.30…
Таня сдвинула платок и шапочку, прислушалась. Тикают, идут. А стрелки на прежних местах — 12.30.
Внезапный и безотчетный страх скатился ледяной струйкой между лопаток. Таня, пятясь, вышла из комнаты, укрылась на кухне.
На часах-ходиках тоже было 12.30.
12.30. 12.30. 12.30…
Вдруг большая стрелка дернулась, судорожно перескочила на одно деление, как на школьных электрических часах. И в самой Тане что-то сдвинулось, изменилось, растормозилось. Полились слезы. Тихие, безутешные, облегчающие.
Ей и прежде случалось оставаться одной дома, но сейчас одиночество было непереносимым. Мама с бабушкой чуть свет отправились на Моховую, собирать Женю в последнюю дорогу. Нина ушла еще вчера, она должна была предупредить обо всем Леку. Брат может в любой момент появиться, нельзя отлучаться, даже сходить на второй этаж, к дядям.
Таня опасливо подняла глаза. На часах 13.46. Уже 13.46! Побежало, понеслось время. Таня испугалась, что пройдет еще столько и забудется день и час, когда не стало Жени. Надо, непременно надо записать точно, до минуты. Но — где, куда? Все тетрадки в портфеле начаты, а новых в этом году так и не купили: не было. Тут и вспомнился Нинин блокнотик — подарок Леки. Прекрасный, чудный блокнотик. Его и подержать приятно: маленький, легкий, шелковистый, весь на ладошке умещается. Как хлебная пайка. Обложка выклеена золотистым крепдешином и серо-голубым шелком. На внутренней стороне, где на фоне бледного желто-зеленого орнамента повисли кедровые шишечки, Лека расписался за Нину — Н. Савичева.
Сестра сделала из него справочник чертежника-конструктора, рабочий блокнот для себя. Половину, сорок шесть страничек, аккуратно черной тушью заполнила данными задвижек, вентилей, клапанов, трубопроводов, всякой другой арматуры для котлов. А другая половина, с алфавитом, осталась чистой. Очень удобно, когда с алфавитом: сразу отыщешь, что надо.
Таня еще поколебалась, можно ли без спросу, но решила, что Нина не обидится. Это ведь и для нее, для всех Савичевых. А Нине блокнотик сейчас без надобности. Завод выпускает другую, боевую продукцию. Все равно блокнотику лежать в столе до конца войны.
В том же ящике письменного стола отыскался толстый синий карандаш. Нина иногда глаза им подкрашивала. Чуть-чуть.
Карандаш истерся или сразу был плохо заточен, но идти на кухню за другим не хотелось. И Таня ясным ученическим почерком написала синим грифелем на странице с буквой «Ж»:
Женя умерла 28 дек в 12.30 час утра 1941 г
Посмотрела, подумала немного и подчеркнула имя — Женя.
Похороны
Выяснилось, что на ближнее, Серафимовское, кладбище нельзя рассчитывать: все подступы к воротам завалены трупами. Надо везти Женю на остров Декабристов.
— Там и в могилку опустить удается, на Голодае, так сведущие люди говорят.
Бабушка называла остров по-старинному, и дядя Вася сказал:
— Какие провидцы на Руси были, в позапрошлом еще веке высчитали, что будет война и блокада, что на островном кладбище будут хоронить тысячи и тысячи погибших голодной смертью.
Были и другие кладбища, на меньшем расстоянии от Моховой, чем Голодай, но мама отвергала их:
— Или на Смоленском, где отец лежит и братик с двумя сестричками, или, как бабушка советует, на Голодае.
Она имела в виду малолетних детей, умерших от скарлатины в девятнадцатом году. В одну неделю сгорели. Эпидемия в городе свирепствовала, а медицина — какая тогда медицина! Вражьи армии со всех сторон обложили Петроград. Вот как сейчас…
— И не дам без гроба везти, — твердо заявила мама.
На Моховой не удалось договориться. За ящик из горбыля заломили триста рублей и полтора килограмма хлеба. Мама обратилась к своему дворнику, Федору Ивановичу. Тот посочувствовал соседке, обругал коллегу с Моховой: «Креста на нем нет, грабителе!»
— Сделаю почти задаром, Мария Игнатьевна. Из уважения к вам — две сотни и кило. А с меня в придачу сани напрокат.
— Откуда ж я хлеба столько возьму? — спросила не дворника, себя спросила мама.
— Так Евгения Николаевна сама ж припасла, можно сказать. Она когда преставилась? Двадцать восьмого. До конца месяца три дня, по рабочей карточке да при нынешней прибавке кило с довеском.
Карточки умерших полагалось сдавать вместе с другими документами, иначе не выдавали свидетельства о смерти. Нина такое свидетельство получила еще во вторник.
— Вот уж напрасно, — осудил как неразумность Федор Иванович.
В иных семьях и по две недели скрывали покойников. Потому, кстати, и ввели перерегистрацию в середине месяца, чтоб ограничить незаконное пользование продовольственными карточками.
— Хлеб для усопших вроде выходного пособия от самого господа бога.
Мама кивнула, соглашаясь с блокадным, разумным мнением дворника, и повернулась уходить.
— Ладно уж, только из уважения… Но грамм двести хоть дадите? Силы ж нужны гроб сработать.
На том и условились, а дома уже мама вспомнила о Юре. Только как его найти, как связаться с Кронштадтом?
— Через Беллу Велину, — уверенно подсказала Нина. — Беру на себя. Человек она хороший, а Юра сам же говорил Жене, что, в случае чего, готов, как пионер.
Велина, вторая жена Юрия, работала переводчицей в штабе и жила, как многие другие военные и вольнонаемные, на Литейном проспекте, в Доме Красной Армии.
И свершилось чудо. Юрий прибыл на машине, привез две буханки хлеба и три пачки «Красной звезды». Папиросы ценились почти как хлеб.
Все моментально уладилось, организовалось.
На кладбище, у могилы, низко склонившись над гробом, мама спросила:
— Вот мы тебя хороним, Женя. А кто и как нас хоронить будет?
Глава пятая
Блокада
Дорога жизни набирала темпы, но и мощный транспортный конвейер ледовой трассы не мог обеспечить нормальное снабжение. А на 1 января 1942 года мирных жителей было около двух миллионов.
Ежедневно умирало до четырех тысяч. Экскаваторы не успевали выгрызать котлованы для братских могил; в ход, как в районах вечной мерзлоты, пошел динамит.
Артобстрелы продолжались, но воздушные налеты временно кончились. Последний раз бомбили в начале декабря. Полутонная бомба вонзилась в землю во дворе университета, но не сработала. Саперы огородили воронку, повесили таблички. Это спасло многих, когда через несколько дней прогремел взрыв.
Врачи называли дистрофию бомбой замедленного действия. Человеку кажется, что все страшное позади, а он обречен…
Снег, мороз.
В искрящейся дымке заиндевелые призраки домов с черными провалами разбомбленных квартир. Над крышами — багряное облако: где-то никак не потушат очередной пожар.
Горе
Теперь, когда Жени не стало, Таня думала о ней чаще, чем прежде. Люди почему-то становятся ближе и дороже, когда уходят навсегда. И воспоминания о них только светлые.
Давно, еще в первом классе, Таня получила строгое замечание от Жени. Не то или не так сделала, но такое, что для взрослых обыкновение. Таня обиделась: «Большим все можно!» Женя погрустнела: «Увы, сестричка, увы. Дорастешь до моих лет, поймешь». А бабушка улыбнулась и примирила обеих: «Доспорите, когда с мое поживете».
«Бабушкой я еще буду, — подумала Таня, — а Женя — никогда…»
Горе в доме.
— Стало быть, вызнала смерть дорожку к нам. Скоро и за мной придет, — просто и безбоязненно сказала бабушка.
Она сидела, одетая по-уличному и завернувшись в клетчатый шерстяной платок, хотя «буржуйка» топилась и в кухне было вполне терпимо. Последнее время бабушка сильно мерзла, лицо потемнело и сморщилось, будто холод скукожил.
— Спасибо Юре, — благодарно вспомнила бывшего зятя мама, — так выручил. Женечке помог и нас топливом недели на две обеспечил. Это факт.
— Вы мои карточки сразу не сдавайте, — продолжала свое бабушка. — Ты меня не пугайся, маленькая, я тихонько полежу.
— Ба-абушка, — врастяжку начала Таня, и вдруг голос сорвался до крика: — Что ты такое говоришь!
Крик получился слабым, со слезой, и Таня попросила жалобно:
— Не смей так думать.
— Яйца курицу учить будут, — фыркнула привычно бабушка, но и у нее ничего не вышло по-старому. Внезапная, безвременная смерть Жени вышибла семью из естественной жизненной колеи, столкнула на другую — жестокую и непредсказуемую.
— У йомфру Андерсен, в подворотне направо, можно приобрести самый лучший саван, — повторил загадочную фразу дядя Вася, и опять никто не выяснил, что это значит.
Он тяжело поднялся, опираясь на трость, с которой теперь не расставался, извлек откуда-то из пальто книгу и подал Тане:
— Новогодний тебе подарок. Негоже хвалить свои дары, но это, дружок, раритет, особая ценность. «Мифы Древней Греции». В блокадном городе выпущены, нашим детским издательством. — Дядя Вася раскрыл книгу и прочел вслух из предисловия: — «Слушайте, добрые люди, про то, что свершилось когда-то! Каждый, кто в мире родился, свой долг исполнить обязан!»
Засыпая, проваливаясь в тяжелый блокадный сон, Таня мысленно выбирала для себя долг, который обязана исполнить, но так и не выбрала. Будь она старше, записалась бы добровольцем на фронт или в санитарную дружину, а то стала бы донором, как Женя…
Она уснула задолго до полуночи и пробудилась уже в новом, 1942 году.
Елка
Дядя Леша подал газету, как поздравительную телеграмму:
— Об организации новогодних елок. Постановление.
В это было трудно поверить: в блокадном городе-фронте — елки для детей! Сколько же их осталось, если из лесов привезли целую тысячу зеленых мохнатых пахучих елей! И неужели всех ребят накормят супом или дурандой «без вырезки талонов из продовольственных карточек»? В газете так напечатано.
И вот в первый день нового года нежданно-негаданно пришел Борька Воронец. Таня уже и вспомнить не могла, когда к ним в последний раз приходили гости.
— Слушала радио? В школе билеты выдают на елку! Пошли скорее, а то не достанется, — с порога заторопил Борька.
Билетов хватило. И Тане, и Борьке, и Коле Маленькому. Только не на первые и утренние или дневные елки, а на вечернюю: «Встреча в 17.00.».
До войны Таня, наверное, расстроилась бы, извелась от ожидания. Сейчас все воспринималось нормально, как в очереди.
В школу отправились под опекой дяди Васи. Он сам наперед объявил: «Командовать парадом буду я. Слушаться беспрекословно. И— не отставать».
Таня, Коля и даже Борька слушались, но отставал командующий…
Ранние сумерки сгустились до синевы, и неровные сполохи на Петроградской стороне уже нельзя было принять за вечернюю зарю.
Школьный двор перед фасадом лежал в нетронутых сугробах, парадный вход наглухо закрыт. Растоптанная дорожка вела к черной лестнице.
У крыльца с козырьком в белой снежной папахе стояли часовые в длинных кавалерийских шинелях и суконных шлемах с шишачком и двойной звездой, суконной, и поверх нее, в центре, металлической, рубиновой. Красноармейцы не отбирали и не накалывали пригласительные билеты-пропуска на трехгранные штыки винтовок, только убеждались, что пришли свои.
— Можете зайти, дедушка, — вежливо пригласил старший дядю Васю. — Посидите внизу, пока ваши веселиться будут.
Дядя Вася не запускал себя, ежедневно, как до войны, брился, но выглядел, конечно, все равно старым-престарым.
— Ой, как светло! — не удержалась от восклицания Таня, когда вошли в помещение. Дома электричества почти не бывало, а если и появлялось, лампочка горела в четверть накала. А здесь — как до войны!
Сверкающая люстра под потолком, громадная, великолепная елка до потолка. Разноцветные фонарики, бумажные гирлянды, стеклянные шары, игрушки из папье-маше и фольги, мохнатые серебряные ожерелья, похожие на обмороженные провода оборванных линий. Но все это яркое великолепие терялось и меркло перед длинными рядами столов, накрытых клеенкой. Уже и тарелки с приборами расставлены-разложены.
Все пятьдесят или сто, или сколько пришло ребят, — все глаза уставились в обеденные столы. Не оторваться!
— Ну-у! — восхищенно выдохнул Борька. Значит, и он до последнего момента сомневался, что и вправду кормить будут. На бледных, запавших щеках розовым пятнышком обозначился былой румянец.
Самым глазастым оказался Коля Маленький:
— Тарелок по три штуки! Зачем столько? Этого никто не сумел объяснить, но сердца замерли в предвкушении блаженства.
Все дальнейшее в празднестве прошло в тумане ожидания. Не то что было неинтересно и скучно. Понравился концерт с настоящими артистами, особенно выступление баяниста с забинтованной головой и в гимнастерке с «медалью «За отвагу». Певица в длинном шелковом платье и меховой безрукавке исполнила замечательную песню о синем платочке, довоенную, но с новыми словами:
- Строчит пулеметчикза синий платочек!
Потом с удовольствием водили хоровод, но очень уж быстро выдохлись. И общее пение не получилось. «В лесу родилась елочка…» Писк и простуженные хрипы, а не голоса.
Наконец — наконец-то! — позвали к столу. Каждый получил хлеб, почти целую пайку. Солдаты-повара наливали армейскими черпаками горячий чечевичный суп. На второе — по две — две! — котлетки с макаронами. И это не все. На третье выдали желе, неизвестно из чего приготовленное, но сладкое и вкусное — королевское блюдо!
— Мировая еда, — время от времени нахваливал Борька.
Коля Маленький только кивал, не в силах выразить словами сытое счастье. И Таня была ужасно довольна прекрасным обедом и тем, что сумела незаметно припрятать кусочек хлеба для дяди Васи в подарок.
Пока были заняты едой, только стук и бряк да негромкие голоса взрослых распорядителей, а тут — словно щебенка осыпалась, такой шум начался. В зал вошел Дед Мороз!
В командирском овчинном полушубке, с красноармейским вещевым мешком. С подарками, конечно!
— Одного сидора на всех… — начал было Коля Маленький, но Борька ткнул его плечом. Не ударил, не толкнул, коснулся. И Коля прикусил язык.
Подарков из одного солдатского мешка никак не могло хватить на всех, но никто не лез без очереди, не роптал, не толкался. Постороннему, не познавшему блокадную жизнь, достоинство и терпение ребят могли показаться тупым равнодушием.
И Тане, и Борьке с Колей не однажды выпадала досада зазря стоять длинную очередь. Иногда перед самым твоим носом, как говорят и как бывало, кончался хлеб или крупа. Они были готовы к подобному финалу, как вдруг солдатики притащили Деду еще два вещмешка, потом еще…
В бумажном пакетике лежали две конфеты, пять печенюшек и — чудо из чудес! — золотой, точно солнышко, ноздреватый, пахучий мандарин.
Помощь
— Кормили бы, как на елке, хоть раз в неделю, я бы маму быстро на ноги поднял, — сказал Борька. — Отдавал бы ей всю пайку хлеба.
Они стояли в очереди к булочной и переговаривались.
— Ни крохи моей не берет, — пожаловался Борька.
И Таня как-то попыталась угостить бабушку своим хлебом, подсушила лепесток на печке, потом надвое разломила. И выговор от бабушки схлопотала: «Не вздумай такое, маленькая… Мне в счет тебя грех смертный и ни к чему. Ты растешь, тебе самой…»
Кто может расти в блокаду? Все только стареют, усыхают, превращаются в коконы, привязанные веревками к длинным саням-катафалкам.
— И моя — ни крохи, — за компанию сообщил Коля.
Говорить и думать о хлебе — самоистязание.
— Слышали радио? — сменил тему Борька. — Знаете, кто для нас мандарины привез? Солдат Твердохлеб. За ним «мессер» всю дорогу гонялся. Потом сорок девять пробоин в грузовике насчитали и сколько-то мандаринок пропали от пулевых ранений.
— У шофера все руки были в крови, — дополнил Коля.
Тане тоже было что сказать. Эту историю о Максиме Твердохлебе не только по радио рассказывали, о ней и в газете писали, дядя Леша вслух читал. Таня смолчала, не хотелось почему-то говорить, уточнять, спорить.
* * *
«Ленинградская правда» сообщала о сборе по всей стране продовольствия для блокадного города на Неве. Во Владивостоке и Вологде, в Сибири и Средней Азии, на Алтае и в Поволжье — всюду готовили эшелоны с мукой, консервами, мясом, рыбой, жирами, сахаром, крупами, яичным порошком, сухими фруктами и овощами.
Кровопролитные наступательные бои под Синявином не принесли успеха, блокадное кольцо не удалось разорвать. Но с освобождением Тихвина доставлять грузы к ладожскому берегу стало ближе, хотя и с двумя перевалками. И тогда строители проложили автомобильную дорогу от Жихарева до деревни Лаврове.
Двенадцать километров, через леса и болота, в лютые морозы, за сорок восемь часов.
Машины с хлебом и оружием, караваны саней теперь прямиком следовали от железнодорожной станции на ледовую трассу.
Минувшее
Дорога жизни представлялась Тане снежной пустыней с караваном. Волнистые барханы сугробов, торосы и заструги — останки древних оазисов. Вместо пальм и верблюдов у колодцев, как на картинках в учебниках географии, домики из снежных блоков, где можно передохнуть от ледяного ветра, тесные палатки связистов, регулировщиков, артиллеристов. Снежные брустверы огневых позиций зенитных батарей. В низком зимнем небе эскадрильи краснозвездных истребителей отгоняют воздушных налетчиков от Дороги жизни. А по ней идут и идут бесконечные караваны, навьюченные хлебом. Дорога длинная, долгая, но когда-нибудь караваны все равно дойдут до Ленинграда и все станет хорошо, как до войны.
Воспоминания о недавнем прошлом, таком сытном и счастливом, что даже не верилось, что такое могло быть, отвлекали от мрачной действительности.
«Не дом, а проходной двор», — ворчала бабушка в прежние времена, а сама радовалась друзьям и гостям, приветливо здоровалась, прощалась, как с родными-близкими: «Ну, с богом». Народу и впрямь всегда хватало в доме. Кроме Лёкиных друзей-музыкантов почти каждодневно бывал Вася Крылов, безнадежно влюбленный и свой человек. Он мог часами беседовать с бабушкой на кухне, помогать ей картошку чистить, дровишек для печки из подвала принести. Будь Таня взрослой, как Нина, только бы за Васю замуж вышла!
А как весело и дружно встречали новый, сорок первый год. Тане впервые позволили дождаться двенадцати часов ночи.
Миша приволок расчудесную елку, стройную, мохнатую и такую душистую — на лестничной площадке лесом пахло. (Сейчас все несут домой охапки еловых и пихтовых веток, витаминный настой из хвои добывать.)
Игорь Черненко нарядился Дедом Морозом и будильник на грудь повесил, ровно в полночь зазвонил.
Мама испекла два или даже три савичевских кренделя с изюмом, а бабушка нажарила полную кастрюлю своих знаменитых котлет.
Сочных, с хрустящей корочкой, ароматных до головокружения…
Минувшее так зримо и осязаемо представилось, что Таня и впрямь провалилась в голодный обморок.
Дежурство
— Пошла, — сказала мама таким голосом, будто собралась на другой конец города, а не к дворовой арке у подъезда.
— Ну, с богом, — прошелестела бабушка.
На крышах и чердаках уже давно никто не караулил. Бомбежки прекратились, из-за снегопадов и морозов, наверное, и мало у кого из добровольцев местной противовоздушной обороны хватило бы сил взбираться наверх, торчать под черным зимним небом. Тут и внизу сторожить порядок некому. В графике сплошные вычерки и перестановки.
Платок быстро закуржавел, облохматился белым, наморозь на ресницах мешала видеть. Да в этот час нечего и некого было выглядывать. Мертвое безлюдье, даже у булочной ни души, не настало еще время для очереди.
По уточненному графику дежурство сдавать Нащериной Ираиде Ивановне. Эта не опоздает, не подведет. Мария Игнатьевна была не только довольна, что сменщица — Ираида, рада тому. Не просто соседи. Сослуживицы и приятельницы. Как никак шестой год в одной швейной артели надомницами. Мария в художественной вышивке искусна, Ираида отличная портниха.
Добрая, щедрая душа, последним поделится. То корочки апельсиновые принесла: «Вместо нафталина в шифоньере держала до войны. В них же витамин от цинги, компот для Танечки сварить можно». То обнаружила в домашней аптечке коробочку с гомеопатическим лекарством, отсыпала горошков: «Они же на сахарине». А недавно пригласила через Таню к себе, велела мешок взять или сумку большую.
«Зиновий мой открытие сделал, — обрадованно сообщила Ираида. — Из обоев же болтушку сварить можно!»
Мария Игнатьевна не думала о таком: дома обоев не было, стены и потолки беленые.
«Крысы подсказали, — продолжила удивление и радость мужниного открытия приятельница. — У других давно исчезли, а нам до сих пор нет от них покоя, средь бела дня нагличают, стены обгрызают. Обои же на мучном клейстере!»
Зиновий Иванович, он электромонтером в трамвайно-троллейбусном парке работал, разметил стены на прямоугольники и квадраты, как хлебные и крупяные карточки — на талоны. Несколько суточных «норм» Нащерины оборвали для Савичевых.
Темно. Морозно. Тихо и безжизненно. Время от времени откуда-то из-за Невы, с окраины города, с передовой линии фронта долетали глухие удары взрывов и выстрелов.
Груз одежды угнетает плечи, ноги подгибаются сами по себе, присесть бы, а еще лучше — лечь…
Нет, нельзя, ни в коем разе нельзя садиться. Сколько их, сидячих и скорченных, на ступенях и в сугробах… И неположено сидеть на дежурстве.
Мария Игнатьевна неуклюже потопталась, вяло обхлопала себя накрест, чтоб согреться и сонливость разогнать. И опять думы вернулись на круги своя, к детям, к матери. С ней совсем худо. Участковый врач Анна Семеновна прямо заявила: «Дистрофия второй степени. Евдокия Григорьевна, строго говоря, в одном шаге от третьей».
Третья степень алиментарной дистрофии — немедленная госпитализация или медленное умирание. Бабушка наотрез отказалась от больницы: «Там и без меня коридоры переполнены, класть некуда. Лучше в своей постели…»
Послышалось, будто пружинный матрац заскрипел. Мария Игнатьевна насторожилась, чуть высвободила ухо.
Снег под ногами хрустит, а нет никого.
— Кто? — окликнула на всякий случай.
— Нащерина, — ответили за спиной. — Смена. Надо же как темно.
Свет
Так совпало, что все кончилось разом: электричество, вода, отопление.
Без тока давно научились обходиться в быту. Без тока, керосина, свечей. Напридумали, смастерили всевозможные простейшие светильники на машинном масле. Яркости меньше, чем от лучины, но копоти — все тропинки на заснеженных улицах в черных плевках.
Самую маленькую, экономную коптилку из пузырька от чернил и нитяного фитилька не гасили на ночь, берегли огонь, как пещерные люди. Спички ведь тоже не купить… Лека принес кресало, обломок напильника, кусок кварца и трут из хлопчатки, но такой зажигалкой разве что курильщику пользоваться.
— Мама, — вспомнила Нина, — у нас еще две свечи есть.
Таня сразу догадалась, где и какие, а мама — нет, забыла.
— Не встречала, вроде…
Она уже несколько раз тщательнейшим образом обследовала все шкафы и буфеты, ящики и полки, все ценное— от забытого пакета с остатками крупы до лаврового листа, — все взяла под контроль.
— В шкатулке, палехской, — напомнила Нина. И мама, как когда-то решая судьбу Барсика, сказала:
— Не будем, ребята, венчальные трогать. Пока.
Вода
Дядя Вася, шумно дыша и побрякивая пустым бидоном, вошел в кухню. Теперь вся жизнь Савичевых тут сосредоточилась, а Таня и на ночь оставалась, на бабушкином сундуке спала.
— Уже и не капает… Кончилась вода в подвале… Придется к сфинксам бегать…
Вода из домашнего водопровода ушла, как жизнь из дерева, — сверху вниз. Сначала верхние этажи обезводились, потом нижние, а теперь и в подвале не стало.
«К сфинксам бегать…» Таня с болью и жалостью смотрела на любимого дядю. Раньше он в шутку говорил: «Поплелись». Сейчас без палки шага ступить не способен, и одышка ужасная, словно порванные мехи гармони растягивают. «Бегать…» Такое и Леке не под силу, а он до войны в футбол гонял. Дорогие, бедные Лека и дядя Вася…
— Отпустят Леку на побывку, принесем и вам невской водички, — пообещала мама.
В одиночку ходить к проруби мало пользы, разольешь, расплещешь половину, а то и с порожней посудиной вернешься. Ступенчатый пандус превратился в ледяную горку, вокруг проруби — высокий ледяной барьер, вода точно в кратере заоблачного вулкана. Люди на карачках и ползком к воде подбираются, обратный же путь не всякий осиливает.
Леку отпустили домой на другой день. Он пришел, как обычно, не с пустыми руками. Дровину на веревочке приволок и кашу принес в банке из-под компота.
— Сына, — расстроилась мама, — зачем же ты. На станке работаешь, силы нужны, а ты вон какой — кожа да кости. Так еще еду от себя отрываешь.
— Все чин чином, — заверил Лека, — не беспокойся, мама.
Но она не успокоилась, строго, как могла строго, приказала:
— Больше чтоб я таких баночек не видела, Леонид.
— Другие предложения и просьбы? — отшутился Лека. — Нет? Следовательно…
— Не свободен, — остановила мама. — Сходи за водичкой, сына.
Таня вызвалась помочь. Кому-то посторожить надо. За раз два ведерка от проруби наверх не вытащить: круто и скользко. А воды много надо, на всех Савичевых.
Книги
— Осторожно на лестнице, — напомнила мама.
— Так я же не первый раз.
Все ступени замусорены, в наледи, на лестничных площадках свалка замерзших нечистот и хлама, сам черт ногу сломит.
Таня осторожно поднялась на второй этаж и вошла в квартиру. Квартира большая, коммунальная, до войны четыре семьи проживали, кроме братьев Савичевых. Алексей и Василий Родионовичи занимали одну комнату, сразу направо от входной двери.
В узком коридоре темно, как в пещере. Таня на ощупь нашла медную ручку, подергала, объявила громко:
— Это я.
Не дядей испугать боязно внезапным появлением. Самой страшно: вдруг не отзовутся…
В ответ невнятный, но все-таки живой звук.
— Это я, — повторила Таня, уже войдя в длинную комнату с наглухо запечатанным окном.
Желтый мотылек коптилки тускло подрагивал, отражаясь в запыленных дверцах книжных шкафов, в остекленной раме с литографией «Сикстинской мадонны».
От верхней вьюшки высокой круглой печи шел вниз дымоход, сочленяя «голландку» с «буржуйкой». Печь казалась Тане похожей на трубу океанского парохода, а железная времянка на коротких ножках — на собаку таксу.
Дядя Вася сидел в глубоком кресле с книгой в руках.
— Воды принесла, — Таня подала молочный бидончик.
Дядя поставил его на холодную печку.
— Спасибо, дружок. — Он наклонился, пошарил у ног. — Последнюю щепку сжег. Сейчас придумаем что-нибудь.
В комнате осталось одно кресло и два стула, остальные изломаны и сожжены. Та же участь постигла старые журналы. Книги свои дядя Вася оберегал в священной неприкосновенности. И не только свои.
Зашел как-то, а мама изготовилась кожаную обложку отдирать. В обложках и нераздерганные на тетрадки книги горят плохо: обугливаются по краям и углам — и гаснут.
— Мария! — ужасно возмутился дядя Вася. — Это же — Шиллер!
— Потому и жгу, — спокойно ответила мама.
— Шиллер! — ужаснулся дядя. — Великий писатель, классик.
— Для меня все одинаковы.
— Что ты говоришь, Мария. Как можно путать немецкий народ с фашистскими выродками!
Взгляд у мамы сделался непривычно тяжелым:
— А откуда же они взялись?
Но Шиллера все-таки поставила на место, в книжный шкаф.
Сейчас дядя сказал:
— Что-нибудь придумаем. Ах, да, жертва намечена, приговорена к смертной казни через сожжение. Подай, дружок, фолиант, что лежит на столе.
Толстая книга называлась — «ЛЕНИНГРАД. Адресно-телефонная справочная книга. 1940».
Таня недавно перелистывала ее. Одна треть состоит из рекламных объявлений. Обманчивых, раздражающих, болезнетворных до колик в животе.
«Главрыба» уговаривала покупать всевозможные консервы, многие названия которых в диковину: анчоусы, рольмопс — что это? Предлагала рыбу живую, соленую, копченую; кулинарию — заливные, паштеты, бутерброды, растегаи, пирожки…
Кондитеры советовали торты «Пралинэ», конфеты «Пинг-понг» и «Флора»…
Справочная книга дразняще пахла рыбой и мясом, сыром и хлебом. И к чему номера телефонов? Аппарат отключен до конца войны.
Таня без сожаления подала дяде фолиант, спросила вдруг:
— А война когда-нибудь кончится?
Дядя Вася ничуть не удивился, сразу же ответил:
— Все, дружок, имеет начало и конец. В итоге итогов не штык и бомба правят бал. Шиллер писал, что миром правит Любовь и Голод. Увы, и — голод.
— И холод, — со вздохом добавила Таня. — А вот когда кончится, зимы не будет?
Извещение
Ничего подобного «Ленинградская правда» еще не печатала. 13 января появилось извещение о том, что горсовет разрешил продавать в счет месячной нормы мяса по сто граммов, круп или муки по двести. Не прошло и недели — второе извещение с доброй новостью. На этот раз уже за подписью И. А. Андреенко, заместителя председателя городского исполнительного комитета и заведующего отделом торговли.
— Дай ему бог здоровья, — сказала бабушка. Она давно не интересовалась ценами на Андреевском рынке, спрашивала дядю Лешу только про фронтовые новости, а с этого времени еще и обязательно об извещениях: «Ну, что там в газете, Андреенко ничего не пишет?»
* * *
«Андреенко» быстро стало не просто фамилией. Больше, чем фамилией. Символом надежды и веры. Андреенко мог казнить или миловать, даровать жизнь или лишать последней надежды. И делал он все открыто, гласно, в газете и по радио.
«Андреенко» печаталось в газетах, звучало по радио, склонялось на все лады в цехах и булочных, на улице и дома, хотя мало кто знал этого человека с грустным взором и добрыми губами.
* * *
Таня представляла себе Андреенко волшебником и сказочным богачом. В его тайных пещерах хранились драгоценные сокровища: хлеб, мясо, крупы, жиры. Были там и дрова штабелями, а в засекреченном от вражеских летчиков и артиллеристов месте находились, но пока не работали, водонасосная и электрическая станции. Придет час, и Андреенко запустит их — появится в городе свет и вода в кране. Андреенко добр и милосерден, но строго следит, чтобы сегодня не съели послезавтрашнее. Как мама. Разделив пайку хлеба на три части, она не позволяет в завтрак отщипнуть от обеденной порции, в обед — от ужина. И все-таки…
— А почему Андреенко… — Таня запнулась. Не справедливо упрекать его в жадности. Это грубо и неблагодарно. — А почему он так редко пишет извещения?
— Написать не мудро, подвезти трудно, — складно прошелестела бабушка.
Общими силами ее привели на кухню погреться. В соседнем дворе разобрали сарай, досталось немного топлива.
Иждивенка
Ее разбудил дразнящий, соблазнительный запах. Он проник через многослойную оболочку спального гнезда из мужского бобрикового пальто, двух одеял, ватного и байкового, через поднятый воротник, через платок и шарф. Таня спала одетой по-уличному.
Она вдохнула ржаной аромат и вспомнилось, что сегодня — 23 января. Потому и благоухало печеным и снилось удивительное. Будто на большом столе в комнате лежит красавец великан, фамильный савичевский крендель с изюмом. Мама испекла его к дню рождения. Все уже собрались, столпились вокруг стола с кренделем, у мамы в руке и нож наготове, но нет разрешения. На это почему-то требуется специальное разрешение.
«Угощайтесь, — радушно приглашает Таня. — Это же мой праздник». А мама говорит: «Ждем извещения Андреенко».
Запах кренделя объяснился просто: на печурке подсушивались ломтики хлеба. Вкуснее и не так быстро съедается.
Сон растолковала Нина. Она пришла за кое-какими вещами и заодно сестренку поздравить, угостить настоящим кусочком мяса из заводской столовой.
— Тут и разгадывать нечего, — уверенно сказала Нина. — Вот-вот Андреенко опять что-нибудь подкинет. А то хлебца прибавит.
В крупу или сахар в счет месячных норм поверить можно было, в прибавку же хлеба…
— Это уже из области фантастики, — вздохнул дядя Леша. — В газете и намека нет, предпосылок не видно.
— Разве такие вещи раскрывают в газетах? — заспорила Нина. — Вы тут сидите и ничего не знаете. Сейчас на Дороге жизни движение, как на Невском до войны. Двустороннее. Сюда — продукты, боевые припасы. Туда — грузы оборонного значения и люди. Эвакуация же возобновилась.
И вот на следующий же день — вторая прибавка хлеба!
Верующая старушка воскликнула дрожащим ликующим голосом:
— Это же Христово воскресенье! Иннокентий Петрович, он дотянул, выжил, про…
Нет, не пробулькал. Проворковал, как голубь за окном.
Раньше, когда в городе еще летали птицы, на ящик-холодильник, что сейчас без пользы висел за кухонным окном, часто садились дикие голуби.
— Какое воскресенье, бабушка, — проворковал Иннокентий Петрович, — суббота, двадцать четвертое января.
Покинув булочную, Таня встретила Борьку Воронца. С ним, конечно же, был Коля Маленький. На этот раз они не стали спрашивать, слышала ли Таня радио.
— Здорово, а! — сказал Борька. — На целых пятьдесят граммов больше!
— А служащим даже на сто, — уточнил Коля. — Был бы я служащим…
— И не пустили бы в детскую столовую, — осадил Борька.
Девятнадцатого числа вышло постановление открыть столовые для школьников, ребят от восьми до двенадцати лет. Борьке еще прошлым летом исполнилось двенадцать, а Колин день рождения впереди, в мае.
— Тебе двенадцать уже стукнуло? — спросил Борька.
Таня кивнула:
— Вчера.
— Ух ты, поздравляю, — Борька протянул руку в рукавице, мороз очень уж сильный. — Теперь, значит, и ты уже взрослая, иждевенка.
— Иждивенка, — поправила Таня.
По меркам блокадного города в семье Савичевых детей не стало.
— Ничего, — успокоил Борька, — хлеба нам все равно столько же дают, а если детям кое-что и больше перепадет, так они же наше будущее.
И он дружески толкнул плечом Колю Маленького.
Неясность
— Арктический холод, — дядя Леша никак не мог согреться. — Сорок градусов, представляете?
— И ты в такой морозище за газеткой пошел, — укоризненно сказала мама.
— Не один я. На проспекте ни души, а у киоска — очередь. И — впустую. Так и не подвезли.
— Зря вымораживались.
— Не могу я без прессы. И радио не работает, полная неясность.
— Может быть, Андреенко опять что-нибудь дал? — включилась в разговор Таня.
— Дал — получим, — резонно ответила мама. Голос у нее усталый, без тепла и улыбки. — Факт.
— Мария, — помолчав, спросил дядя Леша. — Не передумала?
Мама через плечо выразительно глянула на Таню и перешла на утайный язык, но все равно легко было догадаться, о ком и о чем речь. Опять об эвакуации.
— Как же мы оставим ее? Лека и Нина неделями дома не появляются, воды подать некому будет.
— А мы с Васей — не в счет?
— Спасибо, что сами себя обихаживаете.
— Ладно, — временно отступил дядя, — вернемся к данному вопросу в другой раз. Потом, после.
Мама по-своему истолковала последние слова.
— Как же я могу о таком наперед думать? Леша?!
Таня слезла с сундука и зажгла переносную, с подставкой, коптилку.
— Ты куда, доча?
— К бабушке.
Ее вдруг охватил страх, что бабушка уже умерла.
Таня, как и все, знала, что бабушка обречёна, безнадежна, никто и ничто уже не может восстановить в ней жизнь, даже прибавка хлеба. Анна Семеновна, участковый врач, еще третьего дня предупредила: «Это может случиться в любую минуту».
Бабушка
В первой комнате было совсем темно, а во второй, где лежала бабушка, чадила маленькая лампадка. Коптилка в сравнении с ней — яркий факел.
— Это я, — негромко произнесла Таня. — Нужно что?
Ввалившийся, обезображенный цингой рот расклеился, просочился невнятный звук. Таня сдвинула платок, наклонилась к самому лицу.
— Что, бабушка? Повтори.
— Как… като…
— Карточки? — подсказала Таня.
— Да… Ты, Маня?
— Нет, это я, маленькая. Бабушка все равно не узнала ее.
— Ма-ня… не сда-вай…
— Что ты, что ты, бабушка! — все в Тане восстало против того чудовищного, что свершалось на ее глазах и чему бабушка, родная, любимая, самая добрая и умная на свете, даже не помышляла противиться.
Евдокия Григорьевна больше не в силах была бороться, смерть обещала избавление от болезни и голода, от мук блокадной жизни. Или сама приближала конец, чтобы оставить своим детям, большим и маленьким, хлебную карточку с талончиками на целую неделю.
— Не… не… — Она собрала все, без остатка, силы и замедленно, однако без запинок и четко наказала: — Не сдавайте карточки. Я тут полежу.
— Что ты, что ты! — опять воспротивилась Таня, но бабушка уже умерла.
Когда Таня увидела это и поняла, она не испугалась, не заплакала. Просто все в груди смерзлось и окаменело. Всю неделю, пока бабушка тихо и спокойно лежала одна в холодной-прехолодной комнате, Таня не плакала. В доме не было слез, стенаний, крика.
С бабушкиными документами ходила в райсобес мама. Она выстояла длинную очередь и получила бумагу со штампом и печатью, свидетельство о смерти гражданки Федоровой (девичья фамилия Арсеньева) Евдокии Григорьевны, родившейся в Ленинграде в 1867 году, умершей 1 февраля 1942 года и захороненной в Ленинграде.
Точное место захоронения указано не было, да эти сведения и не требовали— невозможно.
Когда Таня увидела, что бабушка умерла, она минуту или две постояла у деревянной кровати с высокими спинками, а затем лишь вернулась на кухню. И хотя в глазах ее не было слез и она еще ничего не успела сказать, мама вскрикнула и бросилась в комнату, а за ней дядя Леша.
Таня посмотрела на часы. Медные еловые шишки и дополнительный грузик висели почти у самого пола. Она подтянула цепочку ходиков, проверила, не остановилось ли время. Часы тикали, и стрелки показывали 3.05.
Бабушка скончалась минут пять назад, и Таня написала в блокноте на странице с буквой «Б»:
Бабушка умерла 25 янв. 3 ч. дня 1942 г
Глава шестая
Голодно-холодно
И Волховский фронт не смог разомкнуть блокадное кольцо, январское наступление захлебнулось. Защитники города остались на прежних, осенних, рубежах.
На Дороге жизни уходили в ледовую глубь автомобили, гибли люди, солдаты и несолдаты, но запасы продовольствия в Ленинграде исчислялись уже не днями, а неделями.
Третья прибавка хлеба 11 февраля подняла блокадную норму до всеобщей, военного времени: рабочим — 500, служащим — 400, иждивенцам и детям — 300. Триста граммов хлеба на одни сутки — только жить да радоваться!
Увы, алиментарным дистрофикам уже никакая прибавка не могла помочь. Они без жалоб и стонов лежали в промерзших комнатах, ожидая своего часа в последней очереди.
Ленинградцы делали все, что могли, спасая живых, пока еще живых сограждан. Открывались стационары для ослабевших, были созданы комсомольские бытовые отряды. Девушки обходили дом за домом, квартиру за квартирой, топили печи, отоваривали карточки, поили и кормили больных, уносили осиротевших детей в детские дома. О, сколько жизней спасли они, бескорыстные, самоотверженные, милосердные, сами голодные и страждущие героини!
Йомфру
В узорно окованном белой жестью бабушкином сундуке никакого клада не оказалось. Когда дяде Васе удалось отпереть заржавевший замок и с хрустом поднять крышку, Таня увидела женскую рубаху из отбеленного холста, что-то еще из одежды. Вот и все, что много лет берегла бабушка для своего смертного часа.
На память пришла загадочная фраза, которую дядя Вася уже не раз бормотал, как бы про себя и для себя.
— А что такое йомфру? — тихо и доверительно спросила Таня.
Дядя не сразу понял вопрос, наверное, мысли его были заняты другим или очень далеким.
— Ну, это — «у йомфру Андерсен, в подворотне направо, можно приобрести самый лучший саван».
— «Йомфру» по-норвежски — «незамужняя дама». Понятно?
Таня согласно кивнула.
— Объявление из романа Гамсуна «Голод», — дополнительно пояснил дядя Вася.
Мама унесла погребальную одежду в спальню, к бабушке.
Потом, когда ее, переодетую во все чистое и закутанную с головой, привязали к дворницким саням, Таня подумала, что бабушка стала ужасно похожа на тонкое березовое бревнышко, и потому, наверное, не заплакала, так и не заплакала.
С тех пор как Миша неизвестно где, а Лека и Нина на казарменном заводском положении, в квартире гнетущая пустота. Со смертью бабушки дом и вовсе обезлюдел, будто ни одной души живой не осталось. Радио и то молчит, остановилось метрономное сердце.
Мама ушла на поиски топлива. У нее с собою крепкая веревка и гвоздь. Если повезет и найдется доска или поленце, можно забить гвоздь, привязать к нему веревку и тащить волоком. Такой способ придумал Лека.
Брат до войны разгружал баржи, играючи перекидывал на берег двухметровые бревна. И мама была очень сильной…
А вот, если по-норвежски, ее можно называть йомфру? Она же безмужняя, и дверь в квартиру в подъезде направо от подворотни.
Обход
Ужасно одиноко в пустой квартире. Таня взяла коптилку и отправилась в обход. За долгие блокадные месяцы глаза отвыкли от яркого света, зато обострился слух, и все находилось на ощупь.
Таня начала осмотр с дальней комнаты. Половина семьи раньше здесь спала. И Женя, пока не переехала на Моховую.
В противоположном от окон углу стояла дубовая кровать бабушки, рядом — железная койка Нины. Трехстворчатая ширма с пейзажами и женщиной с распущенными рыжими волосами отгораживала их от кожаного дивана с высокой спинкой, на котором спал Миша. Еще в комнате были книжный шкаф, столик с выдвижными ящиками и другой, для рукоделия, с ограждением из черного дерева. Не настоящего, конечно, не африканского, а зачерненного.
При хилом, колеблющемся свете фитиля даже знакомое с детства выглядит таинственно и непривычно. Пугающие тени на безразмерных стенах, мрачные провалы углов, бездонная чернота над головой. Вдруг что-то тускло блеснет или возникнет странное видение — смутный облик в матовой дымке. То зеркально откликнулся на огонь коптилки белый мраморно-холодный кафель.
Высокая печь, облицованная белыми изразцовыми плитками, целиком заполняла один угол. Где-то, справа и слева от печи, были когда-то двери, что вели в пекарню и в булочную.
Подумать только: здесь, сразу за этой стеной полки с хлебом… Тане даже почудился ржаной запах. Она перешла в другую комнату и дверь за собою прикрыла.
И тут был книжный шкаф, а еще платяной шифоньер и зеркальный трельяж, высоченный, почти до потолка, и кровати за ширмой, громадный, как аэродром, раздвижной стол, два кресла, полубуфет в углу, комод. Но центральным, главенствующим над всем, был, конечно же, буфет. Красного дерева, с зеркалами и художественной резьбой — средь роскошных фруктовых натюрмортов токовали сытые тетерки. Жареные, они, наверное, вкусные и сочные, как утки…
Буфет можно было сравнить с многоэтажным и многокомнатным домом. Отделения, открытые и закрытые, делились на полки, ящики, ящички, потаенные пеналы и секретные ниши. В первые месяцы блокады мама то и дело производила тщательные досмотры и находила в необъятном чреве буфета крупы, специи, забытую баночку с вареньем неизвестно какого года.
Возможно, что-то еще могло отыскаться в пока не исследованных тайниках буфета, но слишком большие усилия нужны для открывания дверей, выдвигания ящиков и пеналов. Некоторые намертво заело. Взрыв бомбы напротив покалечил буфет, убил тетерок.
Над пианино висит большая картина в золоченом багете. Рама квадратная, а собственно картина, ее изобразительная часть, круглая. Полуобнаженная красавица смотрится как в зеркале. Она сидит на берегу моря, в укромной бухте, собралась купаться и, обернувшись к кому-то, грозит кокетливо пальчиком: «Не подглядывай».
Досталось от бомбы и «Купальщице». Она обращена к рыцарю. Полуметровой высоты, отлитый из тяжелого сплава, он стоит напротив, на комоде, опершись на длинный жезл. Быть может, то не жезл, а копье, и рыцарь не рыцарь. На нем боевые доспехи римского легионера или греческого воина. Скорее всего греческого. Римляне не отпускали бороды, а в книге «Мифы Древней Греции» есть на картинках такие. На шлеме какие-то украшения, на поясе широкая лента с бантом.
Кто этот древний воин?
Думать не хочется, лень навалилась, полежать бы…
Спасительницы
Угнездившись на бабушкином сундуке, Таня дремала или пребывала в забытьи. С нею такое все чаще случалось.
Мама, сидя рядом на стуле, прикорнула, обняла.
Потому и кажется, что сбоку тепло от печки идет. Смрадно чадит коптилка. Вдруг жалкий огонек испуганно дрогнул.
— Есть кто? — спросил чужой голос. Мама и Таня приподняли головы. Полоснул свет электрофонарика.
— Живые, — с облегчением протянула девушка и представилась: — Мы из бытового отряда.
— Помощь нужна? — заговорила напарница.
Девушки в ватных костюмах и шапках-ушанках готовы выполнить самое трудное дело.
— Спасибо, родные, сами управляемся. Пока…
— Вот и замечательно. Тогда мы пошли.
— Передохните, отогрейтесь, — пригласила мама.
— Работы много, — не без сожаления отказались девушки. — До свидания. Будьте здоровы и живы.
— И вы, и вы, родные.
— Так мы пошли.
«Ну, с богом», — мысленно напутствовала Таня.
Девушки исчезли, будто не вышли, а улетели. Ангелы-спасительницы, волшебные существа.
И опять в кухне мертвенная тишина, желтый жучок-светлячок с поднятым сизо-копотным хвостиком…
Заговорило!
Таня с трудом задвинула ящик буфета, пришлось даже плечом подналечь. В ящике ничего полезного: Лёкин радиолюбительский хлам. Задвинула и вспомнила: где-то должен быть детекторный приемник, школьная еще, полуигрушечная поделка. Когда в первые дни войны вышел приказ сдать на временное хранение всю радиоаппаратуру, Лека пошел на приемный пункт с детекторным приемником и, тоже самодельной, радиолой. Радиолу взяли, а детекторный… Одно ведь название, что приемник. Тычешь, тычешь игольчатым щупом в кристалл, а в наушниках ни шороха.
А вдруг все-таки можно настроиться, поймать Ленинград? Какую неделю радио в доме молчит…
Она собралась с силами, опять вытянула ящик, порылась, покопалась, приемник и отыскался.
Фанерная дощечка с проволочной катушкой, конденсаторы, еще что-то и — самое главное — кристаллик и пружинка с острым концом в стеклянной трубочке на пластинке с медными штепсельными ножками.
Таня унесла детекторный приемник с наушниками на кухню и засела прощупывать эфир.
Никак. Ничего. Но Таня не сдавалась, упорно добивалась цели.
Пришла мама.
— Макароны принесла. Черные, как из угольной пыли. Ты чем занимаешься? Пустая затея. Брат и тот укротить не мог. Не слушался коллектор.
— Детектор, мама, — вежливо поправила Таня. — Все равно поймаю.
— Упрямая ты. Ну, лови, лови, доча. Звездочку с неба поймала бы, в доме светить.
Мама, конечно, шутила, а Таня всерьез ответила, глупая, детская самоуверенность нападала на нее иногда:
— И звезду обязательно поймаю. Или — планету.
— Лучше уж планету, — в голосе забытая улыбка.
— Займусь-ка обедом, — сказала мама.
Таня опять склонилась над игрушечным приемником.
Вдруг что-то захрипело — не в наушнике, а над головой — и совершено явственно раздался детский голос: «Папа!»
Таня и мама вздрогнули и почти испугались от неожиданности.
— Заговорило! — восторженно сказала Таня.
«Папа! — повторил мальчик. И стал просить, уговаривать, требовать: — Крепко бей фашистов! Возвращайся с победой!»
— Заработало, — радостно вздохнула мама. — Совсем отвыкать стали. Как без него? Ни новостей, ни извещений Андреенко не знаешь.
Полмесяца молчала черная тарелка «Рекорда». Заработала, заговорила наконец. И — почти сразу же: «Внимание! Артиллерийский обстрел…»
— Лучше б оно молчало! — в сердцах воскликнула мама.
* * *
В январе и феврале в городе взорвалось семь с половиной тысяч тяжелых снарядов.
В январе и феврале погибли от обстрелов, голода и болезней, замерзли от холода почти двести тысяч ленинградцев. Но никто ни разу не подумал о капитуляции. Несли свой блокадный крест мирные жители, стояли насмерть бойцы на фронте.
Фашистский фюрер, оправдывая «задержку», объяснял Германии и миру: «Ленинград мы не штурмуем сознательно. Ленинград выжрет сам себя».
Кальций
До войны в большую перемену все наперегонки мчались в школьный буфет. Или перекусывали домашними бутербродами. Таня брала с сыром или вареньем.
Бутерброды со сливочным маслом и вареньем в семье почему-то назывались — «счастливое детство». А вот для Сережи любимой едой был школьный мел. Он с таким удовольствием схрумывал кусок белой глины, что ребята, глядя на него, смеялись до слез. Может быть, Сереже только этого и надо было. Когда он, воспитанный и благонравный, вдруг выкидывал необычный номер, то обязательно украдкой посматривал на Таню: какое на нее производит впечатление.
Таня как-то попробовала, откусила. Меловые крошки сразу забили рот, запершило в горле. Пришлось, конечно, бежать в туалет, выплевывать гадостную глину, полоскать рот.
«Это с непривычки, — посочувствовал Сережа. — А еда очень даже полезная, чистый кальций. От него крепость костей и быстрый рост скелета зависят».
Сейчас вдруг вспомнила и Сережу, и мел, который «чистый кальций». А ведь был где-то дома, где?
В машине! В ящичке швейной машины. Там всегда лежали плоские кругляши, меловые лепешки. Мама вычерчивала выкройки, делала отметки на примерках.
Кабинетная швейная машина «Singer» находилась в комнате бабушки и Нины. Когда пропало электричество и нечем стало топить, машину перетащили на кухню. Подставка с литыми боковинами и ножной педалью осталась на прежнем месте. Прострачивать армейские рукавицы можно и вручную, да и трудно маме пользоваться ножным приводом. Ящичек с нитками, шпульками, мелом был в подставке.
После смерти бабушки Таня второй раз пошла в другую комнату.
Мела не было. Ни лепешки, ни крошки. Значит, кто-то опередил. Первым додумался. Украдкой, втайне от всех, сам!
Обвинительные слова готовы были уже хлынуть потоком, но Таня опомнилась — и остановилась. Сама же хотела присвоить и съесть мел, которого, к счастью, уже нет.
Куда же он делся?
— Мама, — издалека начала Таня, — а Сережа до войны мел в классе лопал.
Мама делила хлебную пайку, не заметила военную хитрость.
— С чего вдруг вспомнила?
— Просто так. Сережа говорил, что мел из чистого кальция, а от него скелет быстрее растет. Портновский мел, он тоже кальций?
— Конечно. Потому и в кашку добавила, когда по сто двадцать пять граммов хлеба получали. Все ящички вытряхнула, все сусеки подмела, как в Дворищах говаривали. Ох, где же наш Миша, что с ним? И Нинурки давно что-то не видать. Не заболела ли?
Почта
На пороге стояла пожилая тетка в стеганке с большой сумкой на ремне. Почта давно не работала в городе, уличные почтовые ящики, заполненные до отказа, никто не выбирал, не разносили по домам даже срочные телеграммы.
Люди теперь просто отвыкли писать и читать письма.
— Есть кто из Савичевых? — деликатно спросила тетка-почтальон. Конечно же, почтальон, по сумке видно.
— Есть, — тоже не сразу открываясь, сказала Таня.
Тетка вытащила из сумки несколько конвертов, проверила адреса, дополнительно уточнила:
— А Савичева Таня есть?
Таня почему-то боялась, что все письма на бабушкино имя. До войны ей часто писала племянница, родная сестра тети Дуси, но по фамилии мужа — Крутоус. Он был кадровым военным, они переезжали с места на место, жили в гарнизонах. Перед войной тетя Оля Крутоус с сыном были в Ленинграде, останавливались у них, Савичевых. Мальчика привозили на консультацию к врачам-профессорам. Он чем-то сильно болел.
— Савичева, Таня есть? — вторично спросила почтальонша.
— Это я.
— Ты? — усомнилась тетка, а потом вдруг заулыбалась. Кости на скулах обозначились резче и синие губы чуть растянулись. — Не узнаешь меня?
До войны на этом участке работала другая женщина. Краснощекая, говорливая, с электрической завивкой и особой приметой: бородавка на самом кончике носа. Такую и в блокаду опознаешь.
Таня вяло качнула головой. Нет, этой почтальонши прежде не видела, не встречала.
— Постарела, да? — грустно улыбнулась незнакомка. — Ты в третьем классе училась, а меня вожатой к вам назначили.
— Лена-а… — все равно не узнала, но вспомнила имя Таня.
— Она самая. Да, здорово мы с тобой изменились, что заново приходится знакомиться. Вот, поручение выполняю, письмоносцем стала. Приказано восстановить почтовую службу. Теперь и ящики будут очищать ежедневно, так что можешь ответы писать. Держи корреспонденцию, — и отдала все пять писем.
До войны Лена закончила девять классов, надо бы выяснить, что слышно о школе, будут ли занятия, но пока Таня собиралась с мыслями, Лена ушла.
Все письма от Сережи. Он жил в городе с австралийским названием и очень скучал по Ленинграду. В каждом из писем спрашивал: «Как там у нас, на Васильевском, что у тебя нового?»
Мама, увидев на столе распечатанные конверты, даже за сердце схватилась:
— От Миши?!
— Нет, — разочаровала и еще больше расстроила ее Таня. — От Сережи, он в Кенгуру живет.
— Кунгуре, — поправила мама. Она перебрала все конверты, перечитала обратный адрес: вдруг хоть одно не с Урала…
Шанс
По ледовой дороге уже вывезли десятки тысяч, но в городе еще больше полумиллиона детей, женщин, больных, раненых, инвалидов. Надо было срочно спасать их.
Для эвакуации по Дороге жизни прибыла из Москвы специальная автоколонна, сорок автобусов, оборудованных печками, загруженных консервами, шоколадом, концентратами, другими продуктами питания. На станции Жихарево организовали приемный пункт с медчастью, столовой, палаточным жильем. Вырванных из блокады людей еще надо подготовить к дальнему путешествию по железной дороге. Обогреть, накормить, подлечить хоть чуток.
На всем пути до мест назначения создавались продпункты и санпосты для ленинградцев. В январе и феврале было эвакуировано почти сто тридцать тысяч! Всего сто тридцать тысяч почти…
* * *
— Подумай, Мария, крепко подумай. — Дядя Леша громко отхлебнул из кружки, заглотнул — будто не горячую воду, а большую пилюлю. — Тут нельзя ворон ловить. Последний, быть может, шанс. Верно, Вася?
— Точно, — подтвердил дядя Вася. Он тоже сидел за столом, но от чая отказался: — Без того раздуло, ноги в коленках не сгибаются.
Его водянистая полнота и в самом деле становилась пугающей.
— Сейчас — как? — продолжал усиленную агитацию дядя Леша. — Сейчас поезда и автомобили, а сойдет лед? Только баржи, катера. Представляете? А тут — от Финляндского вокзала до Ладоги поездом. Переехали озеро — и опять — пожалуйста — в вагон. Так что, Мария, подумай.
— Думала-передумала сто раз уже, — ответила мама, — не дано нам уезжать. Как же Лека и Нина без меня? И вдруг Миша объявится?
Таня как-то спросила: «Мама, а кого ты из нас больше всех любишь?» Мама улыбнулась спокойно, иголку подала: «Уколи вот все пять пальцев на руке. Какому из них больнее всего будет?» Таня, конечно, не стала колоть, сказала: «Одинаково, наверное». Тогда мама и произнесла запомнившиеся слова: «Все вы одинаковы для меня. И боль, и радость, и любовь к вам — всем поровну».
— Нет, не дано, — уже окончательно решила мама. — Будь, что будет, с судьбой не разминуться. Вот вы-то, бобыли, почему сидите?
— Нам никак нельзя, — одышливо сказал дядя Вася.
— О нас и разговору быть не может, — примкнул брат. — И кому мы нужны на Большой земле? Не работники — едоки.
— Еще чаю? — спросила мама, намеренно меняя тему разговора.
Дядя Вася безотрадно пробормотал:
— Чай да сахары.
От этой коротенькой пригласительной фразы повеяло старомодным уютом, медно-зеркальным самоваром, чайными угощениями.
Какую же удивительную силу имеют простые слова — воскрешать осязаемо и зримо исчезнувшие реалии жизни.
— А что, не такая это несбыточность, — дядя Леша возразил не словам о чаях-сахарах, а безнадежности, с какими произнесены были. — Андреенко разрешил объявить продажу шоколада, какао и по четверти литра осветительного керосина.
Савичевы могли рассчитывать на какао-порошок, по двадцать пять граммов на едока.
Шоколад предназначался только рабочим и детям.
— Это он ко Дню Красной Армии, — истолковал извещение Андреенко дядя Вася, а мама уточнила со вздохом:
— Разрешено объявить, когда давать будут — неизвестно.
Разговор об эвакуации на другие разные темы, как обычно, все равно свелся к продовольственным делам.
— А еще клюкву обещали, — вспомнила Таня. Клюква полагалась не только рабочим и детям, даже иждивенцам.
Обстрел
На заснеженной, в сугробах и торосах улице длинная густая вереница людей кажется черным разводьем на зимней реке. Людское дыхание — будто через трещину вода парит.
До открытия магазина еще около часа, пять с минутами утра. Серая темень и обманчивая тишина. Чей-то натужный кашель, сдержанный стон, краткий приглушенный говор.
— Так мясо или мясопродукты? — допытывался у очереди сиплый, простуженный, некогда, наверное, сочный и красивый голос.
— Что подвезут, — отвечает старуха. Или вовсе не старая женщина, в темноте не разглядеть лица.
Третий, не определить, мужчина ли, женщина: поверх шапки с подвязанными наушниками, по-деревенски, накрест вокруг впалой груди, клетчатый платок с бахромой, — третий вносит смуту:
— Андреенко только разрешил объявить про крупы и мясо с мясопродуктами, а когда продавать начнут — тайна, военный секрет.
Сразу несколько человек оспорили:
— Какой же это военный секрет!
Обвальным громом взорвался снаряд. Неподалеку где-то. С деревьев осыпался иней, взвякнули оконные стекла.
— На Пятой линии, — определила старуха.
Никто не возразил, не поддержал. Никто не покинул очередь. Улицы длинные, дома, в большинстве своем, впритык, кто знает точно, где ударило. Отсюда не видно, а бегать выяснять — очереди лишиться.
Куда угодит артиллерийская смерть — не угадать, не предвидеть, а карточки не отоварить — гибель верная, неминуемая.
Люди затаились в ожидании. Ударит еще раз-другой, объявят тревогу, расходись по укрытиям. Новые правила на время воздушных тревог и обстрелов расклеены по всему городу. За неисполнение мер безопасности — штраф, а то и лишение свободы.
Еще громыхнуло, но уже далеко, за Невой, в другом районе.
— А крупы какие? — опять возник простуженный человек.
Никто не ответит ему, он и сам знает, но не говорить о съестном не может.
Голодно-холодно
— Не звонили? — едва войдя с мороза, спросила мама. Каждый раз забывает, что телефон давным-давно отключен.
— Нет, мама.
— Куда Нина подевалась?..
Нине и трамваем больше часа добираться с завода, а пешком… Сколько их, бедолаг, из одного пункта вышли, как в школьных задачках испокон века писали, и сколько ныне, в блокаду, в другой пункт не дошли…
— Знать бы только, что жива, здорова.
— Да, мама.
— Витамин свой выпила? Нет? — Мама хотела придать голосу строгость, но лицо дочери такое усохшее, землистое, цвета блокадного хлеба, рот бескровный, из глубокого провала меркло поблескивают серые глаза. Сердце матери стиснула боль и жалость. Сказала ласково: — Надо, доча. Кроме хвойного настоя, ничего у нас от цинги нету.
Таня послушно взяла чашку с лесным запахом и отвратительным вкусом, а мама подбадривает:
— Нам еще ох как зубы нужны. Смотри, сколько мяса принесла. Две месячных пайки, почти что целый фунт. И макароны. Такой суп будет! Лучку бы, капустки, моркови… Но и без этого и того сытный супчик получится. Факт.
Она отделила маленький мясной довесок, зато макарон наломала полную пригоршню, на три дня ведь супчик.
От мясного духа защекотало в носу, вязкая слюна заполнила рот, а в глубине живота, в сморщенном желудке закорчился голод.
«Голодно-холодно», — думала Таня, не спуская глаз с кастрюли на плите.
— Что ты сказала, доча?
— Нет, мама.
— Что — нет?
— Не сказала. Думала.
— Про что, если не секрет?
— Голодно-холодно.
— Покушаешь и согреешься.
«Покушаешь» — так говорила бабушка, а она, Таня, маленькая, глупая, обижалась. Как было хорошо, когда была бабушка и когда еще жила Женя.
* * *
Они ели суп. С настоящим мясом и макаронами. И что-то мама добавила еще, для густоты. Ели с громадным куском хлеба, размером почти с недавнюю дневную пайку. А все мало, мало — никак не насытиться. Неужели никогда и во всей будущей жизни не удастся наесться вволю?
Дядя Леша принес замечательную новость: в детский дом на набережной Лейтенанта Шмидта и Н-ский госпиталь подана вода!
— Н-ский — это же который в бывшем Кадетском корпусе. Рядом совсем, верно? То-то и оно, скоро и у нас вода появится.
— На фронте, на фронте как? — спросила мама о главном.
— Наши войска продолжали вести активные боевые действия против немецко-фашистских войск.
Не такая уж замечательная память у дядя Леши, чтобы наизусть пересказывать газетные сводки. Просто в сводках — одно и то же.
— Конец февралю, — грея руки у остывшей печки, сказал дядя Леша. — Отлютовала зима. Март — уже весна.
— По календарю, — состорожничала мама. — А погода как ныне сложится, кто ведает?
— То-то и оно, — вынужден признать дядя Леша. — Опять же другая проблема, с Дорогой жизни. На ладожском льду держится.
— Лучше уж в холоде, чем в голоде, — молитвенно сказала мама. — Это факт.
Таню сморило, засыпая, забормотала сонно:
— Голодно-холодно, голодно-холодно, голо…
Глава седьмая. Ленинградская симфония
Вчера еще казалось, что город вымер, вымерз, остатки жителей безвыходно сидят в заводских цехах или стоят в бесконечных очередях.
В воскресенье 8 марта могло показаться, что весь довоенный Ленинград на улицах, проспектах, во дворах, на площадях и набережных.
Город и до войны прихорашивался к праздничным дням — «перышки чистил».
В 42-м, в преддверии весны, надо б
