Читать онлайн Когда ты устанешь от жизни бесплатно
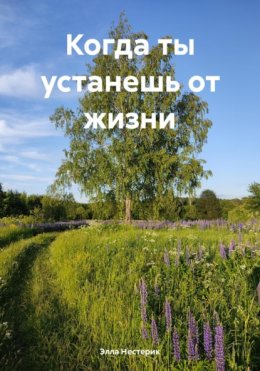
Глава 1. Билет и приглашение не требуются
У вчерашних событий, оставивших неизгладимость в душе, есть одно неприятное свойство – бесцеремонно, без всякого предупреждения врываться в сегодняшний день, заполнять всё пространство сегодня собой, вырывая тебя из контекста, и больше того, каким-то неясным манером проскальзывать в будущее и в нём, ещё не наступившем, оставлять свой корëжащий след. Неправду говорят, что прошлое – это то, чего уже больше нет, что уже никогда не вернётся. В философии, разве что, это работает, а в жизни живой, увы, нет.
***
Я стою на склоне горы, утопающей в зрелом уже можжевельнике с голубо-зеленым горошком, облепившим обильно лапастые ветви, словно бы новогоднее убранство. В воздухе сентябрь, но не привычный мне, южный, с палящим солнцем над головой и бескрайнею гладью морской, раскинувшейся слепящими переливами, кажется, прямо у ног. Лучшего вида душа не могла пожелать. Где-то в сторонке слышен негромкий ручей, шустрящий меж скальных камней. Птички, привычные к зною, бодро переговариваются в тени можжевеловой рощи. Время от времени разгоряченное подъëмом на гору тело обдувает лëгонький ветерок. Хорошо. Первое полноценное утро в Крыму, а красОты его, кажется, уже оправдали все самые смелые ожидания и пролили на душу целую кучу бальзамов самого благодатного свойства. Рай.
И пока эта бездна внизу не поглотила меня окончательно, заставив забыть обо всём, я решаю подняться ещё чуть повыше, чтобы понять, куда собственно и как далеко ведёт эта новая ещё тропинка для меня.
***
Надо же, как тяжело. Словно я не дама, чуть перемахнувшая за бальзаковский возраст, а старуха Изергиль, ей богу. Всего-то на третий этаж надо подняться, ерунда-то какая, а каждый шаг при этом отдаётся дикой болью в ступнях, и через каждые три-четыре ступеньки я попросту задыхаюсь. Наконец, мне удаётся забраться наверх. Я захожу на кафедру, здороваюсь с заведующей и лаборанткой и дотаскиваю себя до рабочего места. И что же, так будет всегда?
Я могла бы не ходить на работу каждый день, или хотя бы каждую неделю, ну или каждый месяц: после убойных лучевой и химиотерапии в онкодиспансере, отнявших у меня практически весь летний отпуск (а это почти что два месяца), мне полагался больничный длиною аж в четыре месяца, чтобы прийти в себя. И я на нём была, но почему-то с каким-то необъяснимым упорством продолжала ходить на работу даже тогда, когда там ничего для меня особого не было.
А ничего особо и не было. Нагрузку мне распределили так, что самая трудоёмкая и требующая моего присутствия в аудитории её часть, была во втором полугодии. В первом же я могла откровенно бездельничать и откровенно отсутствовать с учëтом моих обстоятельств. Но не хотела. Неожиданно всё, что когда-то меня совершенно выбешивало в отношении руководства к подчинённым, в непочатой "бумажной" работе, в бесконечных "ещё вчера было надо" заданиях, сыпавшихся на "безотказные" преподавательские головы от вышестоящих всевозможных мастей, стало мне как-то неважно, не критично, не драматично и т.д. Я просто хотела быть среди людей. Я боялась остаться один на один с тем, что уже изменило мою жизнь навсегда, с тем, что способно её отменить. В тот период мне, как никогда, было важно ощущать себя на плаву.
***
Мне нравится быть в воде. Взрослые показали мне, как нужно ложиться на воду, как двигать руками-ногами, чтобы поплыть, но у меня всё ещё не выходит. Я пытаюсь и пытаюсь, и в какие-то мгновения у меня как будто получается, но потом я теряю контроль и начинаю стремительно погружаться. Неужели я опять не научусь? А ведь я уже не маленькая, третий класс позади, вон какие маленькие плавают и не боятся.
Тётя с братом двоюродным, что младше меня на три года, разложили пикник на песке. Я бегу к ним и сразу хватаюсь за сало: бултыханья в воде отнимают немало энергии. Очень вкусное сало, копчёное, просто божественный вкус. Его можно попробовать только у тёти. Ей его присылают аж из деревни в России, откуда она приехала в Караганду и вышла здесь замуж за дядю, родного брата мамы. Я нахваливаю каждый кусочек, тëте приятно. Быстро насытившись, я снова убегаю в воду. У меня цель – научиться держать себя на воде.
Снова я пытаюсь и пытаюсь, и в какой-то момент, задержавшись слегка на воде, начинаю опять уходить под неë и опять, чтобы не с головой, стараюсь скорей встать на ноги. Но, о, ужас, под ними нет дна, и я ухожу в этот раз с головой.
Я не знаю, как вышло, что я начинаю тонуть. То ли дно резко оборвалось в этом месте, то ли я, оказавшись вся целиком под водой, сильно запаниковала. Но ко мне, к той девчонке, вдруг приходит отчётливо совершенно очень взрослое осознание – что-то очень ужасное происходит сейчас, что-то непоправимое и невосполнимое – я сейчас умираю.
Я вижу, как пузыри воздуха фонтаном выплескиваются из меня, что мочи двигаю руками и ногами. Мне удаётся всплыть на долю секунды, хватнуть немного воздуха, и снова будто что-то утаскивает меня вниз. Опять я вижу пузыри драгоценного воздуха, стремительно покидающие меня, опять пытаюсь всплыть, что сил шевеля руками-ногами. И так не меньше трёх раз, когда замечаю мужчину невдалеке, он стоит в воде и смотрит в другую сторону. Другие отдыхающие, коих было достаточно и в воде и на берегу, тоже не видят разворачивающейся у них под носом драмы. Никто не обращает на меня внимания. И всё же что-то толкает меня выкинуть из воды правую руку, когда я всплываю в последний отчаянный раз перед тем, как, очень возможно, уже насовсем опуститься на дно.
Мне везёт, мужчина в этот момент поворачивается и, заметив руку, стремглав бросается к ней. Я спасена. Говорю ему чуть слышное "спасибо", говорю, что не одна здесь и бреду, чуть живая, на берег к тёте и брату.
Всю дорогу домой, а она очень длинная, аж на двух автобусах добирались, я в себе и упорно молчу. Тëтя рада, что всё обошлось, и я знаю, что больше вот так мы купаться уже не поедем, но не это волнует меня. Со мной что-то случилось в воде, я как будто там выросла, повзрослела. Я как будто бы знаю теперь, что бывает, когда умирают. Словно я там почти побывала, там, откуда уже не вернуться. Словно тот человек, мой спаситель, что схватил меня за руку, выдернул меня не из воды, а уже с того света.
***
Я не то чтобы очень боюсь темноту, но мне в ней неуютно. Я иду к выключателю, (Интересно, почему это устройство называют именно так, почему не включатель? Получается, выключать электричество для нас вроде важнее, чем им собственно пользоваться? Получается, уже в самом названии кроется призыв к экономии электроэнергии? Эдакий прагматичный момент. Сорри за оффтоп) , жму его, но ничего не происходит, свет не загорается. Я жму ещё несколько раз, ничего. Иду в другую комнату в надежде, что там всё сработает. Ничего, света по-прежнему нет. Выключатели сломаны, или проблема в другом? Тут откуда-то появляется муж, он – электрик, я прошу его починить электричество, но он почему-то не может. Тогда я говорю, что к нам сейчас влезут грабители, но и это его не особо волнует. Он пойдёт, мол, и договорится. У меня почти паника – света нет, тьма кромешная, внутри и снаружи, и я чувствую в ужасе, как к нашему дому подбираются в темноте незваные гости. Паника нарастает, я практически ору на мужа, надеясь так пробиться сквозь его совершенно неуместное теперь олимпийское спокойствие… Тьху ты господи, это был сон?
Глава 2. Посторонние здесь не бывают, или не спеши оказаться последним
Я опускаю ноги с постели и смотрю в окно. Утреннее приветное солнце щедро изливает себя сквозь стекло. Его здесь в это время всегда много, квартира высоко, на пятом этаже, и солнечная сторона.
Я неспешно встаю и направляюсь в уборную, но, выйдя из спальни, останавливаюсь как вкопанная и медленно холодею. Через весь зал идут угольно чёрные следы до самой балконной двери, где стоят бабулины красные со стоптанными пятками тапочки. Всё это вкупе выглядит очень зловеще даже несмотря на солнечный свет, что заливает весь пол.
Я в недоумении. Зачем бабуля оставила тапочки у балкона? И почему от них такие следы? Или это была не бабуля? Но кто?
И словно ответ на все эти вопросы из коридора раздаётся сердитый голос бабули, которая, видимо, только пришла и сразу, с порога, взялась выражать недовольство. Мол, где её тапки? И что это за чёрные следы по всему полу? Я что выходила в подъезд? Тогда почему не разулась, знаешь же, что там сажа повсюду?
Я медленно соображаю, что в этом странном происшествии с тапками-следами она винит меня. И начинаю оправдываться, мол, это не я, я спала и никуда не ходила. И это не ложь, я действительно ничего за собой такого не помню.
Бабуля не верит мне, но более не ворчит и принимается за уборку. Я же, ребёнок дошкольного возраста, довольно скоро прихожу в себя и погружаюсь в очередной пока ещё беспечный день.
Чуть позже бабуля приносит разгадку чёрных следов – соседи со второго этажа, где живёт моя подруга, доложили. Я, мол, в ночнушке и тапочках стучалась к ним рано поутру, спросила, не у них ли бабуля и, получив удивлённое "нет", спокойно пошаркала (тапочки-то велики) вверх. Дальше было, скорей всего, так. На четвёртом и пятом этажах подошвами я собрала сажу от пожара в подъезде на днях (еë ещё не успели убрать, очень сильно горело, выгорел весь щиток, думали, что в квартиры проникнет огонь, обошлось). Зайдя в квартиру (надо же, дверь не захлопнула, или взяла с собой ключ?), я прошлепала грязными тапками аж до балконной двери, упёрлась в неё, может, стукнулась даже, сняла злополучные тапки и спокойно отправилась досыпать. Но тогда почему я не помню ни зги? Заспала? Или даже и не просыпалась? Я опять ходила во сне???
***
Я люблю ходить в степь. Слава богу у меня для этого есть веская причина – погулять с собакой. Иначе молодая да хоть и не очень уже женщина, шастающая в одиночку по степям, выглядела бы как минимум подозрительно. К тому же алиби нужно для мужа, ему не нравится, что я бываю в одиночку там, где вполне могу стать жертвой какого-нибудь алконавта-нарика-маньяка-зека, по отдельности или всё вместе. А так, я с собакой, чего мне бояться? Разумеется, в этом тревожном мире, бояться всегда чего есть, но, ежели перефразировать известную пословицу, маньяка бояться – в степь не ходить. А мне это вряд ли подходит. Да и потом, где ещё можно так вольготно погулять любимицу?
Благо, во всех трёх местах в Майкудуке, где мне довелось обитать, степь была в шаговой доступности. В двух из них она начиналась за линией, то есть нужно было перейти железнодорожные пути, чтобы оказаться собственно в степи и на природе. И там же к вполне себе живописности прилагались камышовые болотца разной протяженности и глубины. И бонусом повдоль маршрута то слева, то справа, в зависимости от направления, тянулась с изрядным изгибом второстепенная железнодорожная ветка, по которой нечасто пускали, как правило, бесконечный состав, который мы с мужем, когда нам случалось ходить туда вместе, называли "змея".
– Смотри, вон товарняк.
– Фигасе он длинный.
– Похоже конец вон уже.
– Не, не конец, ещё едет.
– Ничо се, это сколько же в нём вагонов?
– Дофига.
Мы доходим до места, где ветка даёт крутой поворот. Конца составу всё ещё не видно. Я удивляюсь тому, как эта жёсткая конструкция изящно вписывается в такой внушительный изгиб. Мне нравится это размеренное "тудук-тудук" по рельсам. Оно мне чем-то отдаёт всегда, чем-то знакомым. Возможно стуком сердца?
Однако, как я уже говорила, чаще всего я бываю здесь в одиночку с собакой, и больше всего мне запомнится последняя моя степь. Последняя в моем проживании в Казахстане, последняя, которой я доверяла свои боли-печали и радости, последняя, что мочила меня неожиданным летним дождём и палила неизбежным, без шанса хоть где-нибудь спрятаться, солнцем. Последняя и потому особенно памятная.
***
И последние будут первыми. Сколько раз мне приходилось слышать эту фразу. Сотни, наверное. Но впервые так, чтобы запала в сердце и заставила задуматься, я услышала её в церкви. Католической. Так случилось, что крещеная в Православии, познавать премудрости религий и читать Священное Писание начала я в католической духовной семинарии, где на договорной основе обучала будущих священников аглицкому языку. Уж больно нравится мне этот устаревший вариант "английского". Не помню, где впервые услыхала это слово, но твёрдо помню, что связалось как-то сразу с "ангельским" оно в моëм мозгу. Да только на ангела даже в те, молодые-наивные времена, я уже далеко не тянула.
Ну так что там с последними?
Смысл церковно-теологический был мне понятен вполне, потому как в моём совсем недавнем советском прошлом (закончила среднюю школу я в 90-м, аккурат до развала СССР), "кто был никем, тот станет всем" из популярного пролетарского гимна не только было на слуху повсеместно, но и стабильно находило применение, самое что ни на есть практическое, все семьдесят лет с небольшим до окончания этого прошлого.
По крайней мере, так нам всем казалось. Другое дело, что всего на всех, кто был никто, видимо, всё ж не хватало, иначе бы вряд ли мы опрометью ломанулись бы за загнивающей "морковиной", услужливо протянутой нам Западом, да за заплывшим жиром гипертрофированным америкозовским окорочком.
Но мне всегда казалось, что сказанное Сыном Божьим имело смысл не столько социально-богословский, сколько бытийный и психологический. Это я, разумеется, умничаю сейчас, но если по-честному, что именно кроется в этих словах, мне по сей день не особо понятно.
Вот взять хотя бы пресловутые очереди в СССР, коих я была частым стояльщиком. Подходишь к такой с хвоста и отчаянно спрашиваешь "Кто последний?", понимая уже, что сейчас этим самым последним этой жуткой "змеи", или, что ещё хуже, непонятного столпотворения, станешь ты и что ты же почти радостно крикнешь на тот же вопрос "Я последний!", лишь бы только не быть в безнадежном хвосте. Вот ты только что был последним, и вот уже нет.
А когда случится быть первым в очереди, так это удача неимоверная, всё равно что Фортуна тебе подмигнула. Как-то сразу становится жалко тех, кто следует за тобой, особенно дальше стоящих – им ещё ждать и ждать, а ты уже скоро ДОМОЙ.
А с другой стороны, что мне собственно в это "домой" торопиться? Что такого там меня ждёт? Какая великая радость? То, что есть у меня теперь батон "Докторской" на тормозок? Или что новые туфли назавтра напялю на шпильке на фабрику? И ничего, что там я сменю их на тапочки, кто-нибудь всё равно да приметит, пока буду цокать в цех от проходной. Это я не про себя, конечно. А про мам и пап. Им стоять в таких очередях случалось чаще.
Очередь сама по себе – это целое мероприятие с целой кучей эмоций. Расскажу про свои, подростковые-детские.
Нехотя приближаешься к столпотворению. Обречённо становишься в хвост. Начинаешь выглядывать с очень слабой надеждой куда-то вперёд на предмет продвижения очереди, не пошёл ли процесс. Параллельно выслушиваешь агрессивные или ехидные выяснения на предмет кто за кем. В ужасе озираешься, когда кто-то вдруг усомнится в твоём праве на нахождение тут либо въедливым "ты за кем занимала? ", либо резким и подозрительным "я что-то не помню тебя". Изумлённо шарахаешься от рискнувших нагло пробить себе путь прямо к цели локтями и грубыми огрызаниями, они, мол, тут занимали уже. Очень хочешь уйти, хотя б ненадолго, просто воздуху глотнуть свежего, но понимаешь, что по возвращении можешь быть не узнанной никем, или тебе очень мало обрадуются, как никак на одного больше ждать. Переминаешься с ноги на ногу, ищешь на что б опереться, смотришь на старушек и не понимаешь, откуда берётся их стоицизм. Вслушиваешься невольно в диалоги знакомых, столкнувшихся в очереди, радуешься за кого-то чужого или сопереживаешь, в зависимости от содержания. Думаешь всякую ерунду и удивляешься, как одна мысль вытаскивают другую, казалось бы мало с ней связанную, как тянучка из думаний превращается в калейдоскоп, не всегда впрочем радужный, что на время как будто выдергивает тебя из реальности и утаскивает в воображаемый мир, пока чей-нибудь грубый окрик или тычок не впихнут тебя снова в ряды нервнождущих. Начинаешь завидовать тем, кто уже приобрёл долгожданное и направился восвояси. Ловишь шкурное в мыслях, мол, значит, очередь уменьшилась на пятерых человек. Лишь бы кто-нить ещё не прибавился, кто-то вечно спешащий и "раньше уже занимавший". Подползаешь вместе с другими ближе и ближе к заветному месту, где всё наконец-то сбывается. Здесь особенно жарко и в смысле температуры и в смысле накала страстей. Цепко держишься за своё место и пристально смотришь за задними, чтобы не проскочили вперёд. Ещё шаг, ещё два человека, ну и вот оно, счастье, хватай и скорее оттуда, прочь, на воздух, свободу, подальше, забыть и быстрей насладиться добытым.
Вот такою ценой мы становимся первыми. И зачем? Чтобы вновь оказаться в хвосте?
Прав, должно быть, индийский мудрец, сказавший, что все наши мечты непременно сбываются. Обязательно сбываются у всех однажды. Просто мы стоим за ними в очереди. Просто не всегда они сбываются именно как хочется. Просто зачастую мы стоим за тем, что нам не надо, чтобы быть как все. Просто кто-то в очереди очень предприимчивый может отодвинуть нас назад. Просто мы порой стоим настолько долго, что когда подходит наш черед, можем и не вспомнить, для чего мы тут.
Тот, кто в начале очереди жизни, то есть первый, часто бывает уже в конце жизни своей. Тот, кто в конце этой очереди, то есть последний, часто бывает в начале пути на Земле. Выходит, что начало очереди для первого в ней – это её же конец, он добрался, а для последнего конец этой очереди её же начало, ему ещё долго идти. Так что же лучше? Быть первым перед концом? Или последним в начале?
Глава 3. Всё однажды возвращается на старый круг, или Москва – отдельная тема
Жизнь в 100 км от Москвы оказалась весьма специфичной. Близость столицы и изнуренных урбанизацией москвичей делали своё дело. В маленьком городке, где нет своего МФЦ, и отсутствуют за ненадобностью светофоры, каждые выходные, а в дачный сезон каждый день, всё кишело людьми и машинами. Я молчу про ковидный период, когда, как казалось, добрая часть стольноградного населения натискалась во всевозможные дачи-котеджи-постройки, разбросанные по округе, заполонила собой все проезжие и пешеходные части и забила до отказа все солидные парковки – перед Рынком, Магнитами, Верными, Пятерочками и иже с ними, коих благодаря их же, москвичей то бишь, частым нашествиям развелось у нас до неприличия (местному населению явно столько не нать).
А пока же я здесь в качестве продавца собственных художеств, картин то бишь, которые называю шутливо "искусство из подворотни". Это новая для меня сфера. Нет, не рынок, в 90-е я помогала матери с продажей самошитных купальников, это был её бизнес. Новое – мои художества, и мне интересно, как далеко я могу зайти в этой сфере. Но сейчас не об этом. О моих наблюдениях.Местное население разительно отличается от "понаехавших" из нерезиновой. Это мои достоверные наблюдения, сделанные в многочасовые, многодневные и не первый год уже стояния у рыночных ворот в качестве, нет, не подумайте, не милостынипросителя. Хотя в самом начале этого моего предприятия один добрый прохожий именно так и подумал, приняв то, что я держала в руках, за иконку, полез в карман, зачерпнул там хорошую пригоршню мелочи и протянул мне. Я не сразу сообразила, что он имеет в виду, потому как он никак не комментировал свои действия, а когда дошло до меня, испытала весьма интересную смесь эмоций, от стыдливо-отчаянных, мол, ну вот, докатилась, до почти обнадеживающих – как минимум, если совсем уж припрëт, я могу рассчитывать здесь на подачку.
Среди местных мне особо примелькались несколько персон, которые в совокупности могли бы составить приблизительный коллективный портрет здешней конгломерации, ну, как минимум, почтенной или сторожильной её части.
Вот идёт пожилая женщина. Идёт, сильно шаркая по земле или снегу в зависимости от сезона, если холодно, то в калошах на тёплый носок, летом в старых пластиковых шлепках вроде кроксов. Левая рука неизменно на пояснице, в правой неизменно какой-нить пакетик, как правило, небольшой, с чем-нибудь незамысловатым внутри. Верхняя часть туловища Пизанской башней нависает над нижней. На голове неизменный платочек "Алëнка", либо просто волосы, собранные небрежной ватрушкой чуть ли не надо лбом. Заприметив знакомых, она им активно кивает. В целом же выглядит так, будто бы вышла на улицу быстренько выкинуть мусор, но потом вдруг решила, что ей необходим променад.
Вот идёт мужчина с трудноопределяемым возрастом. Ясно только, что уже немолодой. Он высоко поднимает колени и с пришлëпом ставит на землю ступню. Это явно серьёзный недуг. Мужчина высокий, размашистый, но какой-то безликий. Когда он так своеобразно вышагивает мимо, я ловлю себя на мысли, что он отнюдь не вызывает сострадания иль жалости, как могло ожидаться, должно быть, потому, что чувствует себя вполне комфортно в своём недуге. Он вызывает простой интерес – куда это ему понадобилось вдруг идти и собственно зачем?
А эта женщина кого-то сильно мне напоминает из прошлой моей жизни не в России. Еë бальзаковский возраст уже позади. Она всегда солидно одета, зимой в мехах, летом в лёгких достойных одеждах, всегда как будто куда-то спешит (очень возможно, что спешит на самом деле), всегда со всеми приветлива, кого знает, всегда улыбается всем, всегда на секунду-другую остановится у кого-нибудь из продавцов перекинуться парой-тройкой словечек, всегда очень быстро потом исчезает, оставляя загадочный шлейф за собой из чего-то лишь мельком подсмотренного, лишь краешком уха уловленного, лишь легонько дотронувшегося до твоих потаённых глубин.
Эта женщина тоже немолода и тоже всегда обращает внимание на себя хорошей одеждой. Но, в отличие от предыдущей, она одевается дорого-модно. Всё как будто бы по последнему писку. Женщина высока, стройна, ходит павой почти и… всё время трясёт головой. У неё какой-то недуг, что-то с нервами, как думается на первый взгляд. Она тщательно и неспешно осматривает то, что предлагается на прилавках, и, видимо, не найдя ничего подходящего, так же тщательно и неспешно отходит. У меня очень много не сходится, когда я смотрю на неё. Еë вид отдаëтся мне одновременно почтенной графиней и чудачкой, практически выжившей из ума.
Вот ещё один мужской персонаж. С сильно синим лицом, сгорбленной спиной, согнутыми коленями и весьма любопытной походкой, словно он решил присесть на унитаз, но тут же передумал и пошел вперёд.
Он всегда и всё ненавидит, кроме Гитлера, кажется, потому как однажды он так залихватски зиганул, что я, наверное, была бы сильно в шоке, если б в какую-то из предыдущих встреч он не предложил мне написать икону с этим душегубом, мол, это именно благодаря ему Россия хоть немного поднялась.
От него всегда разит спиртным и сквернословием, и он спец по собиранию банок из-под пива. Но, однако же, надо признать, что товарищ весьма креативный. Оказалось, что мы с ним живем в близлежащих домах, и поэтому нет-нет да встретимся. Поначалу я с ним здоровалась просто из вежливости, но потом, поняв, что ему сие не надо вобщем, стала с ним здороваться забавы ради – что же он ответит мне на этот раз.
– Доброе утро.
– Какое оно нах..р доброе?
– Здравствуйте!
– Чегоооо???
– Здрасте.
– Ага.
А однажды он снизошёл до целого разговора со мной, когда я увидела его везущим целых два мешка чего-то на тележке. Нетрудно было догадаться чего именно, но я полюбопытствовала всё же:
– Здравствуйте! Добычу везёте?
– Чегооо?
– Говорю, вон сколько банок насобирали.
– А, да.
– Неужели выгодное занятие?
– Смотря как собирать. Ходит тут одна дурочка, напихает в пакет целиком и довольная. Кто же так собирает, надо топтать их, тогда больше влезет. Дура, одним словом.
– Выходит, конкуренция имеется?
– Да какая конкуренция. Так, идиоты (крепче слово использовал на самом деле).
– И на что хватает?
– На всë хватает. На выпить и ещё на любовницу остаётся.
– Ого!
Я хохочу.
– Ну, будь здорова, боярыня, – вдруг говорит он, и это звучит как-то странно, по-доброму, даже по-родственному, и что ещё страннее я, почти не колеблясь, ответствую:
– И вам, батюшка, не хворать.
Мы расходимся, а у меня ощущение, что мы уже пересекались так когда-то, только не в этой жизни, какой-нибудь другой.
Сказать, что он идёт неспешной походкой, наверное, будет неверно. Он словно плывёт, точнее как бы проплывает, и вроде бы мимо тебя проплывает, но при этом есть чувство, что всё его внимание принадлежит тебе. Он как бы замедляет собой всё вокруг, и взгляд его словно бы в незначительном удивлении задерживается на тех, кто попадается ему на пути. В его движениях есть какая-то пантомимность, во взгляде смесь вопрошания с одобрением. Мол, смотри, я смотрю на тебя, и ты тоже смотришь и видишь, что я смотрю, как ты смотришь. Ну разве же это не глубокомысленный диалог? А то, как я несу себя мимо, разве не дань уважения тем, мимо кого я иду? И разве не честь для меня и для них вот так идти мимо друг друга? А, кстати, кто-нибудь в курсе вобще, куда мы тут все дружно идём?
Среди москвичей есть и вечно спешащие, и праздно бредущие, и малословные, и многоречивые, и высокомерные, и интеллигентные, и чуткие, и черствые, и много ещё какие. Однако печать, что на них, по которой они узнаются именно как москвичи, иная, чем та, что на местных.
Когда идёт местный, ты чувствуешь, он тутошний, свой, он отсюда, но нет ощущения, что он как-то владеет тем, что вокруг. Скорее, то, что вокруг, им владеет.
Когда идёт москвич, ты понимаешь, что это гость, почти иностранец, чужой, однако есть в нëм что-то едва уловимое, но четко читаемое при этом, что выдаёт в нём хозяина жизни, как то "вот это всё для меня и ради меня" или, что тоже нередко встречается, "я всë тут купил".
Глава 4. Заходи, поиграй
– Купите уже ребёнку пианино!
Продавщица в отделе с музыкальными инструментами горячо увещевает мою мать, застигнутую врасплох рассказом о том, как я каждый день туда прихожу, спрашиваю разрешения поиграть чуть-чуть на пианино, подхожу к одному, открываю крышку и пробую клавиши. Ведь играть я ещё не умею.
Я только перешла в четвёртый класс, а незадолго до этого мы были в гостях, где девочка моего возраста бойко играла на пианино "В траве сидел кузнечик" и чуточку научила меня. Что-то произошло со мной, когда я села за клавиши, и под моими пальцами они издали первый звук. Какая- то магия. Я заболела этим инструментом.
С того же дня я начала периодически канючить, чтобы мне разрешили ходить в музыкальный салон. О музыкальной школе речь не шла, её в нашем районе не было, обучение же в частном порядке было не только в пешей доступности, но и вполне по деньгам.
Мама, наконец, сдалась и отвела меня в такой салон. Там мне проверили наскоро слух и сказали, всё плохо, но если я всё же хочу заниматься, то обязательно нужно купить пианино.
Дома, по всей видимости, держали совет и решили, что покупку не потянут, да к тому же, если у меня не будет получаться (природного таланта-то нет, есть только желание, а что такое детское желание, сегодня хочу, завтра нет), то эта махина будет потом просто стоять, занимая солидный кусок и без того незавидной жилплощади. И в итоге мне вполне аргументировано отказали.
Но идея держала меня, я была ей почти одержима. Мне зачем-то очень срочно-важно-жизненно-необходимо было научиться играть на пианино.
Родители предложили гитару с условием, что не буду бренчать на ней, когда мне вздумается, и бесить тем самым соседей. Гитара у нас была, и салон, где могли обучить, был значительно ближе, чем тот, с пианино. Я пошла, и мне даже понравилось поначалу, но потом я так замучила и изранила свои тонкие пальцы, изо всех сил жавшие тугие струны, что решила бросить. И бросила.
И начала таскаться каждый практически день в магазин возле дома, где был большой отдел с музыкальными инструментами. Меня туда тянуло непреодолимо.
Продавщицы, их было две, оказались очень отзывчивыми и понимающими. Они не задавали мне вопросов, просто кивали (должно быть, сочувственно), завидев меня, мол, заходи, поиграй.
Мне просто нравилось быть там, быть рядом с этим чудесным инструментом. Я благоговейно открывала крышку, замирая всей собой, как будто в ожидании и предвкушении чего-то необыкновенного, как если бы сейчас должно случиться волшебство. И волшебство случалось, как только я касалась клавиши, затем другой, касалась осторожно, как если бы святыни, как только пианино начинало говорить со мной. Тогда я ещё не знала, как выразить это словами. Но знаю теперь – то было чувство гармонии.
Однако дома о своих походах в магазин я никому не докладывала. Мне отказали, поставили точку, я всё понимала. Моей мечте не суждено было сбыться, однако никто не мог запретить мне иметь свою тайну.
И вот всё раскрылось, случайно и неожиданно не только для мамы, но и для меня. Я просто пошла с ней в тот магазин, мы просто ходили по её любимым отделам с косметикой и одеждой, долго ходили, долго чего-то рассматривали. Мама ужасно любила ходить в магазин, а я ужасно не любила ходить туда с ней. Я заскучала и предложила зайти в инструменты, просто посмотреть. Она сперва отказывалась, но потом сдалась. Когда же ставшие уже родными мне продавщицы увидели меня в компании взрослого человека, то сразу набросились на неё с вопросами и откровениями.
Я помню, как она стояла там практически с открытым ртом, пристыженная и растерянная, невнятно оправдывалась и без конца смотрела на меня, а я была готова сквозь землю провалиться. Откуда же мне было знать, что Судьба в лице сердобольных тех продавщиц решит-таки вмешаться и заставить мою мать дать мне ещё один шанс. И мне его дали. По крайней мере, надежду на него.
Дома опять держали совет и решили, что поскребут по сусекам и купят мне пианино, даже примерно определились со временем. Надо ли говорить, что я считала часы? В отдел тот я больше не заходила, не позорила мать, да и зачем мне теперь, скоро мечта должна сбыться.
День тот настал, наконец. День, когда мне сказали, что завтра мы идём покупать пианино. Ночью я плохо спала от волнения, без конца просыпалась то ли от страха, то ли от радости, то ли всё вместе. Кое-как отучилась в школе в первую смену. Бегом полетела домой. Мать, как на грех, спала после ночной. А мне неймётся, нет сил уже ждать. А если она не проснётся до закрытия магазина? Она просыпается, к счастью, и мы, наконец-то, идём в магазин.
Сейчас, наконец, всë случится.
Однако случается то, что в отделе, где было всегда не менее трёх-четырëх пианино в наличии, есть только одно, и оно неисправно – часть клавиш в нем западает.
Всё те же продавщицы предлагают зайти через пару недель, мол, будет завоз, и мы, соглашаясь, уходим.
***
Пара недель. Не так и много, если подумать. Если подумать, ждала я значительно дольше. Однако у мамы моей с еë страстью к различным приобретениям деньги почти не залеживались, так что и эта кубышка практически сразу пошла на какое-то важное дело. Повторно же нужную сумму собрать так и не удалось. Всё предприятие это скоро спустили на тормозах. Я перегорела, смирилась. Наверное, это был вовсе не шанс от Судьбы, как мне думалось. Скорее всего, то была её злая насмешка.
Глава 5. А завтра была война
По-видимому, не судьба, говорю я себе с досадой, болью, горечью, отчаянием и бог знает ещё с каким негативом. С уходом сентября растаяла последняя надежда поехать-таки в Крым и снова окунуться истерзанной душой в его "бальзамы", как то море, необозримые просторы, горы, целительные тропы и памятники старины. Я так ждала этой встречи, так мечтала опять с ветерком пролететь по Керченскому мосту, заранее дав себе слово, что на этот раз ничего не буду снимать, буду просто смотреть. Но аргументы мужа неопровержимы и звучат почти как приговор. Слезы и скандалы не работают, он неумолим.
На дворе СВО. Уже несколько месяцев. Мы воюем с Украиной, она с нами. Люди потихоньку привыкают к военному языку, к сообщениям о терактах-прилëтах тут и там по границе и кое-где даже в глубь. Сводки с фронта становятся неотъемлемой частью каждодневного быта. Шок от объявленной мобилизации (думаю, что для многих, особенно женщин, её объявление стало шоком, словно бы все мы вдруг оказались в каком-то сюрреализме и словили хорошее дежавю – неужели всё это действительно происходит, как когда-то тогда?) постепенно проходит, и народ всё активней вступает в ряды добровольцев. Во всю мощь начинают работать фонды поддержки участников СВО, и поддержка идёт полным ходом.
И посредь всего этого я с этим странным и непреодолимым желанием – вот сейчас, именно в эту лихую годину поехать туда, где вполне себе может стать весьма горячо в связи с близостью к фронту.
Фронт, война, двухсотые, прилëты. Кто бы мог подумать, что мы снова окажемся в этом и опять будем биться с тем же злом, что такой непомерной ценой победили когда-то – фашизмом?
***
– Мне сегодня снился странный сон, – говорю я свекрови за завтраком.
– Дааа?, – изображает она интерес, а сама явно думает что-то своё. Это еë стандартный стиль общения, к которому я ни в какую не могу привыкнуть.
Однако мне хочется поделиться хоть с кем-то. Сон и вправду совсем необычный, и я чувствую, есть в нëм послание для меня, но какое никак не пойму.
Я знаю, что вскорости всё прояснится, как было со многими прежними такими посланиями. Да хоть бы с последним, где я, зрелая дама с кучей дипломов-регалий подхожу к какому-то окошку и спрашиваю сидящую в нём женщину, могу ли я получить ещё и медицинский диплом, мол, не поздно ли для меня. И когда она отвечает мне положительно, я просыпаюсь. Это было осенью 2019-го. А в феврале 20-го на нас обрушился ковид.
Бывает, что рассказав такой сон, я что-нибудь вдруг понимаю, но чаще всего понимаю постфактум. И всё же я начинаю рассказывать:
– Будто я в каком-то доме. Будто я там живу, но не одна. Дом деревенский, кровать, как раньше были, железная. В доме переполох, все спешат куда-то спрятаться или убежать. Я тоже начинаю суетиться, собирать какие-то вещи, хотя и не понимаю, что собственно происходит. Потом выбегаю на улицу, а там стоят двое в чёрной фашистской форме (я видела такую в фильмах про Великую Отечественную), мужчина и женщина, и с ними двое детей. Сердце моë обрывается. Я понимаю, что не успела сбежать, и что другого пути нет у меня, как только пройти мимо этих двоих. Но они преграждают мне путь. К чему бы это?
– Не знааааю, – протягивает свекровь, явно заинтригованная теперь.
Вечером того же дня я повторяю сон мужу и когда добираюсь до чёрной формы, он выдаëт – гестапо.
Это было в 2021-м, когда мы ещё вовсю пожинали последствия эпидемии. Возможно, будет новая волна? Да, будет, только с краткой "и" в этом слове.
Свекровь однажды, насмотревшись телевизора, вышла из своей комнаты и сокрушенно сказала: "Будет война". Я ей тогда не поверила и горячо возразила. Но она началась, в феврале 2022-го. А в апреле не стало свекрови.
***
Уже идёт октябрь, первые числа, но я всё ещё лелею очень слабую надежду уговорить-таки мужа отправиться в Крым. Ведь даже в это время там ещё полно чем любоваться, и можно много где ходить-бродить.
Где-то внутри меня не покидает это жгучее желание как бы доказать самой себе, что не всё ещё потеряно, что у нас есть ещё время и шанс на нормальную жизнь, есть возможность побыть в красоте и свободе, мы ещё себе можем позволить что-то такое рисковое и способны вполне ощутить этот дух приключения, которым успели проникнуться в предыдущих своих путешествиях, ощутить эту радость открытия и предвкушения, этот восторг новизны. И целое море свободы.
А потом приходит сообщение о взрыве на Крымском мосту. И точно, как в том странном сне, что я рассказывала свекрови, сердце моë обрывается, и я понимаю, "гестапо" мне не миновать. А ещё понимаю, что не за свободой-красотами я так рвалась в Крым. Мне просто хотелось сбежать. От суровой реальности. Снова.
Глава 6. Кто на новенького, или так закаляется сталь
Снова я в своей любимой Покровке. Мне 14, но я всё ещё наивный ребёнок. Это лето особенное, потому что я научаюсь ездить верхом, и мир со спины коня представляется мне будто новым, иным.
Мы с троюродной сестрой, уже довольно опытной наездницей, деловито разъезжаем по деревне. Она на коричнево-серой капризной кобыле, я на белом спокойном коне. Иногда мы пускаем наших коняшек байгой, как выражаются местные (полагаю, это что-то вроде рыси). На окраине же, где простора побольше, и нет риска кого-нибудь сбить, можем податься в галоп и совсем неожиданно для себя оказаться в каких-нибудь кушарах, то бишь зарослях.
Часто по вечерам мы едем в соседнюю с Покровкой Афанасьевку, но, в отличие от Покровки, практически обезлюженную и доживающую свой век с тремя оставшимися дворами, раскиданными на большом расстоянии друг от друга.
В одном из этих дворов живет новая пассия одного из моих многочисленных дядь, женщина слегка за тридцать с двумя детьми от первого брака, девочками пяти-семи лет. Мы любим к ним ездить. Оба маршрута туда, короткий через гору и длинный по наезженной дороге, соединяющей деревни, очень живописны. Коротким, правда, мы пользуемся лишь днём из опасения заблудиться, длинным же возвращаемся часто за полночь, засидевшись в гостях. Песочного цвета дорога хорошо различима во тьме, к тому же она здесь одна, не собьёшься. Есть, правда, нюанс – по обе её стороны примерно посреди отрезка, соединяющего две деревни, имеются целых два кладбища, казахское и русское, и фонарей, как вы понимаете, никто там не ставил. Поэтому, если случалось нам возвращаться после заката, мы припускали коней в этом месте и переходили на шаг, лишь когда обиталища покинувших жизнь афанасьевских и покровских оставались значительно позади.
Тёть Валя, как мы её называли, была симпатичная женщина с мягким характером и очень нелёгкой судьбой. С первым мужем она развелась, он был психопат-алкоголик и пытался её застрелить, за что теперь отбывал наказание в местах не столь отдалённых. Она очень вкусно готовила нам форель, которую дядя Ваня ловил в здешней горной речушке, Каначке. А рыбак он был хоть куда, причём во всех смыслах – как сказали бы взрослые, кобель, каких поискать. И тёть Вале сие было прекрасно известно, потому-то она очень долго не соглашалась на этот роман.
Как-то раз получился у нас настоящий девичник. Тёть Валя нажарила нам сковородку форели, налила чуток медовухи, хоть и было нам не положено. Очень скоро нам троим захорошело, и тёть Валя пустилась рассказывать о своей молодости, о том, какие там были у нее кавалеры, и как глупо она вышла замуж, и как по-другому совсем могла пойти её жизнь.
Мне было очень интересно. Я легко представляла её счастливой и беззаботной с кем-то любящим её беззаветно, ведь такие мягкие, добрые люди именно так и должны быть любимы, кто как не они. Но, с другой стороны, я не видела её без этих двух чудесных девчушек от мерзавца мужа, которых она обожала. Как же это все совместить? И получится ли у меня, когда придёт время?
Вскорости мы окажемся вместе на пасеке, где работал тогда дядя Ваня. На той самой пасеке в живописнейших горах, где ещё совсем ребёнком я однажды потеряла сандалетку, сидя на огромном камне над Каначкой. Я болтала ногами, и она соскочила, а стремительный водный поток закружил её и увлёк за собой. Интересно, куда её занесно тем потоком, и какая судьба у неё приключилась?
Ну, так вот. Сидим мы, значит, в крохотном домике, пьём чаёк с мёдом, болтаем. И тут к слову мне припоминается тёть Валин рассказ о её ухажерах, и я что-то совершенно невинно ляпаю по этому поводу. Далее идёт немая сцена. Я вижу, как меняется лицо тёть Вали, и медленно соображаю, что сделала что-то не то. Затем происходит какое-то шевеление в том месте, где сидит дядя Ваня. И тут он вдруг резко подскакивает к тёть Вале и бьёт её кулаком куда-то в плечо. Она глухо охает. Всё это выглядит настолько дико, что я практически сразу начинаю орать:
– Вы чё ненормальный! Зачем же так бить?
– Заткнись, а то и тебе щас двину.
– Попробуйте только, я всё дядь Володе скажу и тёть Алле. Разве можно так бить женщину? Что она такого сделала?
– Заткнись, говорю, щас схлопочешь.
Но я не заткнулась, а выдала ему хорошую тираду на предмет того, что я об этом думаю, тираду довольно солидную для 14-летней, которую вряд ли смогу теперь повторить.
И это я ещё не вспомнила те два раза, когда он пытался меня поцеловать, и на моё шокированное “вы чего это, вы же мой дядя” лишь ухмыльнулся в своей кобелиной манере. Я тогда никому не сказала об этом. А зря.
***
– Она нам ничего не рассказывает, – пытается оправдываться мать перед учительницей литературы, которая вызвала её в школу по поводу издевательств одноклассника надо мной.
– Вы знаете, это просто ужас какой-то, он мимо неё никогда не проходит, то стукнет по голове, то ткнёт куда-нибудь. И бесполезно ему говорить, – возбужденно рассказывает учительница, – на это просто уже невозможно смотреть. Давайте уже сделаем что-нибудь.
– Я знаю его отчима, они в соседнем доме живут, я с ним поговорю, – решает тут же мать.
– Поговорите обязательно, и мать надо вызвать, пусть классный руководитель вызовет мать. Это надо скорей прекратить. Вы же видели фильм “Чучело”? Вот так и он над ней издевается, а другие ему помогают. Не понимаю, за что они так, – продолжает сокрушаться учительница.
– Вы разрешите мне поговорить с классом? – вдруг предлагает мать.
– Да, конечно, проходите. Ребята, встаньте, пожалуйста.
Все встают, мать здоровается и представляется, по классу пробегает какая-то неловкость. Я уже прошла на свое место в среднем ряду и ближе к концу. Мой мучитель сидит прямо за мной через парту.
Мать после краткого предисловия делает интересный манёвр. Она просит меня подойти и встать перед классом. Мне от этого ещё больше не по себе, но я повинуюсь. И тут мать говорит:
– Посмотрите на неё, вы все её знаете. Скажите, что она вам сделала? За что вы её ненавидите?
В классе повисает странная тишина, лишь изредка слышатся единичные ёрзанья. Я испытываю жесточайшее чувство стыда, стоя вот так, будто это я во всем виновата перед теми, кто меня травит, а не наоборот. И поскольку желающих на ответ не находится, мать обращается к моей близкой подруге, мол, скажи, ты же рядом всегда, почему они так. Подруга выдает интересную версию, мол, я думаю, это потому, что она не умеет поставить себя. Интересную ещё и тем, что она один в один совпадает со словами матери “я думаю, ты просто не умеешь поставить себя”. Это был её ответ на мои первые и последние откровения по поводу травли. Это было три года назад, в первый мой год в новой школе. Третий класс, а сейчас уже пятый. Получается, что за все это время поставить себя мне так и не удалось, или, может, я просто не понимала, как это?
И тут поднимает руку девочка, которая была безоговорочной отличницей до моего появления в классе, и, к удивлению всех, говорит:
– А что она всегда всё знает? Её что ни спросят, она всё знает.
– Так ты, получается, завидуешь ей? – сразу находится мать.
Девочка не отвечает, только смотрит недружелюбно. От других инициативы, включая главного зачинщика и вдохновителя, мать так и не дождётся. Мои злоключения на этом, разумеется, не закончатся. Травить меня будут и впредь до тех пор, пока в классе не появится новенькая, да и то отстанут не сразу. Это будет уже шестой год моего пребывания в школе.
Я прошла длинный путь и жестокую школу, и мой ад давно позади, но я всё ещё не пониманию, зачем он собственно был. Разве было нельзя без него, разве той незначительной по сути оплошности с моей стороны (если можно её так назвать) оказалось достаточно, чтоб развернуть на мой счёт настоящую драму?
Я ведь только вошла в этот мир. Это были первые дни в новой школе, и меня поставили дежурить в коридоре. Дали мне пилотку с повязкой и велели останавливать всех тех, кто бегает. И я останавливала. Это было даже забавно. Большинство притормаживали, завидев дежурных, другие пытались лавировать, третьи убегали в другие коридоры, чтобы там резвиться. Вот ещё один бегун, я подаюсь вперёд, кричу “не бегай”, улыбаясь во всю ширь лица, и хватаю его за рукав. Он резко тормозит, резко разворачивается ко мне и без предупреждения наотмашь бьёт в плечо.
Я чуть не взвываю от боли. Мне много не надо, я хрупкая, кожа да кости, за что этот же персонаж прозовёт меня “бухенвальдский крепыш” (услышал же где-то и даже смысл понял, и даже запомнил!). С того самого дня мне не будет прохода. Тычки, пинки, плевки, а порой откровенные избиения. С этим успешно справляется самая хулиганистая часть класса, подначиваемая тем самым мальчишкой из коридора, что дал мне когда-то в плечо. Другая часть откровенно злорадствует и подогревает, мол, дай ей ещё. Остальные презрительно-снисходительно-равнодушны. И я до сих пор не уверена, что там был хоть кто-то, кому меня было по-человечески жаль.
***
– Неужели ей не жаль людей вокруг? Там ведь есть пенсионеры, у которых проблемы с давлением, дети есть. Так только фашисты издевались над людьми в войну. Натуральная садистка, – возмущаюсь я беспомощно бог знает в какой уже раз, понимая прекрасно, что говорю в пустоту, и что от этого ничего не измениться.
В соседнем с нами подъезде живёт отмороженная девица, у которой на горе целой куче народа есть сабвуферы, которые она врубает во всю мощность в любое время суток и долбит так часами нас “по голове”. Она здесь давно, и соседи давно-безуспешно с ней борются, ничего не выходит. “Ну, может, у вас что получится”, говорят они, подписывая коллективную жалобу в прокуратуру, последнюю нашу надежду, поскольку все предыдущие, включая письмо в администрацию Президента, имели лишь временный результат.
С ней просто провели профилактическую беседу, ни штрафа, ничего другого более внушительного. Она, мол, по закону имеет право с 6-ти до 23-х. А если сильно громко, надо вызывать аж из Владимира, чтобы замерили, но они сюда вряд ли поедут. И надо так подгадать, чтобы музыка играла, когда они приедут, и чтоб она открыла дверь, а это сложно. А ночью мы не можем зафиксировать факт нарушения без представителя местной администрации. Ну как мы будем будить администрацию ночью? И вообще, что вы хотите, чтобы мы сделали? И т.д. Отговорки, отписки, отписки исправные, правда, мол, рассматриваем и передаем дальше, и тишина. А нас по-прежнему долбят по голове.
Мы в этом доме новенькие, да ладно бы в доме, в стране. И чёрт меня дёрнул ей богу врюхаться в эту бескрайнюю и бесполезную катавасию под названием “да совершится справедливость, и пусть виновные будут наказаны”. Однако чем дальше я вовлекаюсь в этот процесс, тем очевидней становится, что он оборачивается всё сильнее против меня, что вся эта машина правосудия работает совсем не так, как ей положено. Она наказывает, перво-наперво, не тех, от кого должна защищать, а тех, кто посмел обратиться за помощью.
В 2023-м я получаю последнее письмо от правоохранительных органов, сообщающее о том, что что-то было предпринято по нашей проблеме. Но мне уже всё равно. Я не верю. И рада, что такие письма больше не будут приходить. Себе дороже.
2024-й. СВО полным ходом. На фронте совсем горячо. Гибнет массово враг. Гибнут наши солдаты. Мы призываем к разуму наших врагов-оппонентов. Они нас как будто не слышат и по-прежнему долбят Донецк. А отмороженная девица с сабвуферами по-прежнему долбит соседей по голове. И я по-прежнему не знаю, как всё это совместить.
Глава 7. Гудбай, Америка, или не судите по упаковке
У меня не сходится в голове. Я слушаю этих двоих, и у меня не сходится.
Две молодые американки попросились ко мне на урок, мол, им надо поговорить со студентами. Обычное дело, у разного рода таких волонтёров, особенно из прочно уже обосновавшегося в городе Корпуса мира, у нас на инязе карт-бланш. Студентам иняза категорически показано общение с носителями языка, к тому же многие из них посещают разговорный клуб, организованный этими леди.
Я уступаю им учительский стол и сажусь на заднюю парту. Должно быть, у них какое-то объявление.
Они начинают вещать, и я понимаю, они здесь совсем за другим.
Они здесь затем, чтобы объяснить через наших студентов, то бишь через тех, кто поймёт их наверняка и понесёт это дальше, почему их страна, величайшая, справедливейшая и сильнейшая, как они, безусловно, считали, вот прямо сейчас бомбит злостную, непокорную Югославию.
– Потому что так лучше для всех.
И я, и студенты растеряны, мы не знаем, как реагировать, и просто слушаем молча. Мы, разумеется, в курсе бомбёжек. Телевизор все смотрят. Но нам как-то странно, что кто-то живой, во плоти, с атакующей стороны, захотел прийти на факультет, далёкий от политики, и рассказать нам, зачем они разрушают чужую страну.
Тогда я ещё не особо вникала во все эти геополитики, и говорили они очень складно, вполне можно было принять это к сведению и забыть. Где Казахстан, а где Югославия. Где Югославия, а где США. Я – молодой препод, третий год в профессии. Зачем оно мне?Они виноваты, говорят эти американки, и мы просто вынуждены их наказать.
И вдруг, совершенно без предупреждения, во мне, глубоко изнутри начинает как будто бы что-то расти. И этому что-то в какой-то момент становится там нестерпимо тесно, оно подбирается прямо к горлу и начинает меня душить, как будто просится выйти наружу словами. И я говорю, мол, а как же люди, дети, старики. Их могут убить. Они, разумеется, понимают, и им очень жаль людей, стариков и детей, но это необходимая мера, иначе нельзя.
От этого пояснения теснота в груди становится ещё более ощутимой, горло перехватывает от захлестнувшей волны, нет, не возмущения, точнее, не только его.
Это то чувство, когда на твоих глазах творится какая-то дикая несправедливость, а ты не можешь никак воспрепятствовать ей. Когда пьяный отчим начинает душить мать на кровати длинным шарфом. Ты орëшь что есть сил, но ему всё равно, он тебя как будто не слышит. Мать начинает хрипеть. Ты бросаешься к входной двери, чтобы позвать на помощь. Он замечает тебя краем глаза и пускается за тобой. Его шаг – два моих. А ещё нужно как-то умудриться дрожащими пальцами отдернуть щеколду.
Я успеваю выскочить в подъезд до того, как он хватает меня за рукав. Он выбегает за мной, но в это же время открывается соседняя дверь, выходит соседка, она его бывший учитель, и окликает его. Он останавливается. Мы спасены.
***
Он не всегда был монстром, от которого можно было ждать что угодно. Только по пьянке. Однако в первые годы нашей совместной жизни пьянки с ним случались очень часто, чуть не каждый день.
Это благодаря ему на самом деле я в третьем классе заболела английским, когда он притащил кассеты с Бони М и слушал их на всю округу через крутые по тем временам колонки. Мне было очень интересно, о чëм их заводные песни, и я решила писать их на слух русскими буквами. Он мне объяснил, что так иностранный не учат, нужно с их букв начинать, а также показал свои школьные табели, где были сплошные пятёрки. Я, помню, тогда загорелась, захотела быть круглой отличницей и непременно освоить английский.
А однажды в нашем доме появился крутой по тем временам радиоприёмник. Отчим с матерью первое время не могли наиграться, всё крутили его, то одну станцию послушают, то другую. Станций было много, но однажды им удалось словить "Голос Америки". Это был настоящий переполох. Эту станцию в СССР глушили, а запретный плод всегда притягателен. Не припомню, что именно там говорили, но реакция домашних была сродни той, какую испытал бы искатель инопланетных цивилизаций, поймай он послание с их корабля.
Тогда, в эпоху железного занавеса, даже после того, как мы познали уже жвачку и джинсы, Америка оставалась для нас, по сути, инопланетной цивилизацией, и встреча с еë представителями казалась нам такой же недосягаемой, как встреча с обитателями какой-нибудь Кассиопеи.
***
Нас собирают в отдельную аудиторию, всё английское отделение, на встречу с американской семьёй, приехавшей в Караганду в рамках какой-то волонтёрской программы. Это ещё только первые "ласточки", и они нам в диковинку, впрочем, как и мы им.
На дворе 1993-й, я на первом курсе иняза. Американская семья пришла на факультет не в полном составе, только родители, дети были на уроках в одной из местных школ. Говорил в основном мужчина, рассказывал про то, как трудно им было по первой приспособиться к нашим реалиям, к тому, что у нас проблемы с горячей водой и электричеством, что мы едим много картошки и прочее в этом же духе.
Потом пошли вопросы от старшекурсников (точней, второкурсников, потому как они были первые на факультете из англичан, старше них никого), в основном про то, как оно, наверное, там у них всё по-другому. Кто-то из спрашивавших уже успел побывать в США по программе обмена, большинство же мечтали об этом. Мужчина не стал лукавить, сказал, мол, да, по-другому, но это не значит, что лучше. Многие хотят поехать в Америку и жить там, потому что судят по упаковке. Упаковка красивая, яркая, но внутри может быть совершенно не то, что вы ждёте. Одним словом, у нас, то бишь у них в их Америках, полно всяких разных проблем.
Мне понравился этот ответ, он показался мне искренним. И я даже рискнула задать свой вопрос, хоть и стеснялась ещё демонстрировать свой неокрепший английский. Что он любит читать, и какая у него любимая книга. Он сказал, что читают они очень мало, им особо-то некогда, но он знает русских писателей. Достоевский, к примеру.
Что ж, похоже, что парень был честным.
***
2011 год. Ничто не предвещавшее рабочее утро. На кафедру заходят две американки из Корпуса мира, тусившие весь этот год на факультете в качестве учителей-волонтёров. С трагическим видом они сообщают о том, что вынуждены покинуть наш факультет и нашу страну, потому как Корпус мира уходит из Казахстана. На наши недоумённые вопросы и взгляды, они говорят, что их соотечественников в нашей стране грабят, насилуют и убивают, и даже называют какие-то имена, с кем это произошло.
У меня нет ни капли сомнения – врут. Но врут как-то нагло, уверенно, и это немало пугает.
Спустя короткое время мы с их, то есть американцев, лёгкой подачи становимся страной-террористом.
И главное как же всё просто – просто пустили слушок.
***
Мне кажется, я уже наелась Америки, хоть ещё там и не была. Был один, правда, шанс укатить по программе туда, но сорвался. И зачем мне, когда их и здесь пруд пруди?
Начиная с 1994 года американцы буквально оккупировали Караганду, как, впрочем, и весь бывший теперь уже СССР, понатащив себя во всех ипостасях – политика, образование, религия, экономика, культура и прочее.
Они нас учили на курсах английского языка, в совместных с ними школах и университетах, знакомили с Богом (которого мы растеряли, чего уж, по собственной воле) в методистских церквях, помогали малоимущим, давали нам деньги взаймы без проблем, как отдельно, так и всему государству, растаскивали и покупали нас, а так же, как ходили слухи, ставили на нас эксперименты, обкатывая вирусы и прочую такую дрянь.
Как раз в самый разгар этой их оккупации по городу прокатилась странная эпидемия гриппа. Пережившие болезнь (и среди них ваша покорная слуга) рассказывали о суицидальных мыслях, что было для них нетипично.
Да много чего было нетипично. Мы теряли себя постепенно, своë прошлое, настоящее, будущее.
Как-то между занятиями на американских курсах, где я готовила студентов к TOEFL, чтоб, сдав его, они могли благополучно укатить в Америку и, очень может быть, там поселиться, я пересеклась в коридоре с коллегой-носителем. Он преподавал разговорный английский, в городе жил давно и даже был женат на местной женщине, тоже преподавателе.
Я поинтересовалась, как ему наши студенты, и получила неожиданный ответ – они, мол, всё тупее и тупее. И дальше будет только хуже. Зачем вы взяли американскую систему образования? У вас была своя прекрасная система. Взяли хотя бы французскую. Наша система никуда не годится, она слабая.
Я слушала и не верила своим ушам – американец критикует своë образование.
Тогда я ещё была полна иллюзий, не только касательно американцев. Я просто чаще верила людям, чем нет. Хотела верить, по крайней мере. Тогда я ещё не знала, что однажды наемся Макдональдса, что однажды, посмотрев очередной голливудский "шедевр" пойму, что они будто все под копирку. Так когда-то случилось с индийским кино, которое в детские годы я обожала. И однажды, узнав в новостях про очередной "пожар", который Америка учинила на планете Земля, я пойму, как мне повезло, что в своë время я не смогла уехать туда по обмену.
Мне станут слишком малы еë тëртые джинсы.
Глава 8. Новые одëжки, старые заплаты, или привет Диогену
Я всегда любила удобную одежду в стиле а-ля Повседневность. Но теперь мне хотелось иного, чего-то кардинально отличного от джинс, свитеров и даже брючных костюмов, которыми я сильно злоупотребляла одно время, пребывая в твёрдой уверенности, что юбок, идеально сидящих на моей нестандартной (как заметила одна горе-портниха, пришившая мне карманы на пиджаке один выше другого), просто не существует. Теперь мне хотелось быть леди, носить главным образом платья, удобные, но непременно стильные, и непременно с бижутерией.
Не знаю, как описать точнее эту возникшую вдруг во мне перемену. Отчаянным порывом? Дерзким вызовом? А, может, это тот короткий диалог в просторном холе отделения радиологии так во мне запечатлелся?
Со мной на диване перед телевизором оказалась женщина лет 60-ти. Мы ждали заведующую отделения, она самолично осматривала нас еженедельно на предмет эффективности применяемой к нам терапии. По телевизору шёл какой-то невообразимый турецкий сериал, напоминавший мне индийское кино из моего детства, и, глядя на то, как жутко переигрывают актёры, я мысленно возмущалась, кто вообще это может серьёзно смотреть. Когда же мы попытались пощëлкать пультом, то возмутились две почтенные апашки (бабульки), сидевшие на соседнем диване. Им, видимо, нравилось.
– Когда я выйду отсюда, – вдруг говорит моя соседка по дивану, – начну одеваться.
Я удивлëнно смотрю на неë:
– А до этого не одевались?
– Нет, я всë для детей и для внуков, всё для них жила, ничего себе не позволяла. Теперь буду жить для себя – начну одеваться, – твёрдо решает она.
Я одобрительно киваю, не вполне, правда, уверенная в том, что это как-то может помочь человеку справиться с серьёзным недугом. Да и потом, какой смысл догонять ушедшие поезда. Всë хорошо в своë время.
Тем не менее, выйдя из онкологии, не имея теперь вообще никаких гарантий на жизнь, я практически сразу начинаю тотально менять гардероб.
***
Мать вне себя от злости, и мне тоже не по себе. Я иду по территории фабрики так, словно пытаюсь спрятаться в себя саму, сделаться невидимкой. Мне кажется, все, кто встречается нам по пути, смотрят на меня с осуждением.
– Это же надо было так вырядиться, – шипит мать. – Посмотри на себя, ты похожа на попугая!
Я плохо помню теперь, что именно было жëлтым, красным, зелёным на мне. Возможно, жёлтые гольфы, зелёная юбка и красная кофта. Я пытаюсь оправдываться:
– Я не нашла другие гольфы.
– Не нашла она. Там этих гольф, каких хочешь. Ты что ли в зеркало не могла посмотреть?
Я смотрела, и мне понравилось то, что я видела в нëм. Мне казалось, что я очень здорово всë подобрала. А гольфы нужного цвета найти в нашем доме вообще была не проблема, ведь мать работала на Чулочке, как называли чулочно-носочную фабрику те, кто трудился на ней. Но я об этом молчу.
– Вот как я тебя через цех поведу? Что люди скажут? Позоришь меня только, – не унимается мать, распаляясь всё больше по мере того, как мы приближаемся к красильному цеху.
Дорогу до формировочного цеха, где работает мать, я знаю, как свои пять пальцев и даже знаю целых два маршрута. Второй через улицу, и мы вполне могли бы им воспользоваться во избежание лишних глаз. Но мать сегодня торопится, и мы срезаем, как обычно, через красильный цех, а это значит, нас будут вести глаза работниц целых двух цехов.
Я ещё больше вжимаюсь в себя, горя от стыда и досады, когда мы проходим красильный. Здесь очень шумно всегда от работающих центрифуг, и пахнет тухлыми яйцами. Я, как всегда, киваю направо и налево. Никто не пристает к нам с разговорами. Лифт только что ушëл наверх с тележкой крашеных изделий, и мы идëм по лестнице.
Когда высокая тяжеленная дверь закрывается следом за нами, становится невероятно тихо. На лестнице нам попадаются работницы, и мать меняет тактику, предваряя возможное их осуждение, вот, мол, вырядилась, как светофор, меня дома нет, так она как попало оделась. Работницы улыбаются и добродушно машут руками.
Мы снова попадаем в ещё больший шум, от формировочных машин. Здесь, чтобы услышать друг друга, надо буквально орать. Я снова киваю налево-направо, увиливая на ходу от поддонов с высушенным товаром, катающихся по периметру на подвесном конвейере.
На складе, куда мы, наконец, добираемся, и где мать работает бригадиром, она заводит ту же предваряющую песнь, что и на лестнице, мол, вот, гляньте, как нарядилась.
Я снова сникаю, хотя никому, кажется, нет особого дела. Мне хочется скорей убраться отсюда, уйти с глаз долой. И, к моему облегчению, мать практически сразу ведёт меня в душевую. Ведь именно за этим я сюда пришла – помыться, в квартирах наших пока ещё нет горячей воды.
Что ж самое время, я чувствую себя невероятно грязной… от стыда.
***
Мне больно и стыдно. Звонила только что жена отца и в грубой практически форме потребовала, чтоб я вернула деньги за вещи, которые купила в Белоруссии, мол, им они не будут лишними.
Это была еë, жены отца, идея отправить меня с ним и сводным братом дошкольного возраста в Белоруссию. Семь лет, как мать с отцом развелись. У него другая семья там двое сыновей. В моей жизни он появляется эпизодически, то пьяный, то трезвый. С женой его я не знакома. И тут вдруг она начинает названивать, приглашает меня погулять.
Выясняется, что у отца есть любовница, точнее была. Он не пил аж два года, как я понимаю, именно благодаря ей. Когда же супруги обоих прознали про связь, отец снова запил. Меня же позвали как бы помочь вернуть его снова в семью.
Не знаю теперь и не знала тогда, как именно я могла способствовать этому, но не посмела отказать отчаявшейся, как казалось, женщине. Я с детских лет была черезмерно отзывчивой, что зачастую потом вылезало мне боком.
Что ж, раз я велкам, то почему бы и нет. Я приезжаю в гости, и иногда меня оставляют с ночёвкой.
В какой-то момент у меня возникает иллюзия, что я как бы часть уже этой семьи, и у меня есть два брата. Мать начинает меня ревновать. А тут ещё эта неожиданная поездка на родину отца, в Белоруссию, где я уже жила, когда мне было три-четыре года, но мало что помню о том.
Довольно странная получилась компания – отец в абсолютной развязке относительно выпивки, ребёнок дошкольного возраста и подросток 14-ти лет (то бишь я). Жена отца не то чтобы мне безоговорочно доверяла, у неë просто не было выбора, и деньги, которые предназначались отцу на поездку, она вручила мне с напутствием выдавать их ему только при необходимости, иначе все сразу пропьëт. И снова я не смогла отказать.
Мать тоже наскребла мне чуток на дорогу, мол, если получится, купи какой-нибудь сувенир или что-то полезное.
Практически с первых же дней мои баба и дед по отцу и сам отец начинают трясти меня в плане денег. Откуда же мне было знать, что казну, доверенную мне женой отца, придëтся охранять не только от него, но от ещё двоих. Она меня об этом не предупреждала, хотя, конечно, знала, что так будет, ведь приезжала с ним сюда не раз.
Я как сейчас отчётливо помню, как во дворе родительского дома отца эти трое, отец, дед и баба, обступают меня, словно зомби, и, с перекошенными от беспробудных пьянок лицами, то канючат, то откровенно требуют дать им на пропой. Мне странно, страшно, противно и досадно. Они меня буквально подавляют. И я сдаюсь.
На моë счастье, прознав про эту ситуацию, нас забирает к себе тëтя Соня, жена старшего брата отца и добрейшей души человек. И у меня начинается настоящее приключение. Вкуснейшие драники по утрам, прогулки по посëлку с двоюродными братом и сестрой, проказы по вечерам, когда мы наряжаемся в противогаз и простынь и стоим где-нибудь на дороге, пугая прохожих-проезжих.
А однажды мы едем с сестрой в Волковыск на электричке. Это близко, и там есть рынок, на который приезжают торговать поляки одеждой, какой у нас не достать. Я не намерена ничего покупать, у меня на это нет денег, но посмотреть интересно. Однако на месте я даю себя уговорить одной продавщице (это было нетрудно, мне было сложно отказывать не только своим, но и малознакомым, и даже совсем посторонним) купить у неë яркую, зелено-красно-чëрную кофточку машинной вязки с воротничком и тремя пуговками ниже шеи, а также серебряный плащ. Своих денег мне, разумеется, не хватило, и я "заняла" у отца. Когда мы вернулись домой, я доложила отцу о покупках, спросив, не будет ли он против, если я после отдам то, что взяла из казны. Отец был подвыпивший, впрочем, как и всегда, и, видимо, добрый поэтому, сказал, мол, не надо ничего возвращать, пусть будет подарок тебе.
Когда мы вернулись домой из Белоруссии, мать в пух и прах раскритиковала мои приобретения, мол, втюхали тебе, дурочке, что попало, и нашла в них кучу изъянов. Ну, а когда жена отца потребовала за них деньги, она готова была съесть меня с потрохами, поскольку лишних денег, как на грех, у нас на тот момент и не было.
Однако в стране уже шла Перестройка, и там и сям уже начали возникать барахолки и рынки. Мать постирала и отутюжила серебряный плащ, и мы вместе отвезли его на барахолку, где в тот же день довольно выгодно сбыли. Из этих денег я вернула "долг". Кофточку же я оставила себе и долго с удовольствием носила.
Это был не первый и не последний такой злополучный плащ в моей жизни. И это был не первый и, как окажется, не последний случай, когда отец мне что-нибудь как бы подарит или пообещает бесплатно, а потом, спустя какое-то время, через кого-то или же сам попросит за то заплатить.
***
Уже поздно вечером, практически перед закрытием магазина мы летим с матерью в Детский мир в отдел детской одежды. Сентябрьские температуры уже низкие, завтра идти в школу, а я выросла из старого плаща, его рукава заметно мне коротки.
В отделе нет выбора совершенно, одна только модель. Плащ, немного расклëшенный книзу, с остроугольным воротничком под горло, какого-то желто-серого цвета и такими же пуговицами. Делать нечего, мне подбирают размер, и мать его покупает, обещая найти что-нибудь интересней потом, а пока так походишь. Обещание она сдержит весной, когда вдруг соберëтся в Москву, взяв на работе двухнедельный отпуск и меня с собой.
Это будет очень стильный плащик бежево-коричневого цвета с закруглёнными воротничком и карманами в более темную клеточку и весьма симпатичными пуговками, и к нему будут бонусом прилагаться совершенно роскошные туфли, на платформе, которые мать раздобыла бог знает где. Я была в абсолютном восторге, ещё и потому, что выглядела в этом одеянии довольно взросло для четвероклассницы. Однако пощеголять в нëм в Москве мне так и не довелось.
Только мы приземлились, как поняли, что одеты не по погоде. Тот апрель в столице выдался дождливым, промозглым и серым. На следующий же день мать потащила нас в ГУМ, купила мне болоньевый комбинезон и себе какие-то тëплые вещи.
А плащик тот мне практически не послужил. Когда мы вернулись домой, уже было довольно тепло, а к следующему сезону я снова подросла.
***
Я вполне могу представить себя в монашеском одеянии и, более того, я видела себя во сне в таком. Я там была не одна, с коллегой, которая тоже преподаёт в семинарии, нас было две монашки, и нам в том сне было весело.
Что ж в тот период (где-то с 1999 по 2007) я действительно могла легко сменить гражданскую одежду на монастырскую униформу. Однако что-то глубоко внутри меня сопротивлялось, периодически подсовывая мне "неоспоримые свидетельства", так называлась книга протестанта-евангелика, которую, мне кто-то одолжил. Только мои свидетельства были наоборот, от "адвоката дьявола".
Меня смущала немалая вещность того, что я наблюдала в общинах и учреждениях религиозного толка, какой-то неоправданный материализм.
Мой бывший учитель Истории английского языка на инязе, которую он совершенно не знал и потому совершенно спокойно заменил на Историю США, американец весьма почтенного возраста, бывший военный, а ныне протестантский пастор, узнав меня среди преподавателей курсов английского, предложил обучать ему же, английскому, малоимущих детей на добровольной основе (бесплатно то бишь). Я согласилась, т.к. бывала и раньше в их протестантской среде, и в тот момент мне очень сильно хотелось как-нибудь услужить Богу. Думаю, это написано было огненными буквами прямо на лбу у меня.
Мне импонировало то, что пастыри их выглядят как обычные люди, то есть не носят специальной одежды, и что их церковь была там, где они соберутся. Правда, немало смущала практикуемая у них десятина, и тот факт, что они, как презрительно говорили католики, покупают детей за еду и "штанишки".
У них не было сонма святых, каждый мог претендовать на эту "должность", то бишь полный простор для амбиций. А ещё немало смущали их скороговорные проповедники, что неплохо обосновались на многих каналах нашего телевидения. Как они с горящими глазами, меряя широкими шагами сцену, возбужденно кричали: " Бог любит тебя, и потому Он не хочет, чтобы ты был бедным. Он хочет, чтобы ты был богатым, чтобы ты был успешным!" Да, да, богатым, успешным, повторяла довольная публика.
Вы серьёзно? Недоумевала я. А как же "легче верблюду пройти сквозь игольное ушко"? Или, быть может, вы видите Иисуса в деловом костюме за рулём дорогущей машины на фоне роскошнейшей виллы? И причëм тут душа? Где тут Бог вообще?
У католиков, как презрительно писали о них протестанты, с их вечным мрачным подвигом, смущала церковная роскошь и театрализованность ритуального действа. Я представить себе не могла, сколько средств уходило на строительство этих роскошных костëлов, на содержание религиозного персонала, на повседневную и праздничную их одежду и прочее, прочее, прочее.
Однажды в перерыве между занятиями один семинарист, по всей видимости, испытывавший в тот момент что-то вроде кризиса веры, просто-таки огорошил меня своим откровением. Мы остались одни в аудитории, завязалась беседа, я упомянула одного священника, с которым меня попросили позаниматься английским, а студент этот вдруг говорит:
– Вот я не понимаю, если ты священник, зачем тебе обязательно надо носить трусы от Дольче Габбана? Это что, так важно?
– Это вы про отца… ? – удивлëнно уточняю я.
– Ну да. Ему, видите ли, подавай трусы только этой марки, другие он носить не будет. Бред какой-то.
– Действительно, бред.
– Вы же знаете, у нас при приходе открыли кухню для бедных?
– Да, слышала.
– Так вот, мы ходили туда на днях. Там одна девушка пришла без верхней одежды, а на улице холодно было. Представляете, у неё пальто даже нет! А этому подавай трусы от Дольче Габбана. Бред какой-то. Лучше бы девушке той купили пальто.
Православные тоже не отставали по тратам на строительство/ восстановление храмов, роскошным их убранствам и театральным служениям на непонятном для многих уже языке. Как-то быстро они перешли на рыночные отношения, обзавелись в своих приходах лавками, где продавали всë довольно дорого, и внушительным прайс-листом на все без исключения оказываемые услуги. Помню, как у меня отвисла челюсть, когда я первый раз увидела такой. Если не ошибаюсь, самым дорогим в нëм числилось венчание. Тогда как раз на него пошла мода. Выходит, если нет денег у тебя на крещение, венчание, отпевание, то живи/умирай во грехе?
Как-то странно всë это. Как-то больно уж шкурно и совсем приземлëнно. И совсем непонятно, причём же здесь Бог?
Разве Он в этом лощёном протестантском пасторе, призывающем разбогатеть? Или в этом католическом священнике, грезящем о брендовом исподнем? Или в этом православном батюшке с непомерно округлыми формами и крестом во всë пузо? Или, может, Он в этих мусульманских парнях в коротких штанишках и с жидкими бородами, девушках в паранджах и хиджабах, что буквально заполонили наш город?
Нет, как я ни стараюсь, не могу разглядеть Его в них. Я вижу дань моде. Куда как проще мне разглядеть Его в Диогене, живущем в глиняном кувшине с минимумом одежды на себе и ищущем днем с огнём средь людей Человека.
Я тоже ищу, как и Он. Есть кто живой?
Глава 9. Куда вы дели Бога?
Мне приходит всякий-разный спам, на который я, конечно же, не соглашалась. Но он лезет изо всех щелей, непонятно как раздобыв мой имейл. Иногда что-нибудь зацепит мой взгляд, я пройду по ссылке полюбопытствовать, но, как правило, после первого же абзаца разочарованно закрываю страницу и ищу в письме кнопку отписки.
Зачастую это приглашения на всевозможные тренинги-курсы, предлагающие бесплатный сыр в мышеловке и с-ног-сшибательные результаты. Но особенно много средь этого хлама "озарений" на тему, как избавиться, стать, получить, словом, "как"и на все случаи жизни.
Как-то раз одно такое письмо занесло меня на нлпэшный ресурс (НЛП тогда было на гребне волны). На ресурсе имелись открытые и закрытые (платные) материалы. Те, что были для всех, в основном учили распознавать словесные манипуляции и давали советы, как защититься от них. А для избранных (бог знает, как они избранность эту определяли) имелся у них боевой НЛП, то бишь чёрный гипноз и другие такие прекрасные вещи, цель которых принудить, заставить, обманом куда-то вовлечь.
Закрытая часть, безусловно, бередила воображение, как всё запретное-только-для-узкого-круга. И, я уверена, желающих откусить от этого "яблока" находилось немало. Но и открытой части материалов и комментариев к ним было достаточно (въедливому читателю), чтобы понять, насколько всë это ведëт в никуда, насколько оно ни о чëм. Абсолютный тупик.
Несчастным, которым ресурс "открывал" глаза на то, как ими манипулируют (осознанно или нет, это было неважно) другие ровно такие же несчастные, манипуляции начинали мерещиться везде и во всëм, что вело к паранойе в итоге, мол, все и всегда хотят меня обмануть, использовать и как-то ещё оболванить. По правде сказать, весь мой жизненный опыт, даже тот, что был на момент знакомства с ресурсом, без всяких там новомодных учений, всë то же мне говорил. Мы – люди, чрезвычайно манипулятивны по отношению к себе и другим, и это не есть хорошо. По крайней мере, далеко не всегда хорошо.
Однако же НЛП подавало идею немного иначе, что и неудивительно, на то они и нейролингвистическое программирование. Манипуляция – их основа основ. По сути, они говорили, смотри, как опасно жить в этом мире, где так много желающих как-то тебя поиметь. Ты же не хочешь быть жертвой? Тогда тебе к нам, мы расскажем тебе про ловушки (читай, ознакомим с кой-каким арсеналом). Ну, а если ты хочешь быть вовсе недосягаемым для этих злодеев-манипуляторов, мы научим тебя, как стать лучше, выше и круче их всех, то бишь манипулятором высшей пробы. Или, как говорили, бывало, любители заложить за воротник, от чего заболел, тем и лечись. Приглашение в замкнутый круг.
Очевидно, со временем в НЛП это всё-таки поняли, осознали свою тупиковость и сменили свой вектор с защитного-нападающего на самоё себя программирующий, куда тебе хочется и для каких тебе надобно целей. Что ж, поживëм и увидим. Но прямо сейчас это новое их направление мне уже отдаёт чём-то до боли знакомым. Может быть, Зеландом с его Трансерфингом реальности, ещё недавно проповедовавшим буквально из всех утюгов? Или слегка подзабытой уже дианетикой?
***
Холодное, неуютное утро. Битком набитый автобус. Дорога до работы кажется невероятно долгой. Где-то в глубине салона один пассажир "лечит" сидящую рядом с ним девушку, то бишь пытается обратить еë к Богу. Аргументы приводит железные, образные. Вот смотри, говорит, когда женщина варит мясо, она снимает пенку, чтобы бульон был прозрачный. Так и Бог избавляет нас от греха, чтобы мы были чистыми сердцем.
Вроде правильно всё у него, даже складно, но в манере есть что-то отталкивающее. Словно он говорит не о Боге, не о вере в Иисуса Христа, а впаривает какой-то товар. Тем более что таких впаривателей с непроницаемыми лицами и пластиковыми улыбками было тогда пруд пруди. Было с чем сравнивать.
Девушка отхихикивается, и горе-проповедник пафосно увещевает еë, мол, это вы сейчас смеётесь, а потом именно мы придём спасать таких, как вы. Опаньки, думаю я, так вот чьë пришествие мы ожидаем две тысячи лет. Они уже, оказывается, здесь, только спасать не начали. Потом придут. Вот так легко, играючи, товарищ из служителя Христа стал как бы Им самим.
Моя остановка.
На работе одна коллега останавливает меня в коридоре и возбужденно рассказывает о своём знакомом, который прошёл курс дианетики, и сейчас у него всё отлично.
– Что за дианетика? Никогда не слышала.
– Это что-то очень революционное. Как он объяснил, они ему там вроде стёрли память.
– Стëрли память? Как это?
Коллега, по всей видимости, что-то недопоняла. Однако делилась со мной так восторженно, как будто прошла процедуру сама:Я живо представляю себе что-то совершенно фантастическое, наподобие экспериментов с памятью в фильме "Вспомнить всё".
– Я не знаю, как, но они убрали все плохие воспоминания. Представляешь, как здорово, когда у тебя нет ничего негативного в голове. Тот парень так изменился! Он говорит, я будто заново родился. Теперь он может жить по-другому, без негатива. Это как с чистого листа начать. Я бы попробовала.
Мой внутренний скептик изрядно напрягся от этих слов. Допустим, в голове нет негатива, но его полно вокруг, с избытком. И рада бы не видеть, не слышать, не замечать, но у него есть свойство навязываться и преследовать после. И как этот парень будет беречь себя впредь? Или так и будет по жизни все время стирать, что ему неугодно?
И вообще, насколько это всё оправдано, насколько полноценную жизнь сможет вести человек, лишившийся части себя, пусть и неприятной, нежелательной своей части, но зачем-то ведь она в нём была?
В ту же пору мы то и дело слышим о людях, которых обнаруживают там и сям, и которые не могут вспомнить кто они. Девушка-журналистка в плацкартном вагоне рассказывала, что не раз делала репортажи о них. Им, утверждала она, подливали что-то в алкоголь и сбрасывали с поезда, а личные вещи и деньги присваивали.
Что если дианетика из той же серии?
Впоследствии мой скептик получит этому авторитетные подтверждения. Революционеры-дианетики окажутся обыкновенной сектой, работавшей по принципу финансовых пирамид.
Однако ратный их труд не только не пропадёт, но будет аукаться ещё долго и долго.
Мы вскорости узрим, как целые огромные сообщества людей в лице практически всех бывших советских республик начнут стремительно терять свою память, отринув в своëм прошлом весь "нежелательный негатив", а вместе с ним и всё то, что было им когда-то дорого и близко, начнут демонстрировать явные признаки избирательной амнезии и, словно только что народившиеся малые дети доверительно впитывать то, что будут впаривать им ушлые дяди и тëти, заботящиеся исключительно о своём финансовом благополучии. За очень короткий период мы получим целые полчища манкуртов, готовых умирать за своих хозяев-благодетелей.
И всë это с лëгкой руки всё тех же нлэпэшников, дианетиков-саентологов, зеландов и иже с ними. Религии тоже, особенно радикальные их проявления, вложились немало в процесс. И все они, разумеется, вели нас к какому-то благу. Благими намерениями…
***
Физика – далеко не самый мой любимый предмет. Не то чтобы он мне не интересен, просто порой его ужасно неинтересно нам преподносят. А эта учительница рассказывает увлекательно, её хочется слушать, и всё вполне понятно. Давление, движение, сопротивление, Архимед, сообщающиеся сосуды. У нее открытое розовощёкое лицо и стриженные кучерявые волосы. Вещает она энергично, домашку требует строго.
– Почему ты не готов? – спрашивает она одноклассника, что сидит в одном ряду со мной.
– Меня не было на прошлом уроке, – говорит он почти виновато.
– Почему тебя не было? – продолжает допытываться она.
– Мы с родителями ходили в церковь, – простодушно поясняет он.
Одноклассник – немец, и у его семьи, по-видимому, есть церковные традиции, которые считают нужным соблюдать. Сейчас я не скажу наверняка, но, кажется, это было связано с Пасхой. В моей семье, как и во множестве других, на Пасху было принято ходить на кладбище. Все кладбища города в этот день буквально оживали от кишащего на них народа.
Учительнице, однако, такое пояснение пришлось не по душе. Она как-то резко изменилась в лице и с жаром начала отчитывать одноклассника.
– Не смей говорить мне про церковь! Как ты вообще такое можешь говорить? Ты – пионер! Ты учишься в советской школе! Какая может быть церковь?
По классу пробегают ехидные смешки. Учительница с почти пунцовым лицом выносит вердикт:
– Садись, два за урок.
Одноклассник, тоже весь красный, садится.
У меня внутри какое-то странное чувство. Как-то неприятно кольнули меня и резкая смена лица у физички, как будто её обожгло, и её почти обвинение, брошенное в адрес церкви. Ведь она бранила одноклассника не столько за то, что он не выучил урок, сколько за то, почему он этого не сделал – ходил в церковь. У меня в семье не было никого шибко набожных, в церковь никто не ходил, разве что изредка, но меня удивила реакция этой вполне ещё молодой женщины – словно чёрт отшатнулась от ладана, как, бывало, говорила бабуля. Только она, бабуля моя, и помнила ещё святые даты, крестилась перед сном и что-то шептала под нос. Родители, что были примерного того же возраста, что и физичка, такой “ерундой” уже не страдали.
***
У меня завтра важное событие – я еду креститься. С большим опозданием, но зато по собственной воле.
Мне восемнадцать, и я до сих пор некрещёная. В детстве меня почему-то не стали крестить, никто толком не помнит уже, почему. Для советского ребёнка это не трагедия, и я могла бы и дальше так жить, не попадись мне годом раньше церковный фотокалендарь, который бабуля хранила у себя в шифоньере и с которым сверялась на предмет важных праздников.
Помимо важных дат и прочей такой информации там, в маленьком квадратике, была молитва “Отче наш” на церковнославянском. Я просто прочла её, потом просто выучила, а после зачем-то начала читать наизусть каждый день перед сном. Я делала это почти неосознанно, по какому-то неведомому мне самой внутреннему запросу. Ведь рядом не было никого, кто мог бы объяснить мне популярно смысл молитвы. Бабуля не в счёт, поскольку у неё всё это шло на автомате.
Итак, мне восемнадцать. Я пыталась поступить на иняз после школы, но не добрала один бал, и теперь работаю пионервожатой в своей же школе и неофициально (ибо без образования) веду уроки английского в пятых классах.
В одном таком классе учится младший брат моей одноклассницы, и я узнаю от неё, что они поедут крестить его в ближайшие выходные в церковь на Новый рудник. Как-то само собой получилось, что я напросилась отправиться с ними, мол, некрещёная я, а мне бы уже и пора. Мне сказали, они собираются рано и назначили время и день.
В городе тогда было две церкви, старая и новая, и до обеих ещё надо доехать – дорога дальняя и с пересадками, лишний раз не захочешь. У одноклассницы в семье была машина (почти что роскошь по тем временам), и мы довольно быстро добрались.
Дальше всё было довольно сумбурно. Храм маленький, народу много. Батюшки торопятся, надо всех зафиксировать, кого и под какими именами крестить, кто будут крестные. Потом сама процедура. Батюшка говорит что-то то скороговоркой, то нараспев. Дети плачут, особенно когда их окунают в ёмкость с водой. Со мной происходит всё быстро, я даже не успеваю понять, как и что. Теперь у меня есть крестик. Мы едем домой. Как будто бы ничего примечательного.
И всё же там, в церкви, со мной что-то произошло. Мне почему-то хотелось всем рассказать, что я покрестилась, и как по-другому я теперь себя чувствую. С последним, правда, было непросто, поскольку словами то состояние передать невозможно.
Во мне появилась какая-то необычная лёгкость, мне было всё в радость, и мне казалось, что внутри я стала как бы чище и спокойней. Мне было хорошо.
Спустя годы один семинарист весьма удивит меня своими ощущениями от крещения. Он скажет, меня как будто раздели, я словно был голый, и спрятаться негде.
Ещё спустя годы я пойму, что он и я, по сути, говорили об одном и том же – мы словно бы заново родились. И разница была лишь в восприятии этого факта – я встретила с открытым сердцем эту перемену, а он хотел укрыться от неё, сбежать, что было абсолютно невозможно.
Жаль, что такие ощущения не длятся долго. Мои довольно скоро подстёрла повседневность. А через год-другой ад 90-х сотрёт, как кажется, само воспоминание о них.
Глава 10. Адское место
– Как странно, – говорит моя коллега и начальник, два в одном, сидя напротив меня на деревянной скамейке за деревянным столом, удачно расположившимися в озеленённой части территории онкодиспансера. – Здесь так хорошо, зелено, птички поют, а там, – кивает она на здание моего отделения, – ТАКОЕ.
– Да, – соглашаюсь я. – Но это только поначалу так, а потом привыкаешь. Там тоже неплохо внутри, чисто, персонал отзывчивый. Со временем начинаешь чувствовать себя почти как дома.
– Да? – в её голосе недоверие. – Но лучше всё же никогда сюда не попадать.
– Согласна.
Я, разумеется, слегка лукавлю, говоря ей, что чувствую себя как дома. На самом деле все прелести пребывания в этом месте и их последствия мне ещё не известны, и я пытаюсь хорохориться. Однако один кошмар уже преследует меня здесь ежедневно – аппарат лучевой терапии.
Вероятно, если бы меня не отправили на самую первую процедуру в кабинет с моделью старого образца, я была бы более благосклонна к этому, по сути, моему спасителю.
Помню, как после первого шока от получения меток на теле, куда будет бить радиация, я вскорости оказалась в довольно узком затемнённом помещении, где мне предложили лечь на столе под округлой штукой внушительного размера, которая, как я понимала, должна была излечить меня от коварной болезни. По крайней мере, так говорили врачи. Их было трое в той комнате. Они сперва разместили круглую штуку так, чтобы она смотрела на метки, потом велели мне лежать неподвижно, что бы ни случилось, мол, у них всё под контролем, и вышли.
Спустя секунды штука надо мной начинает издавать довольно громкий и жужжащий звук, от которого я невольно сжимаюсь внутри. Но если б только это, она ещё и движется! Да как! Движения отрывистые, резкие. Я каменею на столе, что очень кстати, внутри же нарастает паника, мне хочется кричать, но я большая девочка, нельзя. Тогда я решаю закрыть глаза, как собственно и советовала одна из врачей, чтобы хотя бы не видеть. Однако и звука достаточно, чтобы держать меня в отчаянном напряжении до конца процедуры, которая, кажется, тянется вечно.
Так будет первую неделю. Меня неизбежно будет охватывать панический страх перед этой машиной. Закрытые глаза будут усиливать ужас происходящего, но и открыть их я не рискну. Сам аппарат будет казаться мне совершенно живым и разумным, эдакий непредсказуемый монстр, в чьей власти теперь моя жизнь.
А потом меня переведут на новую модель, уже до конца всего курса. Она окажется довольно дружелюбной. Жужжать она будет едва различимо, и двигаться будет как будто плавней. Однако, как только я буду оказываться на столе один на один с ней, то неизменно буду закрывать глаза. Конечно же, я попривыкну со временем и даже начну размышлять, лежа там, под гамма-лучами.
Как странно, буду думать я, вот прямо сейчас эта машина что-то во мне убивает, чтобы я могла продолжить жить. Убийца и спаситель, два в одном.
***
Нашу машину очень тщательно осматривают на пограничном пункте между Казахстаном и Россией. Осматривают тщательно, как никогда, поскольку она забита доверху разного рода вещами – мы переезжаем в Россию на ПМЖ.
Я нервничаю, хотя бояться нам нечего совершенно, но я боюсь за питомцев, в машине собака и кот. Собака привычна к таким путешествиям, а для кота перемещение на машине на дальнее расстояние в новинку. Я опасаюсь, как бы он не выпрыгнул из салона во время досмотра. Поэтому когда ко мне подходит женщина и просит помочь с заполнением миграционной карты, я почти отмахиваюсь от неё, мол, мы не заполняем, у нас загранпаспорта, в них ставят штамп, и направляю её к сотрудникам погранпункта.
Что-то при этом срабатывает у меня в голове, словно какой-то тригер, словно бы эта женщина не просто ко мне подходила. Но я отмахиваюсь и от этой мысли, а вместе с ней и от напоминания Вселенной, что в этот раз нам нужно было позарез заполнить эти чёртовы миграционки, поскольку только с ними принимают документы на гражданство.
Меня предупреждали. Два раза отчётливо повторила сотрудник отдела по вопросам миграции, куда я звонила за консультацией – не забудьте взять на границе миграционную карту. Но это было несколько месяцев назад, за подготовкой к переезду я всё запамятовала. Не каждый день меняешь страну. К тому же раньше мы всегда пересекали границу по штампу в загранпаспорте, его было достаточно, но то были гостевые поездки и путешествия. Теперь же мы ехали насовсем.
– Ну что мне с вами делать? – говорит приветливая капитан из того самого отдела по миграции, куда я звонила ещё из Караганды. – Без миграционок я не могу принять у вас документы. Вам надо снова пересечь границу.
– Ехать назад в Казахстан? Две тысячи с лишним километров,– уныло добавляю я и ловлю себя на мысли, не знак ли это, что нам не стоило переезжать.
– Зачем обязательно в Казахстан? Можно куда-нибудь ближе. Лен, какая у нас ближайшая граница с Украиной? – обращается она к сотруднице, что делит с ней кабинет.
– Суджа, кажется, – она сверяется с чем-то в телефоне. – Да, Суджа, с Сумской областью граничит, где-то 700 км от нас.
– Ну вот, – говорит капитанша. – Там возьмёте миграционные карты, и можно будет подать документы.
– А ничего, что они будут с границы с Украиной? – я всё ещё не верю, что проблема почти решена. Да и потом на дворе 2019-й, и отношения между двумя государствами далеко не самые лучшие.
– Да ничего. А какая нам разница? Главное, что мы сможем начать процедуру. Сейчас сколько у нас? – она смотрит на наручные часы, – Десять утра. Если поторопитесь, к вечеру будете там, а завтра утром приедете к нам. Ну, или послезавтра.
– Так и сделаем, – быстро говорю я, хватаясь за шанс.
Мы благодарим нашу спасительницу и почти выбегаем из кабинета.
Когда мы добираемся до погранпункта в Судже, на улице уже темно. Обычно, при переходе границы с Казахстаном, нам приходилось выстаивать длинные очереди. А здесь никого.
Нас пропускают внутрь, и мужа приглашают в отдельный кабинет. Он долго не выходит. Там с ним беседует капитан, которого смутили наши казахские паспорта. Он спрашивает мужа, где служил, воевал ли когда-нибудь, рассказывает про обстановку на той стороне. Муж, наконец, не выдерживает и рубит правду-матку, зачем мы собственно здесь – нам просто нужны миграционные карты, нам просто туда и назад. Затем всё происходит быстро, российские пограничники действуют чётко и строго, ни тени суеты и недовольства, и мы на той стороне.
Нас сразу встречают два хлопца не очень военного вида и, выяснив, что нам надо, сразу выкатывают прейскурант, а именно пишут на листочке бумаги, в какую сумму нам обойдётся получение миграционных карт, ну, чтобы без проблем. Пять тысяч рублей, и быстро всё будет, машину можете даже не загонять, миграционные карты мы сами заполним (вот это сервис, невольно вырывается у меня), пройдёте через пункт, постоите на той стороне и назад. Ну, если хотите, можете и проехать, конечно (муж заикнулся, что есть сестра в Конотопе), но я вам не советую.
– Не советуете? А что так? – любопытствую я.
– Да мало ли что может быть, места тут у нас неспокойные, – говорит этот малый с ухмылкой.
Мы понимаем, что выбора у нас, по сути, нет, и раскошеливаемся, после чего нас направляют к женщине, которая занимается документами. Она берёт у нас паспорта, открывает один, затем второй и, почти не глядя, возвращает:
– Тысячу рублей положите вовнутрь, – спокойно говорит она, как если бы это было что-то естественное совершенно в такого рода местах. Сначала я думаю, что ослышалась, и потому уточняю:
– Тысячу?
– Да, тысячу положите, – всё так же невозмутимо подтверждает она. Муж быстро находится и говорит:
– А мы уже заплатили пять тысяч.
– Кому заплатили? – в её голосе появляется раздражение.
– Тем двум парням, которые стоят у входа. Они сказали, дальше не будет проблем.
– Точно заплатили? – не унимается женщина, но тут подходит тот с прейскурантом и подтверждает.
Уже довольно поздно, границу в этот час мы переходим одни. Женщина заполняет нам миграционные карты, и мы оказываемся на Украине (убейте меня, но я, кажется, так никогда и не переучусь, “в Украине” звучит для меня чужеродно).
Мы сразу же разворачиваемся и пытаемся вернуться в Россию, но женщина с той, другой стороны КПП советует нам побыть ещё здесь, хотя бы 15 минут, для якобы натуральности. Как будто 15 минут могли как-то добавить естественности этому по ощущениям практически сюру.
Мы подчиняемся, и я начинаю рассматривать то место, где мы оказались. Оно очень плохо освещено и потому, должно быть, кажется, что за этими тусклыми фонарями какая-то непроглядная тьма. А мы ещё думали, может, прокатимся внутрь, так, посмотреть. Вот дураки. Куда? В эту кромешность? Прямо за фонарями слева уличный туалет, запах идёт из него характерный, но я решаюсь зайти, надо же скоротать время, и тут же жалею об этом.
Стоим дальше. Я опять смотрю в темноту. Что же там такое случилось? И вдруг, словно ответ на вопрос, на меня накатывает очень странное ощущение, словно что-то непролазно-непроглядное, что-то чёрное и мощное одновременно движется оттуда на меня. Я содрогаюсь.
Когда же девушка, проверявшая паспорта, демонстративно отказывается говорить с нами по-русски, я понимаю, что именно с ними случилось. Гордыня.
Пройдёт чуть больше двух лет, и эти люди заявят, что с ними весь мир, исключив из него добрую половину. Что-то похожее я где-то уже слышала. Ну как же. 2000-й год.
Президентские выборы в США. Американцы на курсах английского в Караганде то и дело сбиваются в кучки и обсуждают событие. Они вдали от дома, но им хочется в этом участвовать. Предпочтения их, понятное дело, разнятся. Одним нравится Буш, другим Гор. И совершенно неясно, кто из них победит. Одна американка особенно явственно переживает, что Буш не пройдёт, как если бы решалась её собственная судьба. Когда же казахстанская коллега пытается без задней мысли её ободрить, мол, не переживайте так, всё будет хорошо, она буквально взрывается:
– Вы не понимаете! Нам нельзя ошибаться! На нас смотрит весь мир!
Что ж, гордыня бывает заразной.
Глава 11. Языками не владею, или медь звенящая
2012-й год. Июль. Алматы. Я – член комиссии по приëмным экзаменам в магистратуру от Центра тестирования. Нас четверо в комиссии, и мы прикреплены к медицинскому вузу. Наша задача – обеспечить честное тестирование и объявить реальный результат.
Сейчас обед, нас отвезли в уютное кафе, и в ожидании заказа я начинаю разглядывать интерьер, посетителей, сервировку. Мои коллеги оживлённо обсуждают прошедшие полдня.
Мы все из разных городов и вузов, преподаëм на разных факультетах. Две женщины, включая меня, бальзаковского возраста, молодая девушка и молодой джигит. Другая женщина и девушка практически не говорят по-русски, они им не владеют, поэтому, когда им надо что-то мне сказать, они или с трудом и моей помощью выискивают нужные слова, либо на помощь им приходит парень. У парня с русским порядок, но он предпочитает ему свой родной, казахский, переходя на русский только, когда считает нужным перевести что-нибудь для меня или просто ко мне обратиться.
Довольно неловкая получается ситуация. Я чувствую себя изгоем и обузой одновременно. И это только начало, впереди у нас недели совместной работы с утра и до позднего вечера, и в ней никак не избежать общения.
В кафе играет ненавязчивая музыка. Нам, наконец, приносят заказ. Мы начинаем есть, и вдруг коллега постарше смотрит в сторону музыкального сопровождения и бросает в воздух по-русски:Им же троим очень даже комфортно. Моë обособленное положение их не смущает. Они довольно весело болтают, едва обращаясь ко мне.
– Почему играют русскую музыку? Так много хороших казахских песен. Почему не поставят?
У меня в горле застревает кусок. К чувству вины за то, что я не говорю на государственном языке, примешивается ещё и чувство неловкости за то, что в кафе в бывшей казахской столице играют песни на русском.
На моë счастье, я имела склонность к языкам и хорошо училась в вузе. Казахский тоже шëл неплохо у меня, грамматика, слова, но разговорной практики не было. Я понимала многое на слух, но говорить откровенно боялась. Да и сейчас не сразу сказалась, что не совсем в казахском бум-бум.
Шли дни, и мои коллеги всë реже переходили на русский при совместной работе, а я всë реже в этом нуждалась. Я слушала, как говорил Бандерас в фильме "13-й воин", и вскорости начала понимать практически всё.
В какой-то момент я поймала себя на том, что думаю частично по-казахски. Однако заговорить не решилась. Возможно, мне нужно было чуть больше времени. Ведь после двух месяцев интенсива на курсах американского я не только сломала барьер, но и болтала без тени сомнения. Однако другого такого шанса с казахским мне больше не выпало, и я так и осталась на уровне "всë понимаю, только сказать не могу".
Мы стали хорошей командой где-то уже к середине. Коллега постарше однажды открыла сайт своего вуза и показала мне фото мероприятий, в которых она принимала участие, потом рассказала чуть-чуть о семье и о муже, с трудом подбирая слова. И я не осталась в долгу, немного поведала о себе в простой и доступной манере. Это было сближение.
С коллегой помладше нам как-то случилось пойти погулять в окрестностях гостиницы, где мы проживали. Она была оралманкой, переселенкой из Монголии, и русский ей давался тяжело. И всë же какой-то необходимый для себя минимум освоить смогла, и сейчас, сбиваясь и путаясь, пыталась рассказать мне о своей семье и своëм парне. У них, как я поняла, всё было серьёзно, и свадьба не за горами была. Мы даже зашли в один магазин, где весь товар был по одной цене, и выбрали себе футболки.
Когда же мы вернулись в Центр, то дружно отчитались, и, обменявшись телефонами, очень тепло расстались, с обнимашками и пожеланием друг другу хорошей дороги домой. А также поступило предложение на следующий год опять собраться такой же командой.
Мы здорово сработались несмотря на очевидный языковой барьер.
Должно быть, смысл Вавилонского смешения языков был гораздо глубже, чем тот, что даëтся в библейской истории. Здесь явная метафора. Наделив людей различными языками и сделав их тем самым малопонятными друг другу, Бог указал им другой, более верный путь к Себе, чем строительство претенциозных зданий. Он как бы говорил, хотите быть ближе ко Мне, научитесь сперва принимать инаковость друг друга, принимать друг друга как есть. Научитесь сперва быть людьми. Потому что Я обитаю не на вершинах самых высоких в мире гор и не на крышах самых высоких человеческих сооружений. Я в ваших сердцах, когда в них есть место Любви.
***
Обычно они проходили всегда сумбурно и шумно, потому что наша учительница, невысокая эмоциональная женщина, явно была здесь не на своëм месте. Быть казашкой и владеть казахским языком недостаточно, чтобы уметь его преподавать.
Она никак не могла организовать дисциплину, еë не слушали, над ней потешались. С материалом была полная беда, она не знала, как его преподнести. Авторитета ноль, методика слабая, и потому урок всегда превращался в бедлам.
Однако сегодня на казахском непривычно тихо. Все слушают высокую статную женщину, которая пришла на замену заболевшей учительницы.
Сначала она обращается по-казахски к единственному казаху в классе и, когда тот смущённо молчит, начинает стыдить его и убеждать учить родной язык, иначе какой ты казах. Потом обращается к остальным, большинство из которых русские, украинцы и немцы, с таким же призывом – учить казахский язык, мол, пригодится.
Мне, говорит она, когда-то мой отец сказал – учи русский, без русского ты ничего не добьëшься. И я учила. А я говорю вам, учите казахский, пригодится.
Откуда она могла знать?
***
2017-2018-й год. Караганда.
На факультете иностранных языков, где я работаю, нашествие китайских студентов. Они приехали по обмену с нашими студентами.
Из наших отправляют только казахское отделение по лингвистическим и прочим соображениям. Китайские студенты приезжают в Казахстан за русским языком, который, если брать глобально и дотошно, остался по большому счëту здесь на второстепенно-вспомогательных ролях. Зовëтся это, правда, всë ещё солидно – язык межнационального общения.
И что особо примечательно, китайцев обучают русскому исключительно преподаватели-казахи, окончившие в своë время советскую школу, а кто-то и вуз, и потому владеющие русским как родным.
Выходит, пусть хоть так, но пригодился.
Китайские студенты очень отличаются от наших. Они все ходят чуть не строем, и очень шумные во время перемен. Однако на уроке у них царит порядок, и они хором, громко и старательно повторяют за преподавателем русские слова и выражения. Имена они тоже берут себе русские, как только попадают в стены вуза. Когда-то казахи тоже предпочитали представляться русскими именами. Но это было давно.
Я наблюдаю за китайскими студентами в столовке и думаю, как странно, у них с Россией нет общей более чем двухвековой истории совместного добровольного проживания, взаимодействия и взаимовлияния на одной территории, и нет ничего похожего в перспективе. Однако им зачем-то понадобился русский язык. Казахи же, как кажется, в нëм уже не особо нуждаются, и тенденции таковы, что будут нуждаться всë меньше и меньше.
Выходит, сближения за эти столетия так и не случилось? Выходит, что в этом сближении роль играл не только объединяющий нации русский язык? Выходит, его было мало. Должно было быть в этом что-то ещё. Что-то такое, что не дало бы так легко разрушить дружбу двух народов и так быстро запустить процесс отчуждения.
Так что же это могло быть? Что мы пропустили?
***
1979-й, или где-то рядом. Я мелкая ещё, ещё до школы. Мы гостим с бабулей у родственников в деревне близ казахстано-китайской границы. Я иду от тёти, где мы остановились, через рощицу и речушку, к двоюродной бабушке. Дорогу я знаю, и меня отпускают одну. Под конец моего путешествия меня нагоняет бричка. Ей управляет белокурый мальчишка-подросток, в самой же бричке сидит, по-видимому, его друг, казах. Они уже почти проехали меня, когда белокурый вдруг начинает громко что-то говорить другому, и говорит он, к моему изумлению, на непонятном мне языке.
У бабушки мне объяснили, что он говорил на казахском, здесь многие знали его как родной. Ещё рассказали про деда двоюродного, покойного, который в детстве так, бывало, нахватывался казахского от местной детворы, что, приходя домой, не мог никак переключиться на русский, чем часто веселил своих сестëр.
Должно быть, это и есть ключ к не просто языковому, а настоящему, глубинному пониманию другого, отличного от тебя. Не требовать от него подстроиться под тебя, стать удобным, а самому попытаться понять, в чем же это отличие. Это путь и к взаимоо-бог-ащению. А в этом слове скрывается сам Бог. (Китайская народная мудрость. Шучу)))
Глава 12. Если клянëшься, не кляни потом
– Попробуй поговорить с ней. Может, ещё не всё потеряно.
– Я пытался. Звонил, приходил. Она не хочет говорить. Ищи, говорит, себе новую спутницу жизни.
– Давно вы не вместе?
– Полгода. Сначала было хреново. Сейчас полегче уже.
– Ну, если на контакт совсем не идëт, тогда всё серьёзно. Наверное, такая жизнь ей больше не подходит. Просто она не знает, как тебе сказать.
– Зачем тогда клятву в церкви давала?
Я догадываюсь, что инициатором венчания был он. Супруга, теперь уже почти бывшая, человек не особо религиозный.
Я помню, как годами раньше он, вчерашний семинарист, решив устроить личную жизнь, немного сомневался, мол, она хорошая, но сделала одну ужасную вещь (по католическим меркам, как минимум). Ужасной вещью оказалась операция, избавляющая женщину от необходимости беременеть. То бишь совместных детей у них быть не могло. У неë же уже было двое.
Мне было сложно что-то советовать, да и не шибко хотелось. Взрослые люди, сами решат, что им нужно. Но и ничего совсем не сказать тоже было не очень по-дружески. И я выдала:
– Если сомневаешься, подожди, не спеши. Кто знает, может, встретишь своего человека. Жизнь она такая.
– Ладно, посмотрим.
А ещё спустя немного времени, поболтав со мной коротенько по интернету, он закончил беседу словами:
– Ладно, пока. Мне надо идти до своей.
Было ясно, что он всë-таки решился.
Что же я могу сказать ему теперь? Зачем она давала клятву?
– Может, для неë это была формальность?
– Но ведь она клялась перед Богом. Зачем было клясться?
Я не слышу его голоса, вижу только буквы на экране, но точно знаю, что он пишет, как обиженный ребëнок.
– Значит, эта клятва не настолько важна для неë, чтобы бояться нарушить.
Я вспоминаю, как сама давала такую же клятву, решив заключить свой союз перед Богом после семи лет гражданского брака. В силу обстоятельств это было католическое венчание. Мужу оно было не особо интересно, но он пошёл на поводу у меня и даже несколько месяцев посещал со мной подготовку к этому таинству. У католиков так было принято, венчаешься бесплатно, но при этом должен понимать, на что ты собственно подписываешься. И это меня подкупало.
И всë же, оглядываясь назад, я вижу, насколько ребяческим был мой подход. Помимо духовной составляющей действа, мне, безусловно, хотелось романтики, да так, чтоб торжественно и красиво.
Ведь свадьбу мы не играли. Были лихие, голодные и оборванные 90-е. Мы познакомились в 1992-м, а в 95-м уже начали жить вместе, без росписей в ЗАГСе и прочих таких процедур. Я просто купила какие-то дешëвенькие колечки, мы их надели и стали зваться мужем и женой.
Теперь же мне захотелось, чтобы всё было по-настоящему. Как будто то, как мы жили до сих, было лишь призрачной сказкой, или то, что мы совершим с собой в церкви, даст гарантии нам на счастливую-долгую-в-любви-и-согласии-болезни-и-здравии-до-последнего-вздоха совместную жизнь.
Я готовилась, предвкушала и, когда пришло время венчания, стоя в церкви на коленях перед алтарём, говоря потом те самые слова и надевая кольцо, теперь уже золотое, на безымянный палец теперь уже законного супруга, буквально летала на крыльях душой. Теперь всё случилось как надо. Мне очень чётко запомнились слова священника – “что Бог сочетал, того человек да не разлучает”.
Спустя какое-то время по приходу пройдёт слушок, что отец одной многодетной семьи, исправно посещавшей службы в церкви и собрания Неокатехумината, считавшейся богопослушной в общем, решил оставить семью и уйти к другой женщине. Тогда на моë удивлëнно-наивное, и как это его так угораздило, член того же движения (Неокатехумината) и старожила храма лишь развела руками, мол, Бог допускает такое. Мне очень хотелось спросить, почему допускает, но я постеснялась. Кто я такая, чтобы постичь Его замысел?
И всё же, сказано ведь, что разделить священный союз может лишь человек. И разделяет порой. Бог сочетает. Так почему же ответственность снова на Нëм? Он допустил. И почему не сработала клятва? Ведь она – не пустые слова. Или всë же пустые?
Пройдёт ещё немного времени после того последнего диалога с бывшим семинаристом, ныне оставленным женой мужчиной, и он напишет короткое в соцсети: "Охренеть. Я в разводе".
Было понятно, что клятва, данная им женщине с двумя детьми у алтаря, его ещё не отпустила.
***
Я не помню, как меня принимали в октябрята, не помню, что при этом говорила. Помню только, как на моëм повседневном чëрном фартучке появилась пятиконечная звёздочка с маленьким Лениным в центре. Помню, как пошла в школьную библиотеку и попросила что-нибудь почитать о том, кого носила у сердца теперь. Помню, как библиотекарь, выдавая мне тонкую книжку большого размера с крупными буквами и яркими картинками, сказала почти шёпотом:
– И помни, о Ленине нельзя говорить плохо.
Я запомнила.
Потом, спустя всего два года, я увидела его самого.
Это было промозглое апрельское утро 84-го года. Мы с мамой встали спозаранку и отправились из гостиницы на Красную площадь. Сегодня в программе было посещение Мавзолея. В гостинице нам подсказали, что очередь занять лучше пораньше, иначе рискуем простоять там полдня. Привычные к стоянию в очередях мы всë же решили не испытывать судьбу и в шесть утра были уже на ногах.
Когда мы добрались до места, то обнаружили, что очередь уже солидная, и в ней нам предстояло провести ближайшие два-три часа.
Сначала мы стояли там прилежно и без продвижения в сопровождении людей в военной форме. Было довольно холодно, стал накрапывать дождь. Чтобы немного скрасить ожидание и главное погреться, мы с мамой зашли в небольшой кафетерий.
Их было несколько на пути следования очереди. Снаружи они казались довольно миниатюрными, однако внутри вмещали в себя немало народа, смотрелись уютно и предлагали волшебные запахи. И в них было очень тепло.
Мы здорово проголодались к тому времени и, видимо, чтобы согреться лучше, мама взяла нам по тарелке борща. Напротив нас за столиком сидел мужчина, который уже вовсю уминал свой заказ. Я сразу приступила к делу, схватив кусок хлеба побольше из корзинки в центре стола, но мать меня остановила чуть не окриком:
– Куда ты схватила? Положи. Это не наш хлеб. Это дяденьки. Извините. Наш – вот.
Она пододвинула нашу корзинку поближе ко мне. Я попыталась положить почти надгрызанный кусок обратно, но мужчина с упрëком сказал:
– Пусть ест на здоровье. Ну что вы. Мне этого хватит. Приятного вам аппетита.
– Спасибо, – смущённо ответила мать. – Мы ещё сегодня не завтракали.
– Вы приезжие? – поинтересовался мужчина.
На самом деле большинство посетителей Мавзолея были приезжие.
– Да, из Караганды. А вы откуда?
Я не запомнила, откуда был мужчина, поскольку полностью была поглощена едой. Мне казалось, да и теперь ещё кажется, что ничего вкуснее того борща в маленьком кафетерии по пути к Мавзолею я больше в жизни не ела. Должно быть, сработал контраст. Там, снаружи, было серо, промозгло и долго, здесь, на этом клочке, было светло, тепло, уютно и вкусно, и всë это было сейчас.
Мы ещё долго ползли потом в очереди, но на сытый и тëплый желудок это было уже веселей. Ещё чуть-чуть, и мы почти у входа. Нас проверяют и предупреждают, чтобы мы не говорили громко в Мавзолее и чтобы не останавливались, проходя мимо вождя.
И вот, наконец, он. Лежит, как живой, и от этого странно и жутко. Должно быть, жути ещё нагоняет сходство очереди с похоронной процессией.
И всë же восторг пересиливает. С ума сойти, вот он, великий Ленин! И он живой!
Мы медленно, очень медленно, как в замедленной съёмке, проходим мимо вождя. Я во все глаза смотрю на него, на это светлое лицо, на чёрный костюм, на эту бородку. То место, где он лежит, хорошо освещено, остальное же помещение словно бы в полумраке. И вдруг что-то словно бы меня дёргает, я совершенно непроизвольно подаюсь в его сторону, будто хочу подойти, но тут же из полумрака, возникает мужская фигура в шинели и деликатно водворяет меня назад в очередь со словами "Проходим, не останавливаемся". Я до последнего сворачиваю шею в попытке ещё поглядеть, и вот мы выходим уже.
Как быстро всë прошло! Часы в холодной, бесконечной очереди, и даже пяти минут не побыли!
И всë-таки мы его видели. И это было событие!
Я не была в масштабных церквях и храмах, но не уверена, что многие святые могут похвастать подобными паломничествами к их мощам. Что кто-то вообще может похвастать. И ведь никто насильно никого туда не загонял, всë было добровольно. Люди хотели видеть того, благодаря кому они жили как жили и в той стране, какая была у них в тот момент. И это было именно поклонение, именно дань уважения. Это было серьёзно и важно.
Не пройдёт и 10-ти лет, как у нас в городе начнут по-тихому демонтировать и переносить памятники Владимиру Ильичу. На их месте появятся новые, национальные герои и деятели, о большинстве которых моë поколение, не говоря уже о предыдущих, услышит впервые. Разного рода сомнительные издания 90-х будут соревноваться друг с другом на предмет, кто больше охАет советскую власть. Хорошо достанется и тому, кто стоял у истоков еë и о ком когда-то плохо говорить было нельзя.
Уже в наше время я набрела в интернете на опус, где, как я поняла, приверженец Православия, называл октябрятскую звëздочку дьявольской пентаграммой, а маленького кудрявого мальчонку с застенчивым взглядом в центре еë Антихристом. Слова же, произносимые школьниками при вступлении в октябрята, присягой на верность последнему.
Такой поворот. Причём здесь досталось не только вождю революции, но и вполне себе благородному символу, пентаграмме, который среди прочих достойных прочтений обозначает пять крестных ран Христа и вроде как даже первую печать Бога, скрывающую одно из семи Его имëн.
К слову сказать, Христа сперва тоже боготворили, а после осудили и распяли, как злодея. Всë те же люди. И символ радуги, который первоначально знаменовал собой радость выживших по окончании Потопа, а после просто радость, украли у самих себя, отдав его на откуп "Содому и Гоморре".
***
Солнечное весеннее утро. Нас небольшая группка прихожан, пожелавших стать чем-то большим и более важным, чем обычные прихожане. Сегодня я даю обещание Деве Марии служить ей верой и правдой в рамках организации, к которой желаю примкнуть.
Всё просто. В самом начале моих посещений церкви в конце одной из месс к нам обратился представитель Легиона Марии, приехавший аж из Ирландии, и предложил организовать их филиал при нашем приходе. Я, уж не знаю теперь, почему, заинтересовалась. Должно быть, мне очень хотелось быть более полезной Богу, чем просто участвовать в богослужениях и что-то канючить себе во время молитв.
Легионер говорил очень складно про то, какое хорошее дело совершается легионами по всему миру. Они, мол, помогают людям прийти к Богу, окрепнуть в вере, обрести надежду и прочее такое. К тому же для начала много людей и не надо, всего-то нужны президент, его заместитель, секретарь и казначей. Творить добро нужно в парах, отчитываться о нём устно перед другими членами еженедельно, а после отправлять отчёты о проделанной работе к ним в Ирландию, где находится их Консилиум, или попросту штаб-квартира. Они, в свою очередь, будут присылать нам медальоны с изображением Девы Марии (чудо-медальоны, как они их называли) и прочий раздаточно-агитационный материал.
Всё это вполне коррелировало с моей основной преподавательской деятельностью, и я решила вступить. Меня общим решением определили в секретари, и начался испытательный срок.
Три месяца мы ходим с напарницей в больницу по месту жительства и говорим с больными о Боге. Кто не отказывается, даём иконки, медальоны, брошюрки. Мы не особо агитируем за наш приход, такой задачи в общем нет, но если спрашивают, кто мы и откуда, говорим. Но не это важно. Важно, что после каждой состоявшейся беседы, когда нас выслушали, не оттолкнули, не заподозрили в чëм-то плохом, у нас обеих словно вырастают крылья. Мы чувствуем прилив энергии и позитива, но позитива особенного, эдакой тихой, светлой радости, сродни той, которая приходит к человеку, когда с ним происходит что-то доброе и правильное, когда он, пересилив свою шкурность, поделился с кем-то хлебом или денежкой, кого-то куда-то подвëз или отвëл, хотя сильно спешил, помог кому-то в беде, хотя был порыв пройти мимо и т.п. Особенно явственно эта радость приходит, когда мы, уставшие после рабочего дня, плетёмся почти нехотя в больницу, и там находятся желающие нас послушать.
Затем, на собраниях, после общих молитв и чтения обязательных материалов мы детально повествуем о своих походах и ощущениях от них, и всё идёт прекрасно. Мы – духовное воинство самой Богородицы.
Однако наш легион никогда не превышает восьми человек, включая священника, который не отказался нами руководить. И в этой маленькой компании довольно скоро и довольно предсказуемо намечаются соревновательность, интриги, недовольства и претензии. Но это потом.
А сегодня, спустя три месяца испытаний, я решаюсь на полноправное членство и перед всеми даю обещание верности Деве Марии и Святому Духу. Оно небольшое, я выучила его наизусть, но сильно волнуюсь, и когда дохожу до середины, у меня перехватывает дыхание, и сердце колотится как сумасшедшее. С последними же словами я чувствую, как что-то словно бы входит в меня извне через темечко. Оно при этом буквально горит. Конечно же, я могла себе это надумать, но как можно выдумать то, что прежде никогда не испытывал.
Я проведу в Легионе не один год. Будут порывы уйти, и не раз, но не из-за того, что мы делали, это мне нравилось, оно исцеляло меня, из-за отношений внутри коллектива.
Помню, в один такой кризисный период мы пошли с напарницей в ту же больницу. Нас там знали и охотно пускали, особенно к тяжёлым больным. И вот мы заходим в палату, и мужчина с ближайшей к нам койки буквально бросается к нам навстречу чуть не с объятиями:
– Это вы! А я вас так жду! А вы всё не идëте.
– Здравствуйте, я вас помню. Вы снова здесь? Что случилось?
– У меня медальон потерялся. Вы же год назад мне дали медальон, я носил его, и всё было нормально у меня, а потом я его потерял. И как потерял, пошло всё наперекосяк, одна беда за другой. Дайте мне медальон.
– У нас нет с собой, закончились, раздали, крестики только.
– Мне медальон хотелось.
– Мы в церкви возьмëм на днях, и я вам занесу. Вы будете ещё здесь?
– Да, мне не скоро выписываться. А помните того парня, который был со мной тогда в палате? Вы ещё крестик дали ему?
Я помнила. Он был худой, взгляд обречëнный и смиренный одновременно. Молча взял крестик, который я ему протянула, и долго смотрел на него, пока мы с напарницей почти отбивались от скепсиса более словоохотливого его соседа по палате, того самого, что умолял нас теперь дать ему медальон.
– Да, помню.
– Он умер через два дня после того, как вы приходили.
– Выходит, вовремя пришли. Бог знает, куда направлять, кто в Нëм больше нуждается, – говорит со знанием дела напарница.
– Что у него было? – интересуюсь я.
– Печень. Бухал.
– Понятно. Я рада, что мы встретились с вами. Медальон я вам принесу, не беспокойтесь.
Обещание мы сдержали с напарницей. Ведь как минимум в медальон он поверил. Это был его амулет, талисман. Пусть хоть так. С чего-то мы все начинаем своё путешествие в этот странный, невидимый, но порою весьма ощутимый духовный, психический мир. Мы не можем потрогать всë то, что он нам предлагает, но он может затронуть глубочайшие стороны нашей души, разбудить в нас доселе сокрытые силы, и чтоб как-то себе объяснить эти чувства-явления, которые часто необъяснимы, мы придумали свой тайный код, то бишь символы, которые наделяем той силой, что затронула нас изнутри. Вечный круг.
Я покину Легион однажды, не сумев совместить эту деятельность с научной работой, хоть последняя будет связана тоже с духовной, психической сферой.
Спустя время ко мне позвонят из прихода, который я больше не буду уже посещать, и попросят прийти на собрание нового легиона Марии поделиться опытом с его членами, ведь мы были почти пионеры. Я поблагодарю их за звонок и откажусь.
***
"Взвейтесь кострами синие ночи… " приходит мне в соцсеть поздравление с Днём пионерии от старого знакомого, спустя тридцать три года после того, как я отдавала последний салют. Знакомый – католик, и мне приходит в голову интересная аналогия (возможно, я где-то встречала еë и краешком памяти себе записала). Я отвечаю, смотри, как забавно, эта первая строчка вполне могла быть про костры инквизиции. Знакомый шутку, понятное дело, не оценил и вроде даже обиделся. И в самом деле, где пионерия, а где инквизиция.
Порою диву даëшься, что люди творили во имя веры и Бога и с именем Бога же на устах. И как потом быстро прощали себе все эти несметные преступления, которые, разумеется, совершали во благо Его. Католики покаялись за Инквизицию, но я теперь не уверена, что она уже в прошлом. Германия тоже раскаялась за преступления во Второй мировой, но нацизм опять поднял голову. И ведь победили его в своë время те самые дети рабочих и крестьян, та самая советская власть, в которую в 90-х плевались все, кому было не лень. Да и сейчас ещё бодро плюются.
Я помню приëм в пионеры. Это было событие. Помню клятву горячо любить и беречь свою Родину, помню, с какой гордостью носила галстук, как наглаживала его перед школой. Помню смотры строя и песни. Помню, как пошла работать пионервожатой в свою же школу, не поступив на иняз.
На самом деле директор пригласила меня в качестве учителя английского, “пионервожатая” было официальным прикрытием.
На дворе стоял сентябрь 90-го. У меня был непосредственный начальник, старшая пионервожатая школы, бывший мой учитель по черчению, и она была мне не особо рада. На мою несмелую просьбу, мол, подскажите, что делать, она, не скрывая ничуть раздражения, фыркнула на бегу, что ей некогда, бросила передо мной пожелтевшие листы с уставом пионерской организации и велела их изучать. Я сидела и изучала.
Сначала один только устав, потом попеременно то устав, то брошюрку со стихами Цоя, которую приобрела в учительской за небольшие деньги. Очень простая брошюра. На обложке лицо совсем недавно погибшего поэта, не фото, рисунок. Внутри обычным чёрным шрифтом самые популярные его тексты. Кто-то предприимчивый подсуетился по горячим следам и издал целый тираж этих брошюр, часть которого доставили к нам в школу на продажу. Перемены, о которых пел когда-то Цой, имея в виду, разумеется, что-то иное, с перестройкой и гласностью врывались уже в нашу жизнь.
Я была большой поклонницей группы Кино со школьной скамьи. У меня были пластинки и кассеты всех известных их концертов, и большую часть их репертуара я знала наизусть. Однако теперь с этих белых безмолвных страниц со мной говорил совсем другой Цой. Без музыки и голоса знакомые слова ложились на сердце иначе, как если бы к ним прилипал дополнительный смысл, рождаемый самим этим безмолвием, несказанностью и неспетостью стихов. Знакомые строки казались теперь намного весомей, словно они несли в себе сакральный смысл. Так просто о сложном, доступно и понятно о том, что ищет каждая душа. Ещё недавно мы повторяли хором "Ленин – жив" Маяковского, теперь же будут писать на стенах домов, что Цой жив. И Цою в этом плане повезëт намного больше.
Однако это только впереди. Сейчас я читаю брошюру, и за этим занятием меня застаëт тихо вошедшая в пионерскую комнату завуч. Она садится рядом со мной, берëт брошюру у меня, пролистывает и читает вслух:
– “И мы знаем, что так было всегда, Что судьбою больше любим, Кто живёт по законам другим И кому умирать молодым”. Надо же, какая поэзия! – восклицает она с совершенно искренним изумлением. – Как у тебя идут здесь дела? Я, как ни загляну, ты сидишь за столом и читаешь. Старшая недовольна, говорит, ты только пионерскую охраняешь.
– Я не знаю, что мне делать. Она мне дала этот устав и велела читать и больше ничего не говорит.
– Я так и думала. Это всё из-за денег. До твоего прихода эти две должности были еë, старшая и просто вожатая. Мы ей оставили старшую, но она недовольна, меньше зарплата теперь. Она тебя выживает.
– Что же мне делать? – я не знала всех нюансов, и потому сейчас мне очень не по себе. Я перешла дорогу начальнице.
– Давай так. Мы без неë обойдëмся. Жизнь сильно изменилась, она же работает по старинке. Ты поезжай во Дворец пионеров, поспрашивай, что теперь требуется от пионервожатых. Они подскажут.
– Хорошо.
– Потом зайди ко мне обязательно, обсудим, как дальше нам быть.
На следующий же день я еду в Дворец пионеров и объясняю ситуацию. Приветливая директор осторожно подводит меня к тому, что прежней пионерской организации уже как бы нет, что сейчас они работают по-другому. Сейчас свобода действий у пионервожатых, они, мол, делают на местах, кто во что горазд.
– Ну, вот, например, любишь ты танцевать, организуй танцевальный кружок в своей школе. Театральный кружок неплохо у многих идëт. В общем, твоя задача – занять учащихся чем-нибудь интересным в свободное от уроков время.
Я передаю слово в слово всë завучу. Идея ей нравится, и я развожу прямо бурную деятельность в ещё недавно скучающей пионерской комнате – танцевальный кружок, кукольный театр, сценки, репетиции. Старшая пионервожатая в бешенстве, поскольку теперь в еë святая святых кишмя кишат не просто послушные пионеры, а целые кружки по интересам. Там шумно, весело, и в то же время мы заняты делом.
Я уйду через год, как раз вовремя. В то же время уже окончательно канет в Лету и вся пионерия с еë призывным "Будь готов! – Всегда готов! " Оказалось, готовыми не были.
***
Апрель 22-го. Я даю присягу гражданина Российской Федерации. Я выучила еë наизусть и сейчас произношу не формально, а, как мне кажется, с душой. Начальник паспортного стола смотрит на меня с интересом, потом вручает мне паспорт РФ. Свершилось. Спустя почти три года после того, как я в очередной раз пересекла российско-казахстанскую границу, чтобы остаться в России уже навсегда.
Пройдëт ещё четыре месяца, и объявят частичную мобилизацию, после чего часть россиян хлынет прочь из страны, в том числе в мой родной Казахстан. Это будет так странно. Я мечтала стать частью России, величайшей страны, полюбившейся мне безоглядно в ежегодных моих путешествиях на протяжении нескольких лет. Алтай, Сочи, Байкал, Геленджик, Карелия, Урал и все те многочисленные города, посёлки и деревеньки, что встречались нам по пути, совершенно влюбили меня в этот дивный край, с его неповторимыми энергиями, самобытностью, разнообразием природы. И теперь я свидетель того, как отсюда бегут его граждане, те, кому эта страна нужна только в здравии, те, кто хочет быть с ней только в радости. И мне страшно обидно. За всех тех, кто, как умел, строил для ныне живущих светлое будущее, за всех тех, кто думал, что победил фашизм в 45-м.
Получается, всë было зря? Получается, не извëлся во многих из нас тот самый Иуда, что готов предать Бога за мизер и за шкуру продать свою душу. Но и это бы ладно. Очень даже похоже, что мы можем легко уничтожить своими руками или дать уничтожить кому-то даже то, без чего не прожить нашей шкуре, само место еë обитания. Стать Иудой с верёвкой на шее. И всë ради чего?
Может, так мы пытаемся глобально избавиться от собственно шкуры?
Может, это такой общечеловеческий Самосаботаж?
Глава 13. Конец света. С нами и без нас
1995-й. Мы с одногруппницей идём на остановку после занятий в универе и коротаем время по дороге разговорами о том о сём.
– И до нас когда-нибудь дойдёт очередь. Все умирают, – говорю я в продолжение темы о ком-то усопшем.
– Конечно, – соглашается одногруппница и тут же возбужденно добавляет, – Но вот я всё равно никак не могу представить, как это – меня не будет?
Эта фраза почему-то врезается мне в мозг, и я долго думаю её потом.
Одногруппница, судя по выражению лица и интонации, имела в виду, что не могла представить этот мир без себя в нём, не понимала, как он может продолжаться без её участия. Меня это изрядно удивило. Ведь ясно же, что может и спокойно продолжается. Вон сколько кладбищ по городу.
Я никогда не была склонна к переоценке собственной значимости, где бы и как бы то ни было, но к философским посылам всегда имела чутьё. В “Как это – меня не будет?” я уловила другое значение, которое было куда интересней эгоистичного “И вы посмеете быть без меня?”
Что будет в этом моём “не будет”? Что будет, когда меня не станет здесь, куда я дальше? И есть ли это дальше? Как пела горячо любимая мной в ту пору Мадонна в “Эвите”, “So what happens now?…Where am I going to?” (Так что же теперь? Куда я иду?).
Библейские указатели Ад/Рай, даже в бытность моей максимальной вовлечённости в дела религиозные, казались мне подозрительно примитивными для такого сложного создания, как человек. Один мой знакомый справедливо заметил однажды, что сложно представить все эти градации праведности и греховности, по которым нас будут распределять туда, либо туда. Я бы добавила – невозможно. Однако и противоположное мнение, обыденным тоном представленное как-то моим свёкром-атеистом (атеистом на сколько процентов судить теперь не возьмусь) – “А что там дальше? Два метра под землю, и всё” – вызывало во мне категоричный протест. Истина явно была где-то рядом, или между, не в крайностях.
Что будет в мире без нас представить нетрудно. Как-то свекровь поделилась со мной своими чувствами после утраты старшего сына: “Я помню, Витенька когда умер, я утром выхожу на улицу на следующий день, смотрю, солнце светит, мороз, люди ходят. Жизнь идёт, как шла. А мне так странно. Его нет, а жизнь продолжается. Как такое возможно?” Куда как сложнее представить, что будет с нами вне мира. Ведь оттуда не возвращаются, чтобы поведать о жизни загробной.
Хотя нет, возвращаются, причём многие, после клинической смерти. И есть целое собрание их свидетельств, представленных доктором Моуди в его нашумевшей “Жизни после жизни”. Есть такие свидетельства и у меня, добытые мною случайно в разное время от разных людей.
Кто-то в этом состоянии небытия слышал отчетливо, что говорили врачи, считавшие пациента почившим. Кто-то видел, как в палату вплывают монашки, а кто-то наблюдал себя со стороны. Всё это, конечно же, не тянет на “неоспоримые свидетельства”, но, как минимум, указывает нам на то, как же недостаточно ещё мы знаем о себе физиологических, о мозге в частности, мало о себе психических и совсем уж мизер о себе духовных.
***
Я смотрю в окно и то, что я там вижу, пугает меня и завораживает одновременно. На небе два солнца. Они расположены рядом, бок о бок. Небо закатное. Картинка сама по себе то укрупняется, то уменьшается, словно бы я наблюдаю её в какой-то прибор. И тут звонит телефон. Телефон массивный, старинный. Я поднимаю трубку, а там говорят, мол, всё, это конец. У меня паника. Та старая добрая паника, каких я пережила десятки уже в снах о наступившем конце света. В основном это были потопы. А теперь вот два солнца. И это страшное чувство, что ничего нельзя изменить, никуда убежать, словно бы ты сжимаешься в точку, из которой сейчас разорвёшься на миллиарды частиц. Я опять возвращаюсь к окну, и душа обрывается. Я шепчу безысходное: “Всё. Волна пошла”. И в ужасе просыпаюсь.
Самое любопытное, что через пару-тройку дней я натыкаюсь на новость о двойном солнце в Китае, и к ней прилагается видео. Точь-в-точь как во сне, два солнышка рядом. И всё вроде невинно – оптический глюк.
Это был март 2011-го.
На статью о солнцах я наткнулась не случайно. У меня был сайт, где среди прочего я публиковала материалы о конце света. Эта тема мне в принципе была интересна, а, учитывая, что позади был 2000-й с несостоявшимся IT-армагеддоном, а впереди уже вовсю маячил майянский апокалипсис 2012-го, то я нет-нет просматривала новости на предмет чего-нибудь такого, интересного. Выходит, сон был в руку? И как ещё!
На сайте у меня была статья про некоего христианского проповедника из США, Гарольда Кэмпинга, который якобы рассчитал дату обещанного в Библии апокалипсиса. При этом он использовал разработанную им же математическую систему для интерпретации библейских пророчеств. Так вот, по расчетам его выходило, что до конца времен рукой подать, оно случится 11 мая 2011-года.
Совместно с последователями этот Кэмпинг развернул довольно мощную кампанию по оповещению населения планеты Земля о грядущем уничтожении её Богом. Сначала, собственно в мае 2011-го, 200 миллионов человек (верующих, разумеется) вознесутся на Небеса, а спустя пять месяцев сущего ада для оставшихся на планете последняя вместе с космосом будут тотально уничтожены огнём, и вместо них возникнут новые Земля и Небо. Об этом землян оповещали имейлами и билбордами внушительных размеров, установленными где только можно, включая Россию – Господь грядёт 21 мая 2011.
Статья эта висела у меня с конца ноября 2010-го. В декабре к ней появился первый комментарий, от представителя кэмпингской паствы, который гласил:
#1 Алекс 27.12.2010 05:25
Определение даты конца мира – очень не простое дело. Определение этой даты очень тесно связано с знанием хронологии истории мира. Упомянутый вами Х. Кэмпинг в свое время исследовал и написал книгу: "Хронология истории мира". Что касается 1994 года, то это не было предсказание – это была книга которая называлась: "1994?" обратитет внимание на знак вопроса после даты. Никто не утверждал, что 1994 год однозначно будет последним. Кстати, в той же книге 2011-й год упоминался, как возможный кандитат. А вот сейчас, на основании еще более глубокого исследования Библии – это стало известно достоверно.
Май 21-е, 2011-го года – начало Судного Дня.
Потом стали подтягиваться любопытствующие. Завязалась дискуссия, в которой Алекс принимал активное участие. Дискуссия носила размеренный характер. Казалось, кроме Алекса, никто не верил в Кэмпинга с его расчётами. Однако конец света, так или иначе, люди очень даже допускали. Рассматривались все возможные варианты, но, правда, когда-то потом. Прямо сейчас никто не был готов к апокалипсису, что и неудивительно.
#13 Света 25.02.2011 15:12
Народ,вот действительно,к онец света должен был быть и в 2000 и в 2002
уже и в 2011,2012…и т д.
кому верить?стоит ли верить в это?
ну все равно ,немного стремно
так если подумать,то если в этом году будет конец света,тогда можно и билеты не учить)
а с другой сторрону страшновато… :sigh:
Ближе к назначенной дате любопытствующих, а то и откровенно встревоженных значительно прибыло. Комменты всё текли и текли. Сначала неспешной речушкой, затем превратились в бурлящий поток. Алекс всё это время был с нами, говорил преимущественно цитатами из Писания. А ближе к назначенной дате на сайте случилось цунами.
Люди искали ответы, хотели удостовериться в том, что это очередное враньё. Кто-то уже откровенно паниковал и истерил. Были такие, что предлагали встречать конец света на сайте, мол, будем вместе держаться. 1000 комментариев к одной незамысловатой статейке. Такого мой сайт не видел ещё и больше уже не увидит.
Накануне назначенного Армагеддона он буквально упал от наплыва. А в день собственно Армагеддона, когда я оказалась на улице, окружающий мир показался мне несколько необычным, словно бы в нём прямо сейчас проходило солнечное затмение, а его в тот день не ждали. Ждали Армагеддон. Разыгралось воображение? Вирус Кэмпинга проник и в меня? Или в самом деле над Землёй пронеслась зловещая тень, порождённая коллективным сознательным-бессознательным?
Так или иначе, 21-го мая ничего не случилось. Народ пару дней заходил ещё за ответами. Алекс, ясное дело, на связь уже не выходил. Люди в комментах пошутили – вознёсся – и вернулись в свою обычно-привычную жизнь.
***
Обычный погожий денëк. Мы с одноклассницей возвращаемся из школы домой. Почти пришли, и тут раздаëтся сирена. Во мне что-то срабатывает, моментально. Я замираю как вкопанная и кричу однокласснице:
– Бежим!
Она поворачивается и смотрит на меня квадратными глазами, а я готова уже рвануть со всех ног.
– Куда?
Она явно не понимает, что происходит, и я кричу, чтоб скорей до неë донести:
– В бомбоубежище!
До неë постепенно доходит, что со мной творится неладное, до меня ещё нет.
– Зачем? – ошарашенно спрашивает она. И тут я замечаю, что кроме меня никто никуда удрать не пытается, все идут в размеренном темпе, солнце светит, птички поют. Но, возможно, они плохо слышат?
– Ты слышишь? Сирена? – продолжаю держаться я за свой страх.
– Ну и что? – почти спокойно уже отвечает одноклассница, – они здесь часто.
Я почти выдыхаю, мы продолжаем движение по направлению к дому. Я пытаюсь оправдываться:
– Нам в школе говорили, если слышите сирену, сразу бегите в бомбоубежище. Будет ядерный взрыв.
– Даже если ядерная война – рассуждает одноклассница, – я без мамы никуда не побегу.
Пристыдила. Мало того, что я паникëрша изрядная, так ещё и законченная эгоистка. О близких, родителях, бабуле, дяде, тëте, брате даже мысль не мелькнула. Шкуру свою побежала спасать. Стыд и срам.
С сокрушающим мою детскую психику этим чувством, куда как более сильным, чем страх погибнуть от ядерной бомбы, я дотаскиваюсь до дома и рассказываю о случившемся родителям.
– Это не гражданская тревога, – поясняет мать. – Наверное, карьер опять взрывали. Ты разве не слышала раньше?
Конечно же, слышала, но даже не думала так реагировать. Должно быть, сказался недавний поход классом в бомбоубежище при заводе металлоконструкции. Хорошо освещённое подземное помещение, в котором нам, если что, придëтся спасаться, произвело на меня гнетущее впечатление. Плюс кошмар, приснившийся накануне.
Мне снилось, что я с какими-то людьми бегу в бомбоубежище. Бегу, как в замедленной съёмке, а за нами ракета. Я явственно вижу в небе еë, и она стремительно приближается. Бомбоубежище похоже на огромный ангар. Мы почти у двери. Ракета почти догнала нас. И тут я проснулась, в ужасе и оцепенении, гадая, успели мы спрятаться в бомбоубежище или нет.
Такие сны мне снились нередко тогда, примерно один и тот же сюжет. Наверное, я была чересчур впечатлительной. А, может, это что-то из разряда прошлых жизней или предчувствия будущих, как модно теперь говорить. Кто знает наверняка?
Это было в 1984-м (почти как у Оруэлла), за год до того, как мы начнëм активно сдавать свои позиции в ядерной гонке. С благими намерениями, разумеется.
Сегодня 2024-й. И мы опять на пороге ядерной катастрофы. Выходит, намерения не помогли. Выходит, что Воланд был прав?
***
2024-й. Снова сон про Потоп. Уже не знаю, какой по счëту, столько их было. Неужели что-то прочно сидит в генетической памяти на этот предмет и нет-нет, реагируя на какой-нибудь триггер, даëт знать о себе через сны?
Начинается всë одинаково. Я смотрю в окно и вижу, как прибывает вода. Чаще всего она останавливается, не доходя до окна. Но в этот раз всë по-другому. За окном, прямо по стёклам уже елозит гигантских размеров волна. Я в панике, судорожно соображаю, как законопатить все окна и щели, понимая при этом всю тщетность этих метаний. Нам не спастись. Снова душа сжимается в точку, готовая снова взорваться. В комнате есть ещё люди, мужчина сидит за компом, но их, как кажется, мало волнует происходящее.
Я подхожу к столу и вижу на нëм огромные наручные часы, они на подставке, как в витрине магазина. Затем я возвращаюсь к окну и вижу, что вода ушла. Передо мной дорога, залитая солнцем, блестит, словно после дождя. По ней беззаботно катит мальчишка на трëхколёснике. За ним неспешной походкой идёт женщина, мать, очевидно. Я испытываю странную смесь изумления и облегчения.
Всё отменилось?
***
Наши дни. Я общаюсь в Телеге с Искусственным интеллектом. В основном я прошу его подкинуть сюжеты картин, натюрмортов, пейзажей, по заданным мною параметрам. Иногда он справляется очень неплохо, иногда не справляется вовсе. На каком-то этапе у меня возникает иллюзия, что там, на другом конце связи, что-то живое, и я решаю спросить:
– Тебе нравятся морские пейзажи?
Моментально приходит ответ:
– Я ни в чём не могу иметь предпочтений, но я много знаю про морские пейзажи.
Что ж, возможно, именно эта особенность – отсутствие предпочтений – и есть основной гарант того, что ИИ не захочет/не сможет в будущем нас поработить, как предсказывают противники прорывных интернет-технологий.
Так совпало, что общались мы как раз в тот момент, когда я писала эту главу и, забавы ради, я попросила ИИ сочинить коротенький текст о конце света. Он ответил:
– Конечно! Вот небольшой текст о конце света:
Когда солнце зашло на некогда оживленной планете, её окутала глубокая тишина. Небо, окрашенное в огненно-красные и мрачно-серые оттенки, служило холстом для апокалипсиса. Моря угомонились, не ревели больше приливами-отливами, а шептали колыбельные покоящегося мира. Города, в которых прежде жизнь била ключом, замерли, став памятниками эфемерности бытия.
В сердце тишины природа вернула себе свою власть, окутав остатки цивилизации нежными объятиями. Конец света был не таким, как предсказывало человечество, – без катаклизмов, взрывов и инопланетных вторжений. Это было тихое прощание, медленный танец под неизбежный ритм времени.
Когда последний свет скрылся за горизонтом, Земля выдохнула, испустив остатки своего духа. В грандиозном гобелене космоса история нашей планеты была лишь мимолётной строчкой, кратким мигом красоты и хаоса, любви и утраты, созидания и разрушения.
И, в конце концов, остались лишь эхо мира, который когда-то существовал, шёпот, разносимый космическими ветрами, свидетельство наследия жизни, которая танцевала на поверхности некогда великолепной сферы, парившей в бескрайностях космоса.
Как минимум, это весьма поэтично. Мир просто угас, потому что ушло его время. Просто тихо исчез, не успев озадачиться даже вопросом, самым главным, наверно, – “Как это – меня не будет?” Хотя, может быть, вовсе не главным. Ведь теперь он знал точно, как это, когда он существовал. Разве этого мало?
Глава 14. Святые-человеки-люди-нелюди
Человечество, несмотря на то, что я являюсь его представителем, всегда изрядно интриговало меня. Целой массой своих нестыковок, важнейшая из которых несовпадение, часто шокирующее, теории жизни с практической еë стороной. Как в точку заметила одна моя знакомая: "В детстве нас учили одному, а в жизни всё оказалось иначе".
Однажды мне довелось прочесть художественную книгу про Каина. Весьма любопытный сюжет, основанный на библейском, конечно, но более жизненный, чем последний.
Адам и Ева в ней – совсем не первые люди, а лишь представители древних людей. Каин – сын Евы от некого Сатаны, который тоже был человеком, но представителем племени довольно животного толка, зацикленного на телесных утехах. Ева покинула это племя и стала женой Адама, родив с ним Авеля. Дальше, как в Библии, Каин завидует Авелю и убивает его. Адам и Ева с этого дня смотрят на Каина как на неведомое существо, не в силах понять, что такое могло побудить его совершить этот жуткий поступок.
Каин, спустя какое-то время, покидает Адама и Еву, а заодно и имевшуюся у него уже беременную жену. Он как будто не желает этого ребёнка и боится навредить ему. У Адама с Евой опасения того же толка. Каин отправляется в далёкие края, где становится правителем и отцом пятерых детей от горячо любимой им женщины и жены. О его преступлении там не знают.
И вдруг, как бы сегодня сказали, на пике карьеры и славы, он решает признаться своему ближайшему окружению в совершённом им когда-то убийстве. Он раскаивается, искренне, глубоко, это ноша, которую он тащит много лет и желает, наконец, освободиться. Однако близкие в шоке и ужасе, они не понимают, хоть и не выказывают осуждения явно. Зато Каин теперь понимает отчётливо, что кем бы и чем бы он ни был, каких бы высот ни достиг, таким – убийцей брата – его не примут и не поймут никогда. И он решает совершить самоубийство, избавив себя таким образом от невыносимых душевных терзаний.
Художественные интерпретации библейских сюжетов далеко не всегда бывают удачными. Однако однобокая черно-белость вторых тоже порой вводит в ступор. Насколько это соответствует действительности и насколько может быть к ней применено?
Здесь интересна подача главного персонажа, его эволюция от жестокого и хладнокровного убийцы, эгоистичного и малолюбящего, если вообще любящего, сына, мужа и отца до любящего мужа и родителя, мудрого правителя и, наконец, до человека, способного на глубочайшее раскаяние и даже жертву (самонаказание).
Возможно, я беру не самый удачный пример, но он вполне показателен.
А вот ещё один. Из отечественной кинематографии. Фильм "Остров" с Петром Мамоновым. Как бы кто ни относился к церкви и вере, история, рассказанная в нëм, однозначно проникает в душу и однозначно задевает самое нутро. А как бы я шëл по жизни с таким грузом вины за предательство и убийство товарища?
Персонаж Мамонова в самом начале осознанного жизненного пути смалодушничал и застрелил (как он думал) по приказу фашистов своего старшего товарища в надежде остаться в живых самому. Его подобрали монахи, и всю свою последующую жизнь он провёл в самоотречëнном служении Богу, достигнув в процессе таких глубин своего существа, что люди мирские начали почитать его за святого. И он действительно творил чудеса по меркам человека, не приученного либо не считающего нужным копаться в собственном нутре. Как у него сие выходило, рассуждать не возьмусь, но одно соображение всë же имею. Не моë, позаимствованное из другого художественного произведения, из серии "Отец Браун" Честертона.
Однажды этот отец Браун, католический священник и детектив-любитель два в одном, разоблачил играючи убийство, совершенное его коллегой пресвитерианцем, и на изумлëнное последнего: "Вы что, дьявол? ", ответил, просто, что во всех нас живут одни и те же демоны, и потому догадаться было несложно.
Ещё один католический деятель, Фома Кемпийский, в своëм труде "О подражании Христу" писал, что человеку, возрастающему в праведности, непременно открывается и бездна ада.
Бог троицу любит, как говорят. Поэтому возьму ещё один классический пример раскаявшегося преступника. Того, что был распят вместе с Христом и там на распятии уверовал в Него, за что удостоился рая.
***
Одна знакомая как-то прислала мне в соцсеть любопытную классификацию, которая делила всех нас на три основные группы – нелюди, люди и собственно человеки, соответственно низшая, средняя и высокая ступень эволюции. Кто-то добавил к ней ещё и высшую – святые.
Нелюди ближе к животному миру, руководствуются главным образом инстинктами. Люди – обыватели, живущие свои маленькие жизни, но "и милосердие иногда стучится в их сердца". Человек же более тяготеет к духовному, практикует самопознание и саморазвитие, ищет Бога в себе и вокруг. Но не факт, что когда-нибудь в этом всëм преуспеет за всю свою долгую жизнь. Кто действительно преуспевает, так это святые, за что собственно и почитаются как таковые. Это высший, что называется, пилотаж.
Если верить Ошо, индийскому мудрецу и мыслителю, а для этого есть основания, человек – текучее существо. Он меняется так или иначе на протяжении жизни. Это значит, что границы между группами в указанной классификации очень даже условны и сильно подвижны.
Если вы не рождаетесь сразу святым, то, как минимум, две ступени, животную (нелюди) и людскую (люди), точно проходите. Человек – уже как повезёт. Ну и, если брать широко, по ведущим признакам групп, нелюди вполне себе могут дорасти до людей, люди – до человеков, а последние иногда до святых.
И обратное тоже возможно. Кто был в 90-х, тот своими глазами наблюдал массовое нисхождение людей и даже порой человеков (тяга к духовному не гарантия от падения, часто, напротив, причина его) в мир "животных". Мне в этом плане особенно "повезло", я наблюдала его среди близких, на протяжении нескольких лет. И это было ужасно.
Нелюди – та категория, что лишает надежды на лучшее будущее всë человечество. Они – его, человечества, убийцы и самоубийцы. И их, к сожалению, много. Людей, правда, больше, как утверждают авторы подобных изысканий. Однако это не повод вздохнуть с облегчением, поскольку человеков слишком мало, чтоб как-то сравнять счёт. О святых уже не заикаюсь. Одним словом, так себе шансы. Особенно если учесть, что для перехода на более высокую ступень никак недостаточно желать, чтобы люди вокруг изменились, необходимо начинать этот процесс с себя. А это тот ещё подвиг.
***
22 марта 2024-го. Утро. Я набираю в поисковике на телефоне "босые ноги во сне". Сонники, как обычно, дают трактовки в духе "бабушка надвое сказала ". В одних босые ноги к бедствиям, в других – к удаче. Я ими пользуюсь крайне редко. Не помню, кто это сказал, но у людей в моëм возрасте должен быть уже свой персональный сонник, наработанный годами. И он у меня есть. Однако "босых ног" в нëм не оказалось, и я решаю спросить в интернете.
На самом деле босые ноги в моëм сне в конце. То же, что им предшествовало, я даже не знаю, как задать в поисковик.
Мне снилось, что я с роднёй и с подругой как будто в Кремле. Слово "Кремль" не звучит, и обстановка не то чтобы напоминающая кремлëвские палаты. Я просто это знаю. Мы были там на каком-то мероприятии и как будто уходим уже. Однако на выходе нас встречает мужчина с автоматом, обыскивает нас и грубо выпроваживает, при этом он говорит не по-русски. И это меня сильно удивляет там, во сне. Потом, проснувшись, я буду гадать, на каком языке он говорил, чеченском, арабском? И при чëм здесь Кремль вообще?
Мы выходим, идëм какое-то время по тротуару, я поворачиваюсь, а близких моих нет, они как будто отстали, или просто ушли, но почему не попрощались? С этим вопросом я продолжаю идти и вдруг замечаю, что на мне нет обуви, я босиком. Это странно. Я что, оставила туфли в Кремле? Быть может, вернуться? Но я решаю идти как есть дальше, стараясь не обращать внимания на прохожих. Затем просыпаюсь.
Сон снился с четверга на пятницу. Считается, что такие сны вещие.
Вечером того же дня интернет взорвëтся новостью о трагедии в Крокусе. И всë станет ясно.
Кремль – Москва, то бишь место трагедии.
Человек с автоматом, не говорящий по-русски, – террорист, в упор расстрелявший людей.
Отставшие близкие – погибшие и пострадавшие в концертном зале люди.
Босые ноги – беда, бедствие и не только. Женщины в туфлях, по словам очевидцев, сбрасывали их с себя, чтобы быстрее бежать.
И в который раз за свою жизнь я получу подтверждение тому, что вещие сны – самая бесполезная вещь. Их всегда понимаешь постфактум, когда ничего уже не изменить, всë случилось.
Я получу ещё одно прискорбное подтверждение тому, что нелюди не только существуют среди нас, но и что даже мизерное их количество может таить огромную угрозу для людей.
Я получу и утешительное, если можно так сказать, подтверждение тому, что человечность в разы возрастает в минуты всеобщего горя, что мояхатаскраювость отходит в них на задний план.
И маленькую надежду на то, что если кто-то пытается нас предупредить, не через спецслужбы, а по духовным каналам, то шансы дойти до высокой ступени развития не малым количеством, а большинством, у нас-таки есть.
А вот вам ещё одно доказательство в копилку теории о нелюдях-людях-человеках-святых. Когда спецназовец отрезал ухо террористу и пытался скормить это ухо ему же, я ощутила в себе хладнокровного мстителя, которого вообще не трогали вопли и кровь обезухенного. И я уверена, что многие, наблюдавшие эту сцену, испытывали чувства весьма далëкие от сострадания. Это Христос мог позволить себе приделать назад рабу ухо, отрезанное Петром, единственным, кто пытался Его защитить, но после предавшим три раза. Мы же в массе своей, похоже, живëм ещё в старозаветном режиме, где око за око и зуб за зуб. Мы всё ещё в массе своей люди-нелюди, в которых периодически пробиваются человеки и, крайне редко, но всё же мелькает святой.
***
Мой дед по матери не был святым. Я мало застала его, он умер от рака в тот год, когда я пошла в школу. Помню, как приложила ухо к его груди, прислушалась и объявила всем собравшимся у кровати, что сердце не бьётся. Женщины тут же начали голосить, кричать, наконец, мол, отмучился. Я наблюдала за ними и не понимала, почему они так расстроены, что собственно произошло. Их поведение потрясло меня больше, чем факт смерти деда. Я не осознавала ещё, что это конец. Не осознавала я этого, и когда начались приготовления к похоронам, и позднее, когда появился гроб с дедом посреди зала, и во время прощания у подъезда не пришло ещё осознание, и на кладбище даже. И лишь только когда гроб опустили в могилу и начали закидывать землёй, в голове у меня неожиданно перещёлкнуло, и я с истошным криком “Зачем они его закапывают???” начала рыдать, как ненормальная. До меня дошло, наконец, что деда ушёл безвозвратно.
Я не знаю, каким он был в молодости, каким в зрелом возрасте. Мне достался уже дед-алкоголик. Он частенько терял человеческий облик, когда напивался, и, бывало, скандалил. В основном требовал, чтобы дали ему ещё трёшку на выпивку, иногда мог сплясать или спеть. Самой любимой в репертуаре у него была песня “Враги сожгли родную хату”. Трезвый это был совсем другой человек. Честный, заботливый, трудолюбивый, а работал он в шахте. Мог легко помыть полы в подъезде с пятого этажа и чуть не до самого низа, приготовить завтрак всей семье и был очень щедрым. Словом, человек как человек. Но, однако же, были в нашем семейном архиве рассказы о нём, которые поднимали его в моём детском сознании, а после и взрослом, на какой-то другой, надчеловеческий уровень.
Когда случилась Великая отечественная, деду не было 18, и, чтобы попасть на фронт, он накинул себе целый год. Во время боёв он был легко ранен, фашистская пуля пробила ему руку между большим и указательным пальцем и застряла там. Деда отправили в госпиталь, но он оттуда сбежал, чтоб не отстать от своих, и пулю унёс с собой прямо в руке, как трофей. Она у него заросла там благополучно, и он её так и носил до конца своих дней.
После войны, когда дед был уже женат на бабуле и имел с ней детишек, они собрались переезжать из деревни в город. Пса своего цепного соседям решили оставить. Взяли свои нехитрые пожитки, сели в грузовик и тронулись. Пёс же убёг от соседей и мчался за грузовиком, что есть сил, а когда стал отставать, дед не выдержал и шарахнул кулаком по кабине, мол, останови. Пса забрали с собой.
Одно время дед работал экспедитором и чуть не угодил в тюрьму, когда ему, пьяному, вместо вагона тушенки, как было должно, загрузили вагон макарон. Либо плати недостачу, либо пойдёшь за хищение. Обратились к родне, которая могла помочь деньгами. Они отказали. Пришлось выкручиваться самим. Экономили страшно, бабуля брала всевозможные подработки, лишь бы спасти кормильца от срока. Всё тогда обошлось.
Прошли годы, дед уже работал на шахте, и у тех наших родственников, что отказали когда-то в деньгах, случилась такая же точно оказия – муж родной сестры бабули сделал недостачу, и ему грозил тюремный срок. Собрали всех ближайших родственников, то бишь еще одну сестру и брата младших с их вторыми половинами. Бабуля прочла слёзное письмо, в котором средняя сестра раскаивалась за тогдашний их отказ и умоляла помочь им деньгами, иначе супруга её посадят в тюрьму. Держали совет. Младшие брат и сестра с их супругами и бабуля высказались против, мол, как они с тобой Иваныч (дед) поступили, так и ты им теперь откажи. Аргументы посыпались жёсткие, ну ещё бы, такой шанс взять реванш, утолить давнишнюю обиду. Дед всё это слушал, слушал, а потом как даст кулаком по столу да как рявкнет: “Неправильно это! Надо помочь!” Ну, а поскольку младшие были ему много чем обязаны, то без особых возражений скинулись кто сколько и помогли. Да ещё и детей средней сестры приняли у себя в городе после и выучили в училищах.
Мне порой интересно, как много людей высокого, так сказать, интеллекту могут похвастать такой душевной широтой. И откуда она берётся в людях самых простых, ничего особо из себя не представляющих и ни на что особо не претендующих? Есть в иных из нас непостижимая глубина-ширина, независящая ни от чего наносного-приобретённого. Нечто врождённое, данное и не утраченное, не расплёсканное ими посредь жизненных бурь и потерь. Нечто безоговорочно ценное.
***
И снова сон. На этот раз не мой, а “Сон смешного человека” Достоевского.
Я познакомилась с этим фантастическим рассказом не очень давно, и он глубоко меня поразил. Это не фантастика, не вымысел в строгом смысле этого слова. Это про то, о чëм напрямую сказать невозможно, потому что неведомо, как это сделать словами. Это про то, о чëм говорят обычно иносказательно, притчами, сказками, мифами. Это про душу, про самый глубинный наш внутренний мир, при условии, что таковой нам известен, что мы, пусть иногда, но заглядываем внутрь себя.
Вот живëт человек и вот начинает раздумывать, а зачем он живёт. Вот он думает, ищет ответы и смыслы и как будто находит, но они его не особо устраивают. Словно здесь должно быть что-то ещё, что-то более важное. Но оно без конца ускользает.
Или так. Человек всегда думал, что вот это и есть смысл его жизни, то, как он нынче живёт, то, чем он нынче владеет. Но вдруг по какой-то причине этот смысл уходит – меняются обстоятельства, он утрачивает то, чем обладал. Всë пропало. Тем не менее, жизнь продолжается, появляются новые обстоятельства, а с ними и новые смыслы. Хотя может быть так, что с утратой чего-то особенно важного для него человек решает, что ему теперь незачем жить. Ничего хорошего с ним уже не случится, а значит, пора ставить точку.
Такую точку намерен поставить герой рассказа Достоевского, устав быть смешным и, как следствие, одиноким и совершенно никчëмным. Однако вместо выстрела в висок он в последний момент засыпает. И ему снится сон, в котором он прилетел на планету точь-в-точь как наша Земля, только там всё иначе. Там есть всё то, о чëм мы здесь неустанно мечтаем, но никогда не можем достичь, даже на межличностном уровне, не говоря уже об общечеловеческом – любовь, согласие, взаимопонимание, гармония и счастье. Словом, настоящий рай.
И вот наш герой живёт среди этих счастливых людей и смотрит за ними. И что бы вы думали? Одним своим только присутствием, своим нахождением там он умудряется их развратить. И вскорости идеальный сей мир превращается в подобие нашей многострадальной Земли – вражда, зависть, ненависть, эпидемии, войны. Кромешный ад, да и только.
Однако сам человек, проснувшись, меняется. Он более не ищет смерти, он видел другой мир, он знает, как там было, и уверен, что и здесь всё может быть иначе. И отныне он станет говорить об этом всем и всякому.
Какое великолепное иносказание! Ведь очень глубоко внутри у каждого из нас есть это чувство утраты чего-то очень важного. Душа как будто помнит, про некое место, где всё иначе, чем здесь, на Земле. Место, где она может забыть о своëм сиротливом страдании и об уродстве этого мира, где она, в сущности, Дома и расцветает самым прекрасным цветком.
Кто-то, зачем-то, когда-то, бог знает кто, зачем и когда, выдернул еë из этого места, дав ей вкусить отравленного плода и заставив уснуть таким образом в стеклянном гробу. И этот кто-то без устали смотрится в зеркало, которое призвано убедить его в первостепеннейшей своей важности. И зеркало делает это, но и не забывает о той, что лежит в стеклянном гробу. Зеркало помнит про ту, которую отразить невозможно, именно потому, что она неотразима, равно как и невысказана. Зеркало-эго, конечно же, знает про душу, с которой ему не сравниться. Что же делать? Умертвить еë невозможно, душа ведь бессмертна. Значит, нужно еë отравить. И эго прекрасно справляется с этим и, что ещë хуже, делает это смыслом всего своего существования.
Ему не нужны конкуренты. Оно не может быть идеальным, потому как уродливо по своей сути, хоть и умеет создавать довольно привлекательные маски. Эго корëжит всячески то, чья природа и есть уже идеал, что уже само по себе совершенно, чему не нужны украшательства какого бы то ни было толка, что уже содержит в себе всë то, о чëм эго может лишь только мечтать. Не умертвить, так хоть покорëжить, заставить забыть о том, что она такое по сути, что она и есть то самое ценное-важное, тот самый главный смысл и самая почëтная обитательница того Дома, о котором эго толком даже не может помыслить. Она должна быть королевой и хозяйкой бала под названием "жизнь", не эго. Последнее дано ей в услужение. Однако в какой-то момент роли перевернулись, и низшее и примитивное, как это часто случалось, к слову сказать, в истории человечества, взяло верх над высшим, пленило его и сделало своим рабом.
Душа, покоящаяся в стеклянном гробу, безмолвная, безупречная и прекрасная, смутно помнит о некоем другом мире, который ей стал недоступен, куда еë не пропускают, и куда она может попасть, если морок от яда в том яблоке схлынет. Она пробудится и затребует то, что ей принадлежит по определению – распоряжаться в этих мире и жизни на своë усмотрение.
Но что же способно еë пробудить?
У Достоевского эту роль сыграл револьвер, который вот-вот поставит крест на бессмысленном существовании героя, бессмысленном для его эго. Ведь он был всего лишь смешным. Близость смерти сыграла с ним шутку, и внутренний его мир стал с головы на ноги. Он понял, как надо, как дОлжно быть и как правильно. Душа обрела в нëм себя и поверила, что так может каждый. Смешной человек предпочёл остаться смешным, принëс в жертву конечное эго, и всё это ради того, чтобы дать развернуться в себе бессмертной душе.
А в сказке это был принц на белом коне и его поцелуй. Понятные каждому атрибуты романтики, первой влюблëнности. Эго должно заболеть, должно заразиться любовью, должно пережить потрясение от которого вдребезги разлетится стеклянный саркофаг души, и она, проснувшись, вспомнит, что еë призвание – летать. А раз всколыхнувшись как следует и познав свой полëт, она уже навряд ли снова впадëт в глухую спячку, но будет то и дело настойчиво давать знать о себе. И с каждым таким знаком игнорировать еë будет всë сложнее. Разве что добровольно отгрызть ядовитое яблоко и снова впасть в спячку. Но это уже про другое.
***
И, кстати, о другом. Есть ведь еще искусственный интеллект, который в значительной мере претендует на то, чтобы стать там и сям нам заменой. Не буду включать дремучую старуху, которая боится всего нового и видит в нем угрозу для будущего человечества. Но факт есть факт – ИИ уже умеет много всего всякого, на что огромный процент человеков никак не способен. К примеру, состряпать за считанные секунды неплохую картинку, за очень короткое время выдать приличного объёма текст, к которому трудно придраться как в смысловом, так и в грамматико-стилистическом плане. Он может, а мы нет. Как минимум, далеко не многие могут. И разве это не должно, как минимум, смущать? Разве его не лепили по нашему подобию-образу? А если не по-нашему, то по чьему? Вопросы, вопросы, вопросы…
Так или иначе, я спросила у этого нового “зверя”, кто, мол, такие нелюди. И вот, что он ответил:
Нелюди – это термин, который может использоваться в различных контекстах, но чаще всего он применяется в мифологии, фольклоре и фантастической литературе для обозначения существ, которые по своим качествам и поведению сильно отличаются от людей. Это могут быть мифические создания, обладающие сверхъестественными способностями или ужасающим внешним видом, или же персонажи, чьи поступки настолько жестоки и бесчеловечны, что их трудно признать людьми в моральном смысле.
В литературе нелюди часто выступают в роли антагонистов или символов зла, которые противостоят героям и порядку. Они могут быть представителями тёмных сил, демонами, вампирами, оборотнями или любыми другими существами, чья природа и действия вызывают страх и отвращение. В некоторых культурах понятие нелюдей может также относиться к духам предков или защитникам природы, которые, хоть и отличаются от людей, не всегда являются злонамеренными.
С точки зрения психологии и социологии, образ нелюдей может использоваться для отражения глубинных страхов, предрассудков или социальных стигм. Это способ выразить через метафору то, что кажется чуждым и непонятным, а также способ обсуждения тем табу, таких как насилие, жестокость и отклоняющееся поведение.
Таким образом, нелюди – это не просто персонажи из сказок и легенд, но и мощный символический инструмент, который позволяет людям исследовать темные стороны человеческой природы и общественные нормы.
Надо признать, что искусственный интеллект довольно милосерден к тем, кто его создал. Будь моя воля, уж я бы поплясала на “костях” этих самых нелюдей. Однако же избавлю читателя от проявлений тёмной и кровожадной своей стороны, а вместо неё продемонстрирую выкладку ИИ о людях. Здесь я решила пойти в обратном порядке, эволюционном – нелюди, люди, человеки, святые. Хотя, глядя на то, что нынче творится вокруг, порядок святые, человеки, люди, нелюди тоже вполне себе выглядит эволюционным, только в обратную сторону. Конечно же, я обобщаю и, конечно, утрирую, но вернёмся к нашему умному другу.
Люди – это разумные существа, представители вида Homo sapiens, которые обладают уникальной способностью к мышлению, самосознанию и созданию сложных форм социальной организации. Человечество развивалось на протяжении миллионов лет, пройдя долгий путь эволюции от примитивных гоминид до современного состояния.
Основной чертой людей является их способность к обучению и передаче знаний, что позволило создать развитые языки, культуру, искусство и науку. Люди способны на глубокие эмоциональные переживания и развитие моральных принципов, что отражается в религии, философии и законодательстве.
Социальные связи и сотрудничество играют ключевую роль в жизни людей. Они строят семьи, образуют общины и государства, работают вместе для достижения общих целей. Человеческое общество постоянно развивается, и каждое поколение вносит свой вклад в науку, технологии, культуру и многие другие аспекты жизни.
Несмотря на все достижения, люди также сталкиваются с множеством проблем, включая социальные конфликты, болезни, экологические кризисы и моральные дилеммы. Однако именно способность к преодолению трудностей, адаптации и инновациям позволяет человечеству продолжать развиваться и стремиться к лучшему будущему.
