Читать онлайн Дневник официантки: В поисках дома бесплатно
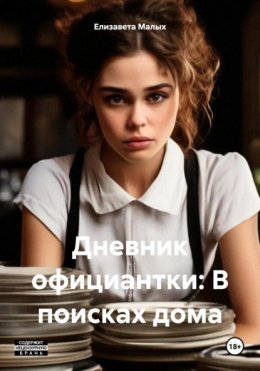
Портрет
Вы когда-нибудь сидели на «Полиграфе»1?
Пять датчиков подключаются к каждому пульсирующему источнику жизни.
Я дышу – они вздымаются. Я потею – они чувствуют. Я врастаю в кресло – они фиксируют. Меня щупает и сверлит глазами начальник службы охраны, а датчики измеряют скачущее давление. Они слушают меня.
– Вас зовут Ольга?
Агрегатом, принимающим по проводам мою пульсацию, управляет молодой парень в очках с противобликовым покрытием. За желтыми стеклами я не могу разглядеть его глаз.
– Да.
– Не волнуйтесь и продолжайте отвечать на вопросы однозначно. Да или нет.
Его ледяной голос хуже холодных блямб на груди, хуже тугого жгута на руке, хуже присосок на висках.
– Вы недавно переехали в Москву?
– Да.
– Сразу нашли работу?
– Да.
– Попадали ли вы в ситуации, о которых стыдно вспомнить?
– Нет.
– Вы замужем?
– Да.
– Есть ли у вас судимость?
– Нет.
– Мы сейчас в Москве? Вам нравится ваша работа? Вы тяжело просыпаетесь после вечеринок? Считаете ли вы себя профессионалом? Вас зовут Ольга? Вы выпиваете? Выпивали ли на рабочем месте? Вы единственный ребенок в семье? Воровали ли вы на работе? Ваша фамилия Коковихина? Воровали ли вы в данном заведении? Вас устраивают условия работы? Вам двадцать пять лет? Вы часто врете? Есть ли у вас кредит? Если бы у вас была возможность безнаказанно украсть большую сумму денег, вы украли?
За пределами каморки, в которой мы застряли втроем в полумраке, долбит музыка. Я не могу не пританцовывать. Инстинктивно качаюсь в такт веселой музыке. Напротив сидит Почемучка. Между нами провода, в которые меня запутали. Я в коконе.
Да. Да. Нет. Да! Ответы превращаются в музыку.
НачОхр, так мы его прозвали, не любит эту каморку с понатыканными в каждом углу мониторами. Здесь живут его подчиненные, спят и едят, глазеют в экраны, следят за нашими передвижениями, подслушивают, может быть, занимаются непотребными делами, кто их знает. Каморка насквозь пропахла потом, чипсами и дешевым одеколоном. Мы трое зажаты между двумя раскладушками. Одеяла скомканы, подушки валяются как попало, никто не ожидал НачОхра сегодня.
– Вам нравится ваша работа?
– Вы уже задавали этот вопрос.
За мои игры в «да-нет» заплатят Почемучке. Он получит за два часа работы, за два часа препарирования шесть тысяч рублей. Он составит мой психологический портрет, передаст его НачОхру. И мы с НачОхром станем близкими друзьями, если его ублажит мое внутреннее устройство психики.
Я ценный сотрудник, если на меня готовы потратить время и деньги. Я интересный человек, если меня готовы узнать. Я важна.
Нет. Нет. Нет!
Кажется, что я работаю с ценными бумагами и большими деньгами? А я всего лишь ответственная за пустые желудки и трезвые головы. Я – официантка.
– Закончим на этом. Подожди в раздевалке. Выпей кофе за мой счет, – НачОхр выдавил дружелюбие, – расшифровка займет еще два часа. Пока, пожалуйста, старайся не попадаться мне на глаза.
Темные и ароматные каморки кого угодно выведут из равновесия. Наконец-то музыка из бесконечных да-да-нет закончилась.
Меня целыми днями преследуют однообразные звуки. С необыкновенного звона начинается каждый день.
Звон за стеной, звон в моей комнате, звон у соседей. Утро в доме. Время будить мужа, готовить завтрак, гладить рубашки. Время не опаздывать на автобус. На работу, на работу. Время думать о жизни, о пробках, об утренней газете, о новостях, о вирусах и о терактах. Время думать о смерти. Время бояться. Вот-вот сейчас последний звон и точно вставать. Думать о будущем. Завтракать кашей, а не печеньем, потому что потолстеешь. Тогда время думать о красоте, время быть недовольной. Время скрывать недовольство. Время платить за квартиру. Сорок три тысячи улетели. Все рубли улетели какому-то армянину. Сусанян, за что? Время плакать. Время молиться и просить. Сорок три. Сорок три и три нуля. Почему не два? Время ворочаться и ненавидеть. Опаздываю. По потолку бегают маленькие ножки. Это девчушка, соседка сверху. У нее нет звона, нет будильника, она ещё рада, она ещё маленькая. Надо подарить ей будильник. Большой, детский, розовый. Потому что все у нее розовое, пятнистое, цветастое. Потому что так все дети ходят, чтобы не отличить друг от друга. Как большой инкубатор. Звон, звон. Все. Опоздала. Нет, утро в доме прекрасно. Просто дом чужой.
За порогом чужого дома ничего нет. Ничего, кроме работы, где на трясущихся ногах я улыбаюсь четырнадцать часов подряд с пятнадцатиминутным перерывом на обед.
После каморки очень захотелось глотнуть свежего воздуха. Перекур на улице разрешен даже некурящим. Но в пятачке на заднем дворе, между мусорных баков, редко насладишься одиночеством.
Таня, немолодая женщина в засаленном синем фартуке и в резиновых тапочках уборщицы, сначала закурила и только потом, выдохнув на меня облачко дыма, заговорила.
– Оль, – сказала она, – девочка моя, у нас проблемы, все уборщицы на тебя жалуются.
Затяжка, еще одно облачко.
– Ты зачем на унитаз ногами встаешь? Мы драим, значит, а ты настолько не уважаешь наш труд, что бумажку постелить не можешь. Бумаги-то завались, не платная. Понимаю, ты тут новенькая, не подружилась ни с кем, вот и брезгуешь. Но мы-то, думаешь, рады ваше говно подтирать? Не делай так, поняла?
Я не знала, что ответить, не из-за такого вдруг откровенного разговора, а из-за того, что впервые за полгода Таня по имени ко мне обратилась.
– Что молчишь-то? Хочешь сказать не ты это? Ты, проверяли несколько раз, только после тебя эти следы остаются. Мне твои извинения не нужны, я могу вытереть за тобой. Жалобы надоело слушать.
– А почему они мне сами об этом не сказали?
– Боялись, наверное, – очередное облачко, – лицо у тебя какое-то неприветливое, злое. Хотя, может быть, просто постеснялись сказать.
По Таниному взгляду было видно, что дело вовсе не в стеснении уборщиц. Я сделала вид, что не заметила этого укола в свой адрес, и как можно дружелюбней ответила:
– Хорошо, я поняла вас.
Она докурила, но не торопилась уходить, стояла и продолжала на меня смотреть, хотела убедиться, действительно ли до меня дошло, что я ей не нравлюсь. Я невозмутимо продолжала источать дружелюбие.
– Ага, – сказала Таня, потерев левую руку об карман фартука, – левая чешется к деньгам, очень хорошо, – и, улыбнувшись, она вплыла обратно в ресторан.
Я осталась стоять на месте, прокручивая план дальнейших действий: успокоиться и вернуться к работе или бросить все к чертям. Воспоминания о ценах на аренду квартир отрезвляют получше ледяной проруби, преодолев темный коридор, я спустилась в жаркую кухню. Здесь пахнет всем одновременно: белизной, жареным мясом, сырой рыбой, картоном и потом.
Самое жуткое рабочее время закончилось, белые воротнички, пообедав, вернулись в офисы, в ресторане пусто, есть еще пять свободных минут. Раздевалка занята, и единственным местом, где можно побыть одной, оставался туалет. Я защелкнула за собой шпингалет и первым делом бросилась к раковине умыть лицо, чтобы оно перестало быть таким недовольным, холодная вода обычно помогает. Не вытираясь, все равно нечем, я пыталась разглядеть в зеркале свою неприветливость и злость. Улыбалась все шире и шире, поворачивая голову в разные стороны, пока не заболели щеки. Где? Где они нашли эту злость? В дверь постучали, из принципа не ответила, закрыто – значит занято. Над унитазом висела табличка, гласившая: «Данное белое творение – трон, относись к нему с уважением». Во всех ресторанах служебный туалет увешан табличками с нелепыми надписями от номинала штрафов, до непристойных шуток. Удивительно, всем катастрофически не хватает уединения и развлечений, но даже в туалете через таблички продолжается токсичный диалог с коллегами. Размотала рулон бумаги до середины, аккуратно разложила его на сидушке, чтобы посмотреть, как это выглядит. Кто-то нетерпеливый и жаждущий одиночества выключил мне свет, пришлось наощупь добираться до выхода из комнаты уединения. Я прислушалась, поджидая, когда отойдут от двери, и вышла.
Гостей в зале не было. С четырех до шести можно немного подышать, облокотившись на барную стойку, чтобы не так сильно ныли ноги, молча заняться чем-нибудь спокойным, рутинным, например, складыванием салфеток или натиркой приборов. Я выбрала бокалы – они требуют предельной концентрации, а значит, можно ненадолго выпасть из жизни ресторанного муравейника, спрятаться от НачОхра.
Звон. Звон. Звон. Звон бокалов из стекла, качественной подделки под хрусталь. Они звенят опьяняюще весело. Звон праздника. Созыв друзей. Звон счастья. Сворачиваю квадратную накрахмаленную салфетку пополам. Схватываю ее с концов. Бокалы еще звенят, а капли на их теле ловят свет от диодов. Они звенят и отдыхают, они еще не знают, что будет дальше. Ножку бокала обхватываю одним концом салфетки, пузико бокала помещаю на другой конец салфетки между большим и указательным пальцами. Зажимаю, большой палец оказывается внутри пузика, проворачиваю бокал. Он больше не звенит. Он поет и хрустит. Хрустит как крекер. Он ломается. Вот тебе и хрусталь. Бокал будто укусили. Отломали ровные кусочки. Укусил кто-то и мою зарплату. «Бой посуды! Бой посуды! Бой посуды!» Как сирены завыли. Звон превратился в хруст, а хруст превратился в штраф.
Рядом со мной сидит за кассой маленькая женщина, кореяночка Валя. Всем дают русские имена, они внушают доверие. Валю не видно из-за барной стойки. Лишь ее черная макушка, как холмик, торчит над сосновой столешницей и переливается на свету. Чем мимолетнее связь с деньгами, тем охотнее люди платят. Не удивлюсь, если скоро построят погреб, куда упрячут кассу, сейф и эту корейскую женщину. НачОхр любит Валю, она пахнет деньгами, маленькая и не путается под ногами, а в её анкетной графе «желаемый доход» стоит: «Не больше тридцати пяти тысяч».
Светильники над баром развивают светобоязнь. Они призваны просвечивать насквозь посуду, чтобы она становилась в ловких руках натирщика соблазняюще пустой и чистой. Но, кажется, они просвечивают мои ребра. Валя смотрит на меня, я заворачиваю осколки. Они давно меня не ранят, нельзя повредить то, что итак сломано.
– Опять ты за свое, может хватит? – Валя достала бумажку из-под тяжелой кассы. Записала красивым почерком: «Оля – минус 300 рублей». Я почувствовала запах кислой капусты из ее рта. Кажется, на корейском это блюдо называется «Кимчи». Валя ежедневно ест его на обед из стеклянной баночки, которую хранит в сейфе с ночной выручкой.
Подошла моя очередь обедать. Очерёдность распределяется сама собой задолго до начала рабочего дня. Чётко по старшинству: «старички» едят самые первые, «новенькие» – самые последние, доедают то, что останется. Не могу привыкнуть к тому, что в месте, созданном для утоления аппетита, так странно кормят персонал. Гречка в одном котле с тушенкой и картошкой? Пожалуйста! Макароны вперемешку с капустой. Салат из сырой свеклы, чеснока и яблока, заправленный майонезом – коронное и самое свежее блюдо для голодных официантов. Приятнее воскресного обеда ничего нет: покупные пельмени «Останкино» с растопленным сливочным маслом и уксусом.
Кто-то за моей спиной шепнул:
– Твоя очередь. Не лопни от удовольствия. Они сегодня постарались.
Прохожу через длинную кухню, оканчивающуюся комнатой, предназначенной для мойки котлов. Три уборщицы пьют чай с мармеладом. Дальше через узкий коридор, заставленный большими холодильниками. Упираюсь в черный вход, поворачиваю налево, в углу, зажатый между двумя шкафами, стоит столик на одного, где я могу пообедать за десять минут. На столе для меня оставлены: капустный салат с уксусом, остатки паштета, который, видимо, нельзя подать гостям из-за истекшего срока годности. Рядом на тумбе в большом котле спрятался мутный суп. Поводила поварешкой, всплыл большой кусок разваренной куриной кожи. Хорошо, что я ношу с собой сухари с изюмом.
Особая форма извращения – заслать новеньких обслуживать пятиминутку, послеобеденный вторничный разнос. Препарирование всего коллектива или, как любит говорить Семен, старожил нашей рыгаловки: «Отвал башки». Какое необъяснимое удовольствие наблюдать за тем, как стажер вдавливается в пол, когда в ресторан через служебный вход вплывает «хозяин». Он только плавает, как аллигатор в засаде, бдит за каждой пылинкой, и если вдруг заметит, что из-за тебя заведение лишилось рубля или хорошего гостя, то пасть захлопнется на твоей шее, и не видать тебе зарплаты за два последних месяца. Как правило, хозяин – это знаменитость с туманным прошлым: бандит, юрист, политик, певец, хоккеист… Список можно продолжать бесконечно. Ключевое слово – «бывший» – человек, который расстался с баснословной суммой денег, жаждущий вернуть ее в тройном объеме. Поэтому твои ноги, будь ты хоть «старенький», хоть «новенький», должны передвигаться со скоростью света, а улыбка не слезать с твоей зеленой от нехватки кислорода рожи.
Светочка, наша стажерка, на трясущихся ногах ползет на «пятачок» (так мы называем одиноко стоящий круглый стол). Аллигатор не может кричать, пока не поест, и не может поесть, пока не покусает стажера. Все по правилам.
Звон. Звенят правила в моей голове. Правила выдалбливаются в коре мозга навсегда. «Правило открытой руки», «правило тройного нет», «правило высокого сервиса». «Правило восковой маски» из четырех пунктов гласит:
1) зашел в ресторан и вытер ножки,
2) все проблемы, личную жизнь и телефон оставил за порогом,
3) натянул улыбку,
4) включился в работу.
Аллигатор в засаде. Он ежедневно следит за тобой, смотрит в глаза или разглядывает твою спину через десяток маленьких глазков камер.
– Оля, ты знаешь, кто курит в служебном туалете?
Аллигаторам не принято отвечать. Только кивать головой в знак согласия. Препарирование началось.
– Оль, ты же жаловалась вчера.
Опять использует прослушку в женской раздевалке. Запрещенный прием. Наш аллигатор – бывший боксер. Кажется, он подзабыл правила честного боя.
– Оль, давай так. Я тебе – аванс, ты мне – имя. И мы его – на улицу.
Не отвечать, не отвечать, не отвечать.
Но ведь аллигатор смотрит на меня, на часы, снова на меня. Я трачу время, я трачу деньги. Нервирую, потому что сегодня по расписанию стоит чье-то увольнение. Только еще не решено чье. Как это так… Два месяца никого не увольняли? Неполадки. Главное долго не молчать, чтобы совсем дурой не показаться.
– Я не знаю, кто курит в общем туалете.
Я знаю, кто курит в общем туалете. Мир наградил меня сильнейшей аллергией на табачный дым. Как только дым добирается до лица в закрытом пространстве комнаты, происходит моё превращение в крота. В лучшем случае, я становлюсь им на несколько часов, в худшем – забираюсь в нору на неделю. Слизистая глаз набухает настолько сильно, что, если меня запустить на кухню к поварам китайцам, затеряюсь в толпе.
На выходе дежурит Малыш. Бывший боксер из Нальчика. Охранниками не рождаются, ими становятся, как и аллигаторами. Охранников для ресторана выбирают, как правило, по размерам грудной клетки. Чем шире ребра, тем лучше. Рука Малыша настолько большая, что, когда он продувает официантов в трубку алкометра, в камере, висящей над входом, не всегда четко видно попал ты в отверстие или нет. В дежурство Малыша официанты всегда счастливые – алкометр спрятан, все ощущают свободу. Во вторник такая свобода, конечно, не поможет, но она особенно актуальна для пятничного скоростного режима. Ночь тяжело пропахать на одном «Рэдбулле», обычно организм кричит о дозаправке, поэтому Семён по пятницам часто пьет за счет не знающих о своей неслыханной щедрости гостей. Он мне объяснял, как прислушиваясь к организму, выбирает пятничный напиток:
– Смотри, я слушаю себя. Я не должен после первой рюмки захотеть вздремнуть на складе среди пустых кеглей из-под пива или потанцевать, умоляя диджея врубить музыку начала двухтысячных, или, упаси Бог, захотеть переспать с кем-нибудь.
На самом деле Семён активно всем этим пользуется: не стесняясь, спит на складе, танцует за колонной, в схватке с мрамором глазки камер проигрывают. Семён не попадается три года – ни одного штрафа, а у меня за три месяца работы – пять штрафов. Но у Семёна есть суперспособность – творить беспредел за спинами других.
Это он курит в служебном туалете.
После того, как уплыл аллигатор, к нам заглянул седой бородатый мужчина в светлой рясе и с большим крестом на груди, он попросил называть его отцом Александром, блаженным. Заказал: устрицы, улитки, трепанги. В ожидании заказа курил одну за другой. Потом ел, зеленый соус капал прямо на рясу. Серьезный, хмурил брови от наслаждения. После еды снова закурил и стал осматривать окружающих, начал ходить вдоль столов, постоянно что-то бормоча. Подсел к веселой компании, все за столом перестали говорить и стали с недоумением его осматривать. Отец Александр зашептал им, что в рай попасть очень сложно, что они должны быть смиренными в этом мире. Пересказал неизвестную главу в Евангелии, которую «вырезали злые гады». Мужчина за столом не выдержал и грубо попросил его отойти. Отец Александр замолчал, выкурил под пристальными взглядами еще одну сигарету, встал и направился к выходу, благословляя «сердцем Божьим» всех и вся. На выходе он протянул мне листок с номером телефона и адресом, очень просил приехать сегодня же вечером. На столе, за которым он сидел, остался лежать неоплаченный счет.
Звон. Звон. Звон. Телефона и колокола. Звон креста, бьющегося об пузо, облаченное в рясу. Я звоню отцу Александру:
«Здравствуйте, не могли бы вы оплатить счет?»
Здравствуйте? Здравствуйте!
А в ответ только звон колокола и молитва не незнакомом мне языке. Миленький автоответчик.
Благословение мы разделили на восьмерых: пять официантов, два менеджера и один охранник. Разделили мы его, послушали еще раз десять молитву в исполнении автоответчика, и выпустили на волю, как голубей, по тысяче рублей из своих зарплат. Замолили, так сказать, свои грешки. Дорого нынче исповедь обходится.
«Алло, отец Александр. Помолитесь за нас, пожалуйста. За нас всех. За то, чтобы у кореянки перестало пахнуть изо рта, Малыш похудел, Семену помогло кодирование, а наш аллигатор вдруг подобрел. Особенно, я вас очень прошу, помолитесь за меня, попросите там звонаря, чтобы во сне я снова увидела дом».
Дом
Звон. Звон. Звон. Есть такие места из нашей прошлой жизни, из детства, которые звенят, в которые, сколько бы они не звенели, мы никогда не возвратимся. Может быть эти места прекратили свое существование, а может они продолжают растить других людей.
Есть такое место… Мой спутник бессонной ночи. Там я могу укрыться. Прекратить звон города.
Дом детства. Он возникает только в бессонную ночь, между четырьмя и пятью часами утра, когда муж вдруг заливается храпом. Вот истинное чувство защищенности: дом детства перед глазами и храп под ухом. Вытянутый короб, который хранит меня, как маленького цыпленка. Крохотная квартира, занимающая четверть старого деревянного дома на улице с неблагозвучным названием – Грязная.
В той квартире было много дверей, куда больше, чем комнат. Все двери случайно подобранные, несуразные: одна со стройки, другая досталась от соседей, третья сделана дедушкой из двух старых дверей шифоньера, еще была ярко-голубая маленькая дверь в кладовку и темно-бордовая, вся обклеенная наклейками, дверь в мамину спальню. Дом нависал над оврагом, одна его половина почти сползла к самому краю, от этого пол в квартире уходил вниз по наклонной, искажая узор линолеума. Я любила эти кривоватые узоры, желтый мрамор с нанесенной красной клеткой. Всего два окна на четыре комнаты – низкие, с голубыми ставнями, которые наглухо закрывались на ночь. В подполе под моей кроватью – картошка и огурцы. Когда все уходили из дома, я открывала тяжелую крышку подземелья и пела оперные арии трехлитровым банкам на псевдо-итальянском языке.
Все неизменно, сколько бы я ни пыталась представить что-нибудь другое. За окном всегда идет снег. Я брожу из комнаты в комнату в этой кривоватой квартире, глажу корешки многочисленных и ещё непрочитанных книг, ищу кота под диваном, варю картошку на двухконфорочной плите, рисую пальцем по замороженному стеклу окна, прячусь и плачу в огромном и страшном шкафу.
Не могу выйти оттуда. Всегда чего-то жду. Только вот чего?
Неужели чего-то до сих пор не хватает?
В арендованную комнату мы приехали полгода назад, на второй день после переезда в Москву, закатились в пустое пространство на трех стареньких чемоданах. Комната в «сталинке» с исполинскими потолками. Двадцать пять квадратных метров за двадцать пять тысяч рублей. Слишком большая площадь для двух вечно работающих дохляков. Мы ютимся в углу, у окна, на жестком надувном матрасе. Всё остальное пространство занимает книжный шкаф и эхо.
Эхо – третий житель комнаты, причудливо шепчет, вторит ночным разговорам и подслушивает тайны. Когда вдруг случается выходной раз в две недели, я остаюсь одна в этих двадцати пяти метрах и не знаю, чем себя занять. Пытаюсь готовить, но эхо жужжит: «Сомневайся в важности ж-ж-жизни». Пытаюсь убирать квартиру, но эхо свистит: «Думай о с-с-старости». Бросаю все дела и смотрю в окно, а оно продолжает, только уже улюлюкая: «У-у-у, какая же ты неу-у-удачница». Никакая мебель не может заткнуть дыры в пустом пространстве, заткнуть это эхо.
– Алло, Сусанян Радик, вы можете за прибавку к арендной плате, освободить вашу квартиру от лишних жильцов? Здесь есть кто-то… Он издевается надо мной. Мне страшно.
– Алло, это избавление от нечисти?
Эхо смеется. Скоро четыре утра, и я снова буду в безопасности.
Из-за того, что в Москве непривычно горячие батареи, приходится открывать окно. Жесткий матрас не выдерживает перепада температур и трещит по швам. Месяц назад один из основных швов лопнул, и посередине матраса образовался бугор. Ровно между мной и Антоном. Если вдруг мы оказываемся на одной половине, то матрас перевешивает набок, и Антон просыпается на полу. Поэтому он благородно занимает меньшую половину матраса, слева от бугра.
