Читать онлайн Неокантианство. Одиннадцатый том. Сборник эссе, статьей, текстов книг бесплатно
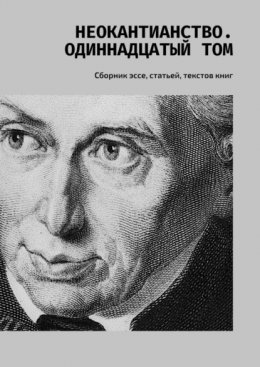
Переводчик Валерий Алексеевич Антонов
© Валерий Алексеевич Антонов, перевод, 2024
ISBN 978-5-0062-3974-6 (т. 11)
ISBN 978-5-0059-8583-5
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Предисловие
Сборник статей немецких мыслителей объединен тематическим принципом: в совокупности дают представление о разнообразии идей, тем и методов философского поиска начиная со второй полвины XVIII до начала XX вв. возникших под влиянием учения и идей И. Канта. В этом сборнике впервые переведены на русский язык тексты, опубликованные в немецких журналах и отдельными книгами.
В настоящем 11 томе представлены работы: Адама Вейшаупта, Отто Циглера, Готтлоба Бенджамина Яше, Фридриха Хармса, Эрнста Маркуса, Юлиус Гуттманна.
Используются следующие сокращения из сочинений Канта:
«Критика чистого разума» (сокращенно: Кр. д. р. В.), «Критика практического разума» (сокращенно: Кр. д. пр. В.) и «Религия в пределах чистого разума» (сокращенно: Рел.) по изданиям Кехрбаха, «Основоположение к метафизике чувств» (сокращенно: Грундл.) и «Пролегомены к одной из двух основных метафизик и т. д.» (сокращенно: Пролег.) по изданиям фон Кирхмана. (сокращенно: Proleg.) по изданиям фон Кирхмана, остальные сочинения – по «Кантаусгабе» Розенкранца (сокращенно: R.).
«В прежние времена диалектику изучали с большим усердием. Это искусство выдвигало ложные принципы под видом истины и стремилось утверждать вещи по видимости. Среди греков диалектики были администраторами и ораторами, которые могли вести народ туда, куда хотели, потому что народ можно было обмануть с помощью очевидности. Таким образом, диалектика была искусством создавать впечатления. В логике она также некоторое время фигурировала под названием искусства диспута, и так долго вся логика и философия были культурой некоторых пылких умов, чтобы искусственно создавать все кажущиеся явления. Но ничто не может быть более недостойным философа, чем культура такого искусства. Поэтому от него следует полностью отказаться в этом смысле, а вместо него ввести в логику критику этой кажимости». (Готтлоб Бенджамин Яше)
«Кант воздерживается от гипотез о неясном, как это делает эмпирическая психология, стремясь описать рост факта человеческого познания от первого временного начала, которое никому не известно, ни в душе детей, ни в животных, ни в так называемом первобытном человеке, который является лишь плодом воображения. Более того, описать рост этих фактов от минимального их начала вообще невозможно, если этот факт не был замечен заранее, как он дан». (Фридрих Хармс).
«Проблема, которую Кант поставил перед философией в связи с возможностью синтетических суждений, – это вопрос о том, как возможно расширение и увеличение нашего знания, как возможен прогресс в познании. Это не может произойти через применение формальной логики, поскольку из нее вытекают только аналитические суждения. Поэтому Кант, как и вся современная философия, отвергает формальную логику как органон или методологическую теорию наук. Из ее применения не следует никакого прогресса наук, а только их стагнация». (Фридрих Хармс).
«С одной стороны – старик Кант в полном одиночестве, с другой – несколько тысяч хранителей и блюстителей науки, живых и мертвых, – кому верить, одному Канту или нескольким тысячам хранителей и блюстителей?» (Эрнста Маркус)
«Я полностью согласен с читателем в его сомнениях, более того, я понимаю его, когда он отшатывается в благоговейном трепете перед могущественной армией хранителей и блюстителей. Их голоса – когда они звучат вместе – производят невероятный шум. Но – здесь, в отличие от парламентов и общих собраний пайщиков, решение принимает не большинство». (Эрнста Маркус)
«Кант допускает, что явления находятся вне нас, что они оказывают на нас влияние: но на этом дело отнюдь не заканчивается. Вопрос не просто в том, находится ли что-то вне нас, а в том, в какой степени то, что кажется вне нас, обладает собственной действительностью. Важно точно знать, насколько реальны те или иные явления. Ведь если они сами по себе не имеют объективно достоверного основания, это то же самое, как если бы все наше познание не имело основания». (Адам Вейшаупт).
«Согласно кантовской системе, мы ищем во всех явлениях то, что не является явлением, мы действительно признаем бытие таких вещей: но мы делаем все это лишь в силу совершенно субъективного правила нашего рассудка, чтобы внести единство и связность в многообразные явления: но в силу этого правила у нас нет никакой объективной уверенности в действительном бытии этих вещей. Их бытие также является лишь идеальным бытием. Мы лишь знаем, что должны предполагать его. Мы представляем себе, что под оболочкой явлений существуют такие неведомые силы, но это не делает их действительными. По крайней мере, мы никак не можем доказать их бытие: для нас они существуют так же, как если бы их не было вовсе, потому что они не проявляются во времени и пространстве, потому что, следовательно, к ним нельзя применить ни одной категории или понятия. Таким образом, то, что мы должны предполагать наличие этих нечувственных причин явлений в силу данного нам субъективного правила разума, ни в коей мере не доказывает их действительного бытия».
(Адам Вейшаупт).
«Метафизическая версия проблемы познания, если она направляет на нее свой актуальный вопрос, исходит из вопроса о том, как нашей познавательной деятельности удается выйти из сферы нашей субъективности и проникнуть в сами вещи, которые тем не менее всегда остаются отдельными от нас».
(Юлиус Гуттманн).
«Если бы суждения восприятия были единственным видом наших суждений, то все наше знание должно было бы исчерпываться простым собранием отдельных наблюдений. Мы никогда не сможем вынести суждение, которое было бы чем-то большим, чем просто суммой таких индивидуальных наблюдений. Суждения, претендующие на достоверность с вневременной общностью, никогда не могут быть результатом накопления перцептивных суждений. Поэтому, если существуют суждения, которые не ограничивают свою силу одним или несколькими найденными индивидуальными содержаниями, но претендуют на то, чтобы применяться ко всем случаям, в которых происходит определенное явление, они не могут иметь своей основой восприятие.»
(Юлиус Гуттманн)
АДАМ ВЕЙШАУПТ
О кантовском созерцании и явлениях
§1 Введение
В своей работе «Основание и достоверность человеческого знания» я обосновал невозможность тотальной субъективности, как мне кажется, вполне правдоподобно. Я показал, что любая система, ведущая к тотальной субъективности, должна быть отвергнута по той самой причине, что полностью субъективное познание ничем не лучше познания, которое вообще не имеет основания. Теперь я перехожу к вопросу, который сопряжен с еще большими трудностями, поскольку непоследовательность в таком вопросе менее заметна. Вопрос заключается в следующем: не являются ли по крайней мере некоторые части нашего познания просто субъективными? Такими частями нашего познания являются
1) созерцания
2) понятия,
3) суждения и умозаключения.
Какие из этих частей нашего познания полностью субъективны? В настоящем трактате я начинаю свое исследование с основы всех возможных познаний, с воззрений. Здесь можно спросить: все ли взгляды или только некоторые из них субъективны?
То, что все взгляды не являются полностью субъективными, вскоре становится ясно. Поскольку взгляды являются основой всех наших знаний; поскольку, согласно некоторым системам, все понятия и суждения основаны на них или, по крайней мере, чтобы иметь значение, должны ссылаться на них: таким образом, все наше знание было бы субъективным, если бы его основа, взгляды, не имела другого основания. Итак, в предыдущем трактате я по достаточным основаниям отрицал полную субъективность; поэтому, самое большее, только некоторые взгляды могут быть полностью субъективными по своей природе. Последнее также является фактической кантовской доктриной. Это допускает некую объективную реальность для всех взглядов. Предполагается, что только взгляды на время и пространство имеют субъективную природу.
Далее я докажу, что идеи времени и пространства столь же мало субъективны. Перед этим я постараюсь показать то, что отрицают все приверженцы кантовской системы, – что, согласно ей, все остальные взгляды без исключения полностью субъективны по своей природе. Для этого мой трактат делится на три части.
1) Я рассматриваю и доказываю, что, согласно кантовской системе, все взгляды полностью субъективны по своей природе.
2) Я объясняю основание и природу всех взглядов и доказываю, что в их основе лежит нечто объективное.
3) Исследую, являются ли время и пространство полностью субъективными по своей природе.
I. Кантианская система приводит к полной субъективности всех взглядов.
§2 Что такое созерцание согласно кантовской системе?
Слово Anschauung, насколько мне известно, характерно только для кантовской школы. Оно предназначено для обозначения эффекта, который воздействие внешних предметов производит в душе до того, как интеллект начинает действовать, до того, как он обрабатывает и распознает эти новые образы, привносимые в нашу душу. В других школах вместо этого слова используется слово «ощущение». В системе кантовского учения представления и ощущения отличаются друг от друга, предположительно по той причине, что, согласно этой системе, в основе нашего познания должно лежать нечто, не зависящее от всякого опыта, нечто, что уже находится в душе и является априорным. С ощущениями это не так хорошо работает, потому что чистое ощущение, ощущение a priori, не может быть предположено так же, как и чистое восприятие, поскольку каждое ощущение, по самой своей природе и названию, предполагает влияние, своего рода опыт, что-то приобретенное. Поэтому ощущения нельзя разделить на чистые и эмпирические так же легко, как это можно сделать с восприятиями, смысл и значение которых в меньшей степени определяются использованием языка. На самом деле, восприятие – это не что иное, как представление об отдельном человеке или отдельной вещи. Ибо смотреть можно только на индивиды, да и то лишь до тех пор, пока они не отнесены к тому или иному виду. Если между восприятием и ощущением должно быть различие, при котором меньше внимания уделяется последствиям, ожидаемым для пользы системы; тогда, возможно, ощущение будет относиться скорее к тому, что происходит в теле, тогда как восприятие призвано указать на изменения, происходящие в душе.
Согласно кантовской системе, эти восприятия не являются познанием, так же как и образ, отраженный зеркалом. Восприятие – это простое впечатление. Душа ведет себя совершенно страдательным образом, пока не действует интеллект. Но хотя восприятие не является познанием, тем не менее восприятия лежат в его основе: без них невозможна никакая деятельность рассудка, никакое мышление, никакое познание: ведь объект, которым занимается рассудок, – это понятия. Но сами по себе они пусты, лишены смысла и значения. Чтобы получить их, необходимо дать им объект, который нельзя найти нигде, кроме как в восприятии. Поэтому всякое мышление и познание должно прямо или косвенно относиться к представлениям. Ведь мыслить – значит судить, что данное восприятие должно быть подведено под ту или иную концепцию. Теперь, согласно этой системе, существуют чистые и эмпирические взгляды. Эмпирические относятся к объекту через ощущения, а объект эмпирического восприятия называется внешним видом. Поэтому основой нашего познания являются внешние проявления.
Но давайте лучше послушаем самого мирского мудреца. Я полагаю, что нам будет легче избежать недоразумений, если мы услышим его учение его собственными словами. Он начинает свою трансцендентальную эстетику следующими словами:
«Каким бы образом и с помощью каких бы средств познание ни обращалось к объектам, единственное, с помощью чего оно непосредственно обращается к ним и к чему стремится все мышление как к средству, – это созерцание. Оно, однако, имеет место лишь постольку, поскольку объект дан нам; но это, в свою очередь, возможно лишь при условии, что он определенным образом воздействует на разум. Способность (восприимчивость) получать идеи благодаря тому, как на нас воздействуют предметы, называется чувственностью. Итак, посредством чувственности нам даются предметы, и только она снабжает нас представлениями; но посредством рассудка они мыслятся, и из них возникают понятия. Всякое мышление, однако, должно в конечном счете относиться – прямо (непосредственно) или косвенно (опосредованно) – к представлениям, а значит, для нас – к чувственности, потому что никакой объект не может быть дан нам каким-либо иным способом».
«Воздействие объекта на способность воображения, в той мере, в какой мы подвержены этому воздействию, является ощущением. То восприятие, которое относится к объекту через ощущение, называется эмпирическим. Неопределенный объект эмпирического восприятия называется внешностью». (Кр. д. р. В., 1781, с. 19)
§3. Замечания по поводу кантовского отрывка, процитированного в §2
С одной стороны, заслуживает отдельного замечания, что профессор Кант в этом и других отрывках вместо выражения душа использует выражение разум, вопреки всем обычаям языка, когда речь идет о предмете нашего познания. Вскоре после этого (стр. 21) даже внешнее ощущение называется свойством нашего разума. Это приводит к большой путанице. Ведь согласно языковому употреблению мы понимаем под умом средоточие наших желаний и склонностей. Например, я говорю о добром, хорошо настроенном уме, о мстительном и плохо настроенном уме. Это слово никогда не используется для обозначения нашей когнитивной способности. Я никак не могу понять, почему здесь так явно отказались от использования языка, как кажется, без всякой необходимости; ведь должно быть, выражение душа указывает на слишком многое постоянное и независимое, тогда как, напротив, слово разум лучше подходит для явлений, которые, в силу этой системы, не должны основываться ни на чем постоянном.
И, во-вторых, я отмечаю, что здесь прямо утверждается, что постижение возможно лишь в той мере, в какой нам дан объект: но само оно возможно лишь благодаря тому, что данный объект определенным образом воздействует на разум: чувственность представляет собой способность получать постижения посредством того, как на нас воздействуют объекты. Таким образом, согласно кантовской системе, в силу как этих, так и других положений
1) существование внешних предметов утверждается, и
2) не отрицается даже их влияние на нас.
Таким образом, вне нас существуют действенные объекты, и столь явное утверждение их существования, по-видимому, противоречит системе тотальной субъективности, которую я ей приписал. Защитники этой системы также ни в коем случае не опровергают этими и подобными пассажами тех, кто обвиняет их доктрину в упразднении существования внешних объектов вместе со всем опытом. – Кто же здесь прав?
Не будем обманываться словами; давайте исследуем значение этих слов, а также их связь с другими принципами. Мы сразу же узнаем, что с другой стороны забирается все, что было дано нам с этой стороны.
§4. Каким образом, согласно кантовской доктрине, существуют объекты вне нас?
Согласно кантовской системе, в основе всего нашего знания лежат представления. Объектом эмпирической интуиции (ибо я не хочу говорить здесь о чистых интуициях) является, согласно стр. 20, не что иное, как внешность. Только явления можно рассматривать эмпирически. Только видимость является истинной основой нашего познания. То, что не является видимостью, не может быть объектом эмпирического восприятия. Таким образом, объекты восприятия действительно и объективно присутствуют вне нас только в той мере, в какой вне нас существуют действенные явления, в той мере, в какой сами эти явления являются чем-то реальным, в той мере, в какой эти явления являются чем-то большим, чем наши представления. Кант предполагает, что явления находятся вне нас, что они оказывают на нас воздействие: но на этом дело не заканчивается. Вопрос не просто в том, находится ли что-то вне нас, а скорее в том, насколько то, что кажется вне нас, обладает собственной реальностью. Важно точно знать, насколько реальны те или иные явления. Ведь если они сами по себе не имеют объективно достоверного основания, то это так же, как если бы все наше познание не имело основания. Итак, если кантовская система не утверждает полную субъективность взглядов, то это зависит от ответа на следующие вопросы: действительно ли в основе видимости лежит нечто, что не является видимостью, что есть нечто большее, чем наше представление, что имеет независимое от него существование? существуют ли вещи, которые, сами не будучи видимостями, производят эти видимости? Как следует отвечать на эти вопросы в соответствии с другими кантовскими принципами?
§5 Согласно кантовской системе, феномены – это ФЕНОМЕНЫ – ЭТО НЕЧТО ПОЛНОСТЬЮ СУБЪЕКТИВНОЕ
Первое доказательство
Явления, к которым относятся все другие явления, без которых они вообще невозможны, от которых все другие явления предполагаются лишь модификациями, состоят в том, что они находятся вне и рядом друг с другом, что они следуют друг за другом и изменяются. Следовательно, все явления состоят в протяженности, фигуре, непроницаемости, последовательности, изменении и движении. Согласно кантовской системе, все это субъективно; у нас нет объективной уверенности в том, что вещи, которые нам кажутся, действительно разделены, что они изменяются: все это, согласно этой системе, не является объективно истинным. Это всего лишь представления нашего разума. Вот доказательства:
1) «Но само пространство, вместе с этим временем, а вместе с тем и все видимости, не есть вещи сами по себе, а лишь представления, и не могут существовать вне нашего ума, и даже внутреннее и чувственное видение нашего ума, (как предмета сознания), детерминация которого представлена последовательностью различных состояний во времени, также не есть само действительное, как оно существует само по себе, или трансцендентальный предмет, а лишь видимость, данная чувственности этого неизвестного нам существа. Существование этой внутренней видимости, как вещи, существующей самой по себе, не может быть признано, потому что ее условием является время, которое не может быть определением вещи-в-себе». (Кр. д. р. В., стр. 492)
2) «Соответственно, предметы опыта никогда не даны сами по себе, а только в опыте, и вне его не существуют. – В действительности нам не дано ничего, кроме восприятия и эмпирического перехода от него к другим подобным восприятиям. Ибо сами по себе видимости как простые идеи реальны только в восприятии, которое на самом деле есть не что иное, как реальность чисто эмпирической идеи, т. е. видимости. Называть видимость реальной вещью до восприятия означает либо то, что мы должны встретить такое восприятие в ходе опыта, либо то, что оно вообще не имеет смысла. То, что она существует сама по себе, безотносительно к нашим органам чувств и возможному опыту, можно было бы сказать, если бы речь шла о вещи-в-себе. Но мы говорим только о видимости, как, например, пространство и время, которые не являются определениями вещей-в-себе, а только нашей чувственности; следовательно, то, что в них (видимостях) есть, не есть нечто само по себе, а просто идеи, которые, если они не даны в нас (в восприятии), нигде не могут быть найдены». (Кр. д. р. В., стр. 493)
3) «Мы достаточно доказали в трансцендентальной эстетике, что все, на что мы смотрим в пространстве или времени, и, следовательно, все объекты возможного для нас опыта, есть не что иное, как видимость, то есть простые идеи, которые, как они представляются, не имеют никакого существования, основанного на них самих как протяженных существ или рядов изменений, вне нашей мысли. Эту доктринальную концепцию я называю трансцендентальным идеализмом». (Кр. д. р. В., стр. 490)
4) «Но именно поэтому пространство и время не являются чем-то, что примыкает к самим объектам, а представляют собой лишь субъективные идеи в нас. Бытие в пространстве и времени, а следовательно, и протяжение, непроницаемость, преемственность, изменение и движение – это, следовательно, не свойства, принадлежащие самим свойствам и в себе, а идеи в наших мыслях, которые лишь примыкают к природе нашей чувственности. Поэтому мы знаем вещи только такими, какими они нам кажутся, то есть знаем только те впечатления, которые они производят на нашу чувственную способность воображения. Что они собой представляют, с другой стороны, или какие представления о них имеют другие разумные существа, нам совершенно неизвестно». (Шульц, Объяснения, стр. 204)
Из этих только что процитированных отрывков неоспоримо следует, что, согласно кантовской системе, все явления – это просто идеи. Что даже сосуществование вещей, последовательность всех изменений, все возможные изменения сами по себе не представляют ничего объективного, а являются лишь представлениями нашего разума: что мы никоим образом не можем утверждать, что помимо видимости существуют вещи-в-себе, которые действительно сосуществуют, которые действительно изменяются. Даже наше собственное существование, в силу первой цитаты, является простой мыслью, не имеющей объективной реальности. – А теперь, если это все, то назовите мне хоть одно восприятие или явление, которое не было бы просто субъективным! Где же реальный объект, скрытый субъект этих явлений, который является исключительным объектом наших взглядов?
§6 Второе доказательство
Если бы явления были чем-то большим, чем просто представления, то причина, возможно, заключалась бы в том, что мы предполагаем и предполагаем нечто реальное и существенное во всех явлениях. Согласно кантовской системе, мы действительно ищем во всех явлениях то, что не является явлением, мы действительно признаем существование таких вещей: но мы делаем все это лишь в силу совершенно субъективного правила понимания, чтобы внести единство и связность в столь многообразные явления: но в силу этого правила у нас нет объективной уверенности в реальном существовании этих вещей. Их существование также является лишь идеальным существованием. Мы лишь знаем, что должны предполагать его. Мы воображаем, что под покровом видимости существуют такие неведомые силы, но не поэтому они реальны. 1По крайней мере, мы никак не можем доказать их существование: для нас они таковы, как если бы их не было вовсе, потому что они не проявляются во времени и пространстве, потому что, следовательно, к ним нельзя применить ни одной категории или понятия. Таким образом, то, что мы должны предполагать существование этих нечувственных причин явлений в силу данного нам субъективного правила разума, никоим образом не доказывает их реального действительного существования. Итак, то, что мы должны предполагать существование этих нечувственных причин явлений в силу данного нам субъективного правила разума, ни в коей мере не доказывает их реального действительного существования. Это не объективная истина, что такие силы существуют. Это следствие нашей нынешней субъективности; у нас есть достаточные субъективные причины для этого существования, но нет объективных причин вообще. Итак, если мы признаем существование этих нечувственных оснований явлений чисто субъективно, то это просто игра слов, когда в цитированном выше кантовском отрывке (§2.) говорится о существовании внешних объектов, об их воздействии на наш разум, об опыте. Ибо все объекты восприятия, которые предполагаются активными, являются явлениями. Сами эти явления являются представлениями нашего ума, а не вещами в себе (§5. №1, 2, 3); более того, мы даже не знаем, имеют ли они реальное отдельное существование вне воображения. Таким образом, все происходит в нас самих: даже основания, которые мы еще дальше ищем в явлениях, трансцендентальный объект, мы предполагаем лишь в силу субъективного правила понимания, чтобы иметь нечто, к чему мы можем прилепиться, что соответствует чувственности как восприимчивости. Короче говоря, эти внешние действенные объекты опять-таки полностью субъективны; мы никоим образом не признаем их существование объективно. Следовательно, объекты наших восприятий, сами восприятия, а вместе с ними и основа всего нашего познания полностью субъективны.
§7 Третье доказательство
Возможно, приведенное доказательство (§6.) следует признать несостоятельным из-за того, что оппоненты утверждают, что они ни в коем случае не отрицают существование нечувственных причин явлений, что они просто сомневаются в этом из-за отсутствия у нас доказательств: что в силу этого сомнения все же остается весьма возможным, что такие сверхчувственные объекты существуют. Отвечаю: 1) Где нам не хватает доказательств? Как можно это утверждать? Неужели так очевидно, что все, что не проявляется во времени и пространстве, не имеет для нас доказуемого существования? И если это также должно быть так очевидно, то нет ли других причин? Разве это не является достаточным доказательством того, что если нет сверхчувственных оснований явлений, то эти явления вообще не имеют никакого основания вне души и наших представлений? что, следовательно, все наше познание субъективно? что тогда все те нелепые последствия, которые я противопоставил полной субъективности в своей работе «Об основании и достоверности нашего познания», стали бы явью? Кто может принять эти последствия? А если не может, то как он может утверждать, что у нас нет доказательств объективного существования таких объектов? Разве недостаточно того, что даже кантовская система признает необходимость, в силу которой, если мы хотим прийти к какому-то основанию нашего знания, мы должны, путем иллюзорной субрецепции, рассматривать это существование как объективное? Если эта идея настолько необходима, что без нее невозможно привнести единство и связность в наши представления, то почему она не является таковой на самом деле? Что толку в этой иллюзии, если мы признаем ее таковой? Если возможно, что это не более чем иллюзия? И если эта идея – нечто большее, чем просто иллюзия, то почему она называется простым субъективным правилом разума? Почему мы сомневаемся в ее объективной реальности?
Но давайте также предположим 2), что мы не можем доказать объективное существование дальнейших причин возникновения. Посмотрим, к чему приведет это утверждение. Итак, если дело обстоит так, что нам не хватает доказательств, то у нас либо нет причин для их существования, либо у нас есть столько же и столь же веских оснований утверждать обратное. Первое неверно: ведь я только что привел несколько решающих доводов в пользу этого существования. Тогда мы вынуждены допустить полную субъективность, а вместе с ней множество самых неоспоримых несоответствий и противоречий с другими принципами, признаваемыми нами как истинные. Или это вообще ничего не доказывает? Если второе, то, согласно кантовской системе, по меньшей мере сомнительно, что существуют ноумены. В равной степени возможно, что их нет: и если это так, то, тем не менее, неоспоримо, что есть явления. Если явления существуют, то разумно спросить, есть ли у этих явлений причина? Они есть, это то, что мы признаем с уверенностью. Они являются объектами нашего восприятия; это мы тоже знаем с уверенностью. Или это тоже не более чем феномен, что у нас есть представления и явления? Где тогда основание того феномена, который, как предполагается, содержит конечное основание всех остальных? Или вообще нет никакого конечного основания, никакого фундаментального феномена? Хотим ли мы постоянно предполагать еще одно, а затем еще более отдаленное, основанное на еще более отдаленном явлении, и так далее до бесконечности? – Здесь мы откладываем решение, мы просто уклоняемся от вопроса, но знаем не больше того, что знали вначале. Такой ответ, следовательно, не является ответом вообще. Если у явлений нет причины, то и у всего нашего познания нет причины. Нет ни субъекта, который познает, ни объекта, который познается. Какая непоследовательность может сравниться с этим? Поэтому явления должны иметь причину.
Но если у этих явлений есть причина, и эту причину не следует искать в бесконечной череде беспричинных явлений, возникающих одно из другого, то эту причину следует искать либо в одной только душе, либо в объектах вне души, которые не являются явлениями, либо в обоих одновременно. Кроме них, не существует никакой возможной четвертой причины. Если верно первое, то все явления, а следовательно, и все взгляды, полностью субъективны по своей природе, и все же, согласно стр. 20 Kr. d. r. V., они считаются находящимися вне души. В., они предполагаются вне души, как внешние объекты воззрений, как объекты, через которые становится возможным опыт. Кантианская система, не полностью отрицающая опыт, которая, кажется, отрицает полную субъективность взглядов, противоречила бы здесь самой себе. Но если полная субъективность не должна быть кантовской доктриной, то возможны только два других случая: тогда основание всех видимостей лежит исключительно во внешних вещах, которые не являются видимостями, или в них и в душе одновременно. Оба варианта предполагают существование таких внешних сверхчувственных объектов в качестве фундаментальной истины. Поэтому в данном случае несомненно, что такие объекты существуют. Так зачем же сомневаться, зачем отрицать, что они существуют? Если сомневаться или отрицать здесь, то что остается, кроме полной субъективности?
Поэтому у кантовской системы, а вместе с ней и у всего скептицизма, нет выбора. Отныне она должна придерживаться одного из трех следующих мнений. Она должна либо допустить, что все явления вообще не имеют причины, а значит, ни объективной, ни субъективной причины; либо утверждать, что причина всех явлений лежит исключительно в душе, а значит, все наше знание абсолютно субъективно; либо, наконец, если она не делает ни того, ни другого, то реальное существование сверхчувственных причин явлений является не проблематичным, а аподиктически [логически убедительным, доказуемым – wp] доказанным вопросом. У нас есть строго доказуемые причины для этого существования; и поэтому должно быть ложным, что только то, что мы распознаем во времени и пространстве, имеет для нас реальное существование. Из этого читатель может заранее узнать, на чем основывается необходимость некоторых истин разума, которые, согласно кантовской системе, должны быть полностью субъективными. Эта необходимость является следствием противоречия с другими пропозициями, уже принятыми и признанными в качестве истинных. Если эти первые пропозиции принимаются произвольно, то истинность и ложность последующих пропозиций условна, и принуждение признать их таковыми также условно. Но если в познании существует абсолютная неподвижная точка, то только отношение к ней определяет, что само по себе истинно или ложно. Это отношение, это противоречие и согласие с этим безоговорочным принципом и есть то, что вызывает принуждение и необходимость отвергнуть мнение или дать ему безусловное одобрение.
Итак, если каждая скептическая система доводится предыдущей до такой степени, что ей приходится выбирать только из трех вышеупомянутых случаев, то для нас здесь важнее, чем для любой другой системы, чтобы мы точнее знали, на какую сторону склонится кантовская школа и как она себя определит. – Утверждение, что явления не имеют основания ни в душе, ни вне ее, а следовательно, и вообще никакого основания, слишком непоследовательно, чтобы его можно было поставить в вину кантовской системе, которая так последовательна, ибо из того, что положение о том, что все имеет свое основание, является лишь субъективным правилом разума, еще не следует, что оно таково; нужно только допустить, что сами правила разума не имеют основания. Кроме того, то, что основание явлений следует искать в нечувственных объектах, с участием или без участия души, противоречит явной доктрине системы, в которой существование таких объектов утверждается как недоказуемое. Таким образом, остается только то, что я хотел доказать, – полная субъективность всех явлений, которая, к тому же, противоречит другим утверждениям этой системы. Существуют нечувственные объекты, которые являются основой всех явлений, или же эти явления полностью субъективны, и невозможность полной субъективности является лучшим доказательством объективного существования таких существ, которые не являются явлениями.
Я заранее понимаю, что будет возражено. Кому-то это доказательство покажется недостаточным для существования таких существ, которые не являются явлениями. Они не почувствуют того субъективного принуждения, которое заставляет нас выводить столь разнородные следствия из подобных предпосылок. Не хочется понимать, откуда должно исходить это принуждение. – Отвечаю: это принуждение проистекает из того факта, что, если мы не хотим предполагать таких нечувственных причин явлений, мы должны теперь сразу же принять две очевидные нелепости, которые мы сами признаем таковыми, как установленные истины: и я предполагаю, что мы не хотим этого делать. Мы должны признать то, чего не признает сам Кант, – либо полную субъективность, либо полную беспочвенность всех явлений, а следовательно, и всего нашего познания. Существование нечувственных существ, таким образом, доказано; интеллект не может отказаться от его аплодисментов, если его не удерживают другие иллюзорные причины или заблуждения, которые отменяют или ослабляют действие первых причин. Он должен признать это существование аподиктически (неопровержимо – wp] доказанным, пока он отвергает эти две пропозиции, которые представлены как следствия этого сомнения, как ложные и непоследовательные. Конечно, как только человек решается принять то или иное из этих следствий как установленную истину, это доказательство становится менее убедительным, поскольку противоречие, а вместе с ним и субъективное принуждение, полностью устраняются. Тогда меняется и постановка вопроса, и на приведенные выше доводы против тотальной субъективности можно возразить только одним. Но до тех пор, пока человек отрицает полную субъективность, пока он отгораживается от ее последствий, мое вышеприведенное доказательство является столь же строго убедительным, как и любая демонстрация Евклида. Оно возвращает нас к тому же принципу, к предложению о противоречии: оно, как и последнее, основано на несовместимости с мнением, уже признанным истинным, а если это так, то кантовский принцип, на котором построена вся система, что все, что не является объектом восприятия, не может быть объектом нашего знания, также должен быть ложным, как я покажу более ясно позже. Ведь в силу моего доказательства, пока отрицается полная субъективность, обязательно существуют существа, которые не являются феноменами. Мы признаем существование таких вещей с самым обнадеживающим и полным убеждением. Поэтому должны существовать другие средства, помимо чувственного восприятия, чтобы убедить нас в объективном существовании этих объектов. Должны существовать средства, с помощью которых мы приходим к их осознанию.
Чтобы добиться этого, я перехожу к более точному рассмотрению взглядов, а поскольку объектами взглядов являются явления, я исследую природу последних. Это позволит нам определить их природу.
LITERATUR – Adam Weishaupt, Über die kantischen Anschauungen und Erscheinungen, Nürnberg 1788
ОТТО ЦИГЛЕР
Иоганн Николаус Тетенсю. ЭПИСТЕМОЛОГИЯ В СВЯЗИ С КАНТОМ
Иоганн Николаус Тетенс, родившийся в Тетенбюлле в 1736 году и умерший в Копенгагене в 1805 году, был профессором философии и математики в Киле с 1777 по 1789 год. Он был автором нескольких работ по различным философским дисциплинам; его главной работой, последней крупной работой, которую он опубликовал, были «Четырнадцать философских эссе о человеческой природе», изданные в Лейпциге в 1777 году. Это четырнадцать эссе, содержащих исследования жизни души в довольно свободном контексте, где также рассматриваются физиологические и общебиологические вопросы. Таким образом, работа Тетена с самого начала не претендует на представление целостной философской системы, что следует учитывать при ее оценке, а направлена на анализ отдельных теорий предшествующей философии, на отделение истинного от ложного, на выдвижение собственных взглядов и, наконец, новых точек зрения. При этом Тетенс не присоединяется напрямую ни к одной из существующих школ мысли, а занимает между ними промежуточную позицию. – Поскольку далее мы хотим рассмотреть эпистемологическую сторону исследований Тетенса, мы должны воздержаться от следования за ним в область этических, физических и антропологических дискуссий, а обратиться в этом отношении к трактату Фридриха Хармса «Психология Дж. Н. Тетенса» (отдельное переиздание из Abhandlungen der Königlichen Akademie der Wissenschaften zu Berlin 1878), в котором дается краткий обзор работ Тетенса.
Во введении к своим экспериментам наш философ говорит, что метод, на котором он основывает свою работу, заимствован у Локка, а именно наблюдение, основанное на опыте. Однако это согласие в отношении метода не означает согласия в отношении хода исследований и их результатов; поэтому существует очень важное различие в концепции и способе изложения двух философов. Ибо если Локк видит первичную и существенную деятельность души в ощущениях, признает объективную реальность в части чувственных восприятий, но пренебрегает исследованием понятий на предмет их содержания и функций, то Тетенс, часто прямо ссылаясь на Локка, подвергая свое мнение его критике и опровергая его, приходит к результатам, далеко отстоящим от эмпиризма Локка. Прежде всего, исследование души и ее способностей, которое Локк игнорирует, является предметом особенно подробного обсуждения у Тетенса. Он доказывает, что душа сначала производит идеи из ощущений; они дают лишь материал для всех идей, форма же возникает благодаря деятельности интеллекта, и, кроме того, ни в одном из наших восприятий мы не представляем вещи такими, каковы они сами по себе. Тетенс преодолевает барьер, который наложил на себя Локк, установив ощущение и отражение как принцип всего познания. Он пришел к пониманию того, что существует независимая от чувственности деятельность интеллекта, даже если понятия, создаваемые интеллектом, становятся мыслимыми только через материал, предоставляемый чувственностью. Однако, взяв на вооружение свой метод наблюдения и психологического расчленения, Тетенс делает невозможным выход из субъективизма Локка, как бы он ни старался доказать объективную истинность форм знания. – Однако Тетенс не применяет индуктивный метод последовательно; не потому, что его главный интерес – полемика против рационализма и в этом случае он потерял бы цель индукции, как утверждает Хармс,2 а потому, что он сам оказался в плену рационализма школы Вольфа. Тетенс хочет стать посредником между эмпиризмом и рационализмом и опровергнуть скептицизм. Но поскольку он принимает метод первого, признает принципы второго – хотя и в ограниченной степени – и таким образом пытается бороться с третьим, с самого начала очевидно, что его попытка окажется тщетной. Именно потому, что в своих аргументах против Хьюма он применяет принцип философии Вольфа, пропозицию достаточного основания, и в той же мере, в какой последний виновен в ошибке, путая понятие причинности с понятием обоснования, его попытка опровержения полностью проваливается. Правда, Тетенс, как и в случае с Локком, также сохраняет определенную автономию и независимость по отношению к философии Вольфа и начинает свои попытки с ее многообещающей критики. Поскольку принципы школы Лейбница-Вольффа так часто применяются неверно и так же часто подвергаются несправедливым упрекам со стороны других, они заслуживают особого упоминания. В частности, объяснение, которое они дают понятию как модификации нас, из которой можно непосредственно познать другую вещь, считается ущербным, потому что «развитие его 3было бы нелегким, так как различие между прямой и косвенной познаваемостью должно было бы быть четко разграничено, В связи с этим возникло бы много неясностей, отчасти потому, что оно либо вообще не привело бы, либо, по крайней мере, не иначе как путем долгих отвлечений, к тому, что является надлежащим в образном или графическом отношении к другим вещам, которое мы встречаем в представлениях, и не раскрыло бы основание того же самого, где содержится самая благородная отличительная черта этого вида психических изменений. " —
Но, с другой стороны, он сам впадает в ошибку, которую критикует, что видно из нескольких отрывков в его «Опытах», например, стр. 494 и loc. cit:
«Разве среди наших суждений об эффектной связи причин с их следствиями не должно быть таких, в которых так же необходимо судить, что два объекта, один из которых называется причиной, а другой – следствием, зависят друг от друга, как необходимо рассматривать заключение как следствие, зависящее от его предпосылок?» —
Таким образом, он сделал ошибочную концепцию закона причинности, преобладающую в школе Вольфа, своей собственной в той мере, в какой он полагает, что может наглядно увидеть причинное поведение вещей из сравнения понятий. Поскольку каждое предложение должно иметь причину, чтобы считаться доказанным, он думает, что может заключить, что каждое изменение должно иметь причину, которая ему предшествует. Он не понимает, что идея причины действительно может быть основанием для доказательства следствия или идея следствия – основанием для доказательства причины, но само следствие никогда не может быть основанием. Таким образом, не в полемике с Вольфом Тетенс теряет цель индукции, но его зависимость от нее делает невозможным осуществление его предполагаемого метода.
Однако если мы пока оставим в стороне частичную неясность взглядов Тетенса и, более того, крайне неадекватную терминологию, которая еще больше затрудняет понимание и без того несколько громоздкого изложения, то обнаружим, что эксперименты Тетенса содержат идеи, которые, как верно заметили Хармс, Целлер, Эрдманн и другие, сближают его с Кантом. У Тетенса заметно ярко выраженное стремление к критике. Природа знания и действие интеллекта становятся предметом подробных обсуждений, которые он проводит с тщательностью, и через которые он ставит себя в самосознательную оппозицию к предыдущей философии. Он рассматривает способ возникновения опыта, а также исследует вопрос о том, возможно ли знание из чистого разума, и даже если результаты, к которым он приходит, не совпадают с результатами Канта, такое исследование доказывает, что он имел в виду ту же цель, которая осталась за гениальным гением Канта. Отсылку к Канту можно увидеть и в том, что Тетенс придает своим эпистемологическим изысканиям гораздо более независимую позицию, чем это было принято в предшествующей философии. Здесь также следует упомянуть его попытку опровергнуть принцип причинности Юма. Тетенс был первым немецким философом, который взялся детально продемонстрировать несостоятельность скептицизма против «виртуоза скептицизма», как он называл Юма. Словом, наряду с неясным и запутанным, в работе Тетенса содержится много правильного и проницательного, благодаря чему он поднялся над позицией господствовавшей до того времени философии. – Его опыты появились в 1777 году, т.е. в тот период творчества Канта, когда его критика достигла полной зрелости, ибо общепризнано, что критическая философия Канта началась с его хабилитационной диссертации 1770 года: de mundi sensibilis atque intelligibilis forma ac principiis. 4Она содержит изложение первой концепции идей, которые дают начало новой эпохе в истории философии. Эти мысли, которые следует рассматривать как фундамент всей критической системы познания и посредством которых Кант отказывается от существующей философии, можно свести к двум тезисам: во-первых, что существуют формы знания a priori, поскольку человеческий разум содержит изначальные законы всех познавательных способностей, и, во-вторых, что пространство и время являются изначальными формами чувственности и что их субъективность составляет условие априорного знания. Таким образом, устанавливается великий контраст между критицизмом, с одной стороны, и рационализмом и эмпиризмом – с другой.
Тетенс знал о хабилитационном тезисе Канта. Он не только упоминает о нем, но и занимает определенную позицию, даже в некоторой степени одобряет взгляды «этого проницательного человека». Со своей стороны, как мы знаем из письма Хаманна, Кант часто черпал вдохновение в работе Тетенса; по словам Гамана,5 она всегда лежала открытой на столе Канта, а в письме Канта к Герцу мы находим высказывание о Тетенсе, из которого вытекает нечто подобное. Кант пишет 6:
«Тетенс в своем обширном труде о человеческой природе сказал много остроумных вещей; но, несомненно, он напечатал их в том виде, в каком написал, или, по крайней мере, позволил им сохраниться. Мне кажется, что, когда он писал свое длинное эссе о свободе во втором томе, он всегда надеялся, что найдет выход из этого лабиринта с помощью нескольких идей, которые он набросал в неопределенных очертаниях. Утомив и себя, и читателя, он оставил вопрос в том виде, в каком он его нашел, и советует читателю обратиться к своим чувствам».
Пусть не в такой степени, как в вышеупомянутой попытке свободы, но суждение Канта справедливо и в отношении теории познания Тетенса; по крайней мере, частые противоречия, в которых запутывается Тетенс, и отсутствие единого изложения нельзя объяснить иначе. Мы не можем вдаваться в анализ противоречивых теорем, содержащихся в опытах Тетенса; нас интересуют лишь те его самостоятельно развитые мысли, из которых можно вывести связь с Кантом. Тот факт, что работа Тетенса появилась в период между написанием Кантом диссертации и «Критики чистого разума» и что он включил первого в круг своих дискуссий, а также то, что Кант свидетельствует о Тетенсе как о человеке, сказавшем «много проницательных вещей», вместе с замечанием Хаманна о том, что Кант придавал большое значение работе Тетенса, позволяют нам предположить, что между двумя философами действительно существуют более тесные отношения. Задача данной работы – изучить эти отношения и предоставить доказательства того, насколько они действительно существуют. – В первую очередь я хочу установить отношение Тетенса к «Habilitationsschrift» и лишь во вторую очередь рассмотреть, в какой степени Тетен предвосхитил Канта и какие элементы его теории нашли свой аналог в «Критике». – Что касается хода исследования, то я обобщил эпистемологические взгляды Тетенса по отношению к Канту в пяти рубриках и расположил их следующим образом:
В первом разделе «Чувственность и понимание» я продемонстрировал согласие, существующее между нашими двумя философами, поскольку, согласно им, чувственность и понимание – это две совершенно разные способности, ни одна из которых сама по себе не дает знания, но только благодаря их взаимодействию знание становится возможным. Это доказательство представляет интерес, поскольку показывает, как Тетенс развивает кантовские взгляды, содержащиеся в Habilitationsschrift, в том смысле, в котором мы вновь находим их в Kr. d. r. V. как основе всей системы. V. как основа всей системы; так что в этом отношении Тетенс образует, так сказать, связующее звено между Habilitationsschrift и Kr. d. r. V.
Во втором разделе, посвященном «Закону причинности», полемика против Юма, в которой встречаются Тетенс и Кант, служит подходящей отправной точкой для дискуссии, в результате которой оказывается, что взгляд Тетенса, за исключением некоторых колебаний, приближается к взглядам Канта.
Третий раздел, «Объект как видимость», также демонстрирует поразительное согласие между Тетенсом и Кантом, которое заключается в том, что оба считают познание объектов возможным только в той мере, в какой они являются объектами чувств, но отрицают познание, основанное на реальном существовании.
В четвертом разделе, озаглавленном: «Пространство и время», развиваются взгляды Тетенса на эти понятия, а его суждение о кантовском учении о пространстве и времени показывает, что Тетенсу не удалось понять своеобразный способ понимания вещей у Канта.
Наконец, пятый раздел, «О трех факультетах души», признает Тетенса родоначальником теории, согласно которой деятельность души состоит из трех факультетов, но в то же время отвергает утверждение, что психология Тетенса оказала влияние на Канта и в другом отношении.
Чтобы защитить себя от упрека, что меня могут обвинить в том, что я истолковал из Тетенса больше, чем он вложил в свои эксперименты, я хотел бы еще раз обратить внимание на особенность его метода изложения, которую уже подчеркивал Кант, а именно на то, что Тетенс продолжает развиваться в своих экспериментах. То, что он записал, кажется, является для него священным. Поэтому для того, чтобы получить правильное представление о его взглядах, необходимо всегда иметь в виду всю совокупность его экспериментов. Сам Тетенс лишь очень редко формулирует свое мнение определенным образом. Вы сможете понять это по тому, что мне приходилось брать цитаты, касающиеся одного и того же предмета, из совершенно разных экспериментов и в некоторых случаях исправлять неправильные выражения в них, приводя другие отрывки. Шлегтендаль,7 к трактату которого я еще вернусь, считал, что он должен идти другим путем, более внимательно следя за Тетенсом. Но именно для такой задачи, которую поставил перед собой Шлегтендаль, следовало бы прояснить происхождение и смысл отдельных, отчасти противоречивых взглядов автора и дать единую общую картину эпистемологических воззрений Тетенса, отделив несущественное и ошибочное. Однако Шлегтендаль имеет в виду только второе, не принимая в достаточной мере во внимание первое, главное требование критического исследования; поэтому остается неупомянутым многое, что не следовало бы игнорировать при изложении эпистемологии Тетенса.
Чувственность и способность мыслить
В хабилитационном трактате 1770 года «De mundi sensibilis atque intelligibilis forma ac principiis» Кант опирается на различие, которое классическая философия проводила между миром явлений, mundus sensibilis, и миром бытия, mundus intelligibilis, поскольку он признавал ошибкой прежней онтологии то, что она хотела иметь дело только с возможными вещами, с вещами в соответствии с их понятием, но принципы, которые она для этого устанавливала, были лишь частично применимы к вещам как явлениям. Но то, что справедливо для вещей в той мере, в какой они подчиняются законам восприятия, не может быть с необходимостью и без лишних слов применено к вещам, находящимся в состоянии мышления. Вещи, в той мере, в какой они являются явлениями, phaenomena, следует отличать от вещей, в той мере, в какой они являются основанием явлений, существованием в себе, noumena. Кант хочет очистить онтологические понятия от смешения с чувственными понятиями и поэтому вводит различие между чувственным познанием и интеллектуальным познанием. Оба вида познания возникают из двух различных источников, которые следует рассматривать как совершенно независимые друг от друга. Идеи, которые выражают только восприимчивость субъекта, способ, которым субъект возбуждается присутствием объекта, являются чувственными; идеи же, которые производятся деятельностью интеллекта и посредством которых представляется все, что не принадлежит органам чувств, являются концептуальными. Чувственное познание распространяется на вещи, какими они нам представляются, – феномены; концептуальное познание распространяется на вещи, какими они являются сами по себе, – нумены. В пятом разделе Кант самым недвусмысленным образом предостерегает от смешения принципов обеих форм познания, поскольку эта vitium subreptionis [ошибка уловки] до сих пор плохо накапливалась в метафизике и выводила на свет ошибочные принципы.
В этих нескольких предложениях содержатся мысли, составляющие предмет хабилитационной диссертации. Я привел кантовскую теорию первой, во-первых, потому, что с чисто фактической точки зрения она может быть сформулирована в коротких, ясных словах и сразу же затрагивает суть задачи, но главным образом потому, что взгляд Тетенса на эпистемологию занимает среднее положение между тезисом об абилитации и критикой, как уже говорилось. Чтобы как можно яснее охарактеризовать его отношение к обоим, я сначала расположу его взгляды параллельно с Habilitationsschrift, а затем с Kritik.
В шестом эксперименте Тетенс рассматривает разницу между чувственным и рациональным (т.е. интеллектуальным) познанием; однако для прояснения отношений между Тетенсом и Кантом мы должны использовать замечания, рассеянные в предыдущих экспериментах. Мы лучше всего достигнем нашей цели, если начнем с вопроса о том, как Тетенс приходит к познанию объекта. Предпосылки для этого те же, что и у Канта: душа должна быть изменена присутствием объекта, наше рецептивное сознание должно быть затронуто, душа, таким образом, ведет себя рецептивно, она страдает.8 И Тетенс, и Кант придерживаются взгляда старой метафизики, что чувственное в познании зависит от природы человека, а именно от того, насколько она способна быть измененной объектом, который может варьироваться в зависимости от разнообразия человека. Однако они не приводят доказательств возможности подобных сенсорных иллюзий у людей с нормальными умственными способностями, хотя Тетенс, в частности, любит подробно обсуждать подобные вопросы. Однако нет никаких оснований полагать, что способ возникновения и превращения ощущений в восприятия не должен происходить одинаково у всех нормальных человеческих существ. – Мы пропустим психологические процессы, через которые проходят ощущения, чтобы стать воспринимаемыми идеями или «восприятиями», и довольствуемся результатом исследований Тетенса, а именно тем, что у нас есть идеи, которые обретают объективную силу благодаря тому, что они относятся к объектам вне нас, которые могут быть распознаны нами по их качествам и характеристикам. Это то, насколько далеко заходит способность зрения или восприятия; до этой степени ясности она возвышается над ощущениями; она все еще полностью принадлежит чувственности. – Тетенс, как мы увидим, использует термин «чувственность» в другом смысле; мы понимаем его здесь в том смысле, в каком его использует Кант в «Критике». Оправдание этому заключается в том, что Тетенс не использует всеобъемлющий термин для той части познания, которая основана на восприимчивости души, но, скорее, в строгом противопоставлении с ней, он использует силу мысли как способность, с помощью которой концептуализируется то, что дано чувственностью.
Первый акт мыслительной силы – мыслительная сила охватывает все виды самодействующего выражения души – состоит в мысли, что вещь особая, мысли об отделении, которая является следствием первого акта восприятия, но добавляется мыслительной силой как нечто новое и свое собственное. Таким образом, объект представляется как отличный от других, но для того, чтобы прийти к его познанию, мы должны сравнить представление о нем с другими отчетливыми представлениями, а это сравнение требует активности интеллекта. Таким образом, объект признается вполне определенным только тогда, когда он подводится под высшее понятие и таким образом помещается в определенный класс. Эта высшая концепция – общее понятие, которое я сформировал в своем сознании, обобщив существенные характеристики подобных восприятий, которые я неоднократно имел в отношении объекта. Новое восприятие, которое только что произошло, включается в эту высшую концепцию, то есть я подчиняю воспринятый объект соответствующей концепции и тем самым присоединяю к нему всю совокупность характеристик, которые включает эта концепция.
«В нескольких различных ощущениях есть нечто сходное, общее, одно и то же. Это сходство впечатляется сильнее и глубже, так как повторяется несколько раз, и из соединения нескольких таких впечатлений возникают общие образы, которые изначально являются истинными созданиями поэтической силы, а взятые в отдельности не являются тем, чем является общий образ. Если мы уже имеем такие общие образы в нашем воображении (уме), то именно через них мы видим и узнаем качества вещей во вновь добавленных ощущениях».
«Именно сила мысли 9добавляет восприятие и различает, отделяет и признает чем-то особенным то, что является общим или сходным в отдельных восприятиях».10
В качестве общих понятий или общих абстракций Тетенс называет, например, такие родовые понятия, как человек, животное, дерево и т. д.
Познание предметов, таким образом, возникает из сочетания понятия и восприятия, благодаря которому реальное становится видимостью. Не сущность вещей, а сами вещи, какими они нам представляются, составляют объект нашего познания. – Доказательство правильности последнего утверждения будет приведено позже; предварительное подтверждение можно найти в словах самого Тетенса 11:
«Знание, основанное только на рассуждениях, привело бы к ложным рассуждениям, так же как следование только чувственности привело бы к энтузиазму».
«Представления,12 которые мы имеем о телах и их строении, являются для нас лишь феноменами, то есть видимостями».
Единственное, что объединяет взгляды Тетенса на чувственность и понимание, а также на познание, возникающее в результате их взаимодействия, с взглядами Канта, изложенными в его диссертации, – это то, что эти два направления познания возникают из совершенно разных источников, восприимчивости души и активности понимания; эту дихотомию мы находим и в школе Вольффа. Однако старая доктринальная концепция, по крайней мере, была обработана Кантом с гораздо большей определенностью и независимостью. В прежней философии чувственность и понимание рассматривались как два различных по степени развития факультета, но Кант показывает, что их принципиальное различие основано на характере их деятельности. Тетенс в принципе разделяет точку зрения Канта, но то, как он ее излагает, ясно показывает, что он не полностью преодолел точку зрения Вольфа. При обсуждении этого вопроса он считает возможным обратиться в основном к исследованиям Локка, Кондильяка, Бонне, Юме, Лейбница и Вольффа, но с тем ограничением, что «упомянутые иностранцы, не исключая и Бакона, видели только вдали и довольно туманно».
Вслед за Вольфом, Тетенс теперь допускает постепенное различие между чувственным и рациональным познанием, но понимает под чувственным познанием суждения, вытекающие из опыта, а под «рациональным познанием» – суждения, независимые от опыта и обладающие характером всеобщности и необходимости. 13Тетенс называет их постепенно различными, потому что сила рассуждения используется в меньшей степени в первом случае и в большей степени во втором.
Вопрос, решение которого занимало догматическую философию, состоял в том, чтобы определить, какая из двух способностей к наблюдению вещей является истинной: чувственность, с помощью которой мы воспринимаем впечатления органов чувств, или разум, с помощью которого мы постигаем то, что воспринимаем с помощью органов чувств. Один из них может дать только истинное знание, то есть такое, которое включает в себя для нас понятие о величайшем возможном совершенстве, другой же дает лишь смутное и неясное знание; поэтому различие между ними считалось количественным. Тетенс, напротив, не основывает свою классификацию на типе познания, приобретаемого обоими способностями; критерием для него является не большая или меньшая ясность, а большая или меньшая активность мыслительной силы, поскольку для него ясно, что без помощи интеллекта познание вообще невозможно.
«Всякое познание есть работа силы мысли».
Только благодаря чувственности вещи и их качества познаются ни ясно, ни путано:
«Ощущения,14 или, собственно, восприятия, являются конечной субстанцией всякой мысли и всякого знания, но они также не что иное, как субстанция и материя его. Без впечатлений о цветах нет и не может быть никаких идей о них. Но там, где нет идей, нет и объектов, с которыми может быть связано мышление; там, где нет идей, не может быть и представлений».
Я еще раз повторяю, что когда Тетенс допускает постепенное различие между чувственным и интеллектуальным познанием, это делается в ином смысле, чем в школе Вольфа, и соответствует тому, что Кант понимает под суждениями апостериори и априори. Суждение, однако, уже является комбинацией двух представлений, т. е. косвенным представлением, поскольку его объектом является только понятие, которым представлена отдельная вещь; только созерцание обращается непосредственно к предмету.
Недостатком изложения Тетенса является то, что он не подчеркивает резко и решительно, как Кант, различие между представлениями, возникающими из аффекта чувств, с одной стороны, и понятийным мышлением – с другой, хотя его изложение доказывает, что он считает его фундаментальным, а не постепенным, т. е. что он в основном согласен с Кантом. Но несомненным достоинством Тетенса является то, что, в отличие от своего абилитационного тезиса и в том же смысле, что и позднейшая критика, он отвергает возможность предположить, что знание вещей как видимости основано на чувственности и что знание вещей как они есть сами по себе основано на чистой интеллектуальной деятельности, а приходит к пониманию того, что знание вещей, и притом только как видимости, может возникнуть только через взаимодействие способов познания. – С этим пониманием мы уже покинули точку зрения тезиса об абилитации, поскольку этот взгляд Тетенса выходит за ее пределы. Однако прежде чем мы пойдем дальше, нелишним будет подробнее рассмотреть отношение Тетенса к деятельности разума. – Диссертант учит двойному использованию понятий мысли, логического и реального. Логическое понятие (usus intellectus logicus) относится к полученным, чувственно данным вещам; через реальное понятие (usus intellectus realis) даются сами понятия о вещах. Объект появления определяется логически, ибо в чувственном поле познания находится то, что называется «apparentia, quod antecedit usum intellectus logicum».
Превращение внешнего вида в репрезентативную концепцию происходит через рефлексию, то есть через суждение. Познание, однако, остается чувственным, как бы ни использовался в этом процессе логический интеллект; если только его основания принадлежат к области чувственного познания. Логическое использование интеллекта (usus intellectus logicus) сводит чувственные восприятия к эмпирическим понятиям и организует их в соответствии со степенью их общности. – Настоящее использование интеллекта само по себе дает понятия о вещах или об отношениях вещей, то есть это способность производить чистые понятия, благодаря которым становится возможным знание, независимое от всякого опыта, чистое знание разума, которое показывает нам вещи такими, какие они есть сами по себе. Их следует искать не в органах чувств, а в самой природе чистого понимания, не как врожденные понятия, а как понятия, которые по закону, присущему душе, выводятся путем внимания к их деятельности по случаю опыта и, следовательно, приобретаются.
Различие между логическим и реальным использованием интеллекта, проводимое Кантом, теперь имеет определенное отношение к двум способностям мыслительной силы Тетенса. Один из них, как мы видели, приводит к тому, что Тетенс называет сенсорным познанием, другой – интеллектуальным. Низшая часть мыслительной способности – это, в том же смысле, что и usus intellectus logicus, способность производить эмпирические понятия, то есть понятия, выведенные из опыта. Они абстрагируются от восприятия; путем отделения существенного от несущественного – обобщения общих характеристик – возникают эти понятия, через которые представляются предметы. Но сфера эмпирического использования понимания не распространяется на всякую деятельность мысли, если только ее основой является чувственное восприятие, как утверждает Кант в отношении usus intellectus logicus – согласно Тетенсу, все мышление основано на восприятии – но ограничивается исключительно перцептивными суждениями, то есть теми, в которых сочетание идей случайно, которые действительны только для индивидуального субъекта, в котором они возникают.
Если Тетенс уже ограничивает таким образом логическое использование интеллекта, то в еще большей степени это относится к реальному. Мы уже отмечали, что Кант основывал познание вещей в их сущности на usus intellectus realis, но Тетенс объявил такое познание невозможным. По сути, аналогия между двумя концепциями этих высших способностей состоит лишь в том, что они выполняют функцию производства чистых понятий. Для Тетенса, однако, они являются чистыми понятиями лишь постольку, поскольку таково их происхождение; они – продукт чистой мысли, поскольку возникают непосредственно и независимо от опыта из разума; они не создают независимого знания.
Мы должны пойти немного дальше, чтобы представить себе, как Тетенс выводит эти понятия, которые он называет «понятиями отношения»; они заслуживают нашего особого внимания, потому что, как уже ясно из приведенных намеков, у Тетенса, как и у Канта, мы имеем дело в принципе с тем, что мы находим полностью разработанным в трансцендентальной аналитике в виде таблицы категорий.
Тетенс признает неадекватность позиции, занятой предшествующей философией в отношении понятий отношения, и необходимость реформы в этом отношении. Он намерен начать эту реформу, но пока ему кажется невозможным добиться полной ясности в этом вопросе; более того, он предсказывает, что потребуется работа многих философий, прежде чем это будет достигнуто.
«Прежде всего, способ происхождения 15наших понятий отношений все еще имеет свои неясности, и если затем, в частности, будут приняты во внимание общие человеческие способы мышления и их способ происхождения, основные идеи, основные суждения и рассуждения, в той мере, в какой они являются общими компонентами человеческого знания, мы снова получим ряд исследований, которыми занимались величайшие философы и которые еще долго будут занимать их преемников, пока все не станет ясным повсюду».
Тетенс правильно признает важность «понятий пропорции» настолько, что говорит: «Философствование по-настоящему начинается только с их открытия». Но от эмпирического использования интеллекта16
«к ясным понятиям отношения, то есть к определению отдельных выражений силы, которые содержатся в таком понятии, а если они просты, то к определению законов и обстоятельств, при которых мыслительный аппарат действует там, где он получает эти понятия, от использования понятий единства и различия, причины и следствия до психологических и метафизических исследований в уме философа, – таков долгий и трудный путь, на котором сбиваются с пути даже рефлексирующие мыслители».
Согласно Тетенсу,17 понятия отношений возникают так же, как и все остальные понятия. Сначала существуют просто акты мышления и идеи, затем возникают представления об этих актах, представления об отношениях, индивидуальных и общих, и только потом понятия об отношениях и идеи об отношениях. Если мы приводим две вещи в определенное отношение друг к другу, то это предполагает деятельность рассудка; и действительно, это нечто чисто субъективное в нас, поскольку мы не можем поставить во взаимное отношение сами вещи, а только представления о них, «это наши представления о предметах, которые должны быть поставлены в отношение», благодаря которым становится возможным возникновение реляционной идеи. Как ощущения являются их субстанцией, так и они сами образуют субстанцию для понятий отношения. Само отношение есть объект, который воображается, и поскольку оно не возникает из ощущений, а является самодействующим выражением силы мысли, эти понятия принадлежат исключительно пониманию. Поэтому, когда Тетенс говорит, что понятия отношения возникают не иначе, чем все другие понятия, это следует понимать в том смысле, что все понятия являются продуктами силы мысли, ибо всякое познание связей и отношений есть мышление, и оба вида понятий, эмпирические и чистые, производятся вместе, но их различие заключается в причине их возникновения; Одно имеет свою причину в чувственности, другое же возникает,18 когда мы обращаем внимание на то, что происходит внутри нас, когда мы соотносим воспринимаемые объекты друг с другом, то есть посредством размышления о нашей собственной интеллектуальной деятельности.»
Тетенс комментирует это следующим образом:
«Первая мысль,19 которую мы представляем себе об отношении, не есть понятие отношения или идея понятия отношения, так же как суждение есть идея суждения, а страсть – идея такого суждения. Если, напротив, необходимо получить понятие об этом акте понимания или о его эффекте, то это должно быть сделано так же, как это делается в других проявлениях души; а именно, акт мышления должен быть прочувствован и ощущен в его непосредственном эффекте, который длится некоторое время, и эта ощущаемая модификация имеет свое последующее восприятие и свой воспроизводимый след, и это должно рассматриваться как материал для идеи мысли, которая, отделенная, воспринятая и выделенная, становится идеей реляционной мысли и реляционным понятием.»
Таким образом, он полагает, что может сделать аналогичный вывод от происхождения идей – почти те же выражения, которые он использует там, – к происхождению понятий пропорции; возможно, в соответствии с тем, что он говорит в предисловии на странице XX: «Граница между полной уверенностью и вероятностью не должна быть взята так точно». Но это объяснение не только не вероятно, оно немыслимо. Я хотел бы, однако, перевести выражения: чувствовать и ощущать словами: становиться сознательным, но не нахожу для этого никаких оснований у Тетенса. Поэтому мы должны придерживаться первого определения происхождения понятий отношения, а именно, что мы должны наблюдать нашу мыслительную деятельность в отношении понятий друг к другу. Что касается понятий отношения как таковых, то Тетенс объясняет их как некий ряд мыслей, покоящихся, так сказать, в сознании, ибо понятия отношения могут существовать и без идей вещей, относящихся друг к другу; действие отношения может быть представлено без идеи вещей, относящихся друг к другу. Понятия отношения приходят в действие только тогда, когда имеется предмет, к которому они могут быть применены. Чувственность должна представить душе воспринимаемую субстанцию, а интеллект – форму, в которую она облекается. «Форма 20мысли – это работа мыслящей силы; она является хозяином работы и в этом отношении творцом мысли».
Тот факт, что Тетенс представляет понятия отношения как серии мыслей, покоящихся в душе, можно, согласно тому, что он говорит об их происхождении, интерпретировать только таким образом, что причину их возникновения следует искать в сознании, поскольку если бы они уже были полностью сформированы, то их возникновение было бы невозможно. Невозможно представить себе и понятия отношения, которые сами по себе являются пустыми формами. Если он все же говорит о них, что они мыслимы, мы можем найти объяснение такому способу представления только в его стремлении к ясности и живости, которое и привело его к этой косной картине. В качестве доказательства того, что он придерживается правильного мнения в этом отношении, я привожу высказывание, сделанное по случаю в его полемике против Хьюма:
«Юм 21не мог более полно и ярко представить себе, что такое идея или мысль, чем любой другой человек, не представляя себе в то же время объекта для нее, и, по всей серьезности, он, вероятно, не верил, что идеи являются такими отдельными индивидуальными существованиями для самих себя, какими они представляются, как он утверждает, непосредственному сознанию».
Таким образом, в вышеизложенном мы познакомились с взглядами Тетена на понятия отношения, и само изложение показывает, что он понимает их в существенно ином смысле, чем тот, в котором Кант понимает чистые понятия в своем хабилитационном трактате. Правда, Кант придерживается той же точки зрения (§8.), что и Тетенс, когда говорит о чистых понятиях, что они абстрагированы от законов, присущих сознанию, и поэтому приобретаются, а именно путем размышления над деятельностью сознания по случаю опыта, но его стремление очистить чистые понятия понимания от всех элементов чувственности ведет его дальше. От него не остается скрытым, что психологический процесс в нас, составляющий внутренний опыт, сам основан на опыте. Теперь, если законы рассудка познаются из внутреннего опыта посредством самонаблюдения, они не возникли независимо от чувственности; поэтому, чтобы полностью освободить их от всякого опыта, Кант заявляет, что законы рассудка добавляются ко всякому опыту, поскольку они даны природой самого рассудка. §6: «dantur per ipsam naturam intellectus». Это последнее представление является единственно последовательным, поскольку только при этом условии коррелятом чистых понятий может быть mundus intelligibilis; только когда понятие понимания абстрагируется от всего чувственного, оно может относиться к тому, что мыслится в понимании Канта. Однако мнение Тетенса расходится с этой точкой зрения. Ведь, согласно последнему, чистые понятия возникают по случаю соотнесения идей друг с другом, поэтому ограничение их явлениями возникает само собой; через них, следовательно, для Тетенса невозможно символическое знание, а не знание бытийного мира, но они имеют действительное применение к реальности, они могут быть реализованы только в материале созерцания, понятийное знание относится к вещам лишь постольку, поскольку они являются явлениями. Однако именно такому использованию чистых понятий понимания учит критика, поэтому мы должны здесь же констатировать, что взгляды Тетенса в этом отношении представляют собой шаг вперед по сравнению с Habilitationsschrift, и теперь кратко обсудим, как организовано его отношение к критике.
Задача критической философии Канта – решить проблему того, как возможно познание из понятий, независимых от опыта, чтобы факт опыта стал понятным. Учение о чувственном познании в своей существенной форме уже содержится в «Абилитации», и Кант включил его в «Критику» без существенной реорганизации. В этой работе он уже придерживался мнения, что познание не может возникнуть только через чувственность, но что для этого необходима деятельность рассудка, и это разделение чувственности и рассудка еще более резко подчеркивается в «Критике». Чувственное представление выражает в своих ощущениях и формах только то, как наше восприимчивое сознание изменяется под воздействием объекта. Идеи воспринимаются так, как позволяет природа органов чувств, через которые они проходят; они должны соответствовать природе нашей чувственности, а потому не могут быть познаны сами по себе, не как причина, а только как следствие, т. е. как видимость. Это то, что чувственно в явлениях; понятийная форма, по которой познается объект чувственного восприятия, дается рассудком.
Позже мы обсудим, каким образом восприятие как таковое, которое еще не концептуализировано интеллектом и объект которого еще не распознан воспринимающим субъектом, упорядочивает сырой материал, поставляемый чувственностью, многообразие эффектов, и какую позицию занимает Тетенс в этом важном вопросе.
Если пренебречь этим моментом, то получится полная аналогия между взглядами Канта в Kr. d. r. V. и Тетена; ведь мы уже видели выше, что Тетен проводит такое же различие между чувством и пониманием, как и Кант. В. и Тетенса, ибо мы уже видели выше, что Тетенс проводит такое же различие между чувственностью и пониманием, как и Кант. По Тетенсу, чувственное представление доказывает лишь то, как наша душа изменяется под воздействием объекта, и точно так же идея вещи, т. е. познанный и определенный объект, есть представление, созданное рефлексией по отношению к объекту. Без чувственности нет предмета, без понимания нет и мысли. Аналогичное согласие существует и в отношении понятий понимания и познания, которое возникает благодаря им. Ведь в «Критике» Кант уточнил мнение «Трактата» 1770 года тем, что реальное использование чистых понятий мышления не дает познания умопостигаемого мира, что использование рассудка не должно абстрагироваться от старой материи чувственных идей, поскольку чисто логические функции не дают познания, но что понятия рассудка первоначально возникли из творческого сознания. Подобно Тетенсу, Кант объясняет чистые понятия сами по себе как пустые формы, только в созерцании они обретают содержание и смысл; абсолютно необходим чувственный материал, в котором понятия становятся мыслимыми, только из союза чувственности и понимания может возникнуть знание, понимание не способно ничего созерцать, чувства не способны ничего мыслить,22 оба вида знания определенно ограничены, ни одно из них не дает знания для себя, оно возникает только из их союза.
Заметим мимоходом, что Кант виновен в аналогичной неточности в своем изложении чистых понятий как Тетенс. Мы видели, что последний описывал их как серии мыслей, покоящихся в душе, и указывал, что это противоречит способу их происхождения. Кант говорит, что «они лежат готовыми в сознании как формы восприятия», хотя и отвергает их концепцию как врожденных и законченных форм мышления, и решает, что формальное знание развивается только по случаю опыта. Поэтому причина его возникновения может лежать только в сознании.
Что касается «понятий отношения», то заслуга Тетенса состоит в том, что он, по крайней мере, правильно представил их в целом и указал на их огромное значение для эпистемологии.23 Он также хорошо осознавал важность и новизну этой доктрины, спонтанно возникшей в результате его исследований, и сам выражает это, говоря, что благодаря его разработке понятий пропорции «объем и границы понимания будут представлены с новой точки зрения».
В соответствии со своей декларацией в предисловии к Kr. d. r. V. 24дать критику способности разума в целом, с учетом всех независимых от опыта знаний, Кант рассматривает эмпирическое знание только во вторую очередь. Кант пытается, как мы, вероятно, находим и у Тетенса, но без того же успеха, точно определить границы различных философских дисциплин. «Это не умножение,25 а порча наук, если позволить их границам наталкиваться друг на друга»; таким образом, он относится к эмпирическому знанию лишь постольку, поскольку использует его для иллюстрации контраста с априорным знанием. Познание эмпирично,26 то есть оно апостериорно, взято из опыта, а понятия эмпиричны, когда восприятие 27(которое предполагает реальное присутствие объекта) содержится в них.28
Как видно из множества приведенных примеров, Тетенс не знает, где провести границу между чистыми и эмпирическими понятиями. Поэтому он не дает общего критерия их распознаваемости, а обходится уклончивым утверждением, что в каждом отдельном случае необходимо различать, с каким из двух типов понятий он имеет дело. Может показаться, что это противоречит тому, что было сказано о чистых понятиях, но следует принять во внимание своеобразный принцип Тетенса, согласно которому он классифицирует каждую умственную деятельность в зависимости от степени активности силы мысли. По его мнению, в случае эмпирических понятий активность интеллекта меньше, поскольку здесь предмет внешнего восприятия дан, и мы получаем эти понятия путем простой операции абстрагирования, тогда как к понятиям a priori мы не приходим таким простым путем, поскольку рефлексивное самонаблюдение требует, так сказать, больших усилий ума. Вполне естественно, что Тетенс не может прийти к определенному определению таким путем, поскольку он ищет отличительную черту там, где ее нет; хотя его собственное выведение понятий понимания и в противоположность этому происхождение эмпирических понятий путем абстрагирования от опыта, необходимая обоснованность, которую он приписывает одному, случайность – другому, должны были бы дать ему истинную отличительную черту. Из его рассказа ясно, что эмпирическое использование интеллекта относится непосредственно к предмету, данному чувственностью; через него явления сравниваются друг с другом. Возможность объединить различные идеи в единство объекта лежит в способности к ассоциации. Через него, однако, познаются только отношения явлений, лежащие в них самих, – познание случайное, не могущее претендовать на всеобщность и необходимость, как это может сделать познание из чистых понятий.
Если, следовательно, Тетенс не представляет, как Кант, последнюю точку зрения эмпирического, взятого из опыта, из априорного, изначального для разума, как ведущую по отношению к понятиям, то он все же проводит это различие и подчеркивает его более резко там, где говорит о самих суждениях.
Согласно Тетенсу, простые перцептивные суждения действительны только для отдельного воспринимающего субъекта.
«Обычному уму может казаться, что тела тяжелые, но если я отделяю идею тяжести от идеи тела, то у меня есть две разные идеи, которые связаны между собой не иначе, как тем, что они связаны в одну идею. Я могу иметь идею тела без идеи тяжести, и никакая необходимость в разуме не заставляет меня приписывать тяжесть телу. Для того чтобы прийти к такому суждению, я должен сначала испытать давление тела»29.
Иными словами, это суждение основано исключительно на опыте, и в таком суждении связь между субъектом и предикатом, суждение как таковое, выводится из данных восприятий, из опыта. Опыт является достаточным объяснительным основанием для обоснованности и законности суждения, но только знание, полученное из чистого разума, обладает строгой и абсолютно необходимой всеобщностью. К числу последних Тетенс относит геометрические теоремы
«и все те, которые сходны с ними в том, что соединение предиката и субъекта не может происходить иным образом, если разум мыслит по своему естественному закону, чем оно происходит на самом деле».
Опыт показывает нам вещи только в их совместном существовании, но не в их внутренней и необходимой связи; точно так же он имеет дело только с отдельными случаями, а не с совокупностью всех возможных случаев; поэтому он не может придать своим суждениям характер необходимости и всеобщности; скорее это наши собственные законы, законы нашего разума, которые приводят к связи, посредством которой две идеи приводятся в необходимую связь. Поскольку эта связь основана на необходимости мысли, поскольку невозможно «мыслить иначе», поскольку суждение не основано на природе восприятий, которые могут быть случайными и произвольными, оно, следовательно, является общим и необходимым.
Согласно школе Лейбница-Вольфа, безусловно достоверные пропозиции также не зависят от органов чувств и не происходят из опыта, хотя и доводятся до сознания только при посредничестве органов чувств. Но именно в силу своей безусловной достоверности они были объявлены врожденными идеями, которые, однако, вступают в силу только в результате чувственной деятельности. Тетенс соглашается с первым, но не со вторым утверждением, но находит доказательство необходимости этих познаний в том, что их происхождение лежит в законном мышлении интеллекта, а их определенность – в необходимости мышления.
Таким образом, эта концепция эмпирического и чистого знания существенно отличается от той, что была принята в предшествующей философии, и довольно тесно связана с концепцией Канта. Ведь и по Канту эмпирический факт доказывается восприятием или доказательством его связи с восприятием. Но опыт лишь показывает нам случайную связь явлений, характер необходимости и всеобщности познания, полученный от разума, в котором они возникают: принцип, делающий их возможными, лежит в формах познания. Понятие, которое является фундаментальным понятием чистого разума, добавляется нами самими. В том же смысле, что и Кант, Тетенс представил здесь формы чистого мышления как принципы, из которых возникает общее и необходимое знание; в том же смысле, что и Кант, Тетенс указывает на геометрию как на науку, пропозиции которой в целом связаны с сознанием необходимости, и поэтому может с полным основанием утверждать, что представил границы понимания с новой точки зрения, той самой, которую после него принял Кант.
Но предположение Тетенса о том, что это еще не дает абсолютной ясности в данном вопросе, столь же верно. Хотя он и пытается доказать, что понятия, которые первоначально выражают только законность мысли, могут вообще относиться к вещам, он не идет в своей аргументации дальше утверждения, что существование разума, который мыслит противоречивые вещи, является таким же противоречием, как и существование противоречивого объекта. Почему разум переносит свое отсутствие противоречия на вещи, по какому праву мы применяем чистые понятийные связи к объектам вне разума – это вопросы, которые Тетенс вообще не задает себе, поскольку он увяз в представлении, что то, что субъективно необходимо, должно иметь необходимую обоснованность и по отношению к объектам.
Решение этой проблемы, однако, является главной задачей критики, и делается это посредством дедукции чистых понятий понимания.
«Дедукция 30должна сделать понятным отношение рассудка к чувственности и, посредством последней, ко всем объектам опыта, следовательно, объективную обоснованность его чистых понятий».
Объединение двух таких разнородных способностей, как чувственность и рассудок, происходит благодаря трансцендентальному синтезу воображения. Воображение обладает не только восприимчивостью, как органы чувств, но и спонтанностью, как рассудок. —
По Тетенсу, воображение – это способность воспроизводить идеи, и как таковое оно является самодействующей способностью души, которая не имеет ничего общего с восприимчивостью органов чувств и, следовательно, не может занимать такое посредническое положение.
По мнению Канта, воображение обладает как чувственностью, так и пониманием; связь между ними осуществляется воображением посредством понятия времени, которое, с одной стороны, является априорным, а с другой – чувственным. Это показывает необходимую связь формы появления вещей с единой функцией сознания. Понятия, возникающие в функции мышления и реализующиеся в формах восприятия, действительны и необходимы посредством этих форм предметов внешнего вида. Время посредничает между понятием и восприятием, поскольку время одновременно является формой внутреннего и внешнего опыта и, таким образом, общей характеристикой обоих. В этом отношении Кант называет время схемой чистых понятий. Через эту схему любая категория может быть применена к внешнему виду.
В результате предыдущего рассмотрения мы можем сказать, что теория познания Тетенса в некоторых отношениях, как утверждалось вначале и показано в экспозиции, занимает промежуточное положение между «Абилитацией» и «Критикой», что отчасти она полностью согласна со взглядами, содержащимися в «Критике», но что, с другой стороны, особенно в отношении объективной обоснованности понятия разума, взгляды Тетенса не только отличаются от взглядов Канта, но и значительно отстают от них.
LITERATUR: Otto Ziegler, Johann Nicolaus Tetens’ Erkenntnistheorie in Beziehung auf Kant, Leipzig 1888
ГОТТЛОБ БЕНДЖАМИН ЯШЕ
Логика Иммануила Канта
Предисловие
Прошло уже полтора года с тех пор, как Кант поручил мне отредактировать его «Логику» в том виде, в каком он излагал ее слушателям в публичных лекциях, для печати и представить ее публике в виде компендиального справочника. Для этого я получил от него рукопись, которой он сам пользовался в своих лекциях, с выражением особого, почетного доверия ко мне, что я, знакомый с принципами его системы в целом, здесь же легко войду в круг его идей, не буду искажать или фальсифицировать его мысли, а изложу их в надлежащем порядке. – Поскольку, таким образом, приняв почетное поручение и стараясь выполнить его как можно лучше, в соответствии с пожеланиями и ожиданиями достойного мудреца, моего глубоко почитаемого учителя и друга, все, что касается изложения, представления и расположения идей, должно быть частично отнесено на мой счет, я, естественно, обязан дать некоторый отчет об этом читателям этого нового кантовского труда. – Итак, вот одно и другое более подробное объяснение этого момента.
Начиная с 1765 года, профессор Кант в своих лекциях по логике постоянно опирался на учебник Мейера (George Friedriсh Meier’s Auszug aus der Vernunftlehre, Halle 1752) в качестве руководства; по причинам, которые он объяснил в программе, опубликованной им для объявления своих лекций в 1765 году. – Экземпляр сборника, который он использовал для своих лекций, как и все другие учебники, которые он использовал для той же цели, переплетен с бумагой; его общие заметки и объяснения, а также более конкретные, которые изначально ссылаются на текст сборника в отдельных параграфах, можно найти частично на переплетенной бумаге, а частично на чистых полях самого учебника. И эти письменные заметки и пояснения, разбросанные тут и там, вместе составляют тот материальный журнал, который Кант составил здесь для своих лекций и который он время от времени расширял, отчасти новыми идеями, отчасти пересматривая и улучшая его снова и снова в связи с различными отдельными темами. Таким образом, в нем содержится по крайней мере самое необходимое из того, что знаменитый комментатор учебника Мейера рассказывал слушателям о логике в своих лекциях, которые читались в свободной манере и которые он считал достойными записи. —
Теперь, что касается изложения и расположения вещей в этой работе, я подумал, что наиболее точно выражу идеи и принципы великого человека, если в отношении экономики и разделения целого буду придерживаться его прямого заявления, согласно которому в настоящий трактат по логике, и особенно в элементарное учение о ней, не может быть включено ничего большего, чем теория трех основных функций мышления – понятия, суждения и умозаключения. Поэтому все то, что касается познания в целом и его логических совершенств и что в учебнике Мейера предшествует учению о понятиях и занимает почти половину всего объема, должно в дальнейшем рассматриваться как часть введения. – «Раньше, – замечает Кант в самом начале восьмого раздела, в котором его автор излагает учение о понятиях, – сначала рассматривалось знание вообще, как пропедевтика логики; теперь следует сама логика».
В соответствии с этим явным указанием я включил во введение все, что касается вышеупомянутого раздела, который по этой причине получил гораздо больший объем, чем тот, который он обычно занимает в других руководствах по логике. Следствием этого было также то, что теория методов, как другая главная часть трактата, должна была быть тем короче, чем больше вопросов, которые, кстати, справедливо втягиваются в область методологии нашими новейшими логиками, уже были рассмотрены во введении, как, например, учение о доказательствах и тому подобное. – Было бы излишним и неприличным повторять эти вопросы здесь на их месте, чтобы только завершить неполное и расставить все по своим местам. Я, однако, сделал последнее, имея в виду учение об определениях и логическом делении понятий, которое в «Компендиуме» Мейера уже относится к восьмому разделу, а именно к элементарному учению о понятиях; порядок, который Кант также оставил неизменным в своей лекции.
Само собой разумеется, что великий реформатор философии и, если говорить об экономике и внешней форме логики, в частности, этой части теоретической философии, работал бы над логикой в соответствии со своим архитектурным проектом, основные контуры которого зафиксированы в «Критике чистого разума», если бы это было ему угодно и если бы его дело научного обоснования всей системы собственно философии – философии подлинной истины и совести – это гораздо более важное и трудное дело, которое только он мог осуществить первым и только он один в своей оригинальности, позволило бы ему подумать о том, чтобы самому работать над логикой. Но эту работу он вполне мог оставить другим, которые, обладая проницательностью и непредвзятостью, могли бы использовать его архитектонические идеи для действительно целесообразного и упорядоченного обращения и трактовки этой науки. Этого следовало ожидать от нескольких основательных и непредвзятых мыслителей из числа наших немецких философов.
И это ожидание не обмануло ни Канта, ни друзей его философии. Несколько последних учебников по логике в большей или меньшей степени можно считать плодом идей Канта о логике в отношении экономии и расположения целого. И что эта наука действительно приобретает таким образом; – что она не стала ни богаче, ни основательнее по своему содержанию, ни более обоснованной сама по себе, но что она очистилась, отчасти от всех посторонних элементов, от многих бесполезных тонкостей и простой диалектической игры, – что она стала более систематической и в то же время, со всей научной строгостью метода, более простой, В этом самое беглое сравнение старых учебников логики с новыми, отредактированными в соответствии с кантовскими принципами, должно убедить каждого, кто имеет правильное и ясное представление о своеобразном характере и законных границах логики. Ибо как бы ни отличались некоторые из старых учебников этой науки научной строгостью метода, ясностью, определенностью и точностью объяснений, связностью и доказательностью доказательств, нет ни одного из них, в котором границы различных областей, принадлежащих общей логике в ее широком объеме – чисто пропедевтической, догматической и технической, чистой и эмпирической – не пересекались бы друг с другом так, что нельзя было бы четко отличить одну от другой.
Правда, г-н Якоб замечает в предисловии к первому изданию своей «Логики»: «Вольф превосходно задумал идею общей логики, и если бы этот великий человек вошел в привычку излагать чистую логику совершенно отдельно, он, несомненно, в силу своего систематического ума, представил бы нам шедевр, который сделал бы бесполезными все последующие работы такого рода». Но он не осуществил эту идею, как не осуществил ее ни один из его преемников; как бы ни была велика и обоснована заслуга, которую приобрела вольфианская школа для фактического логического, формального совершенствования нашего философского знания.
Но помимо того, что еще можно и нужно сделать в отношении внешней формы для совершенствования логики путем необходимого отделения чистых и чисто формальных предложений от эмпирических и реальных или метафизических предложений, суждения Канта на этот счет не вызывают сомнений, когда речь идет об оценке и определении внутреннего содержания этой науки как науки. Он несколько раз определенно и прямо заявлял, что логика должна рассматриваться как отдельная наука, существующая сама по себе и основанная на самой себе, и что, следовательно, с момента своего возникновения и первого развития со времен Аристотеля и до наших дней она не смогла получить никакого научного основания. Согласно этому утверждению, Кант не думал ни об обосновании самих логических принципов тождества и противоречия высшим принципом, ни о дедукции логических форм суждений. Он признавал и рассматривал принцип противоречия как пропозицию, которая имеет свое доказательство в самой себе и не требует выведения из более высокого принципа. – Он лишь ограничил применение – действительность этого принципа, изъяв его из области метафизики, в которой догматизм стремился его утвердить, и ограничив его чисто логическим применением разума, как действительного только для этого применения.
Но действительно ли логическое предложение о тождестве и противоречии способно и не нуждается в дальнейшей дедукции само по себе – это, конечно, другой вопрос, который ведет к гораздо более важному вопросу: существует ли вообще абсолютный первый принцип всякого знания и науки; – возможен ли такой принцип и можно ли его найти?
Научная доктрина полагает, что она открыла такой принцип в чистом, абсолютном «я» и тем самым полностью установила все философское знание не только по форме, но и по существу. И если допустить возможность и аподиктическую [логически убедительную, доказуемую – wp] обоснованность этого абсолютно единого и безусловного принципа, то, следовательно, она также действует совершенно последовательно, когда утверждает логические принципы тождества и противоречия, пропозиции: A = A и: A = – A не являются безусловно действительными, а только подчиненными [subordinate – wp] пропозициями, которые могут и должны быть сначала доказаны и определены ими и их верховной пропозицией: Я есть. (см. Grundlagen der Wissenschaftslehre, 1794, стр. 13 и др.) Столь же последовательно Шеллинг в своей «Системе трансцендентального идеализма» выступает против предположения логических принципов как безусловных, т.е. не выводимых из каких-либо высших, в том смысле, что логика может возникнуть только через абстрагирование от определенных пропозиций и – в той мере, в какой она возникает научным образом – только через абстрагирование от высших принципов знания, а следовательно, предполагает эти высшие принципы знания и вместе с ними учение о самой науке. —
Но поскольку, с другой стороны, эти высшие принципы знания, рассматриваемые как принципы, столь же неизбежно предполагают логическую форму; отсюда возникает именно та кругообразность, которая, хотя и не может быть разрешена для науки, тем не менее может быть объяснена – объяснена путем признания первого принципа философии, как по форме, так и по содержанию (формальному и материальному), в котором и форма, и содержание взаимно обусловлены и основаны. В этом принципе лежал бы тогда пункт, в котором субъективное и объективное, – тождественное и синтетическое знание были бы одним и тем же.
Принимая на себя такое достоинство, какое, несомненно, должен иметь такой принцип, логика, как и всякая другая наука, должна была бы быть подчинена учению о науке и ее принципам. —
Но какова бы ни была природа этого, несомненно следующее: в любом случае логика остается неизменной в пределах своей области, насколько это касается сущностей; и трансцендентальный вопрос: способны ли логические пропозиции выводиться из более высокого абсолютного принципа и нуждаются ли они в этом, может иметь столь же малое влияние на них и на достоверность и доказательность их законов, как чистая математика, ввиду ее научного содержания, имеет трансцендентальную задачу: как возможны в математике синтетические суждения a priori? – Как математик как математик, так и логик как логик может спокойно и безопасно в пределах своей науки заниматься объяснением и доказательством, не беспокоясь о трансцендентальном вопросе трансцендентального философа и преподавателя науки, который лежит вне его сферы: как возможна чистая математика или чистая логика как наука?
При таком общем признании правильности общей логики спор между скептиками и догматиками о конечных основаниях философского знания никогда не велся в области логики, правила которой каждый разумный скептик признавал действительными так же, как и догматик, но всегда в области метафизики. Да и как могло быть иначе? Высшая задача актуальной философии касается не субъективного, а объективного – не тождественного, а синтетического знания. – Здесь, следовательно, логика как таковая остается совершенно не у дел; и ни критике, ни учению науки, – ни философии, умеющей отличать трансцендентальную точку зрения от чисто логической, – никогда не приходило в голову искать конечные основания подлинного философского знания в области простой логики и пытаться вычленить реальный объект из логической пропозиции, рассматриваемой просто как таковая.
Тот, кто определенно рассмотрел огромное различие между собственно логикой (общей), как чисто формальной наукой, – наукой о простой мысли, рассматриваемой как мысль, – и трансцендентальной философией, этой определенной материальной или реальной чистой наукой о разуме, – наукой о действительном знании, – и никогда более не пренебрегает ею, поэтому легко сможет судить о том, что следует думать о недавней попытке, которую предпринял г-н Бардили (в своем «Grundriß der ersten Logik»), разобраться в сущности самой логики, рассчитывая найти на пути этого исследования: «реальный объект, который либо позиционируется ею (простой логикой), либо везде не позиционируется; ключ к сущности природы либо дается ею, либо везде невозможна ни логика, ни философия». " По правде говоря, невозможно предугадать, каким образом г-н Бардили мог бы обнаружить реальный объект из установленного им априори логики, принципа абсолютной возможности мысли, согласно которому мы можем бесконечно повторять одну и ту же вещь как одну и ту же вещь во множестве (не многообразии). Этот якобы вновь открытый «prius» логики, очевидно, есть не что иное, как старый, давно признанный принцип тождества, лежащий в области логики и поставленный во главе этой науки: что я думаю, то я и думаю, и именно это и ничто другое я могу теперь думать многократно до бесконечности. – Кто же будет думать о множестве, а не о простом множестве в хорошо понятной логической пропозиции тождества, которая, однако, не возникает и не может возникнуть ни через что иное, как через простое повторение одной и той же мысли, – простое повторение A = A = A и так далее до бесконечности. – Поэтому на пути, который выбрал г-н Бардили, и в соответствии с эвристическим методом, который он использовал для этой цели, было бы трудно найти то, что интересует философский разум, – начало и конец, с которых он может начать свои исследования и к которым он может вернуться. – Поэтому основные и наиболее важные возражения, которые г-н Бардили выдвигает против Канта и его метода философствования, могут быть выдвинуты не против Канта-логика, а скорее против Канта-трансцендентального философа и метафизика. Поэтому мы можем оставить их здесь на своем месте.
Наконец, я хотел бы отметить, что отредактирую и опубликую «Метафизику Канта», рукопись которой уже находится у меня в руках, в том же порядке, как только у меня появится свободное время для этого.
* * *
I. Понятие логики
Все в природе, как в неживом, так и в живом мире, происходит по правилам, хотя мы не всегда знаем эти правила. Вода падает по законам гравитации, а у животных движение при ходьбе также подчиняется правилам. Рыба в воде и птица в воздухе движутся по правилам. Вся природа в целом есть не что иное, как связь явлений по правилам; и нигде нет недостатка в правилах. Если мы только скажем в этом случае, что правила нам неизвестны.
Использование наших способностей также происходит в соответствии с определенными правилами, которым мы следуем, сначала бессознательно, пока постепенно не приходим к их осознанию путем экспериментов и длительного использования наших способностей, и в конце концов делаем их настолько привычными для нас, что нам стоит больших усилий думать о них in abstracto. Так, например, общая грамматика – это форма языка в целом. Но человек говорит и без знания грамматики; а тот, кто говорит, не зная ее, на самом деле имеет грамматику и говорит по правилам, о которых не подозревает.
Как и все наши способности в целом, так и ум в частности связан в своих действиях с правилами, которые мы можем проанализировать. Действительно, разум следует рассматривать как источник и способность мыслить по правилам. Ведь как чувственность – это способность к восприятию, так и разум – это способность к мышлению, то есть к приведению идей органов чувств в соответствие с правилами. Поэтому он стремится искать правила и удовлетворяется, когда находит их. Спрашивается, раз интеллект является источником правил, то каким правилам он следует сам?
Ведь нет никаких сомнений: мы не можем мыслить или использовать наш разум иначе, чем в соответствии с определенными правилами. Но теперь мы можем мыслить эти правила сами по себе, то есть мыслить их без применения или in abstracto. – Что же это за правила?
* * *
Все правила, по которым действует разум, являются либо необходимыми, либо допустимыми. Первые – это те, без которых никакое использование интеллекта было бы невозможно; вторые – те, без которых определенное использование интеллекта не имело бы места. Случайные правила, зависящие от определенного объекта познания, столь же многообразны, как и сами эти объекты. Например, существует использование разума в математике, метафизике, морали и т. д. Правила этого конкретного, определенного использования разума в задуманных науках случайны, потому что случайно, мыслю ли я тот или иной объект, к которому относятся эти конкретные правила.
Но если мы теперь отбросим все знания, которые мы должны просто заимствовать у объектов, и будем размышлять только об использовании интеллекта в целом, мы обнаружим те правила интеллекта, которые абсолютно необходимы во всех намерениях и независимо от всех конкретных объектов мышления, потому что без них мы бы вообще не мыслили. Эти правила, следовательно, могут быть также признаны a priori, то есть независимо от всякого опыта, поскольку они содержат, без различия объектов, просто условия использования интеллекта вообще, будь то чистый или эмпирический. Отсюда одновременно следует, что общие и необходимые правила рассуждения вообще могут касаться только формы, но никак не материи оного. Соответственно, наука, содержащая эти общие и необходимые правила, есть просто наука о форме нашего познания или мышления. И поэтому мы можем составить представление о возможности такой науки, как общая грамматика, которая содержит не что иное, как простую форму языка вообще, без слов, относящихся к материи языка.
Эту науку о необходимых законах понимания и разума в целом, или, что то же самое, о простой форме мысли в целом, мы теперь называем логикой.
* * *
Как наука, рассматривающая все мышление вообще, независимо от предметов, как материю мышления, логика является. 1) как основа для всех других наук и как пропедевтика всякого использования интеллекта. Но она может также, именно потому, что полностью абстрагируется от всех объектов.
2) не быть органоном наук.
Ведь под органоном мы понимаем указание, как должно быть получено определенное знание. Но это подразумевает, что я уже знаю объект знания, который должен быть получен в соответствии с определенными правилами. Поэтому органон науки – это не просто логика, поскольку он предполагает точное знание наук, их объектов и источников. Математика, например, является прекрасным органоном как наука, содержащая причину расширения нашего знания в связи с определенным использованием разума. Логика же, поскольку она, будучи общей пропедевтикой всякого использования понимания и разума вообще, не может входить в науки и предвосхищать их материю, является лишь общим искусством разума (canonica epicuri), чтобы делать знание вообще в соответствии с формой понимания, и поэтому может быть названа органоном только в этом отношении, который, конечно, служит не для расширения, а лишь для суждения и исправления нашего знания.
3) Как наука о необходимых законах рассуждения, без которых вообще не может быть употребления понимания и разума, которые, следовательно, являются условиями, при которых понимание может и должно соглашаться только с самим собой, – необходимыми законами и условиями его правильного употребления, – логика есть, однако, канон. И как канон понимания и разума, она, следовательно, не должна заимствовать никаких принципов ни из какой науки, ни из какого опыта; она не должна содержать ничего, кроме априорных законов, которые необходимы и относятся к пониманию в целом.
Некоторые логики действительно предполагают наличие психологических принципов в логике. Но привносить такие принципы в логику так же непоследовательно, как выводить мораль из жизни. Если бы мы взяли принципы из психологии, то есть из наблюдений за нашим разумом, мы бы просто увидели, как протекает мысль и как она находится под воздействием различных субъективных препятствий и условий; это привело бы, таким образом, к реализации чисто случайных законов. В логике, однако, речь идет не о случайных, а о необходимых правилах – не о том, как мы мыслим, а о том, как мы должны мыслить. Поэтому правила логики должны выводиться не из случайного, а из необходимого использования разума, который человек находит в себе самом без всякой психологии. В логике мы хотим знать не то, как устроен и мыслит разум и как он мыслил до сих пор, а то, как он должен мыслить. Она призвана научить нас правильному использованию интеллекта, то есть такому использованию интеллекта, которое согласуется с самим собой.
* * *
Из приведенного объяснения логики теперь можно вывести и другие существенные характеристики этой науки, а именно, что она
4) это наука о разуме, не по форме, а по существу, поскольку ее правила не вытекают из опыта и поскольку она имеет разум в качестве своего объекта. Таким образом, логика – это самопознание понимания и разума, но не в соответствии с процессами последнего в отношении объектов, а просто по форме. Я не стану спрашивать в логике: что познает разум и сколько он может познать или как далеко простирается его познание? Ибо это было бы самопознанием с точки зрения его материального использования и, следовательно, относится к метафизике. В логике же вопрос только в том, как разум познает себя?
Как наука, рациональная по материи и форме, логика, наконец, является также
5) учением или доказанной теорией. Ибо поскольку она имеет дело не с обычным и как таковым чисто эмпирическим применением понимания и разума, а лишь с общими и необходимыми законами рассуждения вообще, она основывается на априорных принципах, из которых можно вывести и доказать все ее правила, как таковые, которым должно было бы соответствовать все познание разума.
В том, что логика должна рассматриваться как априорная наука или как учение о каноне использования понимания и разума, она существенно отличается от эстетики, которая, будучи просто критикой вкуса, не имеет канона (закона), а только норму (образец или руководство только для суждения), которая состоит в общем согласии. Эстетика содержит правила соответствия познания с законами чувственности: логика, напротив, содержит правила соответствия познания с законами понимания и разума. Последняя имеет только эмпирические принципы, а потому не может быть ни наукой, ни учением, поскольку под учением понимается догматическое наставление, основанное на априорных принципах, где все постигается разумом без всяких других наставлений, полученных из опыта, и которое дает нам правила, соблюдение которых обеспечивает требуемое совершенство.
Некоторые, особенно ораторы и поэты, пытались рассуждать о вкусе, но так и не смогли прийти к решительному суждению о нем. Философ Баумгартен во Франкфурте выдвинул план создания эстетики как науки. Но Юму правильнее было бы назвать эстетику критикой, поскольку она не дает априорных правил, достаточно определяющих суждение, как логика, а выводит свои правила апостериори и делает эмпирические законы, по которым мы распознаем несовершенное и совершенное (прекрасное), более общими только в сравнении.
Логика, таким образом, есть нечто большее, чем простая критика; она есть канон, который впоследствии служит для критики, т. е. для принципа суждения о всяком применении рассудка вообще, хотя только о его правильности с точки зрения простой формы, так как она не является органоном, не более чем общая грамматика.
Как пропедевтика всякого использования интеллекта вообще, общая логика теперь также отличается от трансцендентальной логики, в которой сам объект представляется как объект простого интеллекта, тогда как общая логика имеет дело со всеми объектами вообще.
Если теперь суммировать все существенные характеристики, необходимые для детального определения понятия логики, то получится следующее ее представление.
Логика есть наука о разуме, но не о материи, а о форме; наука a priori о необходимых законах мышления, но не в отношении отдельных предметов, а всех предметов вообще; – таким образом, наука о правильном применении понимания и разума вообще, но не субъективно, т. е. не по эмпирическим (психологическим) принципам, как мыслит понимание, а объективно, т. е. по принципам a priori, как оно должно мыслить.
* * *
II. Основные разделы логики – Лекция. – ПРИМЕНЕНИЕ ЭТОЙ НАУКИ. – НАБРОСОК ЕЕ ИСТОРИИ
Логика делится.
1) на аналитическую и диалектическую.
Аналитическая обнаруживает путем расчленения все акты разума, которые мы совершаем в мышлении вообще. Поэтому она является аналитикой формы понимания и разума, а также справедливо называется логикой истины, так как содержит необходимые правила всякой (формальной) истины, без которых наше познание, независимо от объектов, также неистинно само по себе. Поэтому она есть не что иное, как канон дедукции (формальной правильности нашего знания).
Если это чисто теоретическое и общее учение использовать как практическое искусство, то есть как органон, то оно превратится в диалектику. Логика видимости (ars sophistica, disputatoria), проистекающая из простого злоупотребления аналитикой, поскольку в соответствии с простой логической формой искусственно создается видимость истинного знания, характеристики которого должны быть взяты из соответствия с объектами, то есть из содержания.
В прежние времена диалектику изучали с большим усердием. Это искусство выдвигало ложные принципы под видом истинных и стремилось утверждать вещи по видимости. Среди греков диалектики были администраторами и ораторами, которые могли вести народ туда, куда хотели, потому что народ можно было обмануть внешним видом. Таким образом, диалектика была искусством создавать видимость. В логике она также некоторое время фигурировала под названием искусства диспута, и так долго вся логика и философия были культурой некоторых пылких умов, чтобы искусственно создавать все видимости. Но ничто не может быть более недостойным философа, чем культура такого искусства. Поэтому в этом смысле она должна быть полностью исключена, а вместо нее в логику должна быть введена критика этой видимости.
Таким образом, мы будем иметь две части логики: аналитическую, которая представляет формальные критерии истины, и диалектическую, которая содержит характеристики и правила, по которым мы можем распознать, что нечто не согласуется с формальными критериями истины, даже если кажется, что оно с ними согласуется. Таким образом, диалектика в этом смысле может быть использована как катарсис [очиститель – wp] разума. Логика далее подразделяется
2) на естественную, или популярную, и искусственную, или научную, логику (logica naturalis, logica scholastica, logica artificialis).
Но такая категоризация недопустима. Ведь естественная логика, или логика здравого смысла (sensus communis), на самом деле не логика, а антропологическая наука, имеющая только эмпирические принципы, поскольку она имеет дело с правилами естественного использования понимания и разума, которые признаются только in concreto, т. е. без осознания их in abstracto. – Поэтому искусственная или научная логика заслуживает только этого названия, как наука о необходимых и общих правилах рассуждения, которые, независимо от естественного использования понимания и разума, могут и должны быть признаны in concreto a priori, хотя сначала они могут быть найдены только через наблюдение этого естественного использования.
3) Другое деление логики – на теоретическую и практическую, но и это деление неверно.
Общая логика, которая, будучи просто каноном, абстрагируется от всех объектов, не может иметь практической части. Это было бы contradictio in adjecto [противоречием в терминах], поскольку практическая логика предполагает знание определенного вида объекта, к которому она применяется. Поэтому мы можем назвать каждую науку практической логикой, ибо в каждой из них мы должны иметь форму мышления. Общая логика, рассматриваемая как практическая, может быть, следовательно, не чем иным, как техникой учености вообще; – органоном школьного метода.
Согласно этому делению, логика, таким образом, должна иметь догматическую и техническую части. Первая будет называться элементарной доктриной, другая – методологической. Практическая или техническая часть логики была бы логическим искусством в отношении расположения и логическим искусством выражений и различий для того, чтобы облегчить действие разума.
В обеих частях, как технической, так и догматической, однако, ни объекты, ни субъект мысли не должны приниматься во внимание ни в малейшей степени. В последнем отношении логика может быть классифицирована следующим образом
4) на чистую и прикладную логику.
В чистой логике мы отделяем интеллект от других сил разума и рассматриваем, что он делает сам по себе. Прикладная логика рассматривает разум в той мере, в какой он смешан с другими силами разума, которые влияют на его действия и придают им косое направление, так что он не действует по тем законам, которые сам признает правильными. – Применяемая логика на самом деле не должна называться логикой. Это психология, в которой мы рассматриваем, как наше мышление склонно развиваться, а не как оно должно развиваться. В конце концов, она говорит нам, что мы должны делать, чтобы правильно использовать наш интеллект перед лицом различных субъективных препятствий и ограничений; мы также можем узнать из нее, что способствует правильному использованию нашего интеллекта, его вспомогательные средства или средства для исправления логических ошибок и заблуждений. Но это не пропедевтика. Ведь психология, из которой должно быть взято все, что касается прикладной логики, – это часть философских наук, по отношению к которым логика должна быть пропедевтикой.
Правда, говорят, что техника или способ построения науки должны быть представлены в прикладной логике. Но это бесполезно, даже вредно. Человек начинает строить, не имея материалов, и может дать форму, но содержание отсутствует. Техника должна быть представлена в каждой науке.
Наконец,
5) деление логики на логику обыденную и логику спекулятивного ума, мы отмечаем здесь, что эта наука вообще не может быть разделена таким образом.
Она не может быть наукой спекулятивного разума. Ибо, будучи логикой спекулятивного знания или спекулятивного использования разума, она была бы органоном других наук, а не просто пропедевтикой, которая должна заниматься всеми возможными применениями понимания и разума.
Логика также не может быть продуктом здравого смысла. Здравый смысл – это способность распознавать правила знания in concreto. Логика же должна быть наукой о правилах мышления in abstracto.
Можно, однако, принять здравый смысл за объект логики; в этом отношении она будет абстрагироваться от конкретных правил спекулятивного разума и тем самым отличаться от логики спекулятивного разума.
* * *
Что касается изложения логики, то оно может быть как схоластическим, так и популярным.
Схоластическим оно является, если соответствует любознательности, способностям и культуре тех, кто хочет относиться к знанию логических правил как к науке. Популярной же она является тогда, когда снисходит до способностей и потребностей тех, кто не изучает логику как науку, а лишь хочет использовать ее для просвещения своего ума. – В схоластической лекции правила должны быть представлены во всеобщем виде, или in abstracto, тогда как в популярной лекции они должны быть представлены в частностях, или in concreto. Схоластическая лекция является основой популярной; ведь только тот может представить что-то в популярной манере, кто смог представить это более тщательно.
Кстати, здесь мы проводим различие между лекцией и методом. Под методом следует понимать способ, с помощью которого можно полностью познать определенный объект, к познанию которого он должен быть применен. Он должен вытекать из природы самой науки и поэтому, как необходимый порядок мыслей, определяемый ею, не может быть изменен. Лекция означает только способ передачи своих мыслей другим, чтобы сделать доктрину понятной.
* * *
Исходя из того, что мы до сих пор говорили о природе и назначении логики, ценность этой науки и полезность ее изучения теперь можно оценить по правильному и определенному стандарту.
Логика, таким образом, не является ни всеобщим искусством изобретения, ни органоном истины, ни алгеброй, с помощью которой можно было бы обнаружить скрытые истины.
Но она полезна и незаменима как критика знания; или для суждения как обычного, так и спекулятивного разума, но не для того, чтобы научить его, а только для того, чтобы сделать его правильным и согласующимся с самим собой. Ибо логический принцип истины – это соответствие понимания своим собственным общим законам.
* * *
Наконец, что касается истории логики, то мы отметим лишь следующее:
Современная логика берет свое начало от аналитической логики Аристотеля. Этого философа можно считать отцом логики. Он представил ее как органон и разделил на аналитику и диалектику. Его способ преподавания очень схоластичен и основан на развитии самых общих понятий, лежащих в основе логики, которыми, однако, нельзя пользоваться, потому что почти все сводится к тонкостям, за исключением того, что из них выведены названия различных актов понимания.
Кстати, со времен Аристотеля логика не сильно прибавила в содержании, да и не может прибавить по самой своей природе. Но она может выиграть в точности, определенности и ясности. – Есть лишь несколько наук, которые могут достичь устойчивого состояния, в котором они больше не меняются. К ним относятся логика и метафизика. Аристотель не опустил ни одного момента разума; мы лишь стали более точными, методичными и упорядоченными в нем.
Считалось, что «Органон» Ламберта значительно расширяет логику, но он содержит не более чем более тонкие деления, которые, как и все надлежащие тонкости, оттачивают ум, но не приносят существенной пользы.
Среди более поздних философов есть двое, которые привели в движение общую логику: Лейбниц и Вольф.
Малебранш и Локк не занимались собственно логикой, поскольку они также занимались вопросами содержания знания и происхождения понятий.
Общая логика Вольфа – лучшая из имеющихся. Некоторые объединили ее с аристотелевской логикой, как, например, Реуш.
Баумгартен, человек, имеющий в этом большие заслуги, сконцентрировал логику Вольфа, а Мейер затем снова прокомментировал Баумгартена.
Декарт также принадлежит к числу более поздних логиков, но он не рассматривал природу логики. Ведь его логика содержит метафизические принципы и в этом отношении выходит за пределы этой науки; кроме того, она устанавливает критерий истины, который не может быть критерием, и в этом отношении дает волю всем фантазиям.
В наш век не было знаменитого логика, и нам не нужны новые изобретения для логики, потому что она содержит только форму мысли.
* * *
III. Понятие философии в целом. – Философия в соответствии с концепцией школы и в соответствии с концепцией мира. – Основные требования и цели
философствования. – Наиболее общие и высшие задачи этой науки.
Иногда бывает трудно объяснить, что понимается под той или иной наукой. Но наука приобретает точность благодаря определению своего конкретного понятия, а некоторые ошибки избегаются по определенным причинам, которые в противном случае закрадываются, когда науку еще нельзя отличить от смежных с ней наук.
Однако прежде чем попытаться дать определение философии, мы должны сначала рассмотреть характер самих различных познаний и, поскольку философские познания относятся к познаниям разума, объяснить, в частности, что следует понимать под последними.
Разумное познание противопоставляется историческому. Первое – это познание из принципов (ex principiis), второе – из данных (ex datis). – Но познание может возникать из разума и при этом быть историческим; так же как, например, когда просто грамотный человек узнает продукты чужого разума, его познание таких продуктов разума является просто историческим.
Ибо можно различать знания
1) по их объективному происхождению, то есть по тем источникам, из которых только и возможно познание. В этом отношении все знания являются либо рациональными, либо эмпирическими;
2) по их субъективному происхождению, то есть по способу, которым знание может быть приобретено человеком. С этой последней точки зрения знания либо рациональны, либо историчны; они могут возникнуть любым способом. Таким образом, нечто объективно может быть рациональным познанием, которое субъективно является только историческим.
В отношении некоторых рациональных познаний вредно знать их только исторически, но в отношении других это безразлично. Например, шкипер знает правила навигации исторически, по своим таблицам; и этого для него достаточно. Но если юрист знает юриспруденцию только исторически, то он совершенно испорчен как истинный судья и тем более как законодатель.
Из разницы между объективно и субъективно рациональным знанием теперь также ясно, что можно изучать философию в определенных аспектах, не будучи способным философствовать. Тот, кто действительно хочет стать философом, должен практиковать свободное, а не просто подражательное и, так сказать, механическое использование своего разума.
* * *
Мы объявили, что познания разума – это познания из принципов; из этого следует, что они должны быть априорными. Но есть два вида познания, которые оба являются априорными, но при этом имеют много заметных различий; а именно математика и философия.
Принято утверждать, что математика и философия отличаются друг от друга по объекту тем, что первая имеет дело с количеством, а вторая – с качеством. Все это неверно. Различие между этими науками не может быть основано на объекте; ведь философия имеет дело со всем, а значит, и с квантами, как и математика отчасти, поскольку все имеет количество. Только разный способ познания разума или использования разума в математике и философии делает специфическое различие между этими двумя науками. Философия – это познание разума из одних только понятий, тогда как математика – это познание разума из построения понятий.
Мы строим понятия, когда представляем их априори в представлении без опыта, которое соответствует нашему понятию о нем. – Математик никогда не может использовать свой разум в соответствии с простыми понятиями, а философ – через построение понятий. – В математике разум нужен в conreto, но концепция не эмпирическая, а нечто делается объектом концепции a priori.
И в этом, как мы видим, математика имеет преимущество перед философией, поскольку прозрения первой интуитивны, тогда как прозрения второй – только дискурсивны. Но причина, по которой мы больше рассматриваем величины в математике, заключается в том, что величины могут быть построены априори в интуиции, в то время как качества не могут быть представлены в интуиции.
* * *
Таким образом, философия – это система философских знаний или познание разума из понятий. Такова школьная концепция этой науки. Согласно концепции мира, это наука о конечных целях человеческого разума. Это высокое понятие придает философии достоинство, то есть абсолютную ценность. И действительно, только философия обладает внутренней ценностью и придает ценность всем остальным знаниям.
В конце концов, всегда возникает вопрос, какова же цель философствования и его конечная цель – сама философия, рассматриваемая как наука в соответствии со схоластической концепцией?
В этом схоластическом значении слова философия имеет дело только с искусностью; по отношению к понятию мира, с другой стороны, с полезностью. В первом отношении, следовательно, она есть учение об искусности; во втором – учение о мудрости, – законодательнице разума, и философ в этом отношении не художник разума, а законодатель.
Художник разума, или, как называет его Сократ, философ, стремится лишь к умозрительному знанию, не учитывая, насколько это знание способствует конечной цели человеческого разума; он дает правила для использования разума во всевозможных произвольных целях. Настоящим философом является практический философ, который учит мудрости, наставляя и показывая пример. Ведь философия – это идея совершенной мудрости, которая показывает нам конечные цели человеческого разума.
Философия, согласно концепции школы, включает в себя два элемента:
во-первых, достаточный запас рациональных знаний; – во-вторых, систематическую связь этих знаний или их сочетание в идее целого.
Философия не только допускает такое строго систематическое соединение, но даже является единственной наукой, которая имеет систематическое соединение в действительном понимании и придает всем другим наукам систематическое единство.
Но если говорить о философии в соответствии с понятием мира (in sensu cosmico), то ее можно назвать также наукой о высшей максиме применения нашего разума, если под максимой понимать внутренний принцип выбора между различными целями.
Ибо философия в последнем смысле есть наука об отношении всякого знания и применения разума к конечной цели человеческого разума, которой, как высшей цели, подчинены все другие цели и которая должна быть в ней объединена.
Область философии в этом космополитическом смысле можно резюмировать в следующих вопросах:
1) Что я могу знать?
2) Что я должен делать?
3) На что я могу надеяться?
4) Что такое человек?
На первый вопрос отвечает метафизика, на второй – мораль, на третий – религия, на четвертый – антропология. В принципе, все можно отнести к антропологии, потому что первые три вопроса связаны с последним.
Таким образом, философ должен уметь определять
1) источники человеческого знания
2) объем возможного и полезного использования всех знаний, и, наконец
3) пределы разума. —
Последнее – самое необходимое, но и самое трудное, но философа это не волнует.
Философу принадлежат две главные вещи:
1) Культура талантов и ловкость в их использовании для всевозможных целей;
2) умение использовать все средства для достижения любой цели.
И то и другое должно быть соединено, ибо без знания никогда не стать философом, но и одно только знание никогда не сделает философом, если к этому единству не добавится соответствующее сочетание всех знаний и умений, а также понимание их соответствия высшим целям человеческого разума.
Никто не может называть себя философом, если не умеет философствовать. Но философствовать можно научиться только через практику и самостоятельное использование разума.
Как же на самом деле можно научиться философии? – Каждый философский мыслитель строит, так сказать, свой собственный труд на руинах другого; но никогда не появлялось такого труда, который был бы последовательным во всех своих частях. Философия не может быть изучена по той самой причине, что она еще не дана. Но даже если бы она существовала, никто из изучающих ее не смог бы сказать о себе, что он философ, поскольку его знание о ней было бы только субъективным и историческим.
В математике ситуация иная. Этой науке можно научиться в определенной степени; ведь доказательства здесь настолько очевидны, что в них может убедиться каждый; кроме того, благодаря своей доказательности она может быть сохранена как определенная и незыблемая теория.
Тот же, кто хочет научиться философствовать, должен рассматривать все философские системы только как историю применения разума и как объекты для упражнения своего философского таланта.
Поэтому истинный философ должен, как самостоятельно мыслящий человек, свободно и самоинициированно, а не рабски подражательно использовать свой разум. Но и не диалектическое, то есть не такое, которое направлено только на то, чтобы придать знанию видимость истины и мудрости. Это дело простого софиста; но оно совершенно несовместимо с достоинством философа, как знатока и учителя мудрости.
Ведь наука имеет внутреннюю истинную ценность только как орган мудрости. Однако как таковая она также незаменима для мудрости, так что можно с полным правом утверждать: Мудрость без науки – это теневой набросок совершенства, которого мы никогда не достигнем.
Того, кто ненавидит науку, но еще больше любит мудрость, называют мизологом. Мизология обычно возникает из-за пустоты научного знания и связанного с ним тщеславия. Иногда, однако, в мизологию впадают и те, кто поначалу занимался наукой с большим усердием и удачей, но в итоге не нашел удовлетворения во всех своих знаниях.
Философия – единственная наука, которая умеет дать нам это внутреннее удовлетворение; ведь она, так сказать, замыкает научный круг, и именно благодаря ей науки обретают порядок и согласованность.
Таким образом, для того чтобы практиковать самоосмысление или философствование, нам придется обратить внимание скорее на метод использования разума, чем на сами пропозиции, к которым мы пришли с его помощью.
LITERATUR: Gottlob Benjamin Jaesche, Immanuel Kants Logik, Leipzig 1876
ФРИДРИХ ХАРМС
Проблема Канта
«Кант воздерживается от гипотез о неясном, как это делает эмпирическая психология, пытаясь описать рост факта человеческого познания от первого начала во времени, которого никто не знает, ни в душе детей, ни в животных, ни в так называемом первобытном человеке, который является лишь плодом воображения. Более того, описать рост этих фактов от минимального их начала вообще невозможно, если этот факт не был замечен заранее, как он дан».
«Проблема, которую Кант поставил перед философией в связи с возможностью синтетических суждений, – это вопрос о том, как возможно расширение и увеличение нашего знания, как возможен прогресс в познании. Это не может произойти через применение формальной логики, поскольку из нее вытекают только аналитические суждения. Поэтому Кант, как и вся современная философия, отвергает формальную логику как органон или методологическую теорию наук. Из ее применения не следует никакого прогресса наук, а только их стагнация».
Кант называет свою философию критической и противопоставляет ее догматической и скептической философии. Разница касается процедуры философствования. Догматическая философия, как и эмпирическая наука, исходит из простого предположения, что мы познаем вещи такими, какие они есть, и что, следовательно, вещи существуют так, как мы их видим и мыслим. Скептик ставит под сомнение это предположение догматика, отрицая, что мы знаем вещи такими, какие они есть, и что они существуют так, как мы на них смотрим и думаем о них. Он направляет свои атаки против философских догм и разрушает то, что они построили.
До этого момента история философии была наполнена бесконечным конфликтом между самоочевидностью догматизма и неопределенностью скептической философии. Деспотизм догматической философии снова и снова подрывался анархией скептицизма, и так не было создано признанной философии.
Кант противопоставляет оба типа процедур или максим мышления критической философии. Он делает критический процесс, который он наблюдал с самого начала, сущностью философии. Он является основателем критики в философии. Ни путем простого принятия, ни путем простого отвержения и отрицания, а только через критику, то есть через изучение и исследование, мы можем прийти к познанию истины.
Философия называется критической не из-за каких-то результатов, взглядов и доктрин, а потому, что она занимает определенную позицию в познании – позицию критического суждения, потому что придерживается определенной процедуры мышления. Это позиция зарождающейся науки, исследования, из которого должна появиться истина. Если мы ищем истину, нам, с одной стороны, придется признать, что мы ею еще не обладаем и что мы еще не признали вещи такими, какие они есть, а с другой стороны, мы можем прийти к знанию истины на основе нашего мышления, на основе имеющихся у нас идей.
Догматизм и скептицизм знаменуют собой не начало, а упадок философии и научного образования. Они появляются не в начале, а в конце периода. Только в конце греческой философии в стоической и эпикурейской философии появляется догматизм, а вместе с ним и скептицизм. То же самое происходит и в более поздней философии. Скептицизм появляется как конечный результат эмпиризма и сенсуализма английской философии, которая, поскольку она пренебрегает рассмотрением и исследованием своих принципов и оснований заново и подвергает их критике, завершается скептицизмом, вытекающим только из ее некритической процедуры. Но этот современный скептицизм имеет то преимущество перед древним, что он предстает не как простое отрицание догматизма, а как конечный результат теории, которая сама по себе положительна, но которая сама по себе была догматизмом. В своем конечном результате она скептична, но в своем начале, как сенсуализм, она догматична.
Рационализм в современной философии, основанный Картезиусом, начинается скептически, но чем дальше он развивается, тем больше заканчивается догматизмом. Ведь скептицизм содержит не истинное, а лишь кажущееся обоснование философии; он так же некритичен, как и догматизм. Изгибы и повороты сомнения сами должны быть сначала подвергнуты критике, прежде чем они смогут послужить основой для философии. Догматический рационализм смиряется со скептицизмом и успокаивается только после того, как с ним смирится. Он стремится избежать поворотов скептицизма, не доказывая критикой необоснованность своих поворотов.
В обеих школах современной философии до Канта преобладает предубеждение, что существует универсальный метод познания; в одной превозносятся индукция и эмпиризм, в другой – математическое умозрение как универсальный метод познания. Каждый универсальный метод скептичен в своем отношении к знанию, которое не может быть найдено на его пути, и догматичен в своей процедуре. Поэтому догматизм и скептицизм проявляются в обоих направлениях современной философии до Канта.
Математическая спекуляция как универсальный метод скептически относится ко всей эмпирии, которую она рассматривает лишь как набор спутанных и потому пустых и непознаваемых идей, а сенсуалистическая индукция скептически относится ко всему понятийному знанию, которое она рассматривает лишь как привычный, похожий на память сбор, воспроизведение и социализацию чувственных идей.
Они отрицают друг у друга основания своей процедуры, реальность опыта, с одной стороны, и законность мышления – с другой. Наконец, эмпиризм заканчивается страхом перед всеми фактами, которым он идолопоклоннически поклоняется, отказываясь от всякого объяснения фактов и получая удовольствие только от их переживания; а рационализм, становясь вульгарным, заканчивается просвещением, которое считает, что оно все познало, когда сделало все идеи ясными и отчетливыми для всех.
Скептицизм рационализма – это низший скептицизм, который ставит под сомнение реальность опыта, а скептицизм эмпиризма – это высший скептицизм, который отрицает истинность интеллектуального знания. Ни догматизм, ни скептицизм не существуют отдельно в современной философии, что отличает ее от старой философии, но оба они содержатся в обоих направлениях современной философии, и только по отношению друг к другу рационализм можно назвать догматизмом, а эмпиризм скептицизмом, игнорируя скептический элемент рационализма и догматический элемент эмпиризма. И то, и другое является следствием некритической процедуры в философии до Канта, поскольку они предполагают либо эмпиризм, либо математику в качестве нормы для всего познания и сами не исследуют возможность познания.
Догматизм утверждает реальность знания, а скептицизм сомневается и отрицает ее. Но и то, и другое ненаучно, поскольку догматизм не обосновывает свои предположения так же, как скептицизм обосновывает свои сомнения; он лишь разрушает то, что догматизм строит. Критика противостоит обоим типам процедуры в философии, ставя перед философией проблему возможности знания. Философия должна исследовать, обосновать и подтвердить возможность познания. Допущение или отрицание реальности знания в догматизме и скептицизме без всякого исследования и обоснования не соответствует природе философии как науки; напротив, она должна исследовать возможность знания, основание всякого знания.
Все другие науки, какое бы название они ни носили, имеют свое знание в том, что они признают какой-то определенный объект; но знание и признание сами по себе не являются их объектом. То, что остается скрытым и неисследованным во всех науках, – возможность познания – и есть проблема философии. Поэтому философия, согласно ее концепции, является критической философией, которая решает вопрос о возможности, истинности и определенности познания. Эпохальное значение Канта заключается в том, что он признал это. Вся прежняя философия была лишь подобием эмпирической науки, познающей конкретные объекты. Философия есть философия через проблему объяснения и обоснования концепции познания.
Философия должна исследовать не факт познания, который можно наблюдать и описывать, как это делал Локк, а возможность познания. Исследование возможности познания означает исследование условий познания, что, следовательно, не может быть сделано эмпирической, а только философской процедурой. Факт познания в жизни и во всех науках можно наблюдать, но никакое решение о возможности познания не может быть достигнуто посредством наблюдения.
Возможность может быть исследована на основе реальности. Познание, которого нет, не может быть объектом познания. Поэтому, если критическая философия исследует возможность познания, то должно существовать познание, возможность которого она исследует. Поэтому Кант также исходит из факта познания, а именно из факта познания в математике, в физике, в метафизике, исследуя возможность и условия познания. Именно в этом преимущество или суть критики Канта, что во всех своих исследованиях он исходит из полного факта познания, как он может быть замечен, в том, что он хочет исследовать его возможность. Критика – это не эмпирическая психология, которая, пусть и тщетно, стремится лишь описать рост этого факта от минимального его начала. Скорее, этот предрассудок эмпиризма должен быть отброшен, если мы хотим прийти к правильному пониманию критики. Критику вовсе не интересует то, что интересует эмпирическую психологию. Поэтому Кант также воздерживается от гипотез о тьмах, как это делает эмпирическая психология, поскольку хочет описать рост факта человеческого знания от первого временного начала, которое никто не знает, ни в душе детей, ни в животных, ни в так называемом первобытном человеке, который является лишь продуктом воображения. Более того, невозможно описать рост этих фактов от минимального их начала, если этот факт не был замечен заранее, как он дан. Эмпирическая наука о человеческом познании, как она была развита в сенсуализме английской и французской философии, стремится к прогрессивному развитию, тогда как Кант идет регрессивно, принимая факт познания как данность.
Несомненно, в современной философии до Канта есть начинания, направленные на критицизм. Их можно найти во всех произведениях современной философии, содержащих исследования человеческого разума, у Локка и Юма, у Лейбница и Кондильяка, у Спинозы и Малебранша и т. д. Они также свидетельствуют о стремлении всей современной философии реформировать формальную логику, доставшуюся ей от средневековья. Тем не менее, только основатель критики характеризуется своей концепцией проблемы критической философии и своим методом решения этой проблемы. Америка была известна еще до Колумба, и все же он первым открыл ее. То же самое относится и к критике. Вся современная философия хочет реформировать логику и стремится к критике. Но ее основал только Кант, это его заслуга в истории философии.
Кант, однако, не разработал науку о возможности познания во всей ее полноте, а придал проблеме особую формулировку, поставив вопрос о том, как возможны синтетические суждения a priori. Он обращает свой взор только на синтетические, а не на аналитические суждения, на априорное, а не на эмпирическое знание. Казалось бы, если наука о познании должна быть полной, то она должна исследовать и возможность эмпирического знания и аналитических суждений. Но Кант исключает такое исследование.
Наука об аналитических суждениях – это формальная, аристотелевская или аналитическая логика. Кант не стремится ее обновить, он просто оставляет ее в силе и чтит как старую традицию философии. Она также не является достаточной для развития наук и прогресса знания. Анализ наших понятий не расширяет наше знание.
Кант также не принимает во внимание эмпирические понятия. Опыт учит каждого их происхождению и подтверждает их достоверность. Описывать их постепенное формирование, как это делал Локк, конечно, похвально и интересно, но недостаточно для решения проблемы возможности познания. Ведь эмпиризм учит нас многому новому, но он не дает никакой науки, никакого общего и необходимого знания. Кант хотел дать не теорию эмпиризма, а теорию априорного знания в синтетических суждениях. Лишь попутно он рассматривает аналитические суждения в противоположность синтетическим, а эмпирическое знание в противоположность априорному. Таким образом, он ограничивает проблему и, кажется, не рассматривает ее во всей полноте, когда задается лишь вопросом о возможности синтетических суждений a priori. Но это не так. Ведь анализ понятий, как бы он ни был необходим, и простое собирание эмпирии или фактов – это лишь части знания, а значит, не само знание. Истинное и полное знание состоит в синтетическом суждении a priori. Поэтому Кант определил понятие знания иначе, чем это делали до него. Исследовать возможность знания – значит исследовать возможность синтетических суждений a priori в соответствии с их условиями.
Согласно Канту, как и в аристотелевской логике, знание состоит в суждении. Судить – значит давать знание. Понятие суждения дает представление о природе знания. Но Кант теперь считал, что существует два вида суждения: аналитическое и синтетическое. Но это лишь уступка прежней формально-аналитической логике Аристотеля, согласно которой все суждения должны заключаться только в анализе понятия. Признав два типа суждений и допустив их существование рядом, Кант усложнил понимание своей собственной доктрины; ведь, согласно Канту, только синтетическое суждение является сущностью знания, но не аналитическое. Знание состоит в синтетическом, но не в аналитическом суждении.
Аналитическое суждение возникает в результате анализа понятия в соответствии с его содержанием или объемом, благодаря чему оно становится ясным и отчетливым. Предикатное понятие в аналитическом суждении проясняет для нас то, что уже было осмыслено ранее в субъектном понятии; поэтому они не расширяют наше знание. Истинность этих суждений опирается на принцип противоречия. Противоречие возникает, когда я пытаюсь отрицать предикат от субъекта в аналитическом суждении. Предикат обязательно связан с субъектом в аналитическом суждении в соответствии с принципом противоречия. Если я анализирую понятие тела, то нахожу предикат протяженности и получаю аналитическое суждение: все тела протяженны. Предикатное понятие дано в субъектном понятии и через него. Я не могу отрицать предикат субъекта без того, чтобы не возникло противоречие. Тело без протяженности – ничто. Поэтому во всех этих суждениях присутствует также логическая необходимость. Формы суждения и умозаключения формальной логики – это средства, с помощью которых понятия анализируются и становятся ясными и отчетливыми. Все суждения формальной логики, таким образом, также являются лишь аналитическими суждениями, в которых, согласно принципу противоречия, мыслится необходимая связь предиката с субъектом. Если все наше знание состоит только из аналитических суждений, то невозможно понять, как мы можем расширять познание и прогрессировать в познании.
Синтетическое суждение не возникает из анализа понятия, и поэтому его истинность не опирается на принцип противоречия. В синтетическом суждении предикат добавляется к субъекту только через связь; поэтому они расширяют познание. Весь прогресс в познании опирается на синтетические суждения. Нет никакого противоречия, если я отрицаю предикат от субъекта в синтетическом суждении. Если же предикат мыслится связанным с субъектом не случайно, а обязательно, то эта связь не основана на принципе противоречия и поэтому требует иного обоснования.
Согласно Канту, все суждения, основанные на опыте, являются синтетическими суждениями. Ведь благодаря опыту наше знание постоянно увеличивается и расширяется, мы приобретаем новые предикаты, которые нельзя найти, анализируя понятие. Суждения опыта основываются на синтезе, а не на анализе, и их истинность не основана на законе противоречия.
Суждение о том, что все тела тяжелые, является, согласно Канту, синтетическим суждением, основанным на опыте. Понятие тяжести не может быть найдено путем анализа понятия тела, а приобретается в опыте. Геометрические тела вытянуты, но не тяжелы. Предикат тяжести не лежит в понятии тела, как и предикат протяженности, поэтому он также требует иного обоснования, чем то, которое способна дать формальная логика.
Различие, которое Кант предполагает между аналитическими и синтетическими суждениями, является объективным, а не просто субъективным, как думают некоторые, когда учат, что все суждения в равной степени аналитические и синтетические, поскольку то, что является анализом для того, кто уже имеет понятие об объекте, является синтезом для другого, который еще не приобрел это понятие. Таким образом, различие было бы чисто произвольным и зависело бы от случайного уровня образования мыслителя. Такой взгляд – это отказ от всякой логики. Но это не мнение Канта и не соответствует сути дела. Различие не сводится только к точке зрения, поскольку связь в этих двух формах суждения различна, и, следовательно, их обоснованность также оценивается по разным принципам. Если бы это различие было чисто субъективным, то опыт, по крайней мере, не имел бы для нас ни смысла, ни познавательной ценности, поскольку то, что можно познать, анализируя понятие, должно быть возможно и без опыта. В любом случае, суждения опыта – это не анализ, а оригинальный синтез в познании. Даже если бы кто-то обладал так называемым абсолютным понятием, он не смог бы познать реальное, факты опыта, анализируя это понятие.
Проблема, которую Кант поставил перед философией в связи с возможностью синтетических суждений, – это вопрос о том, как возможно расширение и увеличение нашего знания, как возможен прогресс в познании. Это не может произойти через применение формальной логики, поскольку она дает только аналитические суждения. Поэтому Кант, как и вся современная философия, отвергает формальную логику как органон или методологическую теорию наук. Из ее применения не следует никакого прогресса в науках, только их застой.
Математика и естественные науки, поскольку они были заново сформированы после окончания Средневековья, тем не менее находятся в состоянии постоянного прогресса в познании. Это обстоятельство и побудило Канта поставить проблему возможности познания в синтетических суждениях. И его «Критика чистого разума», отвечающая на этот вопрос, представляет собой новую логику, новую методологическую теорию наук. Логика аналитических суждений – это логика Аристотеля, из которой в Средние века возникла формальная логика. Логика синтетических суждений, не существовавшая до Канта, – это «Критика чистого разума». Факт знания лежит в основе исследования его возможности. Реформа логики, методологии наук, связана с дальнейшим развитием реальных наук.
Однако, согласно Канту, существуют не только синтетические суждения опыта или апостериорные, но и синтетические суждения априорные. Кант исходит из того, что мы обладаем как априорным, так и эмпирическим знанием, что мы делаем как аналитические, так и синтетические суждения. Математика и общая физика обладают априорным знанием; более того, даже обычный человек обладает априорным знанием, когда предполагает, что все происходящее имеет свою причину. Наука везде невозможна без априорного знания, ибо опыт – это лишь совокупность единичных и случайных восприятий, но не наука, основанная на общем и необходимом знании.
Знание a priori – это знание a priori в аналитических или синтетических суждениях. Если сера – это тело, то, просто анализируя понятие тела, я априорно знаю, что сера растянута в трех измерениях, точно так же, как на основании простого опыта я знаю, что она желтая. Но в сциентистских суждениях также есть априорное знание, которое не может быть найдено никаким анализом понятия. В понятии события есть только последовательность событий, но нет ничего о том, что одно является причиной или приводит к другому. Тем не менее, мы априори считаем, что все, что происходит, имеет свою причину. Опыт показывает нам, что везде нет причины, а есть лишь случайный ряд событий. Мы не находим причину, просто анализируя событие. Тем не менее, интеллект постоянно связывает с понятием события суждение о том, что ничто не происходит без причины. Синтетические суждения a posteriori основаны на опыте, аналитические суждения a priori – на принципах и процедурах формальной логики; но на чем основаны синтетические суждения a priori, которые делают знание возможным в первую очередь, на чем основывается развитие науки? Ни простой эмпиризм, ни старый органон науки, обычная логика, не дают ответа на этот вопрос. Поэтому философия, или наука о знании, должна прежде всего решить этот вопрос о возможности синтетических суждений a priori, в которых содержится само понятие знания.
Синтетические суждения a priori опираются на понятия, которые обычно и обязательно добавляются ко всем данным эмпиризма, что касается событий. Но откуда берутся эти понятия, которые не даются никаким опытом, поскольку они добавляются ко всему опыту, которые не обнаруживаются никаким анализом, и какая обоснованность, истинность и оправданность заключается в применении этих понятий во всяком познании?
Прежний рационализм называл их врожденными. Но это ничего не объясняет, а лишь констатирует факт, что мы обладаем такими понятиями, из которых априори вытекают синтетические суждения. Сенсуализм считает их сомнительными, он хочет доказать, что они даны опытом, но поскольку он не может этого сделать, он хочет вывести их из привычек воображения, а поскольку они не возникают и из привычек воображения, которые не являются органами чувств, которые, как предполагается, содержат в себе происхождение всех понятий, он только ставит под дальнейшее сомнение происхождение и обоснованность этих понятий. Сенсуализм, поскольку он не смог решить эту проблему, сомневается и отрицает только факт человеческого познания, поскольку он дается существованием наук. Но сенсуалистический скептицизм должен молчать о факте; он не может спорить против факта. Но поскольку он не мог объяснить этот факт, он просто переосмыслил его в терминах последствий своей сенсуалистической теории. Этот консеквенциализм – зло сенсуализма и эмпиризма, который прежде всего не способен понять и признать факты в том виде, в каком они даны. Эмпиризм в философии прямо противоположен эмпирической процедуре в эмпирических науках. Так называемые эмпиристы в философии, которые постоянно восхваляют и рекомендуют опыт для обучения, знают его и его применение очень мало. О нем и его использовании можно узнать только в самой эмпирической науке.
Кант не спрашивает, возможно ли знание, возможны ли синтетические суждения a priori, но он спрашивает, как они возможны. Вопрос о том, возможно ли познание, нигде не является разрешимой проблемой. Ведь для того, чтобы решить, возможно ли познание, уже предполагается, что познание возможно. Даже для того, чтобы распознать то, что я не могу распознать, я уже должен предположить возможность познания. Таким образом, в проблеме возможности познания есть противоречие, поэтому ее решение невозможно. Проблема, положение которой содержит противоречие, не может быть решена, но должна быть отвергнута. Отказ от противоречий в мышлении – единственно правильное отношение, которого они заслуживают. Поэтому Кант был прав, когда спрашивал не о том, возможно ли знание, а о том, как синтетические суждения возможны a priori.
По этой причине полемика Гегеля против проблемы Канта здесь также неприменима. Гегель говорит («Энциклопедия», Сочинения, стр. 15), что стремление Канта исследовать возможность познания подобно мудрому решению схоласта научиться плавать, прежде чем войти в воду, ибо исследование возможности познания само является познанием. Но желание познать, прежде чем познать, подобно схоластическому решению научиться плавать, прежде чем войти в воду. Однако это опровержение не применимо к попыткам Канта. Ведь Кант спрашивал не о том, возможно ли познание, а о том, как оно возможно. Более того, плавать можно научиться и до того, как войти в воду, как можно научиться и в воздухе. Никто не станет слепо и наугад бросаться в воду, чтобы научиться плавать. Но заниматься познанием, как рекомендует Гегель, – это просто гимнастика мысли, к которой Кант предусмотрительно отнес проблему возможности познания, поскольку наука – это не слепое познание, а методическая процедура познания, а исследовать возможность познания, которым занимаются другие науки, – это проблема философии.
Вопрос о возможности познания, или об условиях, при которых познание возможно, касается происхождения, опосредования и цели, или объекта и истины познания. Познание возникает, каким бы то ни было образом, из души; поэтому исследование происхождения познания называется также психологическим исследованием. Опосредование в познании происходит через функции мышления и является предметом логики; но исследование объекта] и истины познания является метафизическим. Эти три элемента, психический, логический и метафизический, содержатся во всех знаниях и науках. Разложение всего знания на эти три элемента не представляет никаких трудностей, так же как легко и правдоподобно образовать на основе этого разложения три дисциплины – психологию, логику и метафизику, каждая из которых имеет дело с одним элементом знания, хотя и отдельным и отличным от другого. Однако эти три дисциплины не в состоянии решить проблему науки о познании, поскольку каждая из них не в состоянии даже правильно понять и осмыслить тот элемент, на котором она основана, поскольку они разрывают эти элементы на части и ни одна из них не в состоянии, таким образом, дать достаточное объяснение природы и процесса познания. В отрыве друг от друга они образуют эмпирическую психологию, формальную логику и догматическую метафизику, которые являются фрагментами целого, которое никогда не может быть в них узнано. Отказ от этих прежних философских дисциплин, старых средневековых традиций, – первый шаг к решению проблемы науки о знании. Для них разложение знания на элементы – лишь средство установить возможность познания, поскольку искусственно отделенные друг от друга элементы всегда содержат реальное знание, когда они связаны друг с другом.
Заслуга «Критики чистого разума» Канта состоит в том, что он впервые рассмотрел проблему науки о познании во всей ее полноте, исследуя знание в соответствии с тремя указанными элементами в связи друг с другом. Поэтому нет ничего более препятствующего пониманию и оценке учения Канта, чем рассмотрение его с точки зрения одной из трех прежних дисциплин философии – эмпирической психологии, формальной логики или догматической метафизики, что всегда приводит к ошибочному толкованию. Прогресс, которого философия достигла благодаря Канту, заключается прежде всего в его постановке проблемы. Кант поставил новую проблему для философии, спросив, как возможны синтетические априорные суждения, и тем самым стал основателем немецкой философии. Тот, кто знает, как поставить перед наукой новую проблему, приводит в движение все силы исследования во всех областях познания.
Решение проблемы
Решение проблемы Кант нашел в «Критике чистого разума», в «Критике практического разума» и в «Критике способности суждения». Эти три работы вместе содержат критику Канта, но не «Критика чистого разума» сама по себе. «Пролегомены ко всякой будущей метафизике, которая сможет явиться как наука» служат дополнением к «Критике чистого разума». V. «Die Grundlegung zur Metaphysik der Sitten» содержит введение к «Kritik der praktischen Vernunft». Хабилитационная диссертация «De mundi sensibilis atque intelligibilis forma et principis» содержит первый набросок критики Канта, из которой возникла «Критика чистого разума».
В «Критике чистого разума» рассматривается вопрос о возможности теоретического познания, которое относится к существующему. В «Критике практического разума» рассматривается практическое знание, которое направлено на то, что должно быть. Объектом практического познания является идеальное, объектом теоретического – реальное. В «Критике способности суждения» достигается посредничество между теоретическим и практическим знанием, идеальным и реальным, физическим и этическим знанием.
Согласно старой классификации, теоретическое знание включает в себя математику, физику и метафизику. Поэтому исследование теоретического знания делится на три вопроса, касающиеся возможности математического, научного и метафизического знания. Кант начинает решение своей проблемы с исследования возможности априорных синтетических суждений в математике.
Это привело к недостатку в изложении философии Канта. Сразу же приступая к решению своей проблемы в частностях, Кант упускает из виду общие условия и предпосылки ее решения для себя. Поэтому он предполагает как известное и определенное то, что представляется сомнительным и не может считаться известным.
Критика познания невозможна без идеальной концепции природы познания, того, чего оно должно достичь, какова его цель и по сравнению с чем оценивается и измеряется каждое отдельное познание. Несомненно, такая концепция присутствует в работах Канта, но он принимает ее как известную и признанную, нигде ее не обосновывая. Знание, по Канту, есть, по самому определению, в соответствии с его истинной концепцией, знание вещей как они есть или как они есть сами по себе. Для него всякое исследование знания есть исследование и суждение о нем в соответствии с этим действительно идеальным понятием, обсуждение которого предполагается. Понятие вещи-в-себе, которое, вероятно, было названо априорным понятием кантовской философии и в котором заключен характер всего его мышления, вытекает из идеального понятия познания или знания, как его понимает Кант. Нет истинного знания, кроме как в познании бытия или вещей самих по себе. Это абсолютная истина, или реальная и метафизическая истина, которую Кант предполагает в качестве стандарта и критерия для суждения о каждом отдельном познании. Она является целью всякого мышления, независимо от того, можем мы ее достичь или нет; без ее идеального понятия невозможна никакая критика познания. В этой предпосылке Кант полностью согласен с платонизмом и рационализмом со времен Картезия. Только он по-другому использует это понятие, поскольку с его помощью судит о возможности всякого познания.
Можно сомневаться в правильности идеального понятия познания, из которого вытекает понятие вещи-в-себе, абсолютной истины, как ее понимает Кант, и из учения Канта такие сомнения возникли именно в развитии немецкой философии, которые привели к тому, что это понятие было объяснено и понято по-другому, и также справедливо придется оставить рассмотрение этих предпосылок, которые делает Кант; Но поскольку философия Канта уже дана, не остается ничего другого, если мы не хотим заранее закрыть себе вход в нее, как принять эти предпосылки на время, ибо их недостаток не может быть, как это пытался сделать Рейнгольд, исправлен чужой рукой, как это возможно со многими произведениями искусства.
LITERATUR: Friedrich Harms, Die Philosophie seit Kant, Berlin 1876
ЭРНСТ МАРКУС
Проблема познания [КАК ФИЛОСОФСТВОВАТЬ С ПОМОЩЬЮ ГРАВИРОВАЛЬНОЙ ИГЛЫ]
Прелюдия
Философская Вальпургиева ночь
«Но скажи мне, стоим ли мы?
Или мы идем дальше,
Все, все, кажется, вертится».
От Канта к проблеме познания. Неосведомленный читатель будет поражен, узнав, что был человек, который утверждал, что открыл точную науку, до сих пор неизвестную, то есть равную по рангу математике и физике, а потому совершенно неоспоримую и совершенно новую, о которой (по его собственному выражению) «до сих пор ничего не было и в мечтах». Он будет поражен тем, что этот человек из-за своего открытия сравнил себя с Коперником (первым основателем современной астрономической системы). Он скажет: «У этого человека есть мужество» или «чертовски скромный парень».
Но тот, кто это сказал, на самом деле был очень скромным, добрым, непритязательным человеком, который надеялся лишь на то, что в будущем встретится не со своими великими коллегами по философии, а со своим старым слугой Лампе, потому что предпочитал общество особо праведных душ любому другому. Тот, кто говорил это, был также человеком, который был не только против лжи, но и против небрежного нарушения истины, и особенно против небрежного распространения заблуждений в высшей степени. Он также был человеком, который впервые создал науку о происхождении неподвижной звездной системы, которая по существу признана и сегодня, вплоть до мельчайших деталей. Этот человек – наш старый, дорогой Кант, который известен большинству людей лишь по темным слухам и противоречивым интермедиям.
Итак, если этот скромный человек, боязливо избегающий любого нарушения истины, прав, то существует новая, истинная, точная наука наравне с астрономией, математикой и физикой, то есть наука совершенной точности, хотя «даже сегодня мы еще не можем мечтать о ней».
Читатель, восприимчивый к сенсационным новостям, спросит себя, спит он или бодрствует, и, придя в себя, скажет: «Какая тысяча! Это что-то совершенно новое и даже одно из тех редких или невозможных известий, которым уже более ста лет. Если это так, то где же люди, которым государство поручило культивировать существующие науки, присваивать и распространять новые открытия? Неужели эти люди спят? Разве не сказочно в высшей степени, что назначенные хранители и блюстители науки даже не подозревают, что существует совершенно новая точная наука, открытая Кантом. Я еще ничего не слышал о ней. Я слышал только, что Кант написал в своей «Критике чистого разума» всякие завитушки, которые трудно понять, что он противоречит сам себе самым серьезным образом, что он находится в конфликте с «современным» естествознанием и что дарвинизм опроверг его. Но теперь, когда я слышу, что он считал себя великим первооткрывателем, мне придется считать его совершенно беспринципным и нескромным шарлатаном или даже дураком. Но это любопытная история. С одной стороны старый Кант в полном одиночестве, в великолепной изоляции по методу английской политики, с другой – несколько тысяч хранителей и блюстителей науки – живых и мертвых, включая даже «великих» философов и ученых. Кому верить – одному Канту или нескольким тысячам хранителей и блюстителей?
Я полностью согласен с читателем в его сомнениях, более того, я понимаю его, когда он отшатывается в благоговейном трепете перед могущественной армией стражей и блюстителей, тем более что он узнал от них много действительно верных вещей. Их голоса также производят огромный шум, когда соединяются вместе. Но – в отличие от парламентов и общих собраний акционеров – большинство здесь не решает. Подобное уже случалось, возможно, не раз. Такие сенсационные, почти столетней давности новости действительно уже были. Знаменитый Коперник был не лучше Канта. Пока примерно через сто лет не проник Кеплер, существовала целая масса блюстителей и хранителей науки, в том числе и знаменитые ученые (например, «великий» философ Бако из Верулама), которые не хотели знать, что солнце является центром нашей планетарной системы и что земля вращается вокруг себя и вокруг солнца. Это были люди, которые не могли оторваться от традиций своих отцов, они были старообрядцами, ортодоксальными противниками Коперника, или, скажем коротко: ортодоксальные антикоперники; и теперь читатель согласится со мной, что, хотя это почти ужасающе невероятно, все же не исключено, что наши тысячи стражей и дозорных, которые отрицают, что учение Канта – истинная, несомненная наука, возможно, являются ортодоксальными противниками Канта, то есть ортодоксальными антикантианцами. Таким образом, дело еще не окончательно решено, хотя хранителям хотелось бы, чтобы мы так считали, тем более что произошли и другие весьма любопытные и сказочные вещи, о которых я вскоре сообщу. Однако я должен умолять читателя пользоваться тем ограниченным пониманием непрофессионала, которым его наделила природа. Не то чтобы я особенно дорожил этим пониманием, которое я часто с успехом использовал. (Далеко не всегда я хочу расположить к себе читателя, делая комплименты его интеллекту.) Нет, он просто не должен пользоваться тем особым философским пониманием, которое один из исследователей Канта иногда рекомендует для этой цели как понимание знатока, превосходящее понимание обывателя. Читатель поймет это предупреждение, если продолжит знакомиться с продуктами этого особого понимания и если учтет, что сам Кант время от времени требует, чтобы о науке судили с помощью «обычного» понимания, как если бы он уже боялся только что открытого понимания знатока.
А теперь к делу! В дополнение к только что упомянутому нескромному высказыванию Кант сделал еще одно чрезвычайно скромное высказывание, о котором читатель никогда не слышал и которое, вероятно, было упущено опекунами и сторожевыми псами и поэтому, а может быть, и по другим причинам, не получило распространения. Это высказывание означает, что если новая наука Канта не делает всего, то она вообще ничего не делает, то есть она совершенно и абсолютно ложна и бесполезна.
Да! Читатель скажет: «Что, черт возьми, это должно означать для меня? Это утверждение излишне, потому что оно совершенно самоочевидно. Ведь если то, что говорит Кант, не является истинным и доказанным, то это просто ложь или сомнительный материал, которому место в мусорной корзине».
Да, так говорит обыватель, и так говорит Кант, который, как я правильно предположил, тоже работал с обывательским умом; но очень многие, почти все опекуны и попечители, которые представляются исследователями Канта, придерживаются другого мнения. Они говорят, например, если свести их мнения к одному:
«Ни в коем случае не все, что Кант говорит в „Критике“, хорошо, в сущности, он ничего из того, что утверждает, не доказал сокрушительным образом, да и вообще ничего не доказал, во многих случаях грубейшим образом противоречил сам себе и ни в коем случае не создал истинной науки, а в лучшем случае исторически преходящую (в светских терминах: „сомнительную“) науку (т.е. ненауку). Однако, несмотря на все это, некоторые положения учения Канта чрезвычайно ценны, его учение гениально, несмотря на его противоречия, более того, противоречия – это знак качества».
Таким образом, читатель убеждается в том, что «обычное», или непрофессиональное, понимание Канта также противоречит пониманию знатока. Ведь Кант отправляет всю свою доктрину (как и читатель) в мусорную корзину, если она не делает всего. Знатоки, напротив, сохраняют несколько ее частей (одну эту, другую ту) и отказывают Канту в скромном праве заталкивать свою доктрину в пасть «философских идей». Но это столкновение между буферами сознания обывателя и знатока – еще не все. Третье весьма тревожное обстоятельство заключается в том, что знатоки расходятся не только с доктриной Канта, но даже друг с другом.
Ибо один считает, что Кант учил так, а другой – что совсем наоборот. Один считает, что определенная часть его учения верна и потому ценна, другой – что эта же часть неверна. Один считает, что предложение истинно, потому что дано доказательство, а другой – что оно истинно, хотя доказательство не удалось.
Из этого ограниченный неспециалист преждевременно сделает вывод, что первые тысячи ученых обвиняют друг друга в том, что они ошибаются в своих интерпретациях Канта, и тем самым даже обвиняют друг друга в том, что они неспециалисты, а не эксперты по Канту. Но это далеко не так! Все оказывается совершенно иначе, совершенно чудесно, совершенно удивительно. Противоречивые интерпретации Канта ценятся и почитаются как «проницательные» и «ценные» «взгляды Канта».
Однако мы, простые обыватели, не знаем, какая из этих «ценных» интерпретаций Канта верна, то есть какая из них правильно отражает доктрину, не знают этого и «эксперты». Ибо никто из них еще не доказал правильность своей «кантовской интерпретации». Но такая мелочь, как строгое, убедительное доказательство, в кантовских джунглях и не требуется. Они довольствуются так называемым столь же «проницательным» обоснованием, которое столь же сомнительно, как и сама проницательная точка зрения Канта. Поэтому человек также «терпим» к различным взглядам Канта. Они объявляются «ценными» взглядами Канта.
Обосновать такую терпимость нелегко. Но это возможно. Все остальные науки страдают от самой грубой, бесстыдной и безнравственной нетерпимости. Они не позволяют переступить порог ни одному утверждению, которое является ложным или даже просто сомнительным, то есть бездоказательным, и поэтому математик, например, грубейшим образом нарушает моральный принцип терпимости, просто выбрасывая своего оппонента, который хотел выдвинуть «проницательную» математическую «точку зрения», что прямая линия не является кратчайшим соединением двух точек или что иногда 2 x 2 может быть и 5. В «науке» Канта ситуация совершенно иная. Здесь мы видим самую дружелюбную терпимость, поистине приятную гармонию. Эта терпимость, однако, создается следующими соображениями:
Те, кто участвует в интерпретации Канта, – знатоки Канта (в отличие от «непрофессионалов»). Поскольку каждый из них находит в учении Канта нечто отличное и противоположное от своих коллег-знатоков, несомненно (поскольку мы имеем дело со знатоками), что Кант также думал обо всем этом. Из этого, однако, следует, что Кант во многих случаях противоречил сам себе и, прежде всего, что он был чрезвычайно разносторонним, поскольку из него можно вычитать столько же мнений, сколько магометанин может вычитать из Корана.31 Этот человек, так сказать, сказал все, что можно придумать (возможно, и кое-что еще), и поэтому он написал «самую разностороннюю, самую гениальную, но в то же время (разумеется) и самую противоречивую книгу», которая когда-либо существовала. Противоречие действительно приводит к многогранности. Если, например, кто-то хочет избежать противоречия, он может сказать: «Мир существует»; если же он достаточно «изобретателен», чтобы не уклоняться от противоречия, он может с такой же серьезностью заявить во второй части своей работы: «Мир не существует». Таким образом, с помощью противоречия он может сделать ровно в два раза больше утверждений, чем без него, то есть быть ровно в два раза более разносторонним. Соответственно, от другого ученого Канта мы узнаем, что противоречие на самом деле является частью «гениальности», что оно и есть гениальность, что настоящий гений не должен быть настолько ограниченным, чтобы уклоняться от противоречий.
Итак – «противоречие гениально». Давайте посмотрим, что значит противоречие: противоречие состоит в том, что в одном месте моей книги я говорю: «Эта вещь существует», а в другом месте с той же уверенностью утверждаю: «Эта самая вещь (которая, несомненно, существует) не существует» (или также: «Сомнительно, существует ли эта несомненно существующая вещь»). Что же я утверждал на самом деле? Очень просто! Оба утверждения одинаково сильны, поэтому мое второе утверждение отменяет первое, а первое отменяет второе. Утверждения взаимно противоречат друг другу. Так что же я утверждал? – Я вообще ничего не утверждал, и, следовательно, гениальность противоречия заключается в том, что человек вообще ничего не утверждает. Таково положение вещей в нашем и даже в обывательском понимании Канта, и теперь я советую читателю принять участие в «Кантовском движении», если он хочет стать гением. Ему не нужно ничего говорить, если он делает это только в гениальной форме противоречия, ибо это единственная форма, в которой можно сказать что-то, не сказав ничего.
Но то, что идея гениального противоречия весьма плодотворна, более того, она даже имеет моральный эффект, поощряя терпимость и называя провозгласителей этого учения «терпимыми вольнодумцами», а их оппонентов – «нетерпимыми ортодоксами», проистекает из того, что последователи этой Кантовой деноминации могут каждый без ошибки интерпретировать («понимать») или даже «переинтерпретировать» Канта совершенно противоположным образом. Ибо противоречие между различными «кантовскими взглядами» возникло не от того, что Канта неправильно истолковали, а от того, что сам Кант был достаточно «тщательным, разносторонним и изобретательным», чтобы противоречить самому себе.
