Читать онлайн День восьмой бесплатно
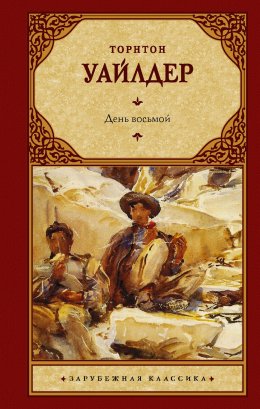
Thornton Wilder
The Eighth Day
© Thornton Wilder, 1967
© Перевод. И. Родин, 2019
© Издание на русском языке AST Publishers, 2021
* * *
Пролог
В начале лета 1902 года Джон Баррингтон Эшли, житель Коултауна, небольшого шахтерского городка в южном Иллинойсе, предстал перед судом за убийство Брекенриджа Лансинга, проживавшего в том же городе. Эшли признали виновным и приговорили к смертной казни. Через пять дней после оглашения приговора, 22 июля, в час ночи он бежал из поезда, на котором его под охраной везли к месту казни.
В этом, собственно, и заключалось «Дело Эшли», которое потом привлекло внимание, вызвало негодование и превратилось в объект насмешек на всем Среднем Западе. Никто не сомневался в том, что именно Эшли застрелил Лансинга – умышленно или нет, – однако все посчитали, что процесс был проведен кое-как, что судья выжил из ума, что защита оказалась некомпетентной, а присяжные – предвзятыми. Да и как иначе – это ведь было «Дело из угольного сарая», «Дело из угольного ларя». И когда в дополнение ко всему осужденный убийца сумел сбежать от пятерых охранников, словно растворившись в воздухе, закованный в наручники, в тюремной робе и с наголо обритым черепом, в посмешище превратился весь штат Иллинойс. А через пять лет офис прокурора штата в Спрингфилде объявил о вновь открывшихся обстоятельствах, которые доказывали невиновность Эшли.
Получается, что в небольшом городке на Среднем Западе имела место судебная ошибка в мало значившем деле.
Эшли выстрелил Лансингу в затылок во время стрельбищ по мишеням, которые мужчины устраивали каждый воскресный вечер на лужайке за домом жертвы. Даже защита не осмелилась утверждать, что трагедия произошла в результате технического сбоя в механизме ружья. Потом орудие убийства не раз отстреливали в присутствии присяжных, и оно работало идеально. Эшли был известен как отличный стрелок. В роковой момент жертва находилась от него в пяти ярдах спереди и немного слева, поэтому некоторое удивление вызывало то, что пуля пробила череп Лансингу с левой стороны, над ухом, однако все сошлись на том, что жертва как раз в ту секунду обернулась на шум, который донесся из-за живой изгороди, опоясывавшей Мемориальный парк, где группа молодых людей устроила пикник. Эшли не переставал заявлять о своей невиновности, несмотря на всю смехотворность таких утверждений. Единственными свидетельницами случившегося были жены обвиняемого и жертвы. Женщины неподалеку в тени деревьев готовили лимонад. Обе поклялись, что выстрел был единственным. Сам процесс чрезмерно затянулся – то болели один за другим члены суда, то отошли в мир иной несколько присяжных, а потом и те, кто их сменил. Репортеры привлекали внимание к тому, что заседания откладывались из-за смеха среди присутствующих, словно демоны противоречия витали в зале суда. С удивительным постоянством слышались оговорки в речах. Ошибались при объявлении имен допрашиваемых свидетелей. У судьи Криттендена сломался молоток. Корреспондент одной сент-луисской газеты назвал все происходящее «Процессом гиен».
Мотив преступления так и не был установлен, и это вызвало всеобщее возмущение. Обвинение представило слишком много возможных мотивов убийства, и ни один из них не показался убедительным, однако весь Коултаун был уверен, что знает, почему Эшли застрелил Лансинга, а большинство членов суда набиралось из местных жителей. Все знали реальную причину, но ни разу о ней не обмолвились: коултаунцы предпочитали не обсуждать это с чужаками. Эшли застрелил Лансинга, потому что был влюблен в жену своей жертвы, и присяжные приговорили его к смерти решительно и единогласно. Вынесение приговора одна из чикагских газет потом назвала проявлением «позорного равнодушия». Обращаясь к присяжным с речью по поводу этого дела, старый судья Криттенден был особенно значителен. Он вменил им в обязанность – вроде бы даже одобрительно подмигнув при этом – исполнить свой священный долг. И присяжные его исполнили. На взгляд репортеров, которые не были местными жителями, процесс оказался фарсом и уже скоро превратился в скандал, который прокатился по всей долине Миссисипи вплоть до ее верховий. Защита неистовствовала, газеты потешались, губернаторский особняк в Спрингфилде засыпали потоком телеграмм, и только Коултаун хранил молчание. Никто в городе не высказался насчет заслуживавших порицания отношений между Джоном Эшли и Юстейсией Лансинг совсем не из рыцарственных побуждений, чтобы сохранить незапятнанным имя дамы, имелась более серьезная причина. Свидетели не осмеливались озвучить обвинение, потому что ни у кого из них не было ни малейших доказательств порочащей связи, а уверенность в ее наличии появилась благодаря слухам (примерно так же предрассудки формируют самоочевидную правду).
И как раз когда общественное негодование достигло своего пика, Джон Эшли бежал из-под стражи. Это сразу расценили как признание им своей вины, и разговоры о мотивах убийства стали бессмысленными.
Возможно, приговор мог бы оказаться более мягким, если бы в суде Эшли вел себя по-другому, но никто никаких признаков страха у него не заметил, он не делал вид, что испытывает угрызения совести. Во время долгих судебных заседаний обвиняемый внимательно вслушивался в приводимые доводы, как будто рассчитывал на то, что процесс сможет удовлетворить его умеренное любопытство и ответить, кто же все-таки убил Брекенриджа Лансинга, тем более что для коултаунцев подсудимый оставался человеком со стороны, практически чужаком. Да и как иначе – он переехал в их город из штата Нью-Йорк, и манера говорить у него осталась такой, как говорили в тех местах. Его жена была немкой, и в ее речи сохранился легкий акцент. Он, казалось, был лишен каких-либо амбиций. Почти двадцать лет отработал в управлении шахты за мизерную зарплату, – такую в городе получал какой-нибудь второразрядный священник. Еще одна странность – в его внешности отсутствовали какие-либо приметные черты. Эшли был не темноволос и не светловолос, не высок ростом и не низок, не толст и не худ, не весел и не уныл. Приятный на вид, он принадлежал к такому типу людей, на которых взгляд не задерживается надолго. Чикагский репортер в самом начале процесса не раз называл его «наш неинтересный герой». (Потом он поменял свое мнение – человек, не проявляющий никакого беспокойства и тревоги за собственную жизнь во время процесса, на котором решается его судьба, не может не быть интересным.) Женщины любили Эшли, потому что он любил их и потому что был внимательным их слушателем. Мужчины – за исключением горных мастеров – мало обращали на него внимания, однако его молчаливость вместе с желанием держаться в тени, постоянно вызывала в них стремление произвести на него впечатление.
Брекенридж Лансинг был мужчиной крупным и белокурым. В искреннем дружелюбии он мог запросто сломать руку при рукопожатии. Смех его звучал громоподобно, а в гневе он был страшен. Будучи человеком общительным, он входил во все масонские ложи, братства и общества, которые только имелись в городке, обожал ритуалы. В такие моменты слезы выступали у него на глазах, скупые мужские слезы. Он их не стеснялся, когда в сотый раз клялся «крепить дружбу с братьями до самой смерти» и «добродетельно жить с Богом в сердце и быть готовым отдать жизнь за свою страну». Ведь такие клятвы и придают смысл жизни мужчины, черт возьми! У него, конечно, имелись свои маленькие слабости. По вечерам он частенько засиживался в тавернах на Ривер-роуд, да так крепко, что возвращался домой под утро. Такое поведение не соответствовало статусу семейного человека, и миссис Лансинг могла обоснованно возмущаться им, но на людях, когда, например, устраивались пикники добровольной пожарной дружины или на торжествах по случаю окончания школьного года, он окружал жену вниманием, подчеркнуто демонстрировал, как гордится ею. Всем было прекрасно известно, что как управляющий шахтами он абсолютно некомпетентен, редко когда появлялся на рабочем месте раньше одиннадцати часов. Не мог он похвастаться успехами и в воспитании собственных детей – по меньшей мере двоих совершенно точно. Сын Джордж считался буяном и беспутным, а дочь Энн при всем своем очаровании часто срывалась и грубила. К этим мелким недостаткам люди относились с пониманием: такое нередко встречалось в семьях уважаемых горожан, – и все равно Лансинг был человек приятный и компанейский. Какой бы роскошный процесс получился, если бы именно он застрелил Эшли! Какой незабываемый спектакль разыграл бы Лансинг! Весь город смог бы сначала стать свидетелем ужаса, который якобы охватил бы его, а потом раскаяния, и в конце концов его бы оправдали.
Это незначительное происшествие в маленьком городке на юге Иллинойса забыли бы на следующий день, если бы не таинственные обстоятельства, сопутствовавшие исчезновению приговоренного. Он и пальцем не шевельнул для своего освобождения: его просто похитили из-под стражи. Шесть человек, переодетых железнодорожными проводниками, и с лицами, зачерненными жженой пробкой, проникли в запертый вагон, перебили висячие фонари, а затем, без единого выстрела и без единого слова нейтрализовав охрану, сняли заключенного с поезда. Выстрелив по разу-другому, охранники не осмелились продолжать пальбу в темноте из опасения попасть в кого-нибудь из своих. Кто были те люди, что рискнули жизнью ради спасения Джона Эшли? Наемники, которым хорошо заплатили? Миссис Эшли несколько раз заявляла представителям прокуратуры штата и полицейским, что она понятия не имеет, кто это был. Все связанное с похищением внушало благоговейный трепет: сила, мастерство, организованность, с какими налет был осуществлен, – но больше всего то, что нападавшие молчали и не применяли оружие. В этом было что-то странное, даже мистическое.
Процесс Джона Эшли, а потом его исчезновение, превратили в посмешище весь штат Иллинойс. До времен Первой мировой войны, когда американцы начали бросать насиженные места и оседать по всей стране, следуя собственным прихотям, каждый мужчина, женщина или ребенок искренне верили, что живут в лучшем городе, в лучшем штате, в лучшей стране мира. Эта уверенность придавала им сил и подкреплялась постоянным умалением достоинств любого соседнего города, штата или страны. Гордость за свои родные места внушалась им с младенчества, а чувство гордости, как и чувство унижения, пережитые в детстве, остаются на всю жизнь. Дети переносили эти чувства на отношение к своей улице. Можно было бы услышать, как они говорили, возвращаясь из школы: «Лучше сдохнуть, чем жить на Оук-стрит!»; «Всем известно, что те, кто живет на Элм-стрит, – настоящие психи. Это точно!» Главный прокурор штата Иллинойс полковник Стоц был выдающимся гражданином величайшего штата величайшей страны в мире. Величественное здание местного Капитолия, носившее имя Авраама Линкольна, в котором располагался офис прокурора, являлось зримым символом справедливости, достоинства и порядка. Оскорбление, нанесенное штату делом Эшли во время последнего срока пребывания Стоца в должности, омрачило зенит его карьеры, земля разверзлась у него под ногами. Ему стало ненавистно само имя Эшли, и поэтому он решил преследовать преступника даже в самых отдаленных уголках земли.
В понедельник, на следующее утро после смерти Лансинга, детей Эшли забрали из школы, к величайшему неудовольствию их одноклассников, и только София по-прежнему свободно перемещалась по городу. Отправившись вместо матери за покупками, она получила плевок в лицо от Эллы Гейтс, встретившись с ней на ступеньках почты. Эшли запретил дочерям появляться на процессе, но Роджер, которому к тому моменту было семнадцать с половиной, день за днем неизменно сидел рядом с матерью в зале суда и тоже огорчал своих городских приятелей полным отсутствием каких-либо признаков страха и беспокойства на лице. Позже он заявил: «Мама всегда кремень, когда дела идут особенно плохо». Она садилась в нескольких ярдах от скамьи для подсудимых. Ее страшно огорчало, что из-за постоянной бессонницы лицо у нее осунулось и поблекло, поэтому каждое утро, в половине девятого, она долго и жестко растирала щеки, чтобы вызвать румянец, который свидетельствовал бы о благополучии и непоколебимой уверенности.
Во время процесса обнаружилась еще одна странность, касавшаяся семьи Эшли: никаких родственников ни со стороны Джона, ни со стороны Беаты не появилось в городе, чтобы поддержать их или как-то помочь.
Со временем события превратились в легенду, которую пересказывали раз за разом, все больше и больше перевирая. Говорили, например, что поезд остановили головорезы из Нью-Йорка, которым за это заплатила – по тысяче каждому – любовница Эшли, вдова убитого Лансинга. Или что Эшли с помощью сына Роджера стрельбой проложил себе путь из вагона сквозь охрану из одиннадцати человек. Даже после того, как прокуратура штата реабилитировала Джона Эшли, находились такие, кто, многозначительно прикрыв глаза, изрекала: «Нам никогда не узнать, что кроется за всем этим делом». Потом дети Эшли и Лансингов один за другим уехали из города, вслед за ними сначала миссис Эшли, а потом и миссис Лансинг, тоже покинули город: переехали на Тихоокеанское побережье, – и создалось впечатление, что время постепенно стирает следы печального события из памяти людской, как это уже бывало не раз. Но нет!
Прошло лет девять, и о деле Эшли заговорили снова. Журналисты, обычные горожане, даже ученые кинулись в залы периодики в библиотеках, чтобы порыться в пожелтевших подшивках старых газет. Людей все больше и больше стали интересовать дети Эшли. Они многого добились в жизни, каждый на своем поприще. Детьми Эшли интересовались все, кроме самих детей Эшли. Они приобрели ту особенную, крикливую известность, которая окружает тех, кто вызывает в людях удивление и восхищение, а кроме того, обожание и ненависть. Их постоянно растущей популярности способствовало то, что они привлекли к себе внимание еще в раннем возрасте, а также потому, что с их именами отчасти ассоциировались пережитая трагедия и бесчестье. По общему мнению, они обладали определенным набором характерных семейных черт, хотя только те, кто помнил их еще детьми на улицах Коултауна: доктор Джиллис, Юстейсия Лансинг и Ольга Дубкова, – знали наверняка, какие именно черты характера они унаследовали от своих родителей, прежде всего от отца. В них полностью отсутствовал дух соперничества с неотъемлемыми для него чувствами зависти и мести, хотя Лили и Роджер были заняты в профессиях, в которых люди ели поедом друг друга. В них не было застенчивости и страха, несмотря на то что Констанс два года провела в тюрьме и шесть раз арестовывалась в четырех разных странах, а чучело Роджера жгли на демонстрациях в его собственной стране и за границей. В Лили и Констанс не было и намека на тщеславие, хотя они считались одними из красивейших женщин своего времени. У всех троих напрочь отсутствовало чувство юмора, хотя с годами они приобрели способность язвить, что можно было принять за остроумие, поэтому их слова частенько повторяли. Те, кто знал их близко, говорили, что они не от мира сего, так что не было ничего удивительного в том, что современники, пребывая в полном недоумении, обвиняли их в душевной черствости, своекорыстии, бессердечности, лицемерии и жажде популярности. Возможно, они вызывали бы еще больший общественный антагонизм, если бы не их совершенно неожиданная наивность, полное отсутствие эгоизма и трогательный провинциализм. У всех детей Эшли были большие торчащие уши («как амбарные двери») и огромные ступни – настоящий подарок небес для карикатуристов всех мастей. Когда Констанс на своих нескончаемых митингах под лозунгами вроде: «Дайте женщинам право голосовать!», или «Спасем брошенных детей!», или «Права замужним женщинам!» – поднималась по ступенькам на трибуну (ее особенно любили в Индии и Японии), над толпой проносился шквал смеха, а она никак не могла понять, что это значит.
Все это подстегнуло интерес к статьям о «Деле Эшли», и попутно у многих стали возникать вопросы – легкомысленные или вполне серьезные – о Джоне и Беате Эшли и их детях, о городке Коултаун, о старой головоломке насчет того, что главнее в формировании человека – наследственность или влияние окружающей среды, о способностях и таланте, о предопределенности и воле случая.
Взять хотя бы Джона Эшли – что было в нем такого (как в каком-нибудь герое древнегреческой трагедии), что предопределило его настолько неоднозначную судьбу: незаслуженное наказание, «чудесное» спасение, бегство и славу детей.
Может, было в его предках что-то такое, что позже проявилось в семейной жизни и дало детям Эшли силу ума и духа?
А может, было что-то в самой Кангахильской долине, в той самой географической точке, что и определила духовный климат, в котором формировались такие исключительные мужчины и женщины?
А вдруг существовала какая-то связь между катастрофой, которая настигла оба семейства, и последовавшими событиями? А что, если все это: унижения, несправедливость, страдания и общественный остракизм – было ниспослано свыше?
Нет ничего интереснее, чем прослеживать, как творческое начало действует во всех и в каждом: разум, подталкиваемый страстями, самоутверждается, создавая нечто или не создавая ничего; разум – этот последний по времени признак жизни – являет себя в государственных мужах и преступниках, в поэтах и банкирах, в мусорщиках и домашних хозяйках, в отцах и матерях, устанавливая определенный порядок вещей или создавая хаос; разум, который концентрирует энергию в группах людей или в целых нациях, поднимает их на невообразимую высоту, а потом, утомившись, отступает, исчезает прочь; это разум порабощает, насилует или, наоборот, воссоздает справедливость и красоту.
Афины времен Афины Паллады до сих пор, как сияющий град на холме, озаряют лучами мудрости мужей, заседающих в собраниях.
Палестина, словно источник в пустыне, в течение тысячелетий давала миру одну гениальную личность за другой. Вскоре на земле не останется ни одного человека, который бы не испытал их влияния.
Будет ли разум все более и более умножаться или иссякать?
Будет ли разум сохранять нейтралитет между истреблением и милосердием?
Возможно ли, что вдруг настанет такой день, когда животное начало в человеке будет одухотворено и возвышено?
Абсурдно сравнивать наших детей из Кангахильской долины с величественными примерами проявления добра и зла, о которых я упомянул выше (уже к середине этого века о них успешно забыли), но —
- Они рядом с нами:
- Они доступны нашим нескромным взглядам.
Центральная часть Коултауна, вытянутая в длину и узкая, лежит между двумя крутыми склонами. Из-за своей ориентации с севера на юг главная городская улица практически не получает прямого солнечного света. Большинство жителей редко видят рассветы или закаты, а по ночам – только отдельные фрагменты созвездий. На северном конце улицы находится железнодорожная станция, муниципалитет, здание суда, таверна «Иллинойс» и дом Эшли, построенный давным-давно еще Эрли Макгрегором вместе с участком земли, получивший название «Вязы». На южном конце расположен Мемориальный парк с памятником солдату, борцу за независимость, кладбище и поместье Брекенриджа Лансинга «Сент-Китс», получившее свое название по имени одного из карибских островов, на котором родилась Юстейсия Лансинг. Эти два дома – единственные в Коултауне, – можно было бы назвать поместьями из-за прилегающих к ним земель. Единственный их недостаток – при разливе речка Кангахила, протекающая по долине с восточной стороны от главной улицы, подбирается вплотную и к землям «Вязов», и к строениям «Сент-Китса». Из-за того, что центр городка зажат границами узкой долины, дома большинства жителей возведены на ближних холмах или стоят вдоль линии дорог, которые ведут на север и на юг, и поэтому они на первый взгляд кажется очень маленьким. Шахтеры живут своими общинами на склонах Блюбелл-Ридж и Гримбл-Маунтин. У них отдельные лавки, принадлежащие компании, свои школы и церкви. Они редко наведываются в город. В девятнадцатом столетии Коултаун расширялся и пустел несколько раз. Когда-то шахты давали работу трем тысячам мужчин. Волны иммигрантов задерживались здесь на какое-то время, а потом охотники и трапперы, члены религиозных сект, шахтеры из Силезии и даже целые крестьянские коммуны уходили дальше в поисках благословенных земель. На холмах вокруг города и вдоль Ривер-роуд частенько встречались заброшенные церкви, здания школ и кладбища. По подсчетам доктора Джиллиса, население двух соседних графств достигало ста тысяч человек, а когда ему стало известно об обнаружении рядом с Гошеном и Пенниуиком захоронений индейцев, он увеличил это число.
Здесь, должно быть, когда-то разливалось огромное мелководное озеро: вот откуда весь этот песчаник, однако земля поднялась и вода ушла в Огайо и Миссисипи. Видимо, здесь также росли непроходимые леса, которые с течением времени превратились в уголь: от длившихся веками землетрясений обрушивались горы, засыпая, слой за слоем, лесные массивы. Огромные неповоротливые рептилии не сумели вовремя выбраться отсюда, и от них остались лишь следы на камнях, которые можно увидеть в музее в Форт-Барри. Сколько веков потребовалось для того, чтобы превратить топи в леса? Ученые набросали поэтапный план: столько-то времени понадобится, чтобы трава превратилась в гумус для кустарников; столько-то – чтобы кустарник пророс деревьями; столько – чтобы первые представители семейства дубов пустили корни в благодатной тени дикой вишни и кленов, а потом вытеснили их; столько – на то, чтобы белый дуб вытеснил красный, а столько времени пройдет до того, как состоится торжественный выход на сцену семейства буков, которое ждало своего заветного часа (сражение юных, если можно так выразиться). Междоусобица среди растений сопровождалась похожей войной внутри животного мира. Предсмертный рев оленя наводил ужас в лесу, когда гигантская кошка вонзала клыки ему в яремную вену; ястреб уносил в небо змею, которая держала в пасти полевую мышь.
Потом появился человек.
Рядом с Коултауном, в Гошене, находится один из самых больших «черепаховых холмов» с археологическими следами древнего человека в пределах всего Алгонкина и еще три великолепных «змеиных холма» немного севернее от него. В наше время у любого уважавшего себя мальчишки имелась коллекция из наконечников индейских стрел, каменных пестиков и топориков. Ученые не пришли к единому мнению о возможных причинах нескольких случившихся здесь массовых убийств, поскольку эти индейские племена были известны своим миролюбием. Один профессор был уверен, что причиной стали экзогамные браки: индейцы совершали набеги на поселения других племен и похищали невест для своих юношей; другой утверждал, что агрессивность поведения индейцев вызывали экономические проблемы (на землях бле-барре была выбита вся дичь, и они посягнули на территории, занимаемые кангахилами), но какими бы ни были причины происшедшего, обследование скелетов, обнаруженных в различных захоронениях, установило огромное количество следов от ран и увечий.
В 1907 году, когда все уже давно забыли о существовании этих племен, один этнолог во время своей экспедиции в Джилкристс-Ферри на Миссисипи, в каких-то шестидесяти милях к западу от Коултауна, наткнулся на небольшую общину кангахилов. Жили они в лачугах, и все, как один, оказались больны туберкулезом. Было совершенно непонятно, как им удавалось выживать на скудные заработки от торговли грубо сшитыми мокасинами, курительными трубками, стрелами и украшениями из бисера, которые они продавали в придорожных лавчонках. Ночью, выпив виски, один из стариков поведал историю своего народа. Кангахилы были объектом зависти всех соседних племен из-за великолепия своих одежд и красоты танцев (название племени означает «место священных плясок»), а также мудрости и умения предсказывать будущее. Каждый мужчина, начиная с восемнадцатилетнего возраста мог безошибочно прочитать наизусть Книгу всех начал и концов. Такое чтение продолжалось двое суток и прерывалось лишь священными плясками. Кангахилы были известны своим радушием: для представителей соседних племен, которые могли понять смысл текстов, специально оставляли свободные места. Свет от костра падал на лица тысяч людей, сидевших вокруг места для священных плясок. Первая ночь была великолепна – излагалась история сотворения мира с дотошным упоминанием всех подробностей военного сражения между светом и тьмой, затем следовала история появления первого человека из ноздрей отца всего сущего, первого кангахильца. Утро отдавалось перечислению всех правил и табу, которые он установил (сам по себе предмет был настолько древен, что отдельные слова не поддавались прочтению и смысл терялся). Ближе к вечеру чтец переходил к хронике и генеалогии героев и предателей, на что уходило восемь часов. Перед второй полночью начинали читать Книгу грозных пророчеств, данную нам отцом всего сущего. Это продолжалось три часа – целых три часа унижений и страданий. Из-за грехов людей Земля лишилась своей красоты и превратилась в навозную кучу. Брат убивал брата. Из священного долга продолжения рода сделали бездумное развлечение. Отец всего сущего несет в своем сердце заботы о всех лесных племенах, но им придется пресмыкаться, как змеям; их численность резко сократится; их радость о рождении ребенка станет притворной.
Надолго установившуюся тишину затем, наконец, нарушал гром барабанов и громкие крики. Так начиналась пляска кангахильца – кремневого сердца, которого отец всего сущего оберегал как зеницу своего ока. Потом этот танец приобрел массу подражателей. Даже «Говорунов из Мичигана» пригласили, чтобы они показывали свою изгаженную и дешевую версию на ярмарках по всему миру: входные билеты по пятьдесят центов, а детям за четвертак. По завершении пляски вновь устанавливалась тишина, совсем другая, все замирали в ожидании. Вождь племени, казалось, погружался в глубины своего существа: собирался, поднимался. Наступал черед Книги обещаний. Кто смог бы описать утешительную силу этого великого песнопения? Люди пожилые забывали о своих недугах, а юноши и девушки начинали понимать, для чего рождены, для чего всю Вселенную запустили в движение. На земле живет так много людей: больше, чем листьев в лесу, – но из всех он выбрал кангахильцев. И он еще вернется! Пусть они прокладывают тропу, ведущую к этому дню. Человеческая раса спасется усилиями немногих.
Так много разговоров об индейцах, а ученые подсчитали, что количество кангахильцев в какой-то определенный момент никогда не превышало трех тысяч человек.
Потом пришли белые люди и принесли с собой другую историю сотворения мира. Их отец всего сущего носил другое имя, у них были свои правила и табу, свой набор героев и предателей, свой груз бесчестья, своя надежда на золотой век. Белые люди редко танцевали, но у них была прекрасная музыка, священная и мирская. Они также принесли с собой умозрительный склад мышления, неизвестный доселе краснокожим; продукт их умствований с трудом можно было назвать философией. Всех горожан, молодых и старых, время от времени одолевали такие вопросы, как, например: зачем живет человек? Или: в чем смысл жизни и смерти? Подобные размышления доктор Джиллис называл «вопросами для четырех часов утра». В Коултауне он слыл философом, самым красноречивым и потому вызывавшим раздражение. В недвусмысленной оппозиции Библии, он полагал, что процесс образования Земли насчитывает миллионы лет, а человек произошел от… ну, вы знаете от кого. Хуже того: о серьезных вещах доктор говорил в такой манере, что оставлял своих слушателей в недоумении, он это серьезно или шутит. Как-то раз доктор Джиллис расслабился и позволил себе порассуждать на отвлеченные темы, что надолго запомнилось избранному кружку его сограждан, присутствовавших при этом.
Все произошло в канун Нового года, но не обычного Нового года: это было 31 декабря 1899 года – в канун нового века. Большая группа горожан собралась перед зданием суда в ожидании боя часов. Собравшиеся были полны воодушевления, словно вот-вот перед ними развернутся небеса. Двадцатый век обещал стать величайшим столетием, какого еще не знали на земле. Человек поднимется в воздух и победит туберкулез, дифтерию и рак; войн больше не будет. Страна, штат и даже город, в котором они жили, станут играть все более важную роль в наступающей эре. Когда раздался бой курантов, женщины и даже некоторые мужчины прослезились и неожиданно для себя затянули не «За счастье прежних дней» шотландского барда, а «О Господи, на тебя уповаем», потом бросились обниматься и – неслыханное дело! – целоваться. Брекенридж Лансинг и Ольга Дубкова, которые терпеть не могли друг друга, целовались; Джон Эшли и Юстейсия Лансинг, которые любили друг друга, тоже смущенно поцеловались – кстати, единственный раз в своей жизни. (Избегавшая людных сборищ Беата Эшли в это время сидела в «Вязах» перед напольными часами своего деда в окружении трех дочерей – Лили, Софии и Констанс.) Роджер Эшли, которому исполнилось четырнадцать лет и пятьдесят одна неделя, поцеловался с Фелисите Лансинг (на которой через девять лет женится), а Джордж Лансинг пятнадцати лет, это «проклятие города», онемев от страха перед важностью момента и поведения взрослых, спрятался за спиной матери. (Великие артисты обычно брызжут энергией в унылых и мрачных компаниях, но держатся тихо, оказавшись среди ликующих людей.) Наконец толпа стала редеть, но человек двадцать не торопились расходиться, стараясь придумать способ выразить эмоции, что пришли на смену рассуждениям и поискам ответов на вопросы, и, наконец, решением отправиться в таверну, чтобы, по их словам, выпить чего-нибудь согревающего. Отправив девушек по домам, компания зашла в бар, куда женщинам всегда вход был запрещен (и наверняка так будет и в следующие лет сто), и заняли места в задней комнате. Кувшины с горячим молоком, грог и «Салли Крокер» – напиток из горячего сидра с пряными лесными яблочками – им подал лично великий мистер Сорби.
Брекенридж Лансинг (всегда душа компании, радушный хозяин и – как управляющий шахтами – первая персона в городе) обратился к собравшимся:
– Доктор Джиллис, что принесет нам новый век?
Дамы заворковали:
– Да-да! Расскажите, что вы думаете на этот счет.
Мужчины откашлялись.
Не проявив недовольства, доктор начал:
– Природа никогда не спит: жизненные процессы не останавливаются ни на мгновение, – творческие возможности ее неисчерпаемы. В Библии утверждается, что Бог создал человека на шестой день творения, а потом решил отдохнуть, но каждый из этих дней растянулся на многие миллионы лет и коротким оказался только день отдыха. Появление человека не конец, а начало: мы находимся в самом начале следующей недели, – все мы дети восьмого дня.
Потом доктор Джиллис приступил к описанию Земли накануне возникновения жизни: миллионы лет пар поднимался над кипящими водами… грохот, жуткие ураганы, громадные волны, громовые раскаты… мелкие плавающие организмы завоевали океаны… инертность и апатия… Затем тут и там, у одних и других, появляется способность двигаться к свету, за пищей. В период докембрия у организмов начинает формироваться нервная система; уже в верхнем девоне плавники и конечности помогают существам передвигаться по сухой земле, а в мезозое появляются теплокровные.
Где-то на середине рассказа про мезозойскую эру, мистер Гудхью, коултаунский банкир и его супруга, обменялись гневными взглядами и, резко поднявшись, стремительно покинули комнату, оскорбленные до глубины души. Эволюция! Безбожная эволюция!
Доктор Джиллис тем не менее продолжил: отделив растения от животных, отправил их в долгий путь во времени, а после некоторых колебаний к их компании присоединил птиц и рыб. Увеличивалось количество видов насекомых. Наконец появились млекопитающие, и момент, когда они поднялись на задние конечности, освободив таким образом передние для разнообразной деятельности, стал судьбоносным.
– Жизнь! Как возникло все живое? И для чего? И каков будет конец? Жизнь возникла в залежах ила, но в каком направлении движется?
Доктор замолчал, и взгляд его остановился на мальчиках, причем был он таким настойчивым, что им пришлось ответить:
– К человеку.
– Совершенно верно! – подтвердил доктор. – К появлению на Земле разных видов человека.
Болезненное беспокойство овладело компанией. Имея богатый опыт ведения собраний, Брекенридж Лансинг снова заговорил от имени присутствующих:
– Вы так и не ответили на наш вопрос, мистер Джиллис.
– Я изложил вам основные тезисы моего ответа. В этом новом веке мы сможем увидеть, как человечество вступит в новый период своего развития – период человека восьмого дня.
Доктор Джиллис лгал без стеснения, если считал нужным. У него не было никаких сомнений, что наступающий век не станет каким-то особенным, отличным от предыдущих. Он единственный в этой компании не испытывал никакого веселья: не выкрикивал поздравлений, ни к кому не бросался с объятиями, – а за пятнадцать минут до звона колоколов ускользнул в таверну, чтобы навестить свою давнишнюю пациентку миссис Биллингс. Его душа (это слово он употреблял исключительно с иронией) была полна горечи. Около двух лет назад в результате несчастного случая (во время катания на санях в колледже Уильямс в Массачусетсе у него погиб сын. Гектор Джиллис, который сегодня вступил бы в двадцатый век, был его другим «я», расширенным вариантом его «я», продолжением его тени на земле. Доктор Джиллис отказывался верить в прогресс и в будущее человечества. Про Коултаун он знал намного больше любого горожанина (как узнал многое про городок Терре-Хот в Индиане за первые десять лет своей врачебной практики). Коултаун был не хуже и не лучше любого другого города. Любая общность людей представляет собой небольшую часть более крупной – собственно, всего человечества. Вы можете вскрыть тело Брекенриджа Лансинга или даже китайского императора, и не увидите ничего сверхъестественного – те же внутренности. Словно дьявол из старых сказок, можете приподнять крыши домов в Коултауне или во Владивостоке, и услышите примерно те же фразы, только на разных языках. Чтение трудов великих историков во время полуночных бдений укрепили в нем ощущение, что Коултаун – повсюду, несмотря на то что великие историки сами становились жертвами ошибок, вызванных удаленностью во времени событий, о которых размышляли, по собственной прихоти возвышая одни и принижая другие. Не было никакого золотого века, не было никаких темных времен. Существовала лишь монотонная, словно морской прибой, смена людских поколений при единственной альтернативе – дурной или хорошей погоды.
Каким станет двадцатое столетие, какими станут те, кто его унаследует?
Он легко солгал, потому что его взгляд натолкнулся на Роджера Эшли и Джорджа Лансинга. Он говорил так, словно в тот момент Гектор тоже присутствовал там. Долг пожилого человека заключается в том, чтобы солгать молодым. Пусть они сами лишатся собственных иллюзий. Наши души обретают силу, когда мы молоды и полны надежд; эти силы дают нам возможность противостоять отчаянию и ударам судьбы, как древним римлянам.
– Новый человек вот-вот появится. Природа никогда не спит. До сего момента рождавшиеся время от времени великие люди, одинокие гении, тащили вперед на своих фалдах детей страха и инерции. Отныне придут в движение массы людей, которые отбросят прочь свое пещерное существование…
О, отлично сказано!
– …отбросят прочь свое пещерное существование, в котором по-прежнему пребывает большинство, запуганное проявлениями агрессии, цепляющееся за свою собственность, связанное по рукам и ногам страхом перед богом-громорвежцем, страхом перед мстительной смертью, страхами перед зверем, заключенным в них самих.
Вот это да!
– Разум и дух станут тем климатом, в котором будет произрастать следующее поколение человеческих существ. Им придется стать образованными. Что такое образование, Роджер? Что такое образование, Джордж? Это мост, который человек возводит между своей замкнутой на себе, эгоистичной жизнью и миром общечеловеческого сознания.
Некоторые из его слушателей уже дремали в блаженной атмосфере двадцатого века, но только не Джон Эшли со своим сыном и не Юстейсия Лансинг – со своим.
Ольга Дубкова заметила, возвращаясь домой вместе с Вильгельминой Томс, секретаршей Лансинга из администрации шахты:
– Доктор Джиллис… Многие не верят ни единому его слову, а я поверила, так же как верил мой отец. В противном случае я не смогла бы идти по жизни прямым путем.
Никто так и не смог убедительно объяснить, почему первые жители Коултауна (или Мапл-Блаффса – так сначала назвали городок) выбрали для поселения узкое ущелье, в котором почти не бывает солнца, хотя могли бы выстроить свои дома, первую церковь и первое здание школы на открытых лугах к северу и югу. Город расположился на торговом пути среднего значения, и торговцы-кочевники по-прежнему его навещают. Они всегда любили Коултаун – к счастью для Беаты Эшли и ее детей, как покажет будущее, – даже когда Форт-Барри, расположенный в тридцати милях к северу, и Сомервилл, в сорока милях к югу, смогли с течением времени предложить более высокий доход. Таверна «Иллинойс», выстроенная Сорби, потом перешедшая к его сыну, а вслед за ним и к внуку, полностью их устраивала. В свои приезды они непременно проводили там пару ночей. Номера в таверне были просторные, ужины за тридцать пять центов – просто роскошные. Резное дерево и бронза в отделке салона свидетельствовали об амбициях владельцев. Усталых путников бодрил знакомый запах опилок, пролитого пива и крепкого виски. Поздними вечерами в задней комнате за баром играли в карты. Отсюда можно было спокойно добраться до нескольких заведений, расположенных на южном конце Ривер-роуд: например, до почтовой станции Хатти или «Есть все, что пожелаешь» Ники. Торговые агенты (сельскохозяйственные орудия и оптовые поставки медикаментов) приезжали поездом; коммивояжеры (швейные машинки, украшения, патентованные медицинские средства и товары для кухни) пользовались конными повозками; торговавшие вразнос выстраивали свои тележки вдоль дороги, под ними и ночевали.
Когда здесь обнаружили залежи угля, в воздухе повисла черная, серая, желтая и белая пыль; вода в Кангахиле стала мутной; прибыл первый и последний богач Эрли Макгрегор; сюда потянулись иностранцы из Силезии, выходцы из Западной Виргинии, приехал отец мисс Дубковой (как говорили, русский князь в ссылке), потом Джон и Беата Эшли из Нью-Йорка, говорившие на кокни. Местность покинули многие птицы, животные и рыбы, начали исчезать некоторые виды растений. Расхожими стали жалобы на то, что почва «закислилась». В довершение ко всему пришла бедность, возникла угроза беспорядков и насилия. Бо́льшая часть мужчин, которые работали под землей по десять часов в день, как оказалось, не могли прокормить и одеть свои семьи, состоявшие из двенадцати-четырнадцати человек, даже когда их любимые отпрыски субботними вечерами отдавали им свой недельный заработок. Очень важную роль играла обувь: ее видели даже во сне. Если прокормиться семье еще кое-как можно было: фасолью, отрубями, зеленью, яблоками и салом от случая к случаю, – то в церковь босым верующий прийти не может. Все прекрасно это понимали, так что дети ходили в церковь по очереди. Во второй половине девятнадцатого века несколько раз в воздухе носилось предчувствие восстания, но нет ничего более деморализующего, чем нерешительные действия забастовщиков. Акции были организованы из рук вон плохо и почти не имели поддержки. Звенели разбиваемые стекла в лавках, принадлежавших угольной компании, подвергались разгрому конторы администраций шахт. Не всегда разгневанные мужчины на этом останавливались: однажды повалили забор, окружавший особняк Эрли Макгрегора, и забросали шарами с его же крикетного поля парадную дверь дома. (В это время старый Макгрегор сидел с благочестивым видом, словно Моисей, в передней комнате с винтовкой наготове.) Праздников ждали с мрачным предчувствием. В 1897 году мэр благоразумно отменил парад по случаю 4 июля и выступление в Мемориальном парке. Выборы, проводившиеся раз в четыре года, наводили ужас. Шахтеры спускались с гор и давали выход своему долго копившемуся недовольству и гневу. Администрация беспощадно вычитала из их зарплаты мелочь за прогулы, мужчины из-за этого напивались и горланили всю ночь, ближе к рассвету, шатаясь, возвращались по домам, а жены потом собирали их по канавам вдоль дорог. В следующем августе рождалось много детей, им с покорностью радовались.
С незапамятных времен жители Коултауна запирали двери на ночь, более состоятельные устанавливали солидные замки, даже баррикадировались изнутри. Брекенридж Лансинг был не первым из горожан, кто научил свою семью владеть огнестрельным оружием, и никто этому не удивлялся: все-таки управляющий шахтами. Журналистов, приехавших в город освещать процесс, поразило (в отличие от местных жителей), что Лансинг погиб во время привычного для себя занятия – субботней тренировки в стрельбе.
Через пять лет после того пресловутого процесса закрылись ближайшие к Коултауну шахты «Блюбелл» и «Генриетта Б. Макгрегор». Качество угля начало ухудшаться уже давно, а теперь и количество добычи резко уменьшилось. Город понемногу вымирал. Отсюда уехали семьи осужденного и убитого. Их дома сначала переходили от одних владельцев к другим, на них постоянно висели объявления «Продается», но, в конце концов, буквы выцвели, а потом и сами полотнища свалились со стен. Через разбитые окна внутрь попадали осадки, на лестницах птицы свили гнезда, забор завалился и волнами лежал вдоль подъездных дорожек. Беседку позади «Вязов» унесло половодьем. Осенью запасливые мамаши посылали отпрысков в «Сент-Китс» собирать калифорнийские орехи, а в «Вязы» – каштаны.
С прекращением работ на шахтах состояние воздуха заметно улучшилось. Никто из домашних хозяек пока не осмеливался вешать на окна белые шторы, но в 1910 году впервые девушки пришли на торжества по случаю окончания школы в белых платьях. Охотников почти не осталось, и поэтому здесь вновь начали появляться олени, лисы, расплодились перепелки. Вверх по Кангахиле пошли косяки разной рыбы. Со всех направлений на эти земли теперь наступали багряник, золотарник, даже «слоновые ноги», которые давным-давно обходили эту местность стороной.
Очень часто весной после затяжных дождей воздух оглашал странный рокот. Склоны гор были изрыты покинутыми шахтами, как пчелиными сотами; земля под ними проседала с гулом, который больше походил на землетрясение, чем на оползни. Горожане специально приезжали сюда, чтобы посмотреть на результаты деятельности природы. Это напоминало руины, оставшиеся после какой-то великой цивилизации, а не место, где люди работали сначала по двенадцать, а потом по десять часов в день, и где многие напрочь выхаркали собственные легкие. Даже маленькие дети замолкали при виде этих длинных галерей, аркад, ротонд и тронных залов. Уже на следующий год входы в подземелья зарастали калиной и диким виноградом, в немыслимом количестве плодились колонии летучих мышей, и едва на землю спускались сумерки, взмывали вверх и ввинчивались в облака, плывущие над долиной.
Природа никогда не спит, как любил говорить доктор Джиллис.
Почтовое отделение в Коултауне закрыли: теперь письма обрабатывали в углу бакалейной лавки мистера Бостуика, – административный центр округа перевели в Форт-Барри.
I. «Вязы»
1885–1905
«Вязы» было вторым по красоте поместьем в Коултауне. Эрли Макгрегор построил его в те времена, когда шахты почти не зависели от контроля администрации, сидевшей в Питтсбурге, поэтому местные руководители забирали весь доход себе. Он заложил здесь две шахты: «Блюбелл» и «Генриетта Б. Макгрегор» – и стал очень богатым человеком. Джон Эшли не мог позволить себе купить этот дом. Его пригласили в Коултаун на рядовую должность инженера по эксплуатации, когда шахты уже начали приходить в упадок. В его обязанности входило, при скудном бюджете, восстанавливать и вновь возводить разрушавшиеся перекрытия в проходках. Наниматели Эшли не могли предположить, что его основной талант – это находчивость и способность импровизировать. Он получал удовольствие от работы, несмотря на то что заработная плата у него едва достигала трети от оклада Брекенриджа Лансинга, главного управляющего. Эшли был вовсе не богат и не стыдился признаваться в этом, но у него имелось все необходимое и даже больше того. Его жена оказалась отличной хозяйкой, и вместе с Беатой они проявляли чудеса находчивости в том, чтобы сделать быт удобным и даже комфортным, почти или совсем не тратясь на него. Каждые полгода он вносил нужную сумму за дом, который долго стоял пустым, и постепенно его выкупил. Люди в Иллинойсе не отличаются особым суеверием, никто не утверждал, что в доме водятся привидения, но всем было известно, что жили там в ненависти и покинули его после трагедии. В любом подобном городке есть пара таких домов. Джон Эшли был еще менее суеверным, чем соседи: знал, что никакие несчастья ему не грозят, – и вдвоем с Беатой они счастливо прожили здесь почти семнадцать лет.
В 1885 году, когда Эшли впервые увидел особняк, у него от удивления глаза на лоб полезли, а когда он поднялся по парадным ступенькам и вошел в холл, и вовсе челюсть отпала. Он даже затаил дыхание, как делают, чтобы расслышать звуки музыки, доносившиеся откуда-то издалека. Ему показалось, что он уже был здесь когда-то или видел этот дом во сне. Просторная веранда опоясывала здание с трех сторон на уровне первого этажа; над парадным входным нависала еще одна веранда, а над ней возвышался купол, в котором устанавливали телескоп. Из главного холла начиналась широкая винтовая лестница, опорный столп которой венчал переливающийся гранями хрустальный шар. Справа располагалась огромная, на весь первый этаж, гостиная. Газеты – наверное, уже десятилетней давности – покрывали столы и стулья, диваны с потертой обивкой и старый рояль. За домом тянулась заросшая сорняками лужайка; тут и там валялись выцветшие от дождей и снегов крикетные шары. В дальнем ее конце виднелась облезшая беседка перед небольшим прудом. Справа, из зарослей вязов, выступал угол большого сарая, который дети потом назовут домом для дождливых дней и который также станет служить их отцу рабочей мастерской, где он будет обдумывать свои «изобретения» и ставить «эксперименты». Эшли и без осмотра уже знал, что там есть курятник (завалившийся на бок и открытый всем дождям), а также небольшой фруктовый сад с кустами смородины и несколькими каштанами.
На самом же деле это был сон Эрли Макгрегора, в который Джон, сам того не зная, вступил. Макгрегор выстроил этот дом в расчете на большую семью. На этой лужайке до наступления сумерек можно было играть в крикет, а потом перейти в беседку и опять под аккомпанемент банджо. В траве, услаждая взор, мерцали бы светлячки. В плохую погоду на кухне стали бы варить тянучку, а в гостиной – играть в «пьяницу» и фанты. Можно было еще скатать ковры к стенам и устроить танцы под виргинские рилы и «Мелисса, пора откланиваться!», а в ясные ночи позвать детей на купол и позволить каждому ребенку по очереди заглянуть в телескоп, чтобы показать красный Марс, и кольца Сатурна, и мрачные кратеры Луны.
Все это стало реальностью, но только не для Эрли Макрегора. Субботними вечерами, когда девушка, прислуживавшая в доме, отправлялась навестить сестру, Беата Эшли и Юстейсия Лансинг начинали готовить ужин, а потом звали:
– Дети, идите к столу.
Гектор Джиллис, сын доктора, научил Роберта Эшли играть на банджо. Все дети умели петь, но никто не мог сравниться с Лили Эшли. У нее это получалось так чудесно, что в пятнадцать лет ее пригласили в церковный хор. В шестнадцать ей довелось спеть «Дом, любимый дом» на пикнике, который устроил департамент добровольных пожарных, и суровые мужчины плакали. Миссис Лансинг запрещала детям играть в «пьяницу» и «дурака», потому что двое ее младших – Джордж и Энн – со своей креольской кровью слишком возбуждались и приходили в неистовство. После ужина отцы семейств уходили в домик для дождливых дней, чтобы заняться построением воздушных замков и обсуждением оружия. В конце вечера читали вслух про Одиссея на острове циклопов, про Робинзона Крузо и его Пятницу, про кораблекрушения, случившиеся с Гулливером, а еще «Тысячу и одну ночь». В следующий вечер, в воскресенье, те же самые взрослые с теми же детьми собирались уже в «Сент-Китсе». Устанавливались мишени, чтобы потренироваться в стрельбе из ружей (Брекенридж Лансинг был заядлым охотником). Мужчины и мальчики палили из ружей, отчего все городские собаки поднимали неистовый лай. После ужина Юстейсия Лансинг могла рассказывать знакомые ей с детства разные истории с карибских островов. Ее дети, как и дети семейства Эшли, понимали французский, но она искусно вставляла перевод для тех гостей, кто языком не владел. Миссис Лансинг была потрясающей рассказчицей, и компания как зачарованная слушала о приключениях Матушки Тортиллы и Игуаны Деденни.
В «Вязах» все стало реальностью, но только не для Эрли Макгрегора. Если он рассчитывал, что лестница в доме поможет продемонстрировать грацию и отличительные особенности походки его жены, то из этого ничего не вышло. Несчастная миссис Макгрегор очень скоро так расплылась (тучность частая спутница тех, кто ведет праздную жизнь и пребывает в меланхолии), что не могла спускаться по лестнице, не держась за перила. Ни одна невеста не бросила вниз с ее ступенек свой букет в протянутые руки, а вот гробы сносить по ней оказалось удобно. Беата Эшли зато сходила вниз по лестнице, как королева Пруссии, которой всю жизнь восхищалась ее матушка – урожденная Клотильда фон Дилен из Гамбурга и Хобокена в Нью-Джерси. Никто из семейства Эшли так и не сыграл свадьбу в «Вязах», но Лили, София и Констанс учились ходить по лестнице вверх и вниз с географическим атласом на голове, хотя в радужном хрустальном шаре отражалось исполнение другой мечты.
Брекенридж Лансинг и Джон Эшли оказались в Коултауне после того, как каждый допустил серьезный промах на прежнем месте работы. Они об этом не догадывались, но у их жен имелись кое-какие подозрения на этот счет. Лансинг считал, что его продвинули на более важный пост, а Эшли не сомневался, что новая работа для него – большая удача. Его постоянно раздражала работа в Толидо, штат Огайо, когда он по девять часов в день должен был торчать в офисе и придумывать какие-то усовершенствования для машин. Приглашение переехать в Коултаун Эшли воспринял как перст судьбы, хотя и проигрывал в деньгах. Окончив технический колледж лучшим студентом в своей группе, он имел полную свободу самому выбрать место работы из тех, что предлагали, и выбрал тот самый Толидо, потому что хотел вместе с невестой как можно скорее уехать с Восточного побережья, а еще потому, что ему показалось, будто эта работа даст выход его изобретательским способностям. Каково же было его разочарование, когда стало понятно, что ему придется целый день сидеть на стуле перед кульманом, вычерчивая узлы механизмов, которые он с усмешкой называл формочками для кексов. Позже мы увидим, как общим решением энергичного и молодого Лансинга – ему было всего двадцать шесть – тихо отодвинули от работы в важном офисе в Питтсбурге и отправили в долину Кангахилы. Лансинг ничего не понимал в горном деле: сферой его деятельности была административная работа, – поэтому стал управляющим шахтами.
В главном офисе в Питтсбурге шахты Коултауна называли не иначе как «Бедняга Джон». На Среднем Западе такое прозвище носили те, кого уволили по старости или из-за некомпетентности. К примеру, процветающий фермер, владевший несколькими предприятиями, выделял одно, куда отправлял престарелых работников, дряхлых лошадей и отслужившее свой век оборудование. Каждые четыре-пять лет в Питтсбурге поднимался вопрос о том, чтобы шахты в Коултауне закрыть, однако они все еще приносили какую-никакую прибыль, о них знали, и их было очень удобно использовать в качестве «Бедняги Джона». Работа там продолжалась при отсутствии какой-либо модернизации, без роста зарплат, при нехватке квалифицированных кадров. Предшественник Лансинга – шурин генерального директора Кейли Дебевуа, – тоже был битой картой. Как и Лансинга, его с распростертыми объятиями встретили в Питтсбурге: «лучший молодой человек, которого мы видели за последние годы»; «сияющий, как новый пенни»; «брызжет идеями», и «очаровательная жена» в придачу. Правление компании могло разрывать подписанные контракты в любой момент, но – возможно, им не хотелось признаваться в собственных ошибках – вместо этого они отправили бесперспективного молодого человека в Коултаун.
Кто руководил делами на шахтах? Считалось, что офис на горе укомплектован квалифицированными горными инженерами, но все это была выбраковка по принципу «Бедняги Джона» – престарелые сотрудники, которые работали по инерции, как древние часы, что сами по себе то приходили в движение, то останавливались. Мисс Томс – помощница всех работавших здесь управляющих – каждое утро, в семь часов, встречалась с начальниками участков перед их спуском под землю. Они вместе принимали необходимые решения на чисто импровизационной основе. Уже принятые решения в девять-десять утра доводились до сведения главного управляющего, причем таким образом, что тот воспринимал их как собственную прекрасную идею, которая неожиданно пришла в голову. В течение многих лет мисс Томс получала всего шестнадцать долларов в неделю. Если бы она вдруг свалилась больной, шахты охватил бы хаос, а так у нее оставалась одна перспектива – рано или поздно оказаться в богадельне в Гошене.
Когда Брекенридж Лансинг сменил на посту Кейли Дебевуа, у мисс Томс появилась робкая надежда, что с ее плеч наконец снимут груз ответственности. Брекенридж Лансинг никогда не упускал случая произвести на окружающих хорошее впечатление при начале любого дела. Он энергично листал книги, с энергичным видом – единожды! – спустился в недра земли. Идей у него было множество. Ему удавалось одновременно приходить в ужас от того, что видел, и хвалить всех за прекрасно выполненную работу. Но с течением времени правда выплыла наружу: Лансинг уже на следующий день забывал все, что накануне доводили до его сведения. Память – это ведь служанка наших интересов, а главным интересом Лансинга было произвести впечатление. Цифры, графики, нормы отгрузки аплодировать не могут, и уже скоро мисс Томс опять впряглась в свою лямку.
– Мистер Лансинг, проходка Форбуша уперлась в галечник.
– Неужели!?
…
– Вы помните, вам понравилось, как идут дела на участке семь бис? Вам не кажется, что было бы здорово, если бы Джеремия направил все свои усилия в этом направлении?
– Отличная идея, Вильгельмина! Давайте так и сделаем.
…
– Мистер Лансинг, Конрад сегодня отключился и упал.
…
У людей, которые работали по десять часов в день в течение многих лет, возникал синдром неожиданного засыпания: они падали на землю в ступоре. Их всех этот симптом пугал больше, чем аварии и даже туберкулез. Если количество обмороков достигало четырех за день, шахтеров ожидал Гошен.
Лансинг лишь хмыкал и щурился.
– Я вспомнила: вы как-то говорили, что младший сын Брегга показался вам хорошим работником. Нам нужен новый откатчик на «Блюбелл».
– Это как раз то, что нам надо, Вильгельмина! Вывесим приказ на доске. Вы подготовите, а я его подпишу.
Доска приказов была единственным вкладом Лансинга в работу шахт. Уже скоро приказы за его подписью стали появляться по пятнадцать раз на дню. Когда подписывать было нечего, он позволял себе слегка вздремнуть на софе, набитой конским волосом, или отправлялся в горы, поохотиться.
Эшли пригласили в Коултаун на короткое время, только чтобы слегка что-то подправить в работе этого огромного разрушающегося остова. Два месяца он держал язык за зубами, лишь наблюдал и слушал. Половину своего времени Эшли проводил под землей в каске с лампой на лбу. Клети опускались и поднимались на старинных канатах, с использованием старинных блоков и шкивов. Нельзя сказать, что начальники участков были плохо образованны, но их жизнь так долго текла бессмысленно, что они разучились выбирать из двух зол меньшее. Когда мастера начали делиться своими проблемами с Эшли, эта их способность ожила: они стали понимать, какой пласт упрется в галечник или в плывун, стали с готовностью рисковать, чтобы брать новые пробы. Подстерегавшие шахтеров опасности Эшли видел повсюду. Люди, отупевшие от условий, в которых существовали, почему-то пришли к выводу, что несчастные случаи в шахтах – это Божий промысел. Когда Эшли наконец заговорил – со своим акцентом Восточного побережья, который для шахтеров мог свидетельствовать о чем угодно, но только не о недостатке образованности, – то первое, что предложил, был способ, как улучшить систему вентиляции. Потратив кучу времени и сил, новый заместитель управляющего сумел запустить воздуховоды, потом придуманные им примитивные, громыхающие вентиляторы, и количество обмороков пошло на спад, затем провел кое-какие кадровые перестановки, хотя это была не его епархия, а больных туберкулезом, ослепших и часто падавших в обморок отправил в забой (вариант «Бедняги Джона»). Также восстановил он работу кузницы, и в результате тележки, клети, крепи, рельсы заработали бесперебойно. Огромный остов начал двигаться. Состояние, в котором находилась шахта, пусть и было плачевным, но уже не катастрофическим. Зарплату Эшли так и не подняли, но он позаботился, чтобы мисс Томс за свою преданность делу получала еженедельно дополнительно пять долларов. Лансинг радовался блестящим идеям, которые посещали его каждый день и которые впоследствии становились достоянием общественности в виде приказов на доске объявлений. И все чаще ему удавалось выбираться на охоту. Из-за того, что Лансинг вечерами долго засиживался в тавернах на Ривер-роуд, он начал много времени отдавать сну на софе, набитой конским волосом. Эшли даже не представлял, что его работа может быть настолько разнообразной и придется так много придумывать и импровизировать. Он просыпался и вставал легко. До конца жизни его дети вспоминали, как отец напевал перед зеркалом для бритья легкомысленные песенки вроде «Нита-Хуанита» и «В китайской прачечной».
Так что шахтой на деле руководил Джон Эшли, хотя это не соответствовало его должности. Он усвоил науку угледобычи от потрясающих учителей – начальников участков, трудившихся под землей, и от инженеров «Бедняги Джона» – заслуженных инженеров, которые с радостью делились с ним своими знаниями, лишь бы избежать ответственности и вообще самой работы. Такое положение сохранялось почти семнадцать лет, и все это время в ежегодных отчетах, исключая первые четыре года, стал отображаться небольшой, но уверенный рост прибыли. Благодаря Джону Эшли и мисс Томс все хранилось в тайне, хотя поучаствовали в этом и жены. Только такой, как Джон, мог согласиться играть столь непростую и даже унизительную роль, причем достаточно длительный срок. Лишенный амбиций и зависти, равнодушный к мнению окружающих, абсолютно счастливый в своей семейной жизни в «Вязах», Эшли прикрывал Брекенриджа Лансинга. Мало того, что всячески скрывал от сотрудников компании непрофессионализм и глупость их начальника, Джон еще и относился к нему как старший брат, хотя и был младше его. Джон всячески пытался смягчить грубость Лансинга по отношению к домочадцам, а также отвадить от мерзких отвратительных развлечений в тавернах на Ривер-роуд и других злачных местах. Привлекая Лансинга к своим «экспериментам», он делал вид, что высоко ценит его так называемый «вклад». Аккуратно выполненные чертежи механических устройств подписывались двумя именами: «Винтовой переключатель Лансинга – Эшли», – или, например, «Запальный патрон «Сент-Китс» Лансинга – Эшли». Это была искусная и великодушная ложь; но рано или поздно правда непременно вышла бы наружу.
Брекенридж Лансинг был убит вечером 4 мая 1902 года, и Джона Эшли приговорили к смертной казни. Убийство не считалось чем-то необычным, хотя кое-какие вызывают особый интерес, но вот побег приговоренного по дороге к месту казни – событие из ряда вон… Сразу были начаты интенсивные поиски пропавшего. В каждое почтовое отделение страны было послано описание преступника и фотография, хоть и нечеткая. За любую информацию о сбежавшем или его шести таинственных пособниках было назначено крупное вознаграждение. Кстати, интерес к ним оказался даже выше, чем к самому беглецу, ведь те, кто помогает бежать приговоренному к смерти, сами навлекают на себя смертный приговор. Этим шестерым, должно быть, хорошо заплатили. Где Эшли достал деньги? Вызывали недоумение и сами обстоятельства похищения. Если бы шестеро бандитов ворвались в закрытый железнодорожный вагон и принялись палить из револьверов в разные стороны, это было бы неудивительно. Так ведь налетчики, переодетые проводниками, осуществили похищение преступника, ухитрившись не произнести ни слова и не сделать ни единого выстрела! Это событие произошло ранним утром в сорока милях к югу от станции Форт-Барри, на разъезде, где все поезда останавливались на десять минут у водокачки, чтобы пополнить запас воды. В охране Эшли было пять человек – троих прислали из тюрьмы Джолиет, а двое, включая капитана Мейхью, который командовал группой, были назначены офисом прокурора штата в Спрингфилде. После официального расследования все они с позором были уволены из полиции, и если четверо никогда не упоминали про тот унизительный случай, то один разглагольствовал много и охотно. Это был Хьюз, по кличке Надутый, никчемный, опустившийся человечишка, который торговал кормами для домашней птицы в северо-западных округах. Ему удалось заработать определенную известность и тем самым увеличить продажи своими рассказами о событиях той исторической ночи в салунах.
– И вот этот проводник вошел в дверь и объявил, что начальник станции получил телеграмму для капитана Мейхью, а капитан говорит: «Принеси ее сюда». Но проводник сказал, что она секретная, и что ее прислали из Спрингфилда, поэтому капитан должен пойти и получить телеграмму лично. Ну, мы решили, что это пришло помилование от губернатора – вы ведь понимаете, о чем я? У капитана Мейхью был приказ не покидать вагон, поэтому он не знал, как поступить. Все начали думать, что ему делать, и вот тут-то мы и сглупили. Пока мы думали, вагон вдруг заполнился проводниками. Они перебили все лампы, и нам пришлось ползти на карачках по битому стеклу. Какой-то мужик схватил меня за ноги и попытался связать, я изловчился и хорошенько ему вмазал, но он оказался настолько силен, что смог вздернуть меня в воздух и одновременно стянуть веревкой ноги. В результате, упираясь ногами в потолок, я оказался лежащим на лопатках и мог лишь крутиться на месте, как рак на песке. Мужик потом стянул мне за спиной еще и руки. Мы все орали как бешеные, а капитан Мейхью громче всех: «Стреляйте же, черт возьми! Не дайте ему уйти!» Только откуда нам было знать, кто там Эшли, скажите на милость? Потом нам всем рты заткнули кляпами, вытащили в проход и уложили, как мешки с картошкой. Поверьте, эти люди были не местные: наверняка из Чикаго, а то и из Нью-Йорка, и действовали очень слаженно: явно уже проворачивали подобные дела. Никогда не забуду ту ночь. Шторы хоть и были опущены, но в щелки пробивался слабый свет и было видно, как они скакали через сиденья, будто обезьяны.
Таинственное происшествие совершенно сбило с толку умнейших людей графства, начиная с полковника Стоца в Спрингфилде, репортеров в разных городах, шерифа и всех его заместителей и одновременно партнеров по картам, а также дам, которые занимались шитьем в пользу язычников в Африке, плюс кружок выдающихся мыслителей, собиравшихся каждый вечер в таверне «Иллинойс», и кончая бездельниками, жевавшими табак в извозчичьей конторе мистера Кинча и в местной кузнице. Беата Эшли тоже не знала, что и думать.
Впоследствии появились кое-какие дополнительные соображения, которые лишь подстегнули уставшую людскую фантазию. Как удалось выехать из страны сбежавшему преступнику, за обритую голову которого был назначен выкуп в четыре тысячи долларов? Как смог он пересылать письма, а потом и деньги, своей жене и детям, сидевшим без единого цента, если каждое послание, приходившее в этот дом, тщательно проверялось полицией, а все посетители подвергались строгому допросу? О чем думал он? О чем думала она? Что думала обо всем этом Юстейсия Лансинг? Вопросы, связанные с деньгами, рождали самое большое количество домыслов у горожан. Все знали, насколько мала была зарплата Эшли. Всем было известно, какие счета выставлял им мясник в течение нескольких лет. Жена местного банкира рассказала по секрету своим подругам, что сбережений у него было с гулькин нос. Благоразумные и рассудительные бились в экстазе: Джон Эшли семнадцать лет нарушал безжалостный закон всех цивилизованных людей, не откладывал денег впрок. Процесс растянули безбожно. Вскоре после его начала Эшли учтиво отказался от платного адвоката, воспользовавшись защитой, предоставленной судом. Весь город видел, как из Сомервилла приехал торговец подержанными вещами и в своем фургоне увез из дома подсудимого все, что можно: мебель, посуду, оконные шторы, постельное белье, дедовские часы, стоявшие в холле, а также рояль, под звуки которого так часто танцевали виргинские рилы, и даже банджо Роджера. В «Вязах» продолжали чем-то питаться: у них был курятник, оставалась корова, а еще сад, – но счетов от мясника больше не поступало. В последний вечер Эшли, перед тем как его посадили в поезд, чтобы отправить в Джолиет, передал сыну свои золотые часы – последнюю семейную ценность.
Во время процесса и несколько недель после побега осужденного весь город исподтишка, затаив дыхание, наблюдал за «Вязами», а кое-кто даже заходил: доктор Джиллис; мисс Томс, которая опять взвалила на свои плечи административные заботы о шахтах; портниха мисс Дубкова (Ольга Сергеевна); чиновники из офиса полковника Стоца, которые появлялись время от времени, чтобы изводить миссис Эшли. Духовник семьи доктор Бенсон, после того как навестил заключенного в тюрьме, но никакого раскаяния от него не услышал, освободил себя от обязанности навещать его вновь и не пришел ни разу. Несколько дам – прихожанок церкви все-таки решили нанести визит своей подруге миссис Эшли, хотя и не получили одобрения пастора, однако за двадцать шагов до ее дома передумали. Все вместе они занимались шитьем в миссионерском обществе, украшали церковь к Пасхе и Рождеству, она приглашала их детей поиграть в крокет и поужинать в «Вязах», но за все эти годы ни к кому из них ни разу не обратилась по имени. Исключением были лишь мисс Томс и миссис Лансинг – их время от времени она называла Вильгельминой и Юстейсией. Она даже свою прислугу величала не иначе, как «миссис Свенсон».
От дома к дому вскоре распространился слух, что сын Эшли Роджер, семнадцати с половиной лет, покинул Коултаун. Все решили, что он отправился на заработки, чтобы содержать мать и сестер. Осенью девочки в школу не вернулись: Беата стала заниматься с ними дома. Целых полтора года Лили, которой было уже почти девятнадцать, и девятилетняя Констанс вообще не выходили за ворота усадьбы, как и мать семейства, и покупки для дома делала София, четырнадцати лет от роду. Каждый день ее видели в центре, она с улыбкой кивала своим бывшим знакомым и, судя по всему, совсем не переживала из-за того, что мало кто кланялся ей в ответ. Отчеты о ее покупках становились достоянием всего города – мыло, мука, дрожжи, нитки, заколки для волос и немного сыра «для мышеловки».
Обитатели «Вязов» оказались среди тех, кто последним узнал о побеге Эшли. Эту новость им принес лучший друг Роджера Порки, паренек по фамилии О’Хара. Это был юноша индейской крови, принадлежавший к ковенантской церкви – религиозной секте, которая переехала в южный Иллинойс из Кентукки и основала общину в трех милях от Коултауна. Молодой человек хоть и родился с дефектом правой ступни и голени, но слыл отличным охотником и не раз брал с собой и Роджера. Порки чинил обувь горожанам, и поэтому целые дни проводил в своей маленькой будке на центральной улице. Все Эшли исключительно уважали его, но он ни разу не вошел в их дом с парадного входа и решительно отвергал приглашения разделить с ними трапезу за одним столом. Порки отличала невероятная преданность, умение замечать абсолютно все, а говорить лишь то, что нужно. Утром 22 июля он появился у задней двери дома Эшли и издал свой клич – ухнул по-совиному. Спустившись к нему, Роджер услышал новость.
– Твоя матушка должна об этом узнать. Они скоро будут здесь.
– Скажи ей сам: наверняка она захочет спросить тебя кое о чем еще.
Он провел друга в передний холл, и тут же вниз спустилась миссис Эшли.
– Мама, Порки хочет кое-что тебе сообщить.
– Мистер Эшли исчез, мэм. Какие-то люди забрались в вагон и освободили его.
Ответом ему было молчание, а потом она спокойно спросила:
– Кто-нибудь пострадал?
– Нет, мэм. Я об этом не слышал.
Беата Эшли привыкла к немногословности индейцев, поэтому достаточно было взгляда, чтобы понять: больше он ничего не знает.
– Его будут искать.
– Да, мэм. Говорят, что те люди привели с собой лошадь. Если мистер Эшли сообразит пробраться к реке, то успеет уйти до того, как на него начнется охота.
Огайо протекала в сорока милях к югу от Коултауна, Миссисипи – в шестидесяти к западу.
За время долгого процесса Беата немного охрипла, дыхание стало неровным.
– Спасибо, Порки. Если узнаешь что-нибудь еще, будь добр, сообщи.
– Конечно, мэм.
Его взгляд сказал ей то, что она так жаждала услышать: «Он выберется».
Послышались звуки шагов у передней двери и громкие голоса, поэтому Порки поспешил скрыться в кухне, а затем покинул усадьбу через живую изгородь за курятником.
Раздался раздраженный стук в дверь, зашелся истеричным звоном колокольчик, и через мгновение в холл, не дожидаясь приглашения, вошли четверо полицейских во главе с капитаном Мейхью. Вуди Лейендекер – начальник полиции и старый друг Эшли – изо всех сил старался стать невидимкой, и вид у него при этом был жалкий.
– Доброе утро, мистер Лейендекер, – поздоровалась Беата Эшли, а капитан Мейхью беспардонно заявил:
– А теперь, миссис Эшли, вы расскажете нам все, что знаете.
Он понимал, что телеграмма о его отставке и вызове к губернатору для расследования инцидента уже в пути, как понимал и то, что его обвинят в нанесении ущерба репутации местной власти и штата Иллинойс в целом. Предвидел он также и другое: всей семьей им придется вернуться в глушь, на ферму тестя, где жена будет сутками лить слезы, а дети подвергнутся насмешкам сверстников в какой-нибудь захудалой школе с единственной классной комнатой. Мейхью нужно было срочно дать выход своему гневу и отчаянию, вот он и решил излить их на миссис Эшли.
– Если вы намерены водить нас за нос, то очень об этом пожалеете. Вам известно, кто были те люди, которые ввалились в вагон и забрали вашего мужа?
Добрые полчаса Беата Эшли спокойно повторяла тихим голосом, что ничего не знала ни о планах мужа, ни о том, как ему удалось бежать. Мало кто ей поверил – возможно, не больше дюжины, – зато не поверил капитан Мейхью; не поверил шеф полиции; читатели газет от Нью-Йорка до Сан-Франциско тоже не поверили, но больше всего не верил ни единому ее слову полковник Стоц из Спрингфилда.
В холл спустились дочери миссис Эшли и стали с тревогой наблюдать за происходящим. В этот момент из офиса шерифа принесли телеграмму, и допрос прервали. Полицейские ушли, и Беата Эшли поднялась к себе в комнату, опустилась на колени перед кроватью и обхватила голову руками. Слез не было, как не было ни единой мысли. Она ощущала себя ланью, до которой доносится пальба охотничьих ружей над долиной.
Роджер между тем попытался успокоить сестер:
– Идите к себе и занимайтесь своими обычными делами.
– Папа в безопасности? – в тревоге спросила Констанс.
– Ну, надеюсь…
– А что он будет есть?
– Что-нибудь найдет.
– Он придет, когда стемнеет?
– Пойдем, Конни, – вмешалась София, – поищем что-нибудь интересное на чердаке.
Позже тем же утром явился с визитом доктор Джиллис, как обычно, поскольку дружил с семейством уже много лет, хотя Эшли редко пользовались его профессиональными навыками. На процессе, во время допроса в качестве свидетеля, доктор заявил, что Эшли был его другом и пациентом (обращался за консультацией по поводу ларингита), что с обвиняемым они вели долгие, глубоко личные разговоры (ничего более личного, чем распространение силикоза, частой потери сознания и туберкулеза среди шахтеров, они не обсуждали), и потому совершенно уверен, что тот просто не мог совершить ничего недоброго в отношении покойного мистера Лансинга.
Миссис Эшли приняла его в полупустой гостиной, где остались всего лишь стол, диван и два стула. Едва взглянув на нее, доктор Джиллис, уже в который раз, вспомнил слова Мильтона[1]: «Прекрасней дочерей своих всех – Ева», – встревожило его и ее дыхание, прерывистое, хриплое. Позже доктор поделился с женой, что речь Беаты походила на «мольбу о помощи между ударами». Положив на стол коробочку с таблетками, доктор сказал:
– Принимайте в соотвествии с инструкцией, растворив в небольшом количестве воды. Это просто железо. Вам необходимо поддерживать в себе силы.
– Благодарю вас.
Доктор помолчал, потом неожиданно взглянул на нее в упор:
– Джон умеет ездить верхом?
– Мне кажется, да, ездил, но это было давно, еще в детстве. А почему вы спросили?
– Хм. Должно быть, он двинулся на юг. Он говорит по-испански?
– Нет.
– Ему нельзя перебираться в Мексику, во всяком случае – в этом году. Я думаю, он это понимает. Всюду развесят его фотографии с объявлениями о розыске. Ко мне уже приходили: интересовались шрамами на теле. Я сказал, что не видел ни одного. В объявлении укажут, что ему сорок лет, хотя на вид не больше тридцати пяти. Будем надеяться, что волосы у него скоро отрастут. Он все выдержит, я не сомневаюсь: сил ему хватит. Если от меня потребуется какая-то помощь, дайте знать.
– Спасибо, доктор.
– Преодолевайте препятствия по мере их появления. Какие планы у Роджера?
– Вроде бы он говорил Софи, что хочет уехать в Чикаго.
– Вот как… Пусть он зайдет ко мне сегодня вечером, часов в шесть.
– Я передам.
– Миссис Джиллис спрашивала: может, вам что-нибудь нужно?
– Нет-нет, спасибо. Передайте и супруге мою благодарность.
Доктор помолчал, потом задумчиво заметил:
– Все-таки удивительная история, не находите?
– Да, – тихо подтвердила Беата.
Обоих вдруг объял благоговейный страх, который возникает от ощущения чего-то необъяснимого, нереального, и гость поспешил откланяться:
– Хорошего дня, миссис Эшли.
– Всего доброго, доктор.
С шестым ударом часов на здании суда Роджер Эшли вошел в кабинет доктора, и Джиллиса буквально поразил его вид: перед ним стоял уже не мальчик, а взрослый юноша, очень бедно одетый. Эшли явно довольствовались самым малым: его одежда, аккуратная и чистая, была сшита дома. Он очень походил на деревенского подростка: кисти торчат из рукавов, брюки едва прикрывают лодыжки. Главная особенность всех Эшли заключалась в том, что они мало обращали внимания на мнение соседей. В школе Роджер считался первым учеником, был капитаном бейсбольной команды: этакий маленький лорд Фаунтлерой, оказавшийся в провинциальном городе совершенно случайно (как, впрочем, и его отец), – спокойный, с прямым взглядом, немногословный.
– Роджер, я слышал, что ты собрался в Чикаго. Конечно, работу ты найдешь без труда, – но если все же что-то пойдет не так, отнеси это письмо моему старому другу, тоже доктору. Он подыщет тебе работу в больнице. Возможно – санитаром. Это очень тяжело, нужно иметь крепкий желудок, да и платят мало, так что без крайней нужды не берись за нее.
– Санитаров кормят в больнице? – спокойно спросил Роджер, и доктор, кивнув, подал ему еще один конверт.
– А вот это другое письмо, где написано, что ты честный человек и заслуживаешь доверия. Здесь оставлен пробел для имени, на случай если тебе захочется поменять нынешнее, чтобы уберечься от необходимости отвечать на множество ненужных вопросов. Можешь сам придумать, а можешь просмотреть корешки вот этих книг и либо выбрать какое-то, либо скомбинировать самостоятельно. Я на минутку отлучусь.
Роджер задумался. Хаксли и Кук, Гумбольд и Холмс? Роберт, Льюис, Чарлз, Фредерик. Тут была книга в красном переплете «Опухоли головного и спинного мозга» Эвариста Трента и еще одна – «Закон и общество» Голдинга Фрейзера, тоже в красном. Ему нравился красный цвет. Может, он станет доктором, а может, юристом, поэтому выбрал и то и другое.
И доктор Джиллис, вернувшись, вписал в письмо имя – Трент Фрейзер.
Утром 26 июля Роджер, решив, что нет необходимости обсуждать свои планы с матерью, отправился в Чикаго. Ее отношения с дочерьми были как ландшафт в хорошую погоду – ясные и немного холодноватые, а отношения с сыном – тот же ландшафт, только в бурю. Он ее обожал, но она часто его возмущала. Мать осознавала свои ошибки и корила себя за то, что всю любовь отдавала мужу, а детям мало что оставалось. И мать с сыном редко заглядывали друг другу в глаза, каждый и так понимал мысли другого, а для такой связи проявления нежности совсем не обязательны. Они безгранично любили друг друга и страдали оттого, что между ними стоял Джон Эшли, совершенно неспособный страдать и понимать, что является причиной чьих-то страданий.
София молча наблюдала, как брат пакует небольшой саквояж, чудом уцелевший после визита торговца подержанным товаром, потом поднялась наверх и принесла выстиранную и выглаженную матерью и Лили одежду и с кухни – пакет с нарезанным хлебом, без масла, но намазанный ореховой пастой домашнего приготовления и яблочным повидлом. Было семь часов утра, когда они вышли на крокетную площадку, в ту ее часть, которую не было видно из дома. Там Роджер опустился перед сестрой на колено, чтобы их лица оказались на одном уровне, и попросил:
– Софи, дорогая, ты не должна унывать: слышать об этом не хочу. Оставайся такой, какая есть. Это только наше с тобой дело. Я буду писать матери раз в месяц и посылать немного денег, но не стану открывать свое новое имя и адрес. Ты понимаешь почему: полицейские будут вскрывать каждое письмо, которое придет в наш дом, – а я не хочу, чтобы полиции стало известно, где я нахожусь. Это означает, что мама не сможет мне ответить, однако в течение полугода – а может быть, и больше – мне не нужно от нее никаких писем. Я должен полностью сосредоточиться на другом, и ты понимаешь, на чем, ведь так?
– На деньгах, – пробормотала Софи.
– Верно. Но я буду писать и тебе, тоже раз в месяц, только эти письма стану отправлять на адрес Порки, так что никто ничего не узнает. Поэтому слушай и запоминай. Первые несколько дней после пятнадцатого числа каждого месяца тебе придется ходить по улице, где работает Порки, мимо его окошка, но так, чтобы никто не заметил, что тебя интересует. Краешком глаза посмотри, вывесил ли он календарь: ну, ты помнишь, тот самый, с миленькой девушкой, что я подарил ему на прошлое Рождество. Если увидишь календарь, знай: для тебя есть письмо, – но в будку не заходи, просто вернись домой, найди какую-нибудь старую обувку и возвращайся к Порки как обычная клиентка. Никто – запомни, никто! – не должен знать, что мы пересылаем письма через него, иначе мы втянем его в неприятности. Он, как самый преданный наш друг, сам это предложил. Каждый раз в конверт с письмом для тебя я буду вкладывать еще один, уже с маркой и с моим адресом, а также с чистым листом бумаги, чтобы ты могла написать ответ. Когда стемнеет, дойдешь до почтовой конторы и бросишь письмо в ящик на углу. Это довольно большой крюк, но другого выхода нет. Пиши мне обо всем, что здесь происходит, ничего не скрывая: о маме, о сестрах, о том, как тут у вас идут дела, – и только правду. Это главное, о чем я тебя прошу.
Софи быстро кивнула, а Роджер продолжил:
– Теперь вот еще что: то, что произошло с папой, совершенно неважно. Важно другое – то, что начинается сейчас, что начинаем мы с тобой. Оставайся такой же, какой была. Не вздумай делать глупости, как большинство девчонок. Нам нужна ясная голова. Нам придется приложить максимум усилий, чтобы достать деньги. Даже если придется ради мамы их украсть, я готов.
Софи все это понимала, но для нее было важно другое, поэтому она тихо попросила:
– Ты должен мне тоже кое-что пообещать, Роджер. Дай честное слово, что что и ты ничего не будешь утаивать, – например, если вдруг заболеешь или еще что.
Роджер поднялся.
– Не проси меня об этом, Софи: у мужчин все по-другому, – но обещаю быть максимально правдивым.
– Нет-нет, Роджер! Я не могу пообещать писать тебе только правду, если ты не пообещаешь мне того же. Как можно требовать от меня быть храброй, если не объяснить зачем?
Это было столкновение характеров, и Роджер сдался:
– Ладно, обещаю. Это обоюдное соглашение.
София подняла на него глаза, и выражение ее лица он запомнил на всю жизнь, как и слова, которые она произнесла:
– И вот что я тебе скажу: если тебе что-нибудь понадобится в этом мире: деньги или еще что-то, – все достану и вообще все смогу.
– Я это знаю. – Он сунул руку в карман и вытащил пять долларов. – Софи, в ночь, когда сбежал из-под стражи, папа прислал мне свои золотые часы. Вчера я продал их мистеру Кери за сорок долларов и тридцать из них отдал маме, пять оставил себе, а вот эти отдаю тебе. Думаю, сейчас маме не до того, чтобы думать о деньгах: покупками занимаешься ты, – поэтому припрячь эту пятерку до тех пор, пока она действительно не понадобится.
И сразу же без дополнительных объяснений протянул ей свое самое главное сокровище – три наконечника кангахильских стрел из зеленого кварца, хризопраза.
– Ладно, я, пожалуй, пойду.
– Роджер, папа будет нам писать?
– Я сам об этом думаю, но не представляю, как это осуществить, не доставив и себе, и нам новых неприятностей. Ты же понимаешь, что он теперь вне закона. Спустя какое-то время – может, несколько лет – он, конечно, найдет способ связаться с нами, а сейчас, как мне кажется, самое лучшее – это на время забыть о нем и просто продолжать жить, вот и все.
София кивнула и шепотом спросила:
– А чем ты собираешься заниматься? В смысле, кем станешь?
Ее вопрос являлся лишь уточнением, в какой именно области он станет великим, и Роджер это понял.
– Пока не знаю, Софи.
Он не стал ее целовать: просто улыбнулся, кивнул и крепко сжал локти.
– А сейчас иди в дом и сделай так, чтобы мама не вышла на кухню, пока я не заберу плащ и не уйду через черный ход.
– Нет, Роджер, ты должен попрощаться с мамой! Ты ведь у нас единственный мужчина в доме. Пожалуйста!
Сглотнув комок в горле, он расправил плечи.
– Ладно, Софи, будь по-твоему.
– Она в гостиной шьет, – как и вчера вечером.
Поднявшись по ступенькам к задней двери, Роджер сделал вид, будто что-то забыл, и, миновав передний холл, вошел в гостиную.
– Мама, мне пора.
Покачнувшись, та поднялась. Она прекрасно знала, что сын – как и все Эшли – не любил целоваться, терпеть не мог праздновать день рождения и Рождество, ненавидел выносить сор из избы. Беата опять стала задыхаться, поэтому слова ее были едва слышны, тем более что произнесла она их на языке своего детства:
– Gott behutte dich, mein Sonn![2]
– До свидания, мама.
Он ушел. В первый – и единственный раз в жизни – Беата Эшли упала в обморок.
Что-то так и осталось невысказанным в разговоре Софии с братом на крикетной площадке.
Тех, кто не может платить налоги, отправляют в приют для неимущих. Таковой имелся в Гошене, в четырнадцати милях от Коултауна, и был словно черная туча, висевшая над жителями Кангахила и Гримбла. Даже оказаться в тюрьме считалось менее позорным, чем переехать в Гошен, однако его постояльцы наслаждались комфортом, которого у них никогда не было. Кормили здесь регулярно и сытно. Постельное белье меняли два раза в месяц. Виды с просторных веранд поднимали настроение. В воздухе не висело угольной пыли. Женщины занимались шитьем для больниц штата, мужчины работали на молочной ферме и в огороде, а зимой мастерили мебель. Правда, в коридорах постоянно воняло кислой капустой, но этот запах не казался отвратительным тем, кто жил в нужде. Здесь тоже можно было приятно проводить время, но никто не улыбался, не проявлял доброты – тяжесть стыда сокрушала людей. Пять дней в неделю заведение было тюрьмой, а в дни посещения родственников превращалось в ад. «Как ты себя чувствуешь, бабуля?» «Они хорошо с тобой обращаются, дядя Джо?» Переехать в Гошен означало, что ваша жизнь потерпела крах. Христианская религия, как ее понимали в Коултауне, устанавливала тесную связь между любовью Бога к человеку и деньгами. Бедность не только несчастье в глазах общества, это еще и очевидное свидетельство отпадения от Божественной благодати. Бог ведь обещал, что не допустит страданий выше человеческих сил, и получалось, что неимущие оказывались и вне земного, и вне небесного порядка вещей.
Для детей Гошен обладал своеобразной притягательностью пополам с ужасом. Среди одноклассников Роджера и Софии было несколько таких, чьи родственники жили в приюте. Им частенько приходилось испытывать на себе проявления детской жестокости: «Эй, ты, вали к себе в Гошен!» Все в городе слышали разговоры о том, как в приют отправили миссис Кавано. Она жила в огромном, заложенном и перезаложенном доме рядом с масонской ложей. И не платила налоги годами. Кормили ее прихожане баптистской церкви, которые по очереди приходили и оставляли ей пакеты с едой у задней двери. Но роковой день все-таки настал. Она кинулась на чердак, чтобы спрятаться там, пока объявившаяся вдруг в доме матрона принялась паковать ее вещи. Миссис Кавано буквально вытащили на улицу: когда несли по ступенькам, она, поджав ноги, цеплялась за косяки дверей и вопила что есть мочи. Потом старуху погрузили на телегу, как бодливую корову. Стоял июнь месяц, и окна у соседей были нараспашку. При криках женщины, огласивших улицу: «Помогите! Хоть кто-нибудь способен мне помочь?» – Когда-то миссис Кавано была гордой, счастливой и богатой, но Бог отвернулся от нее. Роджер и София знали, что их мать сойдет вниз и сядет в телегу из Гошена, как королева, и понимали, что только они могут уберечь ее от этого.
София сразу же нашла себе занятие. Была середина лета. Купив дюжину лимонов, – с небольшой тележкой, на которой возила корм для кур, она отправилась в лавку Биксби и купила на пять центов льда, потом написала два ценника: «Мятный лимонад – 3 цента» и «Книги – 10 центов». Из ящика для апельсинов устроив прилавок, София ставила его возле железнодорожной станции за пятнадцать минут до прибытия и отправления каждого из пяти дневных поездов, которые делали здесь остановку. У нее имелось также ведро с водой для мытья стаканов. На прилавок рядом с кувшином лимонада она ставила букетик цветов. Начальник станции лично принес ей второй столик, и на нем София разложила несколько книг, которые нашла на чердаке и в старых сундуках: одни книги когда-то принадлежали Эрли Макгрегору, а по другим ее отец учился в колледже. На второй день она еще кое-что нашла на продажу, написала новые ценники: «Музыкальная шкатулка – 20 центов», «Кукольный домик – 20 центов», «Кукольная кроватка – 40 центов», – и с обезоруживающей улыбкой встала за прилавок. Через пару часов об этом предприятии узнал весь город. Женщины пришли в возбуждение: «Кто-нибудь купил что-нибудь? На сколько она наторговала?», – а мужчины испытали жуткую неловкость. Улыбка Софи задевала их и сбивала с толку. Дитя позора и преступления имеет наглость улыбаться! Зрелище огромной беды, ниспровержения счастья, отчаянной борьбы за существование вызвало прямо противоположные эмоции. Даже те, кто едва ли не сочувствовал семейству, обнаружили, что отчасти испытывают облегчение, даже торжество, смешанное со страхом или дрожью отвращения. Очень часто подобная перемена в настроениях именуется рассудительностью.
Толпа бездельников, у которых было заведено приходить на станцию и встречать поезда, увеличилась вдвое. Маленькая продавщица стояла за своим прилавком в одиночестве, как актриса на сцене. Первый стакан лимонада купил Порки. Он никак не показал, что они знакомы, но простоял возле ее прилавка минут десять, медленно смакуя напиток. За ним последовали другие. Проезжий торговец купил «Математические вычисления на первом курсе», а начальник станции мистер Грег приобрел «Проповеди» Робертсона. На следующее утро группка мальчишек устроила на платформе игру в мяч. Верховодил ими Сай Лейендекер. Мяч летал туда-сюда над столиками Софии, и было ясно, что ребята нацелились на кувшин с лимонадом.
– Сай, – попросила Софи, – не могли бы вы играть в другом месте?
– А ты мошенничать?
Те, кто мог их слышать, не вмешивались – просто молча наблюдали. Неожиданно со стороны главной улицы на платформу вышел высокий мужчина с курчавой бородой и коротко, голосом, не терпящим возражений, остановил игру. Софи подняла на него глаза и чинно, как леди джентльмену, сказала:
– Благодарю вас, сэр.
Мужчина не был ей знаком, однако София понимала, что в ее положении только от мужчины и можно ждать помощи, а никак не от женщины.
Четыре дня она ни о чем не говорила матери, а на пятый, уходя из дому утром, оставила на столе записку:
«Дорогая мама, я сегодня немного задержусь: продаю лимонад на станции. Люблю, София».
Вечером, когда она вернулась домой, мать сказала:
– София, ты не должна торговать лимонадом на станции.
– Но, мама, я заработала три доллара десять центов.
– Да, хорошо, но я не хочу, чтобы ты этим занималась.
– Если ты испечешь несколько овсяных лепешек, то, я уверена, что их тоже продам.
– Возможно, просто люди жалеют тебя, но это скоро закончится. Прошу, перестань этим заниматься.
– Да, мама.
Через три дня Беата Эшли нашла на кухонном столе еще одну записку:
«Я поужинаю у миссис Трейси».
– Что ты там делала? – спросила она у дочери.
– Ей нужно было съездить в Форт-Барри, и она попросила приготовить ужин ее детям, за что дала мне пятнадцать центов. Мама, миссис Трейси просила, чтобы я провела эту ночь в ее доме, и обещала заплатить за это еще пятнадцать центов. Она очень беспокоится из-за того, что Питер играет со спичками.
– Миссис Трейси ждет тебя и сегодня?
– Да, мама.
– Сегодня, так и быть, сходи к ней, но когда она вернется, поблагодари и скажи, что ты нужна своей матери дома.
– Да, мама.
– И не бери у нее денег.
– Но, мама, почему я не могу взять деньги за свою работу?
– София, ты еще слишком молода, чтобы понять такие вещи. Мы не нуждаемся в доброте этих людей. Она нам не нужна.
– Но скоро наступит зима.
– И что? Что ты хочешь этим сказать? Запомни: я старше, опытнее, а значит, знаю лучше тебя.
Через три недели после отъезда Роджера, 16 августа, почтальон принес в «Вязы» письмо. София получила его в дверях и поступила так, как принято у мусульман: приложила ко лбу и к сердцу. Внимательно осмотрев конверт, она поняла, что его открывали, а потом опять заклеили, и отнесла матери на кухню.
– Мама, похоже, это письмо от Роджера.
– Правда? – Беата медленно вскрыла конверт, и на пол спланировала двухдолларовая бумажка. Она проводила ее взглядом и передала письмо дочери. – Читай… ты. Прочти мне письмо, София.
– «Дорогая мама, у меня все хорошо. Надеюсь, что и у тебя тоже. Скоро я заработаю много денег: работу здесь найти вовсе не трудно. Чикаго – очень большой город. Прости, но адрес пока дать тебе не могу, потому что еще не знаю, где остановлюсь. Ты будешь смеяться, но я еще вырос. Интересно, когда перестану? Люблю вас всех: тебя, Лили, Софию, Конни. Роджер».
– Значит, у него все хорошо? – хрипло проговорила Беата.
– Да, мама.
– Покажи письмо сестрам.
– Там упали деньги.
– Да? Припрячь их.
София поступила в точности так, как велел брат: отправилась на главную улицу. Календарь был на месте – в окошке Порки. Сразу после полудня, когда на улицах пустынно, она прихватила пару старых туфель Лили и вернулась в город. Клиент в одних носках дожидался, когда ему починят обувь, поэтому Порки разыграл перед Софи сцену с длинным диалогом о каблуках, подметках и набойках, и письмо из его руки перекочевало к ней. Покинув мастерскую, прогулочным шагом она направилась в южную сторону и, дойдя до монумента Гражданской войны, села на ступеньки и вскрыла конверт. В нем лежал еще один конверт, с маркой и адресом: «Мистеру Тренту Фрейзеру, Центральный почтамт, Чикаго, Иллинойс», – а также лист писчей бумаги, один доллар и письмо. У него все в порядке. Он вырос так, что она его не узнает. Нашел работу: сначала мыл тарелки в ресторане, но потом его продвинули по службе и сейчас помогает повару на кухне. Каждую минуту зовут: Трент, сделай то, Трент, сделай это. Подумывает перейти на работу в отель клерком. Чикаго очень большой город: в тысячу раз больше Коултауна. Он с нетерпением ожидает, когда она приедет к нему в Чикаго. На днях он видел на одном из домов вывеску «Школа медсестер». «Вот туда ты и поступишь, Софи». Только Роджер, доктор Джиллис и ее отец знали, что София мечтала выучиться на медсестру.
«Как ты знаешь, я прислал маме два доллара. Скоро смогу посылать больше. Сюда вкладываю один доллар для твоего тайного банка. Сходи к мистеру Бостуику и узнай, не захочет ли он покупать у нас каштаны. На несколько миль вокруг наши каштаны единственные. Здесь, в Чикаго, они идут по двенадцать центов за бушель. Правда, это цена на прошлогодние. Если тебе потребуются карандаши, попроси у мисс Томс. У нее их предостаточно. Пиши плотнее, Софи, уместишь больше слов. Ответь в тот же день, как получишь это письмо. Наверное, никто так не обрадуется, как я, когда получу твой ответ. Как у мамы с голосом? Что вы едите? Когда читаете вслух, смеетесь ли хоть иногда? Не забывай, что я тебе говорил: не поддавайся унынию. Мы справимся. Забыл предупредить, чтобы ты не говорила маме про эти письма, но, думаю, ты и так догадалась.
PS. Сейчас я уже начинаю жалеть, что сменил имя. Нам должно быть все равно, что думают миллионы людей. Папа не сменил бы.
PPS. Я думаю о тебе, маме, о нашем доме каждый вечер в девять часов, поэтому отложи это в своей памяти.
PPPS. Как там поживают дубки, которые посадил папа? Измерь их и напиши.
Роджер».
Дни шли за днями. Их кормили огород и курятник. Они пили чай из липового цвета, собранного с собственного дерева. София больше не покупала кофе – жестокое лишение для матери, хотя та никак на это не отреагировала, – а деньги все равно утекали: мука, молоко, дрожжи, мыло… Задолго до начала зимы София как вся городская беднота, начала собирать уголь у товарного двора на железной дороге. Часто в ранние сумерки городские кумушки прогуливались неподалеку от «Вязов», демонстрируя полное безразличие. Шесть вечеров в неделю в доме не горел свет. Весь Коултаун с напряженным интересом ждал, как долго вдова – фактически вдова! – с тремя подрастающими дочерьми сможет просуществовать без денег.
Констанс, будучи еще ребенком, не могла понять, почему ее забрали из школы или почему ей запрещается ходить с Софи в город за покупками. В определенные часы она могла тайком подняться по лестнице к окну, посмотреть на главную улицу и понаблюдать за бывшими подругами, когда те возвращались домой.
Лили всегда была мечтательницей. Даже во время процесса девушка мало что замечала из происходящего у нее перед глазами. Нет, она не спала – просто отсутствовала. Лили лишилась самого важного для нее: музыки, нескончаемого потока новых лиц и общения с молодыми людьми, главной привилегией которых было обожать ее. Она не была ни меланхоличной, ни угрюмой, с готовностью и аккуратно выполняла все, о чем ее просили, но взрослела медленнее остальных детей Эшли. Ее кажущееся отсутствие на самом деле было ожиданием. Так морская анемона остается инертной и лишенной цвета до тех пор, пока ее не подхватит прилив.
Беата Эшли старалась, чтобы все было как прежде. В «Вязах» не поощрялась лень. Дом сверкал чистотой. Чердак и подвал привели в порядок. При уборке нашли много вещей, вполне пригодных для использования, если их починить. Больше внимания стали уделять саду, огороду и курятнику. Регулярно проходили уроки. Теперь ужинали рано, чтобы успеть почитать вслух до темноты. Они прочли четыре романа Диккенса, которые оказались в доме, три романа Вальтера Скотта, а также «Джейн Эйр»[3], потом отыскали еще и «Les Miserables’ («Отверженных») Виктора Гюго. Лучшей в чтении Шекспира была единогласно признана мисс Лили Эшли. По четвергам говорили только по-французски, а свечи горели до десяти часов. Балы, которые проходили каждый второй четверг, были роскошны. А какие балы без танцев? Танцевали под граммофон с огромной трубой. Вокруг красавицы Лили Эшли, конечно, толпилась армия красавцев кавалеров. Каждое событие знаменовалось тем, что на нем присутствовали почетные гости – то прекрасная миссис Теодор Рузвельт, то посол Франции. После танцев всех приглашали к изысканному souper[4]. Меню выставлялось перед гостями на проволочной подставке: «Consomme fin aux tomates Imperatrice Eugenie»[5], «Puree de navets Bechamel Lilt Ashley»[6], и «Coupe aux surprises Charbonville»[7]. К изысканным блюдам подавалось «Vin rose Chateau des Ormes»[8] 1899 года. Все дети Эшли с самого раннего возраста немного говорили по-немецки.
Празднование годовщин немецких поэтов и композиторов сопровождалось соответствующими церемониями. Лекции читала несравненная фрау Беата Келлерман-Эшли, которая по памяти могла часами легко цитировать Гете, Шиллера и Гейне. К сожалению, рояль пришлось продать торговцу подержанным товаром из Сомервилла, однако девочки столько раз слушали сонаты Бетховена и прелюдии Баха, что достаточно было напеть небольшой фрагмент, чтобы у них в ушах опять начинала звучать музыка.
События, которые обрушились на семью, не удивили Беату, не вызвали недоумения: для нее это стало катастрофой, к тому же совершенно бессмысленной, – однако она не показывала, что страдает, никого не обвиняла, и никак не проявляла обиду – ну разве что перестала выходить в город. Казалось, что она полностью владеет собой, хотя одной способности все-таки полностью лишилась – планировать дальнейшие шаги. Ее разум отказывался заглядывать в будущее. Оно ускользало от нее, стоило задуматься о завтрашнем дне, о наступающей зиме, о следующем годе. То же самое происходило и с прошлым. Она начинала говорить о муже после длительной паузы и с видимым усилием. Хрипота, которая исказила чудесное звучание ее голоса, постепенно отступила, но в те дни, когда Беату вызывали в полицию для допроса, возвращалась, хотя и не во время этой жесткой процедуры, а уже после нее.
Она несла в себе груз, о котором никому не говорила, – груз бессонницы, причем бессонницы такого свойства, когда будущее представляется длинным коридором без единого огонька и поворота: бессонницы по причине одинокой, не разделенной ни с кем постели. Это было настоящим несчастьем, потому что Беата понимала, что бессонница быстро ее состарит и изнурит, а еще может привести к сумасшествию. Ночи без сна было трудно переносить еще и потому, что она не могла позволить себе зажечь свечу, чтобы почитать.
И еще один груз Беата несла в себе – глубокую тревогу, для которой никак не находилось подходящего названия ни на одном из трех языков, которыми владела. Беате Эшли, женщине строгих моральных правил, казалось, что она дрейфует в сторону какой-то опасности. В сторону апатии? К бездеятельности? Нет! К бесчувствию? Нет. Это принимало форму вспыхивавшего время от времени раздражения всем, что было противоположно ее представлениям: стремлением Софии выжить; желанием Констанс общаться со своими школьными подружками; уверенностью, что впереди у нее сияющая будущность, хоть и не высказываемой Лили вслух.
Всем известно, что каждая мать любят своих детей, но любовь эта похожа на погоду: она всегда вокруг нас, и мы быстро понимаем, когда начинает меняться. Если метеорологи могут сделать прогноз на предстоящую неделю, то проявления материнской любви в «Вязах» были почти незаметны и непредсказуемы. Констанс как-то сказала своей ближайшей подруге Энн Лансинг: «Мама любит нас больше всего, когда мы болеем. Я была самой любимой, когда сломала руку». Потерять ребенка было бы страшнее для Беаты Эшли, чем лишиться мужа, потому что переживания становятся еще сильнее, если сопровождаются самобичеванием. Лили была любимицей матери и принимала это как само собой разумеющееся. Любовь Беаты к мужу была такой глубины и такой природы, что не оставляла пространства для другого чувства. Кроме того, она привнесла в свое общение с дочерьми неуловимое и неопределенное, но собственное женское отношение – в чем, впрочем, не была уверена до конца. Как часто бывает, это она получила в наследство от своей матери. Клотильда Келлерман, урожденная фон Дилен, была невысокого мнения о мужчинах, не говоря уже о женщинах, зато обладала огромным самомнением. Беата сначала боялась ее, потом сопротивлялась, наконец смогла одержать победу, но так и не сумела освободиться от предвзятого отношения к представительницам своего пола. Ей не нравился образ мыслей женщин и темы для разговоров, не нравилась жизнь, которая была им уготована. К слову, муж ее придерживался прямо противоположного мнения. Ему было скучно говорить с мужчинами, если речь не шла о деле: так, общение, например, с мастерами в шахтах было выше всяческих похвал. (И это единственное, что вызывало раздражение Беаты.) Многие месяцы после столь драматичных перемен в жизни Беаты раздражало общество, в котором ей теперь приходилось существовать: сплошь девицы со своей непорочностью, – и она с горечью признавалась в том, что несправедлива и ненавидела себя за это. Это отношение не ускользнуло от девочек. Они чувствовали, – даже Лили! – что не подходят ей, не соответствуют ее требованиям и, возможно, не соответствуют требованиям самой жизни. И это создавало им трудности даже в общении между собой.
София попыталась успокоить сестер, предположив, что во всех семьях отношения такие: отцы больше любят дочерей. Прошло уже пять месяцев с того момента, как Джон Эшли в последний раз переступил порог своего дома, а София вела себя так, будто ничего не изменилось. Энергичная и предприимчивая, она и в самом деле была для матери постоянным источником раздражения. Поручение брата наполняло ее ощущением счастья. Это были месяцы, когда Беата Эшли, при всей своей внешней безмятежности, отвернувшись лицом к стене, тихо скользила к собственному концу, к благословенной смерти. Она теперь походила на пассажира утлой лодчонки, который с членами своей семьи оказался посреди океана. Голод и жажда вызвали у нее оцепенение, и ее возмущало, что спутники выкинули флаг, взывая о спасении, что постоянно откачивают воду из лодки, не давая ей затонуть, что то и дело разглядывают горизонт в надежде увидеть остров с пальмами.
А тем временем София не пожелала впасть в уныние и все свои помыслы направила в сторону долларов – таких привлекательных и редких, и так много обещавших. Во всем, что попадалось ей на глаза, она находила подтверждение своим действиям. В романах Диккенса, например, вычитала, что можно зарабатывать швеей или модисткой, но свою клиентуру в их городке составить было невозможно, о чем красноречиво говорили каменные взгляды коултаунских дам, обращенные к ней. Кроме того, в городе уже была портниха – их добрая знакомая мисс Дубкова. В Коултауне имелось два места, где подавали еду: таверна «Иллинойс» и забегаловка рядом со станцией, – и других не требовалось. Белье горожане стирали сами, а для коммивояжеров и холостяков имелась китайская прачечная. Наконец у нее возникла идея, от которой невозможно было отказаться. София оценила ее со всех сторон: препятствия казались непреодолимыми, – и тем не менее нашла сначала один позитивный фактор, потом другой, затем еще один. На южной окраине города, как раз напротив усадьбы Лансингов «Сент-Китс», стоял пустой и пришедший в упадок дом, который когда-то имел более презентабельный вид, а теперь двор его зарос сорняками. Со столба на веранде свисали два закопченных объявления: «Продается» и «Комнаты со столом». Задолго до этих дней дом уже использовался в качестве пансиона, где предоставлялось убежище тем, кто не имел постоянного места жительства, безработным шахтерам, больным и «бессознательным», инвалидам и старикам. София вспомнила, как они все вместе читали книгу «Ковчег миссис Уиттимур», в которой говорилось о том, как вдова, обремененная большой семьей, открыла пансион на берегу моря. Сестер книга немало позабавила: среди постояльцев пансиона были трогательные, выжившие из ума старички, а также привередливые, но с добрыми сердцами старушки. Был еще молодой красивый студент-медик, который влюбился в старшую дочь миссис Уиттимур. Как-то раз эта юная леди отправилась в мрачную лавку ростовщика, чтобы продать оправленный жемчугом медальон матери. София не могла понять, почему это преподносилось как самый последний, унизительный и отчаянный, способ раздобыть денег. Ей хотелось, чтобы лавки ростовщиков в Коултауне были на каждом углу. Роман заканчивался счастливо: богач предложил миссис Уиттимур место экономки в своем особняке. София опять отыскала на чердаке книжку и перечитала еще раз, внимательнее, и обнаружила много полезного. В частности, у хозяев пансионов могли возникнуть проблемы с постояльцами, которые собирались улизнуть среди ночи, не заплатив по счетам. Миссис Уиттимур решила эту проблему, натянув поперек лестниц бечевки и подвесив на них колокольчики. Если недобросовестный жилец, в ужасе от поднятого грохота, все-таки прорывался к выходу, то обнаруживал, что изобретательная миссис Уиттимур намазала дверные ручки мылом. А бывали такие постояльцы, от которых ей самой хотелось избавиться (мистер Хейзелдин, например, перекладывал на свою тарелку половину поданного на стол мяса, а миссис Ример все время капризничала). В таком случае она подговаривала детей и своих друзей бесцеремонно пялиться на несносных постояльцев – это называлось выкуриванием – и те очень быстро начинали подыскивать место жительства поспокойнее. На кухне миссис Уиттимур берегла спички и разводила огонь с помощью кремня; предлагала тушеного кролика вместо курятины; сама варила мыло из свиного жира с добавлением очищенной древесной золы. То, что она вновь открыла для себя эту книгу, показалось Софии знамением: она решила, что откроет в «Вязах» пансион, и не теряя времени, отправилась к мисс Томс. Всю свою жизнь мисс Томс, несмотря на все свои таланты и способности, существовала на грани нищеты, и с трудом содержала саму себя. К идее она отнеслась без особого энтузиазма, но пообещала два стула, немного посуды и этажерку. После этого София устроила тайную встречу с Порки. Тот долго думал, потом наконец сказал:
– Да, начинайте прямо сегодня. Надо в передней комнате по вечерам зажигать лампу. Когда дом стоит с темными окнами, это плохо выглядит со стороны. – (В тот же вечер он оставил бидон керосина у задней двери.) – У меня есть две циновки: мать плетет, – я их отдам вам, а еще стул. Сходите в таверну к мистеру Сорби и поделитесь с ним своими замыслами: не стоит в его лице наживать врага. И нельзя опускать цены ниже, чем у него. В таверне постоянно толпится народ, посетителям не всегда хватает места, и, я думаю, кого-то он сможет отправлять к вам. А еще у моего дядьки есть кровать, которой никто не пользуется.
Потом София навестила мистера Кенни – плотника, маляра и гробовщика.
– Мистер Кенни, полдоллара и дюжины яиц будет достаточно, если я попрошу вас сделать вывеску?
– Что на ней следует написать, юная леди?
София вытащила кусочек обоев, который заготовила заранее: «Пансион «Вязы». Комнаты внаем со столом».
– Понял. Когда вы хотите ее получить?
– Завтра вечером, если можно?
– Да, вполне возможно. – (Как интересно! Девочка – копия отца. Так значит, они решили брать жильцов на постой. Ну-ну! Выглядит как-то сомнительно.) – И можете не торопиться с оплатой – к Новому году меня вполне устроит.
– Благодарю вас, мистер Кенни, меня вполне устроит, – чинно произнесла София, как и положено леди обращаться к джентльмену.
По пути домой она встретила Порки, и тот быстро проговорил:
– Я узнал расценки. В таверне комнаты стоят от пятидесяти до семидесяти центов. Завтрак – пятнадцать центов, со стейком – двадцать пять, а ужин тридцать пять. Вот вам кнопки. Повесьте объявление на почте: там, где сообщают о пропавших собаках и потерянных кошельках, – туда постоянно заходят коммивояжеры. Специально укажите: «Еда домашняя». Школьным учителям, например, не нравится, как кормят в таверне. Я все время слышу эти разговоры.
– Спасибо, Порки.
– Софи, у вас все получится: только запаситесь терпением, – может, не сразу, а через какое-то время. Если у меня возникнут какие-нибудь идеи, непременно поделюсь. Вы ведь не рассчитываете на огромную прибыль прямо сразу?
– О, нет! Конечно, нет.
Именно благодаря действенной надежде Софии было спасено семейство Эшли – так охарактеризовали ее поступок брат и сестры.
Она очень долго лелеяла надежду в себе. Надежда (если она идет из глубины сердца, а не представляет собой случайный всплеск эмоций, вопли, которые мы издаем в экстремальной ситуации и которые ближе к отчаянию) – это состояние ума и умение быстро все схватывать. Отец Софии тоже был человеком веры, хотя и не подозревал об этом, и ее надежда и вера сформировались еще в детстве. В свои четырнадцать лет София уже несла ответственностью за близких, на ее плечах лежала забота о целой лечебнице. Она понимала толк в ветеринарии. В дополнение к выращиванию цыплят накладывала шины собакам на сломанные лапы; спасала кошек от издевательств мальчишек, которые долгими летними сумерками не знали, куда себя деть; подбирала птенцов, выпавших из гнезд, голеньких, без перьев, валявшихся по обочинам дорог; выкармливала лисят, барсучат и сусликов, а потом выпускала на волю. Ей было известно, что такое жестокость, что такое смерть, что такое уход от реальности и что такое начало новой жизни. Она понимала, что наряду с хорошей погодой существует ненастье, с удачей – поражение: она знавала его вкус.
Весьма сомнительно, что надежда – или любое проявление творческого начала – может существовать сама по себе, без побудительного импульса любви. Вот такой абсурдной и не имеющей оправдания является надежда. Софию взрастила любовь: матери, сестер, – но главным образом двух дальних изгнанников – отца и брата.
Перед судом разума надежда предстает настолько беззащитной, что ей постоянно приходится самоутверждаться, а для этого обращаться к героическим песням и историям; порой даже к суевериям. Она съеживается от льстивых утешений; она любит с трудом одержанные победы, но окружает себя церемониями и фетишами. Укладываясь спать, София клала рядом три зеленых наконечника от стрел. В узкой теснине, где располагался Коултаун, не бывало радуги, но два раза в жизни она видела ее во время пикника при дороге к старой каменоломне и поняла, что это значит. Над тайником, где были спрятаны деньги, она начертила едва заметную дугу и написала: «Дж. Б.Э. и Р.Б.Э». Надежде свойственна иррациональность, поэтому ее привлекают проявления сверхъестественного: София обрела силу от необъяснимого и таинственного освобождения отца, но у надежды, помимо взлетов, есть падения. В такие моменты девушка замыкалась в себе и, опустив голову, пережидала: так ведут себя животные в метель. Ее семья посещала церковь каждое воскресенье, но дома никто никаких религиозных обрядов не совершал и мольбу о чуде София сочла бы проявлением слабости. Ее молитва не простиралась дальше просьб послать удачу для следующего рабочего дня или просветить ее разум для новых идей.
На следующий вечер после визита к мистеру Кенни София с зажженной свечой в одной руке и превосходно выполненной вывеской: «Пансион «Вязы». Комнаты внаем со столом», – в другой, проскользнула в спальню Лили.
– Эй соня, проснись!
– Что такое? – встревожилась сестра.
– Посмотри!
– Что это? – Лили прочла надпись и воскликнула: – Ты сошла с ума!
– Ты должна помочь мне убедить маму, что это очень важно, даже необходимо. Она тебя послушает. Если мы этого не сделаем, то просто умрем с голоду. И еще: мы будем встречаться с людьми, и стариками и молодыми, – нельзя жить и ни с кем не общаться, – станет весело. Вы с мамой можете готовить еду, а мы с Констанс – убирать комнаты.
– Но, Софи, эти люди могут быть ужасными!
– Все не могут быть ужасными. Мы всюду развесим лампы, а ты будешь для гостей петь. Я знаю, где можно достать пианино.
Лили приподнялась на локте.
– Но что, если мама не захочет кого-то пустить в дом.
– Если ей кто-то не понравится, она всегда может сказать, что свободных комнат нет. Ты мне поможешь ее уговорить?
Лили опустила голову на подушку и обреченно выдохнула:
– Да.
На следующий день после ужина Лили вслух читала «Юлия Цезаря», Беата занималась шитьем, а Констанс и София на полу распускали старое вязаное детское одеяльце и сматывали пряжу в клубки. Лили дочитала сцену до конца и взглянула на Софию.
– Что, устали глаза, дорогая? – спросила Беата. – Давай я почитаю.
– Нет, мама, София хочет тебе кое-что сказать.
– Мама, – осторожно начала та, – у нас большой дом, для нас он велик. Как ты отнесешься к тому, что мы устроим здесь пансион?
– Ты о чем?
София поставила вывеску на колени. Беата некоторое время смотрела на нее в полнейшем недоумении, потом поднялась и с тревогой проговорила:
– Дорогая, мне кажется, у тебя что-то не так с головой. Не представляю, где ты могла набраться таких мыслей. А эту кошмарную вещь где взяла? Убери ее сейчас же! Ты еще слишком молода и не понимаешь, о чем говоришь. Я просто поражена!
Последнюю фразу она едва ли не выкрикнула. В «Вязах» никогда не повышали голос, и Констанс заплакала.
– Мамочка, дорогая, не торопись, подумай, – вступила в их диалог Лили.
– Подумать? О чем?
Оторвав глаза от пола, София твердо посмотрела на мать и заявила с тщательно отмеренной прямотой:
– Папа не стал бы возражать и наверняка поддержал бы нас.
Беата вздрогнула, словно ее ударили.
– Что ты хочешь этим сказать?
– Люди, которые любят, все время думают о тех, кого любят. Папа думает о нас, поэтому, я уверена, надеется, что мы обязательно найдем выход.
– Девочки, оставьте нас с Софией.
– Нет, я хочу остаться! – возразила Лили. – Констанс, выйди на минутку в сад.
Девочка бросилась к матери и, уткнувшись ей в колени, захныкала:
– Я не хочу. Мамочка, не отсылай меня, пожалуйста!
Эффект от слов Софии был такой, что Беата все еще не могла прийти в себя и сказать хоть слово. Содрогаясь всем телом, она отошла к дальнему окну, почувствовав себя загнанной в угол, в то время как ее заставляли вернуться к жизни.
– Мамочка, папа не позволил бы нам сидеть в темноте и ходить в обносках. Он наверняка надеется, что у нас все в порядке, что мы счастливы. На носу зима. Да, мы запаслись овощами и фруктами, но нам нужно еще покупать муку и все остальное. И, кроме того, Констанс в ее возрасте необходимо есть мясо. Об этом пишут в тех книгах, что лежат наверху. Мамочка, было бы еще здорово избавить Роджера от необходимости присылать нам деньги: они наверняка нужны ему больше нашего. Ты же прекрасная хозяйка, так что буквально через минуту поймешь, как вести дела в пансионе.
Лили подошла к матери, поцеловала и поддержала сестру:
– Мама, я считаю, нам нужно попытаться.
– Но как вы обе не понимаете: никто к нам не пойдет!
– Мистер Сорби из «Иллинойса» всегда очень добр ко мне. Как-то раз, когда на улице шел дождь, он разрешил мне торговать лимонадом в вестибюле, а еще сказал, что я могу прийти снова, когда захочу. Иногда у него в таверне бывает так много народу, что мужчины, да и дамы тоже, вынуждены сидеть всю ночь в вестибюле. Обычно он отправлял таких к миссис Блейк, но та сломала ногу и сейчас больше не принимает постояльцев. Еще я от кого-то слышала, что школьные учителя недовольны кухней в таверне, так что поужинать они могут приходить сюда. Я думаю, они захотят и поселиться здесь, а не у миссис Бауман или миссис Хобенмахер.
Мать покачала головой.
– Но, София, у нас нет ни стульев, ни столов, ни кроватей! Да что там – столового и постельного белья тоже нет.
– Нам с Лили больше не нужны наши письменные столы, да и спать мы можем в одной кровати. Мисс Томс обещала дать два стула, еще один – Порки, а также кровать, стол и две циновки. Он к тому же может починить кровать, которую мы нашли на чердаке. У нас есть все для двух комнат: для начала неплохо.
– Давай попробуем! – присоединилась к сестре Лили.
Констанс тоже подскочила к матери:
– Значит, мы сможем наконец-то жить как другие?
– Ладно, – сдалась Беата. – Зажги свечу, пойдем посмотрим комнаты.
– Давайте лучше зажжем лампу: у меня есть немного керосина, – а то никто и близко не подойдет к дому, который производит впечатление замка Синей Бороды, – предложила София.
В полдень следующего дня, 15 сентября, Лили, забравшись на стул, прибивала вывеску к вязу возле ворот. Местные матроны, тут же возобновившие свои вечерние прогулки перед их домом, отнеслись к действиям как к дурачеству.
– Им надо было назвать это место «Насест тюремных пташек», – фыркнула одна.
– Нет, «Приют каторжников», – усмехнулась другая.
На следующий день доктор Джиллис, притормозил свой тарантас на главной улице, заметив Софию.
– Привет, Софи! У тебя вид как у мясницкого кота. Есть новости?
– Доброе утро, доктор Джиллис.
– Да-да, пожалуй.
– Что это за сплетни по поводу пансиона?
– Это не сплетни. Так что если кому-то из ваших пациентов захочется пожить в спокойной обстановке, направляте к нам? Мама чудесно готовит, а мы с сестрами обеспечим самый хороший уход…
Доктор Джиллис хлопнул себя по лбу и обрадованно воскликнул:
– Как раз то, что надо! Передай миссис Эшли, что я заеду сегодня в семь вечера поговорить насчет миссис Джилфойл. Она как раз выздоравливает, и с радостью остановилась бы в «Вязах» на пару недель. Ей нужен лишь куриный бульон, иногда немного вашего знаменитого яблочного пюре и время от времени яйцо всмятку.
София, распрощавшись с доктором, отправилась к мистеру Сорби в «Иллинойсе», чтобы поделиться своими планами.
– Если ваша таверна вдруг окажется переполненной, не могли бы вы направить тех, кому не хватит места, к нам, мистер Сорби?
Через три дня хозяин таверны прислал к ним объезжавшего свой округ проповедника брата Юргенсона, который почему-то решил спасать заблудшие души в баре и от этого становился совершенно несносным.
Как-то на улице София встретила новую школьную учительницу и, представившись, сказала:
– Мисс Флеминг, мы открыли в «Вязах» пансион: его даже отсюда видно – вон за теми деревьями. Мы подаем обед в двенадцать часов по цене тридцать пять центов, но если вы будете приходить каждый день, то один раз в неделю получите обед бесплатно. Моя мама чудесно готовит.
Дельфина Флеминг появилась уже на следующий день к обеду и попросила показать ей комнату (где и осталась на два года). Эта новость вызвала неудовольствие в школьном совете, но мисс Флеминг приехала с востока – а именно из Индианы, – поэтому все решили, что она не обладает острой интуицией в вопросах морали. Кое-кто из уже бывавших в городе коммивояжеров открыл для себя это место самостоятельно. Тушеные цыплята с клецками и ростбиф никого не оставляли равнодушными, а про таланты Лили и вовсе ходили легенды: «Джо, честно тебе скажу, никогда не слышал ничего подобного: «После странствий нет места прекрасней!» А ведь она дочь убийцы, подумать только!»
Привели в порядок еще две комнаты. София уговорила мать начать выпекать обожаемое всеми немецкое имбирное печенье, которое потом продавала в вестибюле таверны. Следуя примеру миссис Уиттимур, она откладывала деньги впрок и старалась заработать где только можно. В дни забоя скота она взяла маленькую тележку и отправилась за три мили на ферму к Беллам (Роджер во время летних каникул ходил сюда обрабатывать землю, косить траву, и его поили молоком). Из свиного жира, который привезла оттуда, потом наварили мыла, и миссис Эшли облагородила его отдушкой из лаванды. Она сама готовила закваску. Кухонную плиту зажигали, высекая искру от удара кремния о сталь.
Экономить на мелочах – занятие совсем не скучное, и София без зазрения совести торговалась в лавках. Жалость и снисходительность их скоро сменилась уважением и даже восхищением. Мужчины сердечно здоровались, а потом и некоторые дамы начали отвечать на ее приветствия коротким кивками. Бывшие одноклассницы шептались и хихикали ей вслед. Мальчишки глумились: «Старые ковры, пустые бутылки, дырявые мешки! Все купит наша Софи».
Но при этом в городе начались некие странности.
Примерно неделю спустя, после того как стало известно, что в «Вязах» сдают комнаты с питанием, Юстейсия Лансинг, одетая в глубокий траур, который очень шел ей, посетила Порки в его будке. Для визита она выбрала два часа пополудни, когда улицы Коултауна практически вымирали, чтобы сдать в ремонт туфли Фелисите. Уже возле двери, прежде чем уйти, дама вдруг спросила:
– Порки, вы ведь видитесь с семейством Эшли, ведь так?
– Иногда.
– Это правда, что они открыли пансион?
– Люди говорят – да.
– Мне кажется, что вы умеете хранить секреты. Не могли бы вы сделать кое-что для меня и сохранить это в тайне?
Порки не выразил ни малейшего интереса, а Юстейсия продолжила:
– Не привлекая внимания, нужно забрать из моего дома большой пакет и отнести его к задней двери дома Эшли. Там по дюжине простыней, наволочек и полотенец. Сможете ли вы найти время для этой услуги, Порки?
– Да, мэм.
– Вы сможете забрать его, как только стемнеет: он будет лежать у ворот.
– Да, мэм.
– Спасибо, Порки. Вот эту карточку: «От доброжелателя», – просто положите на пакет.
В другой раз мисс Дубкова, портниха, обшивавшая весь город, принесла туфли, требовавшие ремонта, и тоже, будто невзначай, поинтересовалась:
– Порки, вы ведь знаете семью Эшли, не так ли?
– Да, мэм.
– У меня есть два стула, которыми я не пользуюсь. Не могли бы вы забрать их сегодня вечером и перенести к задней двери Эшли?
– Да, мэм.
– Но только чтобы никто не знал, кроме нас с вами.
В эти первые недели у черного хода на заднем дворе были найдены кресло-качалка, три одеяла – не новые, но чистые и аккуратно заштопанные, – большая картонная коробка с разного размера ложками, ножами и вилками, а также чашки с блюдцами и супница, – все, возможно, от прихожанок методистской церкви.
Молодые мужчины редко обращались с просьбой остановиться в «Вязах»: не могли себе этого позволить, – и ночевали в большой, продуваемой сквозняками общей спальне на верхнем этаже таверны по двадцать пять центов за ночь. А тех, которые обращались, миссис Эшли отсылала прочь: в доме жили три девочки, и город был рад позлословить, – но одним январским вечером отступила от своих правил и впустила в дом мужчину лет тридцати, у которого при себе был саквояж и небольшой чемодан с образцами товаров. В девять тридцать Беата Эшли загасила печь, закрыла переднюю и заднюю двери и погасила лампы, а ближе к двум ночи проснулась от запаха дыма. Быстро разбудив дочерей и обитательниц пансиона, она спустилась вниз и поняла, что дымом тянет с кухни. Учительница, опередив всех, ворвалась в кухню и, закашлявшись, распахнула заднюю дверь. Дым со странным запахом валил из плиты, в которой лежала кучка тлеющей бумаги розового цвета. Огонь быстро потушили, и пока помещение проветривалось, женщины сварили себе по чашке какао. После того как все вернулись в свои комнаты, миссис Эшли поняла, что ее спальню обыскали. Содержимое ящиков секретера лежало на полу; в шифоньере вспороли подкладку ее пальто; ножом прошлись по матрацу, подушку располосовали на куски, картины вырвали из рам.
Полковник Стоц из Спрингфилда ненавидел всех Эшли, будучи совершенно уверенным в том, что где-то в комнате хозяйки дома хранится информация о том, как и кто освободил ее мужа. Это могут быть какие-нибудь письма, записки, фотографии…
После женитьбы Джон Эшли всего четыре раза разлучался со своей женой больше чем на двадцать четыре часа, а письма, которые хранились у нее, были те самые, что он ежедневно писал ей из тюрьмы. Теперь эти письма исчезли. Пропала и единственная фотография мужа, имевшаяся у нее: нечеткий голубоватый снимок, на котором смеющийся Джон высоко поднимает на руках их двухлетнего сына.
Утром дочери вопросительно поглядывали на мать, но на ее лице, как обычно, не было никаких следов растерянности или страха: казалось, неприятности только делали ее сильнее.
Шли месяц за месяцем, и Беата Эшли постепенно стала пробуждаться от своего оцепенения, чего требовала каждодневная работа. Владельцы пансионов не имеют ни дня для отдыха. Для Констанс это было чем-то вроде возбуждающей игры. Она никогда не уставала, даже вечерами по понедельникам, после целого дня стирки. Лили, судя по всему, вернулась из далекой страны, куда ее увели мечты. Дни проходили за готовкой, уборкой, сменой постельного белья и мытьем посуды. София была единственным членом семьи, кто выходил за ворота усадьбы. Констанс не терпелось составить компанию старшей сестре для походов по городу, однако та понимала, что девочка пока не готова встретиться с враждебностью школьных подруг. Денежные переводы матери от Роджера увеличились до десяти, а потом и двенадцати долларов в месяц. Он сообщал, что у него все в порядке, но так и не прислал адреса, на который ему можно было бы ответить. София занималась покупками, получала деньги от постояльцев, приобретала мебель, готовила к открытию новые комнаты и фонтанировала идеями, а еще писала брату длинные письма.
Это был день особой гордости, когда она сообщила ему, что заплатила налоги. Горожане наблюдали за ее активной деятельностью с завистливым обожанием и даже называли ее острым ножом для снятия скальпов. Аукционы в Коултауне устраивали редко, но между своими очень быстро становилось известно, что такая-то семья устраивает распродажу вещей – либо из-за того, что уезжала из города, либо за смертью хозяев. И тут появлялась София. Когда огонь вкупе с чрезмерным энтузиазмом добровольной пожарной команды разваливал дом или чердак, тут тоже объявлялась София и быстро скупала постельное белье, оконные занавески, старые скатерти, матрацы и даже ночные горшки. Баптистская церковь, в конце концов, прекратила свое существование, и София купила в рассрочку пианино, которое стояло у них в воскресной школе, с выплатой по три доллара в течение пяти месяцев. Прошло еще немного времени, она приобрела вторую корову, и, потерпев неудачу с индейками, начала разводить уток. К маю 1904 года отремонтировали восьмую комнату. В теплую погоду постояльцы даже выходили посидеть в беседке. Удалось уговорить миссис Свенсон вернуться на работу в качестве прислуги. После происшествия в спальне миссис Эшли у Лили возникла идея – вернее, все решили, что это была ее идея, – предложить Порки поселиться в «Вязах», в маленькой комнатке за кухней. За питание и кров он выполнял тяжелую работу по дому и помогал семье улаживать проблемы, которые всегда возникают в гостиницах и пансионах: то сердечный приступ у кого-то случится, то припадок. Бывало, что и лунатики бродили, и выпивкой злоупотребляли, и воровали. Миссис Эшли начала понимать психологию коммерсантов: то, что называют потерей корней, а также их вынужденное хвастовство, тяжесть бремени забот, которые они тащат на себе каждый день, сражаясь за ослепительный успех («Миссис Эшли, у меня сегодня столько заказов, не представляю, как их исполнить»), или стремление напиться, чтобы заснуть, или их ночные кошмары, в которых человеческое бытие предстает пустотой или насмешкой. Теперь она могла предчувствовать тот темный час, когда лезвие бритвы дрожит в руке. В первые месяцы существования их предприятия мать и дочери придерживались прежнего обычая: после того как перемоют тарелки, все поднимались в ее комнату и читали вслух, – но Беате вскоре стало понятно, что нельзя предоставлять жильцов самим себе в такой час. До нее вдруг дошло, что в пансионе обитают живые существа, беспокойные, раздраженные и даже неистовые, и после захода солнца в них начинает накапливаться некая напряженность, поэтому вечерами она с дочерьми стала оставаться в большой гостиной и аккомпанировала Лили. Один за другим жильцы спускались вниз, с удовольствием слушали пение Лили, многие оставались на чтения вслух. В жаркие месяцы этот час коллективного общения переносили в беседку; а когда глаза чтеца уставали, вся группа могла сидеть в молчании, завороженная отражением луны или звезд в пруду под приглушенные жалобы уток Софии, неторопливо скользивших по воде.
Беата Эшли замечательно справлялась с обязанностями хозяйки пансиона, хотя жесткая дисциплина и введенные ею стандарты поведения порой переходили границы реальности. От постояльцев требовалась пунктуальность, мужчины должны были к столу появлятьсь в пиджаках и при галстуках, строго соблюдалась благопристойность в выражениях, трапеза начиналась с чтения молитвы, запрещалось грубить дамам или высказывать недовольство прислуживавшим за столом. Если кого-то из коммерсантов во второй раз в «Вязах» не принимали, и потом они похвалялись в таверне, что им удалось избежать удавки на шее, их никто не поддерживал. О пансионе начали ходить легенды: там подают прекрасно зажаренных цыплят и лучший в Иллинойсе кофе; там простыни пахнут лавандой; там по утрам не будят постояльцев резким стуком в дверь, а ангельскии голоском зовут по имени. Во время суда и в течение нескольких месяцев после исчезновения Эшли девочки видели, что матери не до чтения вслух, даже в те моменты, когда до нее доходила очередь, однако начиная с лета 1903 года все изменилось. По четвергам они читали «Дон Кихота» по-французски. Беата Эшли не видела в романе ничего смешного, только правду, в описании приключений рыцаря, которому предстояло изменить мир, полный горькой несправедливости. Иголка застывала над шитьем, когда Беата слушала любовные признания рыцаря крестьянской девушке, которую он объявил прекраснейшей из дам. И пусть страшно уставала от работы по дому, чтение так ее успокаивало, что теперь она могла спать.
Вложенные труды стали приносить прибыль, пусть и не бог весть какую, но Эшли все же сумели приподнять голову.
Постояльцы приходили и уходили, но в «Вязах» их мало кто навещал. Время от времени заезжал доктор Джиллис, но исключительно по делу, обменивался с ними парой фраз, но никогда не задерживался. Иногда под вечер в воскресенье появлялась миссис Джиллис или Вильгельмина Томс, однако была и постоянная гостья: мисс Ольга Дубкова, городская портниха, – которая приходила каждую вторую среду вечером. Ее визиты не доставляли особого удовольствия миссис Эшли, но девочки всегда были ей искренне рады. Мисс Дубкова всегда приносила множество новостей о происходящем не только в городе, но и в мире.
Сложные жизненные обстоятельства забросили Ольгу Дубкову – русскую княжну, как утверждали некоторые, – в Коултаун. Ее отцу, которого власти преследовали за революционную деятельность, пришлось бежать в Константинополь вместе с больной женой и двумя дочерьми. Присоединившись к соотечественникам, мистер Дубков со всем семейством сначала поселился в одном из шахтерских городков на западе Канады, но слабое здоровье жены не выдерживало тамошнего сурового климата и ему пришлось переехать в Коултаун. В двадцать один год Ольге Дубковой пришлось самой зарабатывать на жизнь, и здесь ей очень пригодилось умение держать в руках иголку с ниткой. Большинство коултаунских дам шили сами! И для себя и для детей. Свадьбы всегда были важным событием в жизни Коултауна, а мисс Дубкова придала им еще большее значение и стала непререкаемым авторитетом в том, что касалось наряда невесты и приданого; ее советы по проведению церемонии ценились так же высоко, как и искусство портнихи. Очень немногие мамаши невест решались отвергнуть ее помощь и выбрать наряды по своему усмотрению. Свадьбы в Коултауне превратились в грандиозные спектакли, но основным источником ее доходов, к счастью, была все же работа в таверне «Иллинойс», где она шила белье. Мисс Дубкова была иностранкой, поэтому город снисходительно относился к ее чудачествам. Так, она курила длинные желтые сигареты. В углу ее гостиной висело несколько икон, перед которыми горела лампадка, и она крестилась на них, когда входила в комнату и прежде, чем выйти. Мисс Дубкова отличалась предельной откровенностью в выражениях, так что ее «перлы» полушепотом передавались из уст в уста. Это была высокая худая дама, прямая как палка. Кожа туго обтягивала скулы на ее землистом лице, а длинные узкие глаза, похожие на кошачьи, пугали детей. Рыжеватые волосы она собирала в пучок на затылке, украсив его маленькими бантиками из черного бархата. Одета мисс Дубкова всегда была очень элегантно: в шуршащие шелка, которые ее обтягивали как вторая кожа. Зимой она носила высокую меховую папаху, узкий в талии драгунский редингот, украшенный аксельбантами и эполетами, но при всем этом была бедна, о чем знал весь город. Поговаривали, что ее рацион состоит из овсянки, капусты, яблок и чая да отбивной по воскресеньям. Ее расточительность не знала границ, если это касалось единственного торжественного чаепития, которое она устраивала по случаю русской Пасхи. Это событие внушало трепет своей необычностью: великолепный кекс-кулич, традиционные приветствия «Христос воскресе!» – «Воистину воскресе!», церемонные поцелуи, раскрашенные яйца, зажженные лампады у икон. Все знали, что она копит деньги для возвращения в Россию, но копить, когда копить не из чего, то же самое, что бежать наперегонки со временем. Ольга Сергеевна не собиралась возвращаться в Россию нищей, да и была она вовсе не княгиней, а графиней, и фамилию имела другую.
Мисс Дубкова никогда не была слишком близко знакома с семейством Эшли: в ее подругах числилась миссис Лансинг. Сама Юстейсия и ее старшая дочь Фелисите шили намного лучше мисс Дубковой, однако все равно советовались с ней, делали ей заказы и получали удовольствие от общения. Втроем они создали множество модных и изысканных туалетов. Ольга Дубкова обожала Юстейсию и считала ее образцом стиля и элегантности («Девушки, – не раз говорила она невестам во время примерок подвенечных платьев, – самое важное в женщине – шарм. Учитесь у миссис Лансинг!»), – но совершенно не выносила Брекенриджа Лансинга и не делала из этого секрета. Однажды и вовсе устроила ему выволочку в его собственном доме из-за презрительного замечания, которое тот позволил себе в адрес Джорджа: прочла лекцию о воспитании мальчиков, надела шляпу и плащ, поклонилась Юстейсии и Фелисите и покинула «Сент-Китс» – как ей казалось, навсегда. И пусть ее знакомство с Эшли не было близким, весь Коултаун считал, что она от них без ума: «У их детей самые лучшие манеры в городе»; «В «Вязах» хозяйство поставлено на самом высоком уровне». Миссис Эшли до тех пор относилась к ее визитам по средам подозрительно, пока до нее не дошло, что они не вызваны любопытством или жалостью. Причина этих посещений заключалась в воспитании мисс Дубковой. Будучи аристократкой, она не вмешивалась в дела посторонних, но когда пришло несчастье, сочла своим долгом их поддержать. Во время судебного процесса, несмотря на то что зал всегда был переполнен, рядом с миссис Эшли и ее сыном несколько мест пустовало – возможно, из уважения, а возможно, из-за того, что преступление и несчастье воспринимаются как зараза. Эти места по очереди занимали то мисс Дубкова, то мисс Томс, то миссис Джиллис (после короткого кивка в сторону миссис Эшли, как это бывает на похоронах).
У мисс Дубковой имелась еще одна причина для вечерних посещений «Вязов». Как и София, она жила в постоянной надежде. Мы уже говорили, что надежда питается расчетом на чудо. Таким чудом, по ее мнению, было освобождение Эшли. Для мисс Дубковой оно стало повторением самого важного события и в ее жизни и подтверждало необходимость не оставлять надежд на будущее. Ее отец в России тоже был приговорен к смертной казни, но сумел ускользнуть из лап полиции. Оказавшись в Коултауне, она думала, что только чудо поможет выбраться из этих мест, вернуться на Родину, увидеть своих родственников и до конца дней служить соотечественникам. Перед ней не стояла цель вернуться для того, чтобы похвастаться своими достижениями: ей лишь не хотелось испытывать снисхождения, жалости и покровительственного к себе отношения. Она уже скопила денег на железнодорожный билет до Чикаго (на это ушло три года – самых первых и трудных, проведенных здесь), на билет до порта Галифакс в Новой Шотландии (еще семь лет) и на пароход до Санкт-Петербурга (двенадцать лет). Теперь предстояло накопить на жизнь в России, пока она не получит там место учительницы или гувернантки. Ей уже исполнилось пятьдесят два – вполне достаточно, чтобы научиться поддерживать в себе надежду. В любой момент болезнь и смерть могли помешать замыслам; пожар или воры – лишить сбережений; кризис в масштабах всей страны их обнулить. Надежда, как и вера, превращается в ничто, если не хватает храбрости, пусть даже нелепой, чтобы защищать ее. Крах надежды ведет не к отчаянию, а к полной капитуляции, но даже в капитуляции те, кто был когда-то в объятиях надежды, сохраняют в себе эти прежние силы.
Задолго до чрезвычайного происшествия на железнодорожном полустанке недалеко от Форт-Барри Ольга Сергеевна не сомневалась, что в атмосфере «Вязов» ощущается нечто особенное. Она была не единственной женщиной в городе слегка влюбленной в Джона Эшли, несмотря на то что внешне он ничем не выделялся. Ее иногда приглашали в «Вязы» на ужины; в течение почти семнадцати лет они обменивались приветствиями и общими фразами при встречах на улице. Странные события, которые обрушились на него весной и в начале лета 1902 года, лишь подтвердили ее интуицию: он был избранным, отмеченным судьбой. Теперь, когда приходила в этот дом, она чувствовала, что ее силы восстанавливаются. Во время каждого своего визита сюда мисс Дубкова просила Лили спеть. Девочка практиковалась в пении, подражая австралийской оперной звезде мадам Нелли Мелба, чей голос раздавался из похожего на колокольчик рупора практически развалившегося граммофона. Результат был поразительный. У мисс Дубковой возникло предчувствие, что в один прекрасный день Лили станет великой певицей и весь мир окажется у ее ног, она заказала для нее в Чикаго знаменитую книгу мадам Альбанезе «Метод бельканто», потратив часть своих медленно растущих сбережений. Она показывала девочке, как оперная дива мадам Карвальо выходила на авансцену, чтобы поклониться аплодирующей публике, и как еще одна дива, Пикколомини, во время концерта стояла в молчании, чтобы в зрительном зале установилась тишина. Мисс Дубкова познакомила девочек, чей французский был слишком книжным, с более неформальными выражениями, свойственными светскому разговору. Она восхищалась Беатой Эшли, но не любила ее, и в этом не было ничего необычного: мисс Дубкова вообще не любила женщин. Она совершенно не понимала, почему миссис Эшли отказывалась выходить в город. Так, сама бы мисс на ее месте шествовала по главной улице с гордо поднятой головой и бросала уничтожающие взгляды на тех, кто не пожелает с ней здороваться. София ее не интересовала. Она, конечно, понимала, сколько сделала девочка для того, чтобы поддержать семью, но не предлагала ей ни помощи, ни совета. Мисс Дубкова сама прошла через множество испытаний, поэтому не считала нужным обсуждать такие темы. Сталь существует для того, чтобы выдерживать нагрузку. Хотя правда заключалась в том, что ее интересовали только мужчины, пусть даже большинство из них были существами презренными. С тех пор как умер отец, а жених самым постыдным образом исчез, в ее жизни не было мужчин, но жила она только для того, чтобы производить на них впечатление своими острыми суждениями об их природе, а еще своим здравым смыслом и своим элегантным видом. Женщины вызывали в ней скуку.
Бельевая в таверне «Иллинойс» располагалась в полуподвале. Помещение было узким, душным, с низким потолком. Свет едва проникал сквозь зарешеченное окошко у самого потолка, которое мыли редко. Несколько раз в неделю по утрам мисс Дубкова спускалась сюда с двумя керосиновыми лампами и подвешивала их на крюки, торчавшие из потолка. Вдоль стен по всей комнате тянули полки, на которых лежали стопки белья, прикрытые холстиной от пыли. Свет от ламп падал на длинный стол, который она тщательно вытирала при каждом визите сюда. Однажды утром, в июне 1903 года, она, как обычно, пришла на работу, и тут раздался стук в дверь. Чтобы в комнату не надуло черной пыли из ларя с углем, стоявшего в коридоре, она чуть приоткрыла ее и в щелку спросила:
– Что вам угодно?
– Мисс Дубкова?
– Да. А вы кто?
– Если вы сейчас заняты, могу я войти и подождать, пока вы сможете уделить мне минутку?
– Я занята всегда. Что вам нужно-то?
– Меня зовут Фрэнк Радж. Я хотел бы поговорить с вами конфиденциально.
– Надо же – конфиденциально! Заходите. Садитесь вон там, подождите, пока я не закончу.
Мужчина оказался симпатичным, лет тридцати пяти и явно знал себе цену. Ему же через минуту стало ясно, что мадам неравнодушна к симпатичным молодым людям, и это качество может принимать форму язвительности или даже откровенной грубости. И мисс Дубкова его не разочаровала. На полу стопками лежало свежевыстиранное и выглаженное белье, и она приказала переложить его на стол, а сама продолжила копошиться в дальнем конце помещения. Наконец, закончив, она прикурила сигарету и обратилась к нему:
– Так что вы хотите?
– Для начала – предложить очень несложную работу за тридцать долларов в месяц.
– И?..
– И подсказать, как можно заработать еще несколько тысяч.
– Даже так?
– Я хочу поговорить с вами о Джоне Эшли.
– Но мне не известно о Джоне Эшли ни-че-го.
– Ну да, ну да… Четырнадцать месяцев о нем никто ничего не знает.
– Перестаньте ходить вокруг да около, а просто скажите, что вам нужно.
– Правду, мадам. Все, что нам нужно, – это знать правду.
– Так вы из полиции! От полковника Стоца!
– Полковник Стоц больше не прокурор штата. Я действительно служил в полиции, но теперь представляю интересы одного частного лица.
– Полковник Стоц – старый осел.
– Мы понимаем, что это дело его подчиненные провели не слишком… хорошо.
– Скажите прямо: они просто кретины!
– Ну…
– Идиоты! И не спорьте! Вы тратите мое время.
– Мисс Дубкова, вы можете дать мне три минуты и не прерывать меня?
– Ладно, но сначала посидите тихо и дайте мне три минуты.
Она опять заставила его ждать, сделав вид, что пересчитывает сложенные в стопки полотенца, но руки у нее при этом дрожали. Она ненавидела полицию, любую, где угодно. Точно так же полицейские наверняка досаждали в России после их отъезда соседям. Но ничего не поделаешь: если в воздухе повеяло запахом денег – что ж, придется ответить на вопросы этого… как его? Мисс Дубкова прикурила еще одну сигарету и, прислонившись спиной к полкам, повернулась к нему.
– Ладно, что у вас там?
– Спасибо, мэм. В офисе прокурора штата есть отдел, который занимается поиском пропавших людей, в частности – осужденных, но он не смог обнаружить следов ни самого Джона Эшли, ни шести человек, которые его освободили. За информацию о них назначена награда в четыре тысячи долларов.
– Три.
– Нет, уже четыре: сумму увеличили.
– Зачем вы все это говорите именно мне?
– Затем, что вы единственная имеете возможность посещать этот дом, а значит – наблюдать! Ответы на все вопросы находятся в самом доме. Миссис Эшли, как только накопит пятьдесят долларов, начнет расплачиваться с освободителями своего мужа. Уже скоро ей будут приходить письма и деньги от него. Вполне возможно также, что уже сейчас она получает их какими-то окольными путями.
– Ха! Так вот почему полиция вскрывает мои письма.
– Это было всего пару раз, мисс Дубкова. И я тут ни при чем, поскольку – повторюсь – представляю частное лицо. За домом очень тщательно следят. – Молодой человек встал и обошел стол и, остановившись напротив, посмотрел ей в глаза. – Эта информация скоро станет известна всем, и получить эти деньги захотят многие. Почему не вы? Я бы замолвил словечко…
– И пораскинув своим грязным умишком, вы решили, что я помогу вам отправить невиновного человека на эшафот?
– Не будьте ребенком, мисс Дубкова. Сейчас у нас новый губернатор. Вы думаете, он сунет голову в это осиное гнездо? Эшли помилуют, но лишь в том случае, если мы узнаем правду. Только это нам и нужно – факты!
– Почему так много в таком случае возни вокруг человека, которого вы собираетесь помиловать? Просто объявите об этом, и он сам явится к вам.
– Может, и так, мадам, но ни за что не скажет, кто его освободил. Мне кажется, что вы не понимаете, как много странностей кроется за этим делом. Кто, например, организовал похищение? Мы уверены, что сделать это из тюрьмы он не мог. Кто-то готов был заплатить тем людям кучу денег за то, что рисковали жизнью. Кто они – эти богатые и влиятельные друзья Эшли? Попытайтесь выяснить также, кто помог открыть пансион? Мы до последнего пенни знали, сколько денег имеется у миссис Эшли, как наперечет знали все предметы мебели, которые оставались в доме. Даже если бы миссис Эшли обладала незаурядными мозгами, ей бы не удалось в одиночку провернуть это дело, а она умом не блещет. Вы ей деньги не давали, и доктор Джиллис не давал, а у мисс Томс денег просто нет. Мы навестили и престарелых родителей супругов. Мать мистера Эшли уже умерла, а отец все еще жив: управляет небольшим банком на севере штата Нью-Йорк, – но говорить о сыне не захотел, просто выкинул нас из дома. Та же история и с родителями миссис Эшли. Повсюду загадки и тайны, и как только мы их раскроем, мистер Эшли сможет вернуться к своей семье.
Мисс Дубкова отошла в сторону и прикурила очередную сигарету, а молодой человек положил свою визитку на стол и тоном, не терпящим возражений, заявил:
– Вы будете отправлять мне письма в последний день каждого месяца. Пишите обо всем, что может иметь хоть какое-то отношение к данному делу. В свою очередь я буду писать вам и делиться последней информацией. Какой адрес у их сына в Чикаго? Кто их с миссис Эшли посредник? Как вы думаете, она получает весточки от мужа?
– Не знаю.
– У вас есть возможность выяснить это. И вот что еще. Вы ведь навещаете миссис Лансинг? Возможно, там и заработаете свои четыре тысячи.
– То есть?
– Вам никогда не приходило в голову, что побег Эшли могла организовать миссис Лансинг?
– Как это понимать?
– Мистер Эшли и миссис Лансинг могли быть – простите мою откровенность! – любовниками.
– Нет, никогда!
– Вы не можете быть в этом уверены. Вполне возможно, что именно на деньги миссис Лансинг был открыт пансион.
Мисс Дубкова презрительно рассмеялась и взглянула на его визитную карточку.
– Мистер… как вас там… Радж, вы ничего не знаете ни про Эшли, ни про Лансингов. И даже не понимаете, в чем ваша проблема. Вы блуждаете в потемках. Главное для вас – это найти того, кто убил Брекенриджа Лансинга.
– Вне всякого сомнения, Джон Эшли…
– Вы ведь детектив?
– Да.
– Тогда не говорите ерунды, а лучше начните наблюдать и слушать. Вы сколько пробудете в городе – день или два?
– Ну… могу и больше.
– Вы должны. Ваша контора превратила процесс в фарс, так что постарайтесь не повторять их ошибки и узнайте наконец, что тут произошло. И переоденьтесь. От вас за милю разит полицейским. Пройдитесь по Ривер-роуд. Сделайте вид, что упились в хлам в каком-нибудь заведении – например, у Хатти или в «Старом коричневом кувшине», – Брекенридж Лансинг два-три вечера в неделю проводил там. У него наверняка были враги. Познакомьтесь с людьми из шахт: Брекенридж Лансинг был никудышным управляющим, – так что и там у него наверняка тоже найдутся недруги. Познакомьтесь со старым охотником из местных по имени Джемми: время от времени Лансинг уходил с ним на недельку-другую в лес. Думаю, свои тридцать долларов я уже отработала. Да, я буду писать вам письма, но только четыре месяца. Я человек честный. Если никакой полезной информации за это время не появится, наш уговор расторгнут. Вы будете платить мне первого числа каждого месяца, не дожидаясь моего письма, а за первое можете заплатить прямо сейчас.
– Я отправлю вам чек по почте.
– Нет, только наличные: тридцать долларов из рук в руки.
Радж задержался в Коултауне на восемь дней и за это время четыре раза наведался к мисс Дубковой в бельевую. Он много чего узнал про Брекенриджа Лансинга, хотя не мог понять, какое отношение это имеет к убийству, а она не стала высказывать никаких предположений. В свою очередь мисс Дубкова тоже решительно взялась за дело, но ни словом не обмолвилась Раджу о том, каких успехов достигла. Между ними вдруг возникли какие-то странные дружеские отношения, и уже вскоре они вдвоем играли в карты в душном и едва освещенном полуподвале, выигрывая и проигрывая колоссальные суммы, измеряемые сухим горохом, которого было вдоволь в продуктовой кладовке, расположенной тут же, за следующей дверью. Они рассказывали друг другу о жизни, и в конце концов он признался, что был одним из вооруженных охранников, которые сопровождали Эшли в поезде в ту ночь. Их всех уволили из полиции, и он занялся частным сыском: его стали нанимать страховые компании, банки, отели и ревнивые мужья. Он стал едва ли не экспертом по поджогам амбаров, зернохранилищ и других подобных помещений, а это вовсе не сложная работа. Он был любимчиком полковника Стоца все время, пока тот руководил полицией, а сейчас работает на него же частным образом. Полковник человек далеко не бедный, поэтому оплачивает охоту на Эшли – живого или мертвого – из собственного кармана. Потихоньку мисс Дубкова вытянула из Раджа полный отчет о знаменитом похищении. Ее вопросы заставили бывшего полицейского как следует порыться в памяти и вспомнить кое-какие мелочи, которые ускользнули от его сознания, а потом, во время официального расследования так и не всплыли. Этот рассказ лишний раз убедил ее в тупости полиции, но она не стала указывать Раджу на совершенно очевидные логические выводы.
Господи, какие они все-таки глупые! Уже через неделю она была уверена, что знает, кто освободил Эшли, а кто убил Лансинга, поняла и того раньше.
Единственным человеком, который знал об этих долгих беседах в полуподвале, был уборщик Солон О’Хара, принадлежавший, как и его кузен Порки (троюродный, а может, четвероюродный – в общем, седьмая вода на киселе), к общине ковенантской церкви, обосновавшейся на холме Херкомера, – религиозной секте, которая перебралась из Кентукки в южный Иллинойс лет сто назад. По большей части в них текла индейская кровь, хотя они носили английские и ирландские имена. Считалось, что они практикуют необычные религиозные ритуалы, поэтому им давали насмешливые прозвища, но все знали, что эти люди достойны доверия, безукоризненны по образу жизни и умеют держать язык за зубами. Они работали по всему Коултауну уборщиками, сторожами – в таверне, банке, суде, школах, тюрьме, в Мемориальном парке, на кладбище и на товарной станции. За исключением Порки никто из них не занимался сидячей работой. Стукнув в дверь, Солон время от времени заносил в помещение свежевыстиранное белье или менял остывшие утюги на горячие по требованию мисс Дубковой, когда она заканчивала чинить и штопать.
За выполнение своей задачи Ольга Сергеевна принялась сразу же и пригласила миссис Эшли и двух ее старших дочерей на «русское чаепитие». Мать не смогла оставить пансион, а девочки приняли приглашение с радостью. Впервые больше чем за год Лили увидели на главной улице, и даже появление жирафы здесь не вызвало бы такого оживления. Внимание мисс Дубковой ко всему, что происходило в «Вязах», удвоилось.
Постояльцы появлялись и исчезали. Сбережения Софии выросли, после того как в комнатах закончился необходимый ремонт. Мать не изъявляла желания увидеть эти деньги и даже не интересовалась, сколько их набралось. Наступала вторая зима в жизни пансиона. В первый день нового, 1904 года Лили исполнялось двадцать лет. Она стряхнула с себя свое мечтательное «отсутствие», но что-то менять в своей жизни не торопилась. Казалось, ей было заранее известно, что вскоре она столкнется с таким количеством низкопоклонства и лести, которое сможет выдержать не всякая юная девушка, и хотелось еще немного оттянуть этот момент. Сменявшие один другого постояльцы не вызывали никакого интереса ни у миссис Эшли, ни у Лили, ни у Софии. Только Констанс внимательно вглядывалась в лица и оценивала характер новоприбывших. Ей казались любопытными все, а некоторые даже нравились. Это были своеобразные поиски замены отцу. Она единственная среди Эшли не стеснялась проявления чувств. Ее переживания из-за исчезновения отца иногда приобретали удивительную форму. Она, например, отказывалась понимать, почему мать так редко вспоминает его. Всю свою жизнь, даже когда образ отца стерся из памяти и осталось лишь внутреннее ощущение его присутствия, она не переставала возмущаться этим обстоятельством. В полном спокойствии миссис Эшли сидела во главе стола, поддерживала разговор, время от времени вставляя банальные фразы, которые, будучи произнесены прекрасным мелодичным голосом, тут же словно приобретали дополнительный смысл. Взгляд доктора Джиллиса часто с беспокойством останавливался на Софии, его любимице, которой нынешней весной исполнялось шестнадцать лет. Она похудела, постройнела и тоже превращалась в красавицу. Временами, когда им удавалось поговорить наедине, София делилась с ним шепотом своим желанием стать медицинской сестрой. Его очень беспокоила многогранность направлений, по которым развивалась девочка. Была одна София: практичная, торопливо шагавшая по главной улице от лавки к лавке, торговавшаяся за каждый пенни, продававшая уток и покупавшая муку, сахар и зерно баррелями, а дома решительно добивавшаяся, чтобы жильцы не задерживали оплату, и ухитрявшаяся вести себя при этом как хорошо воспитанная, умудренная опытом дама лет двадцати пяти, – и была другая София: совсем юная, легко красневшая и терявшаяся в любой ситуации, когда не нужно было пускать в ход свои организаторские таланты. Окружавшая ее аура счастья имела экзальтированный оттенок, что немного тревожило доктора Джиллиса. Он боялся, что девочка несет на себе слишком тяжелый груз забот. На второе утро Рождества, столкнувшись с ней у дверей «Вязов», он передал ей пакет с подарком.
– С Рождеством, София.
– С Рождеством, доктор Джиллис.
– Посмотри, что внутри: может, понравится.
Она развернула обертку и вспыхнула, прочитав на обложке: «Флоренс Найтингейл»[9]. Доктор потом рассказывал своей жене: «По лицу было видно, как она растерялась». София не могла произнести ни слова: лишь испуганно уставилась на него, – а потом, что-то буркнув себе под нос, убежала на кухню. «Она очень нуждается в любви и заботе», – сказал себе доктор. – «Ей явно не хватает отца и брата». В атмосфере «Вязов» прямо-таки физически ощущался дефицит любви. Каждый член семьи будто бы жил отдельно от других, словно в тревожном ожидании чего-то.
Миссис Эшли по-прежнему не выходила из дому, а через два дня после Рождества 1903 года вечером засиделась позже обычного. Пансион был закрыт для постояльцев с рождественского сочельника до третьего января, и только одной старой леди было позволено не съезжать при условии, что она будет обедать и ужинать в таверне. Порки закрыл свою будку и отправился пожить в доме деда на холме Херкомера за городом. Миссис Эшли и девочки ели на кухне. Такой перерыв в обычном течении дней вдруг вызвал у всех необъяснимую усталость. Они поздно вставали и рано ложились в постель, а к Беате опять вернулась бессонница и возобновились хрипы в горле. Она чувствовала, что ею овладевает желание увидеть мужа и сына, возникает потребность в надежде и в переменах. В этот вечер, вместо того чтобы отправиться в кровать, она спустилась в кухню и испекла шесть своих знаменитых кексов. Мистер Бостуик всегда был готов выставить их на самом видном месте в своей продуктовой лавке. В половине двенадцатого Лили, спустившись вниз, обнаружила мать сидящей на низком стульчике перед пустой печью и погруженной в задумчивость. На столе блестели корочками свежеиспеченные кексы.
– Мама, пойдем спать. С какой стати ты решила печь кексы? Они, конечно, великолепные, но зачем работать ночью?
– Лили, ты не хочешь прогуляться?
– Ой, мамочка, с удовольствием!
– Тогда иди оденься и позови Констанс: скажи, чтобы тоже собиралась.
– Какая прелесть!
В городе не светилось ни огонька, было ясно и холодно. Они направились к железнодорожной станции, прошли под окнами тюрьмы, миновали здание суда и заглянули в окна почтового отделения, пытаясь разглядеть плакат с фотографией Джона Эшли. В самом конце главной улицы, перед особняком «Сент-Китс», они остановились и долго смотрели на дом, где провели так много времени: готовили сахарную тянучку, играли, рассказывали друг другу разные истории, практиковались в стрельбе. Было бы большим преувеличением сказать, что Беата Эшли испытывала привязанность к Юстейсии Лансинг: просто женщинам – немке и креолке, – нравилось проводить время вместе. Вдобавок, обе не страдали мелочностью. И вот сейчас Беату Эшли переполняло странное чувство – едва ли не любовь – к бывшей подруге: вот бы сесть рядом и с презрением забыть обо всех ужасах, которые разделили их. Беате Эшли так хотелось с кем-нибудь поговорить о нелегкой женской доле, о быстро пролетающих годах, об уходящей красоте, о подрастающих детях, о присутствии и отсутствии мужей, о подступающей старости, а за ней и смерти…
– Пойдемте, девочки.
Они вернулись домой по боковой улице, пройдя мимо церкви, мимо дома доктора Джиллиса, на минутку остановившись на мосту через Кангахилу, которая текла под тонкой корочкой коричневого льда с журчанием, напоминавшим сдавленный смех.
– Ой, мамочка! – со слезами воскликнула Констанс, когда они вошли в холл, и бросилась Беате в объятия. – Давай выходить гулять чаще.
И как было бы странно, если бы вдруг во время одной из своих полуночных прогулок столкнулись с Юстейсией и Фелисите Лансинг, когда те тоже остановились на минутку, чтобы посмотреть на «Вязы», мечтая о том, о чем читали в книгах и чего не могло существовать, – о дружбе.
Весна в Коултауне всегда прекрасна. Радуют многоцветьем тюльпаны и гиацинты, несмотря на рябые отметины, оставшиеся от закисленной почвы, а также быстро отцветающие желтые одуванчики и сирень. Кангахила смывает последние осколки покрытого копотью льда со своих берегов. Парочки занимают все укромные уголки в Мемориальном парке, а кому мест не хватает, отправляются на кладбище. Как всегда весной, на шахтах учащаются аварии, чему нет вразумительного объяснения. В течение всей зимы мистер Кенни, плотник и одновременно гробовщик, загодя строгал гробы в ожидании увеличения весеннего спроса. В шесть часов вечера выходившие на поверхность шахтеры изумлялись, что еще так светло, и с удовольствием вдыхали чистый воздух. Все, кто страдал от туберкулеза, начинали чувствовать себя лучше и, ободряемые миссис Хаузерман, собирались с духом и кашляли реже.
Вот так во всей красе в Коултаун пришла весна 1904 года, а с ней объявился Ладислас Малколм. Молодые мужчины редко просили разрешения поселиться в «Вязах», да и тем давали от ворот поворот, так что почти два года Констанс и Лили совсем не видели молодых людей за исключением Порки. И их никто не видел. В отличие от сестер София встречала представителей сильного пола каждый день и уже не обращала внимания на улыбочки и не всегда приличные замечания. Однако в книгах, которые читали ее сестры, были совсем другие герои: Лохинвар[10] и Генрих V[11], беспокойные Хитклифф[12] и мистер Рочестер[13], – рядом с которыми непременно были прекрасныем дамы, поэтому постояльцы, которые жили в «Вязах», казались им столетними старцами.
Так получилось, что на звонок вышла Лили.
– Добрый день, мэм, – поздоровался мистер Малколм, обмахиваясь соломенной шляпой. – Надеюсь, вы пустите меня на две ночи.
Голубые глаза встретились с изумленным взглядом других голубых глаз; потом посуровели.
– Ну конечно. Вам не трудно написать свое имя и адрес в этой книге? Вот тут обозначены условия. Ваша комната номер три на втором этаже, с левой стороны. Дверь открыта. Ужин в шесть часов. Курящих джентльменов мы просим выходить в зимний сад за гостиной. Если вам что-то потребуется, позовите кого-то из нас. Наша фамилия Эшли.
– Благодарю вас, мисс Эшли.
Мистер Малколм отнес свой саквояж и чемодан с образцами в комнату номер три, затем ушел, и его не было примерно час, а сразу после пяти до ушей женщин, работавших на кухне, донеслись непривычные звуки. Кто-то играл на пианино в гостиной, но эту музыку никто раньше не слышал в этом доме: громкая, ритмичная, с сильными акцентами и мелодией, которую украшали арпеджио, охватывавшие всю клавиатуру. Миссис Эшли вышла в передний холл посмотреть на нового постояльца, и младшие дочери последовали за ней.
Вернувшись на кухню, Констанс воскликнула в восторге:
– Ну разве он не красавчик! Прямо как из книжки.
Беата промолчала, а потом обратилась к средней дочери:
– София, я хочу, чтобы сегодня на стол подавала ты.
– На стол подам я! – возразила Лили. – Сегодня моя очередь.
– Но, Лили, этот молодой человек нежелателен в нашем доме.
Холодно взглянув на мать, Лили повторила:
– Сегодня моя очередь.
В шесть вечера Лили внесла супницу в столовую, потом вернулась на кухню.
– Мама, они ждут, когда ты разольешь суп.
– Дорогая, пусть София закончит подавать на стол.
– Мама, он музыкант, а это моя сфера. Я подам ужин, а после ужина буду петь.
– Дорогая, я всего лишь хотела…
– Мы и так никого не видим. Ты не можешь вечно держать нас под замком. И вообще иди: они ждут тебя.
Такого еще не было, чтобы Лили осмелилась не подчиниться матери.
Это был вечер среды, что предполагало визит мисс Дубковой. В первый раз Беата Эшли пригласила ее на ужин. Девочки поели на кухне, по очереди помогая миссис Свенсон в столовой.
Мистер Малколм оказался истинным воплощением прекрасных манер: уделил огромное внимание обсуждению миссис Эшли состояния погоды и подробному описанию миссис Хопкинсон ее ревматизма, а когда Лили собирала суповые тарелки, не отрывал глаз от стола. Его взгляд часто возвращался к мисс Дубковой, поскольку та задумчиво, без стеснения рассматривала молодого человека. Ей удалось заметить, как он украдкой стянул с пальца обручальное кольцо и сунул в кармашек жилета.
– Вы настоящий музыкант, мистер Малколм, – заявила миссис Хопкинсон. – Да-да, не спорьте. Вы играете на фортепиано как профессионал. Но вы не единственный музыкант в этом доме. Миссис Эшли, вы должны уговорить Лили спеть для мистера Малколма и всех нас после ужина. Она поет как ангел – это слово единственное, которое подходит для описания ее таланта. Посмотрите же на нее: разве не очаровательна? Просто прелесть!
Мистер Малколм дождался, когда Лили вернется в комнату, и тогда заговорил, хотя и в высшей степени скромно:
– Да, благодарю вас, мадам. Я действительно собираюсь поступить на профессиональную сцену. Сейчас вот разъезжаю по стране, чтобы заработать для этой цели денег.
После ужина компания перешла в гостиную, и музыканты выступали по очереди. Каждый отдавал дань другому, но всем было очевидно, что мистер Малколм сражен наповал. Несмотря на то что Лили не видела молодых людей, кроме Порки, более полутора лет – и они ее тоже не видели, – и в памяти ее не хранилось воспоминаний о городах, крупнее Форт-Барри, держалась Лили, как какая-нибудь принцесса, которую мужланы-революционеры лишили трона. По воле случая принцесса оказалась в Коултауне, штат Иллинойс, прислуживает за столом в пансионе и по воле того же случая – проводит вечер с приятным молодым человеком, которого любая принцесса, пребывая в здравом уме, не смогла бы принять всерьез, – ну, разве что он вдруг оказался бы ей чем-нибудь полезен. Лили слегка подтрунивала над песнями, которые он пел, подтрунивала и над его манерой решительно давить правой ногой на педаль и в то же самое время давала понять, что он ей нравится, словно хотела тем самым сказать, что у него есть возможность занять свое место среди двух дюжин других приятных молодых людей, которые время от времени приходят сюда на музыкальные вечера.
Миссис Эшли сидела спокойно и шила, пока ее не попросили аккомпанировать дочери. Все, что пел мистер Малколм, отличалось от того, что исполняла Лили, хотя в его песнях не было ничего такого, что могло бы вызвать настороженность. У него был приятный баритон, и пел он громко, форсируя голос. Лили обычно пела с тщательно выверенной мягкостью, но сегодня вдруг открыла в себе способность петь в полный голос. Малколм пел про арбуз, что зреет на лозе, а она – о Маргарите, которая нашла на своем туалетном столике шкатулку с драгоценностями; он – о том, какими смелыми были ребята из взвода Б, а она – о Диноре, танцующей со своей тенью в лунном свете. На этажерке дрожали раковины, соседские собаки подняли истошный лай.
Учительница математики мисс Дельфина Флеминг попросила:
– Лили, спойте ту арию из «Мессии».
– Да, дорогая! Пожалуйста! – захлопала в ладоши миссис Хопкинсон.
Лили согласно кивнула, выпрямилась, устремила серьезный взгляд вдаль, призывая слушателей к тишине, как учила мисс Дубкова, наконец, посмотрела на аккомпаниаторшу и начала:
– Я знаю: жив Христос…
Девушка из засыпанного угольной пылью городка на юге Иллинойса, которой едва исполнилось двадцать, и которая никогда не слышала исполнения вживую, а только в механической записи, пела Генделя. От ее пения у мисс Дубковой задрожали руки. Действительно, этот дом был каким-то особенным. Лили унаследовала не только красоту матери, но и абсолютную свободу от каких-либо проявлений провинциализма и вульгарности, но прежде всего душевное спокойствие и гармонию бытия, свойственные ее отцу. Это был голос веры, причем веры самоотверженной. Джон Эшли и его предки, Беата Келлерман и ее предки участвовали в создании этого чуда своими способностями творить, своим пониманием, что такое свобода, даже находясь по ту сторону жизни.
В половину десятого миссис Эшли поднялась, заявив, что уже поздно, очень поздно, и мисс Дубкова, прежде чем уйти, молча поцеловала Лили в щеку. На ее глазах девушка поблагодарила мистера Малколма и пожелала ему доброй ночи, причем, как принцесса Трапезундская подала руку и, лучезарно улыбнувшись, легко взбежала вверх по лестнице. Он стоял как громом пораженный.
Следующим вечером Лили в гостиной не появилась. Погода стояла теплая, поэтому после ужина миссис Хопкинсон предложила всем перейти в беседку. Там к обществу Лили и присоединилась. Разговор поначалу не клеился: все были совершенно очарованы звездами, отражавшимися в воде, журчанием ручья под досками пола, запахами свежей травы, тихим бормотанием стайки уток. В какой-то момент Лили принялась напевать под нос песенку, которую мистер Малколм исполнял прошлым вечером, словно хотела извиниться за свою иронию по этому поводу. Миссис Эшли как раз расспрашивала молодого человека о детстве, родителях, и он сказал, что они приехали в Америку из Польши за год до его рождения. Из-за того, что никому не удавалось правильно произнести его фамилию, он назвался Малколмом. Потом он перевел разговор на свои театральные амбиции.
– Интересно! Как интересно! – воскликнула миссис Хопкинсон.
– Я уверена: вы добьетесь успеха, – заявила мисс Малле.
На взгляд миссис Эшли, от всего, что он говорил, веяло поразительной скукой. Вечер подошел к концу без музыки. Малколм должен был уехать утром, поскольку Беата ясно дала ему понять, что его комната уже обещана другому постояльцу. Она сама подаст ему завтрак; девочек он больше не увидит. Все пошли в дом. Миссис Хопкинсон, мисс Малле и Констанс чуть ли не со слезами на глазах пожелали ему доброго пути, а он не отрывал взгляда от Лили. Миссис Эшли все еще не пришла в себя от вчерашнего непослушания дочери. Сегодня Лили выполняла свои обязанности с привычной тщательностью, но ни разу не посмотрела в сторону матери и не сказала ей ни слова сверх необходимого, даже доброй ночи не пожелала. Четыре раза в течение дня Беата пыталась улучить момент и сказать дочери, что видела, как вчера вечером он прятал обручальное кольцо в карман, а сейчас готовилась прекратить затянувшееся прощание, однако, к ее величайшему удивлению, Лили просто подала мистеру Малколму руку, сказала: «Доброй ночи», – и беззаботно отправилась наверх.
Это была неделя весенней уборки: мебель передвигали из комнаты в комнату, – и София спала вместе с Лили. Когда в доме погасили огни, в дверь спальни постучали:
– Лили, ты не спишь? – раздался голос Констанс.
– Нет.
– Переживаешь? Ну, из-за того, что он завтра уезжает.
– Нет.
– Но ведь он тебе очень нравится, я права?
– Я устала, Конни.
– Он же влюблен в тебя: все это заметили, – но почему мама так плохо к нему относится? Он тебе нравится, Софи?
– Да, но только не «Эбенезер»[14].
– Это было мило. Ты вчера чудесно пела, Лили: ничуть не хуже, чем граммофон. Почему тебе не жалко, что он уезжает?
– Я уже сплю, Конни. Спокойной ночи.
– Ну… Я думаю, если кто-то кого-то любит по-настоящему, то обязательно вернется.
Послышался стук в дверь, и в комнату вошла Беата.
– Уже поздно, девочки: пора ложиться.
– Да, мама. Я просто заскочила к Лили сказать, как мне жаль, что мистер Малколм завтра уезжает.
– Пора уже привыкнуть: постояльцы приезжают и уезжают, Констанс. Не следует относиться к ним как к друзьям.
– Но, мама, когда же у нас появятся друзья и подруги? Мы не можем вечно жить в изоляции.
– Уж коли об этом зашла речь… Вот что мне пришло на ум. Завтра за покупками мы пойдем все вместе.
– В город?
– Да, и зайдем в банк: нам теперь надо держать деньги там. Они потом пойдут на то, чтобы найти Лили хорошего учителя по вокалу. Я придумала еще кое-что. Вы помните, как мы устраивали ужины? Так вот: мы должны вернуть эту традицию. Начнем с того, что пригласим доктора с женой, миссис Джилфойл и Делзилов, а потом и мисс Томс, и мисс Дубкову. А вы можете позвать своих подруг.
– Ой, мамочка, как здорово!
– А еще я думаю, что со следующей осени София и Констанс вполне смогут вернуться в школу.
Младшая из сестер бросилась в ее объятия.
– Ты самая лучшая мамочка на свете!
– Теперь, Констанс, отправляйся к себе в комнату. Мне нужно кое-что еще сказать твоим сестрам.
Когда девочка вышла, Лили сделала вид, что сдерживает зевок:
– Мама, я так устала… Мне совсем не хочется говорить.
София всегда знала границы, переходить которые не стоило, поэтому сказала:
– Мамочка, мне кажется, у Лили небольшая простуда. Я спущусь вниз и приготовлю ей горячего молока с медом. Наверное, сейчас лучше оставить ее в покое, пусть выспится.
Планы решительного разговора пришлось отложить, а через три часа Беата проснулась от того, что кто-то звал ее из коридора. Засветив лампу, она открыла дверь. Это был мистер Малколм, весь красный и растрепанный. Пожаловавшись, что, похоже, слегка застудил печень: боли довольно сильные, но терпеть можно, такое уже бывало, – он попросил у нее бутылку с горячей водой и горчичники, но от предложения вызвать доктора отказался.
Утром больного посетил доктор Джиллис. Миссис Эшли ждала его внизу, у лестницы.
– Что с ним такое, доктор?
– Небольшое несварение, я думаю.
– Доктор, пожалуйста, помогите мне избавьте от него, и чем скорее, тем лучше.
– Э…
– Я не верю ни одному его слову: он здоров, как бык.
– То есть?
– Помогите мне! Отправьте его в больницу в Форт-Барри, или в лазарет на шахтах, или перевезите, наконец, в таверну: куда угодно, только уберите из моего дома.
– У него действительно температура: невысокая, – но в этом нет сомнения.
– Он просто повисел вниз головой – например, через спинку кровати. Любой ребенок знает, как можно прогулять школу. Доктор Джиллис, я предупредила его, чтобы освободил комнату, но он влюбился в Лили.
– Понятно. Миссис Эшли, мы уморим его голодом.
– О, доктор, вы святой!
– На завтрак чашку чая и яблоко. Куриный бульон с тостом на обед и ужин.
– Благодарю! Благодарю вас! Пожалуйста, напишите это как рецепт. И чтобы он не покидал свою комнату. Это тоже напишите. Устроим ему карантин.
София превратилась в сиделку. Ближе к вечеру пациента навестила Лили. Он сидел на постели в шелковом халате – по городской моде. Лили оставила дверь открытой, держалась отчужденно: ни дать ни взять особа королевской крови при посещении своих раненых солдат.
– Мисс Эшли, я знаю самого лучшего преподавателя, который научит вас танцевать и всему остальному. Вы сможете стать настоящей звездой.
– Вам нужно беречь голос, мистер Малколм. Если не успокоитесь, я буду вынуждена уйти.
– Лили! Поедемте со мной! Мы станем самым знаменитым дуэтом в стране и недели через две уже получим ангажементы на выступления в клубах и на банкетах.
– Мне уйти, мистер Малколм?
После того как она ушла, вежливо пожелав доброго вечера, молодой человек заметался по комнате, заламывая руки, пока взгляд его не упал на комод. Там, прикрытый тонкой папиросной бумагой, лежал большой кусок «мраморного» торта. Ему казалось, что она принесла с собой книги, а потом вроде бы наводила порядок в комнате.
На следующий день она пришла почитать ему вслух, но услышала страстные мольбы и упреки.
– Лили, если вы хотите заниматься музыкой серьезно, я смогу договориться насчет вас с маэстро Лаури. Это лучший преподаватель в Чикаго, готовит певцов для знаменитых оперных театров. Не сомневаюсь: вас он возьмется учить бесплатно.
– Если вы не успокоитесь, мистер Малколм, я уйду.
– Лили, вы можете петь в храмах и получать за это деньги, тотчас же. Я уже так зарабатывал, а вы поете в сто раз лучше.
– Вы должны перестать волноваться!
– Я не могу! Лили, я люблю вас, люблю!
– Мистер Малколм!
Вывалившись из постели на пол, он вцепился в ковер у ее ног.
– Скажите, что я должен сделать! Скажите хоть что-то человеческое! Вы принесли мне кусок торта, а значит, понимаете, почему я еще здесь. Поедемте со мной в Чикаго. В Коултауне вы завянете.
Пару мгновений Лили удивленно смотрела на него и молчала. Ей еще было невдомек, что она великая актриса, что использование знания поведения мужчин и женщин в чрезвычайных обстоятельствах станет делом всей ее жизни. Лили спокойно сунула руку в сумку для книг и достала оттуда кусок лучшего во всем Иллинойсе яблочного пирога.
– Выздоравливайте, мистер Малколм. Доброго вам вечера.
Уже через десять минут Лили вновь могли видеть на улицах Коултауна. Она несла пару туфель в бумажном пакете. В центре города царило оживление. С легкой улыбкой Лили кивала направо и налево озадаченным горожанам. Сначала она зашла на почту, задумчиво постояла перед плакатом с фотографией отца, потом вышла на улицу и отправилась к Порки. Увидев ее, тот не выразил удивления.
– Порки, у меня нет денег, но я обязательно заплачу через несколько месяцев. Ты можешь починить эти туфли, чтобы они не развалились окончательно? Постарайся так, как ты это умеешь. Сможешь сделать к пятнице и принести к нам домой?
Выйдя из будки, Лили дошагала до дальнего конца улицы, где жила мисс Дубкова, и поднялась по лестнице в ее квартиру. Портниха стояла на коленях перед манекеном и подшивала подол платья.
– О, Лили?
– Мисс Дубкова, я намерена сбежать в Чикаго с мистером Малколмом.
Портниха медленно, но без каких-либо затруднений, поднялась с пола.
– Что ж, самое время выпить по чашке чаю. Садись.
Лили не начинала разговор до тех пор, пока ей не был дан сигнал – после того как они сделали по первому глотку.
– Он говорит, что может найти для меня работу: петь в клубах и храмах, – а еще отведет к какому-то знаменитому учителю, который готовит оперных певцов.
– Так. И что же?
– Все, что вы скажете, меня не остановит, мисс Дубкова. А пришла я к вам просить об одолжении. Возможно ли, чтобы он посылал мне письма через вас?
– Пей чай.
Пауза затянулась, потом Лили продолжила:
– Я не выдержу в Коултауне больше месяца. Я должна петь, и мне нужно этому учиться. Чем раньше я начну, тем лучше. И кроме того, мне пора многое узнать о жизни вообще, а здесь это невозможно. Я хочу научиться играть на фортепиано. Даже если бы у меня было свободное время: а у меня его нет, я работаю с утра до ночи, – заниматься этим в пансионе просто не с кем.
Она развела руки в стороны и бессильно уронила.
– Ты-то его любишь?
Лили рассмеялась и залилась румянцем.
– Нет, конечно! Он ведь просто невежественный мальчишка! Но если готов мне помочь… А больше мне от него ничего не надо. Он совсем не плохой человек – можете сами в этом убедиться. Я поеду с ним в Чикаго и выйду за него.
– Малколм сделал тебе предложение?
– Он… падал на колени, плакал, говорил, что любит меня.
– Значит, предложение не сделал… Лили, он уже женат.
– Откуда вы знаете?
Ольга Сергеевна рассказала ей про кольцо и добавила:
– Кроме того, он поляк и католик.
Лили помолчала, а когда заговорила, речь ее была спокойна, как и взгляд.
– В любом случае здесь найдется не много мужчин, готовых взять в жены девушку с фамилией Эшли.
– Н-да. – Ольга Сергеевна поднялась. – Пей чай и помолчи минутку.
Через спальню она прошла в кухню, где прятала деньги, и спустя пару минут вернулась с кошельком из потертого шелка.
– Здесь пятьдесят долларов. Отправляйся в Чикаго. Пусть этот человек познакомит тебя с учителями, поможет с работой, но больше ничего ему не позволяй.
– Я возьму у вас тридцать долларов. Верну сразу, как только смогу.
Ольга Сергеевна вынула из кошелька двадцать долларов, остальное сунула в карман плаща Лили. Девушка встала.
– Так мистер Малколм может посылать мне письма на ваш адрес?
– Да. Теперь сядь и послушай меня. – Она на секунду задумалась, а потом принялась открывать один за другим шкафы, явно что-то отыскивая. – Давай-ка снимай свои тряпки, подними руки и повернись лицом к окну.
Пока снимали мерки, Лили разоткровенничалась:
– Софи тоже должна уехать. И Конни. Дело не в том, что работа по дому нас убивает, а в том, что мама совсем не выходит в город и не вспоминает про папу. Я уже давно умерла бы, если бы не ваши визиты к нам.
– Повернись к иконам.
– И если бы не чтение вслух по вечерам. А ведь мама не любит сидеть дома. Сначала мне показалось, что она боится смотреть людям в глаза или просто всех возненавидела. Но мама никогда и ничего не боялась. Ей совершенно все равно, что думают о ней окружающие: она к ним абсолютно равнодушна. Все постояльцы, которые приходят к нам в пансион, для нее что-то вроде бумажных кукол. Первый, кого она действительно возненавидела, это мистер Малколм. Он вызывает в ней отвращение, потому что пылкий и несдержанный.
– Приподними локти, как будто поправляешь прическу.
– А не упоминает она при нас о папе потому, что считает его своей собственностью. Ей просто не хочется, чтобы у нас был «наш папа». Мне кажется, что она не выходит на улицу только потому, что не хочет встречаться с миссис Лансинг: боится, что и у нее может оказаться право на «нашего папу». Я поделюсь с вами кое-чем: этого не знает никто. В самом начале судебный слушаний кто-то бросил нам в почтовый ящик письмо. Без обратного адреса и имени отправителя. На конверте лишь стояло «Для миссис Эшли». Мы почти не получали писем: родственники никогда не писали ни папе, ни маме. Я забрала письмо и отнесла маме, но во время суда мать ничем другим, кроме процесса, не интересовалась. Она велела мне вскрыть конверт, прочитать, а потом просто пересказать, что в письме. Там говорилось о том, что Бог непременно наказывает за грехи: все грешники отправятся в ад, – а еще о том, что папа несколько лет встречался с миссис Лансинг в гостинице «Фермер» в Форт-Барри. Я соврала маме: сказала, что пишут насчет благотворительной распродажи. Пришло еще три или четыре письма, но я их сожгла. Это такая гадость и ложь отвратительная! Папа ездил в Форт-Барри не чаще раза в год и обычно возвращался в тот же день вечерним поездом, а миссис Лансинг ездила туда вместе с детьми только по воскресеньям – в церковь, они же католики. Но я все же думаю, что она любила папу (надеюсь, что любила, и надеюсь, что папа знал об этом). Любил ли папа миссис Лансинг – не знаю: ведь он по-своему любил всех женщин этого города. Ведь правда?
– Угу, правда. Выпрямись.
– Впрочем, меня бы не шокировало, если бы они были влюблены друг в друга. Миссис Лансинг совершенно особенная. Ей люди не безразличны… Хоть мама и не видела этих писем, возможно, все же догадывалась, что миссис Лансинг испытывала к папе глубокое чувство. Мама не из тех, кто будет возмущаться или ревновать, но это может быть одной из причин не выходить в город. Недавно, уже за полночь, мама велела мне одеться и мы отправились на прогулку. Перед домом Лансингов остановились: просто стояли и долго-долго смотрели, – и мне показалось, что маме захотелось узнать, носит ли миссис Лансинг в своем сердце образ «нашего папы».
– Отойди к двери, а потом вернись назад. Медленно.
– Это я виновата, мисс Дубкова: как старшая в семье, я имею определенное влияние. Надо было заставить маму говорить о папе, также следовало больше помогать Софии и выходить в город, словно ничего не произошло. Не понимаю, что со мной случилось. Что такое со мной было, мисс Дубкова? Я вела себя как идиотка! Мне следовало отдавать близким больше любви. Где сейчас Роджер? Чем занимается? Нет, все, уже поздно! Ох, папа, папа, папа!
– Не испачкай шелк, Лили.
– Вот потому я и уеду в Чикаго: научусь петь, и пусть это будет хоть один правильный поступок в моей жизни.
– Теперь можешь одеваться.
В «Вязах» после ужина на кухне происходило нечто настолько необычное, что дочери наблюдали за матерью, не веря собственным глазам. Миссис Эшли сняла с полок все банки с джемом и отнесла в подвал, а хлеб, кексы и пироги – в буфет в столовой, и заперла на ключ.
– Зачем все это, мама? – поинтересовалась София.
– Сегодня так будет лучше.
Лили поняла, в чем дело, и шепнула Софии:
– Попытайся достать немного еды для мистера Малколма: он сидит голодный.
Когда София вернулась на кухню, мать как раз закрывала заднюю дверь, а за ней и дверь в чулан.
– Девочки, сегодня ночью попрошу вас не спускаться вниз.
Вскоре после полуночи мистер Малколм, пробираясь на ощупь, спустился по лестнице на кухню и зажег прихваченный с собой огарок свечи. Холодильник оказался пустым, полки – голыми, а дверь в чулан, где стояли бочки с яблоками, был заперта. Словно в насмешку, в центре стола стояло маленькое блюдце с кусочком цыпленка. Это было единственное, что удалось найти Софии. Ладислас попытался открыть шкафы, подергал несколько ящиков и чуть не зарыдал от злости и разочарования, в конце концов, довольствовался цыпленком. Не успел он проглотить первый кусочек, как за спиной раздался шорох. Резко обернувшись, он увидел миссис Эшли, стоявшую в дверях с лампой в руке, в толстом халате, похожем на лошадиную попону.
– Миссис Эшли, доброй ночи. Прошу прощения, но я проголодался.
– О! Значит, вам уже лучше?
– Да, лучше.
– Значит, вы уже поправились?
– Да, мне лучше.
– Мистер Малколм, в таком случае пообещайте, что завтра в семь тридцать – и ни минутой позже! – вы покинете пансион, и я вас накормлю.
Беата приготовила сандвичи, поджарила яичницу, поставила на стол кувшин молока, уселась напротив и, подперев ладонями щеки, принялась наблюдать, как молодой человек ест. Взгляд ее при этом не отрывался от безымянного пальца его левой руки, где должно было быть кольцо.
– Мисс Эшли, я люблю вашу дочь.
Ответом ему было молчание.
– Мэм, ваша дочь может достичь огромных высот в индустрии развлечений, стать настоящей звездой, и за очень короткий срок, я уверен в этом. Моя задумка состоит в том, чтобы придумать номер на двоих и показать какому-нибудь театральному агенту.
– Моя дочь говорила вам, что ее это интересует?
– Мэм, она не соизволила даже ответить мне, клянусь! Я ее не понимаю. Она ведет себя так, словно не слышит меня, а ведь я ее люблю. Понимаете, люблю! – Он ударил кулаком по столу и всхлипнул, сдерживая рыдания. – Я лучше убью себя, чем обижу ее.
– Не кричите, мистер Малколм, ешьте, – брезгливо произнесла Беата.
Молодой человек бросил на нее возмущенный взгляд, но это не помешало ему продолжить с аппетитом есть. Он был ей противен.
– Моя дочь разделяет ваши чувства?
– Вы меня совсем не слушаете: ведь я уже сказал – клянусь душой моей покойной матери, – что она не произнесла ни слова ни о чем подобном. Ни единого слова! У меня есть друзья, которые смогут обучить ее всему необходимому. Она очень умная и способная девушка. Чему она сможет научиться в этом вашем Коултауне? Вы же не можете вечно держать ее здесь. Ее предназначение – великие свершения.
– Вы женаты, мистер Малколм.
Он густо покраснел, а когда справился с замешательством, произнес, наклонившись к ней через стол:
– Я прошу прощения, что не сказал об этом сразу. Но даже будь я свободен, жениться на ней не смог бы все равно: она не католичка. А вот на мой счет, миссис Эшли, вы ошибаетесь. Я человек серьезный, очень серьезный, и непременно добьюсь успеха. Я уже пел перед съездом благотворительного ордена Лосей! Я стану знаменит, как Элмор Дарси, как великий Терри Маккул, который пел в «Хлопковом султане». И ваша дочь станет знаменитой! А о Митци Карш в «Бижу» вы слышали? Откуда вы только взялись? Но о Белле Майерсон-то хоть вы знаете? Нет? О ком же вы тогда знаете?
– Не надо кричать, мистер Малколм.
Но молодой человек, уже не в состоянии остановиться, вскочил и завопил во весь голос:
– Неужели вы ничего не слышали о мадам Моджеске? Она польских кровей, как и я, пела в «Марии Стюарт»! Эти люди – звезды! Вы хоть понимаете? Как звезды на небе! Если бы на небе не светили звезды, мы превратились бы в стадо баранов, гнули шеи к земле. Ваша дочь – как и я, как мне кажется, – будущая звезда. Таких, как мы, одновременно наберется не больше дюжины-другой среди всех живущих на земле. Они избранные! Они несут на своих плечах огромный груз, живут не так, как другие, да и с какой стати должно быть иначе? Их не волнует, кто женат, а кто нет, для них важно другое: добиться совершенства! Вы уморите здесь свою дочь до смерти, так что радуйтесь, что я тут объявился и готов взять над ней шефство.
Беата встала.
– Итак, вы пообещали мне съехать в половине восьмого утра. Я постучу вам в дверь без пятнадцати семь.
Взяв лампу в руки, она жестом предложила ему следовать за ней, и перед тем, как разойтись по своим комнатам, он с обескураживающей прямотой тихо сказал ей:
– Ваша дочь талант, миссис Эшли. Вы когда-нибудь слышали о более высоких материях, чем жареный цыпленок? Вы всего лишь содержательница пансиона в городке Коултаун, штат Иллинойс. Подумайте над этим. Чем быстрее ваша дочь выберется отсюда и поменяет фамилию, тем лучше.
Миссис Эшли даже бровью не повела.
У себя под дверью Ладислас Малколм нашел записку. Мисс Лили Сколастика Эшли желает ему доброго пути, но всерьез думает переехать в Чикаго. Если пожелает, он может написать ей на адрес мисс Ольги Дубковой и изложить свои предложения.
Первые несколько дней Лили никак не выказывала своих сожалений по поводу его отъезда, но заметно изменилась. Исчезли последние остатки мечтательности. Лили стала относиться к матери еще внимательнее, но держалась на расстоянии, а на все просьбы спеть на вечерах отвечала отказом. Беата больше не заговаривала о визите в банк и даже не упоминала о спрятанном обручальном кольце мистера Малколма.
Через три недели Лили уехала из Коултауна на ночном поезде – том самом, который вез ее отца на казнь под конвоем. В руках у нее был саквояж – тот самый, с которым Беата Келлерман тайком покинула отчий дом: тоже в июне, только двадцать один год назад.
Осень в Коултауне великолепна! Утомленные бесцельной свободой долгого лета, дети возвращаются в школу, и от тишины, установившейся в домах, их матери начинают испытывать легкое беспокойство, а от ничем не занятых часов, даже возникают головные боли. Разноцветная листва, в которую одеваются деревья, напоминает роскошные языческие наряды. Дни становятся короче, и жителям шахтерского городка долгие месяцы придется шить при искусственном освещении. Предстоящие осенние праздники вызывали ужас. Джордж Лансинг покинул город, но осталась его команда «последних могикан», которая либо выроет столбы у ворот мэра, либо открутит стрелки у городских часов. Непримиримые дамы из христианского общества борьбы за трезвость готовы были костьми лечь, чтобы в день выборов закрыли все питейные заведения. Философское настроение овладевало даже самым трезвомыслящим домовладельцем, когда он стоял над кучей дымившейся палой листвы. С первым снегом у большинства горожан словно раскрылись глаза: белизна придавала Коултауну необычайное очарование.
София и Констанс в школу так и не вернулись. Если кое-кто из взрослых скупым кивком все-таки здоровался с Софией на улицах, то ее сверстники оставались непримиримыми. Мальчишки норовили поставить подножку, а девчонки не уставали картинно изображать, как София, по примеру своего отца, в них стреляет. Они обступали ее тесным кружком, а потом, будто смертельно испуганные, разбегались в разные стороны. Родители, как известно, для многих детей являются примером.
С отъездом Лили работы прибавилось. Основная тяжесть легла на Констанс. Ежедневные обязанности труднее всего дались девочке осенью 1904 года и последовавшей весной, когда ей исполнилось двенадцать. Февраль и март оказались самыми безрадостными месяцами, и Констанс давала волю слезам и раздражению. Ей хотелось ходить в школу, в церковь, гулять по городу. София передала ей заботу об утках, мать, вспомнив свое детство в Хобокене, штат Нью-Джерси, попыталась отвлечь ее – нужно было ухаживать за виноградной лозой и готовить «весеннее вино», – но Констанс не интересовали ни животные, ни растения. Ей хотелось общения, и не только с членами семьи и постояльцами пансиона. Наконец, в июле ей на помощь пришла мисс Дубкова.
– Беата, мне кажется, вы поступаете по-настоящему мудро, оберегая Констанс от грубости городских детей, но я чувствую, что ей нужно больше двигаться. Когда я была в ее возрасте – еще в России, – мы с сестрой целыми днями пропадали в лесу: собирали грибы и ягоды. Если девочка пообещает, что не будет ходить в центр города, почему бы не позволить ей раза три-четыре в неделю гулять по окрестностям?
Это было чудесно! Теперь через день Констанс вставала на час раньше и начинала все драить: мыть и чистить, – а в одиннадцать ускользала из города по тропинке за станцией. Констанс ни разу не обмолвилась матери, что за три недели у нее появилось множество друзей на окрестных фермах, которые были рады ее появлению. Она то сидела у кого-то на кухне и слушала чьи-то рассказы, то помогала соседкам развешивать белье и опять слушала, то сидела возле дедушек и бабушек, прикованных к постелям. Ей нравилось наблюдать за лицами собеседников, выражением глаз. Она никогда не испытывала неловкости. Могла свободно присесть к косарям, когда они в перерыве обедали под деревьями, добралась даже до цыганского табора. В «Вязах» мало-помалу прекратились истерики и взрывы раздражения.
Никто из Эшли никогда не жаловался на здоровье, но однажды утром – это было в октябре – София встала с постели, и как была, в одной ночной сорочке, надела шляпу, а потом вышла из дому и двинулась в сторону станции. Ее нашли без сознания на главной улице, принесли домой и уложили в постель, а Порки бросился за доктором Джиллисом. Миссис Эшли, пока шел осмотр, ждала у лестницы. Она, казалось, была убита горем больше, чем в тот день, когда в суде зачитали приговор ее мужу. К ней снова вернулась хрипота.
– Что с ней? Что это может быть, доктор?
– Мисс Эшли, мне это очень не нравится, но Софи есть Софи: она просто вымоталась. Я предвидел что-то в таком духе.
– Понятно.
– Сегодня после обеда я отвезу ее на ферму к Беллам. Все они любят Софи, а пациентов я отправлял к ним и раньше. Не думаю, что они потребуют плату.
Миссис Эшли оперлась рукой о столп, чтобы не упасть.
– После обеда?
– Сейчас она отказывается куда-либо ехать: даже рассердилась на меня. Не представляет, кто будет ходить за покупками в город. Ей кажется, что дом рухнет, если она уедет. Я дал ей снотворное: пусть отдохнет, – а в помощь вам пришлю миссис Хаузерман.
– Я сама буду ходить за покупками.
– София обрадуется, когда узнает об этом. Я сумел ее убедить, что отец наверняка тоже отправил бы ее в отпуск на пару недель к Беллам. В первую неделю ее не нужно навещать никому: ни вам, ни Конни, – но вот писать, причем каждый день, я бы очень рекомендовал: сообщать, что в «Вязах» все идет как надо и что все по ней скучают. Надеюсь, мы вовремя перехватили это.
– Перехватили? Перехватили что, доктор?
– В первые десять минут она меня не узнавала. Старые ломовые лошади тоже ведь не выдерживают, миссис Эшли. Они не могут вечно возить щебень. Я бы попросил Роджера вернуться хоть ненадолго: предложите ему, когда будете писать. Беллы полюбили Софи с того раза, когда она пришла к ним и попросила свиного жира, чтобы приготовить мыло. Они и Роджера любят: ведь он работал у них каждое лето. Итак, в три часа я приду.
– Спасибо, доктор.
Покидая дом, доктор Джиллис сказал себе: «Одни люди смотрят вперед, другие все время оглядываются назад».
Беата Эшли прошла в комнату, уставленную горшками с комнатными растениями, и без сил опустилась на диван, а когда – через какое-то время – все же попыталась встать, ей это не удалось. Она ругала и ругала себя, но на следующее утро все же оделась для выхода в город за покупками и даже спустилась по ступенькам перед входной дверью, дошла до ворот. А вот двинуться дальше заставить себя не смогла. Ей снова придется отвечать на рукопожатия и приветствия, ловить на себе взгляды всех этих коултаунских персонажей, которые хохотали в голос в зале суда, присяжных и их жен…
Беата вернулась в дом и составила список покупок: все, что нужно, вместо нее купит миссис Свенсон. Ее стремление по рекомендации доктора писать Софии каждый день тоже оказалось невыполнимым: письма получались сухими, она все никак не могла придумать, о чем написать.
Во время пребывания на ферме София получила письмо от брата, в котором тот сообщал, что приедет в Коултаун на Рождество. Своими планами Роджер поделился и с матерью, а также, чтобы их поразвлечь, приложил к письму подборку своих статей, которые написал для чикагских газет за подписью «Трент».
А в ноябре Беату Эшли разбудил шум под окном: раздался резкий удар, потом что-то прошуршало, а вслед за этим послышался тихий стук. Первой ее мыслью было, что за окном похолодало и пошел ледяной дождь, но на небе сияли звезды. Она села на постели, спустила ноги на пол и прислушалась. Сердце на миг остановилось, когда в открытое окно влетели маленькие камешки гравия. Сунув ноги в шлепанцы, она плотно завернулась в халат и, прижавшись к стене, осторожно выглянула на улицу. Как раз в этот момент мужская фигура повернулась к ней спиной и поспешила в обход дома, к парадному крыльцу.
Беата спустилась вниз, постояла немного и все-таки открыла входную дверь. Никого. Она прошла на кухню, зажгла лампу и, подогрев немного молоко, стала пить мелкими глотками.
Именно так, под покровом ночи, мог вернуться Джон Эшли, именно так объявить о своем присутствии. Беата поднялась к себе, скинула шлепанцы и принялась ходить из угла в угол.
На полу не было никаких следов гравия.
II. От Иллинойса до Чили
1902–1905
Каждый вечер к одиннадцати часам в кафе «Aux Marins»[15], расположенное в районе, примыкавшем к новоорлеанскому порту, приходил молодой человек с шелковистой бородкой цвета спелой пшеницы и оставался до двух ночи. Здесь отсутствовали привычные выпивохи, никогда не возникало перебранок и ссор. Это было место для неторопливых разговоров вполголоса о перевозках, карго и судовых командах. Если в дверях появлялся незнакомец, голоса сразу становились громче, а разговоры сворачивали на политику, погоду, женщин и карты. Кафе было на примете у полиции, поэтому Жан Ламазу – Кривой Жан – и его постоянные клиенты, остерегаясь осведомителей, внимательно наблюдали за молодым человеком с шелковистой бородкой. А тот совершенно не обращал внимания на то, что происходило вокруг, не пытался завязать разговор с кем бы то ни было, да и вообще говорил мало (но зато на настоящем французском!), а здоровался открыто и приветливо. Молодой человек читал газеты и штудировал учебник «Испанский язык за пятьдесят уроков» («Си, сень-ор, тан-го, пе-сос»). К концу третьей недели Кривой Жан настолько ослабил бдительность, что предложил незнакомцу переброситься в картишки по маленькой. Между делом молодой человек поведал, что родом из Канады, что зовут его Джеймс Толланд, и что откуда-то с севера ждет приезда своего друга, который владеет плантацией сахарного тростника на Кубе.
Джон Эшли был человеком веры, хотя и не догадывался об этом. Более того: скажи ему кто-нибудь, что он религиозен, стал бы решительно отрицать, но ведь религиозность – это всего лишь одеяние веры, причем дурно скроенное, в особенности если говорить о городке Коултаун в штате Иллинойс.
Как и большинство ему подобных, Эшли был, можно сказать, невидимым. Вы вчера могли столкнуться с человеком веры в толпе, а женщина того же свойства могла продать вам пару перчаток. Их отличительной чертой является нежелание расставаться со своей незаметностью, и только обстоятельства время от времени приподнимали их над остальными, выводя в круг света всеобщего поклонения. Эти люди пасли свои стада в деревушке Домреми, добивались торжества закона в Нью-Сейлеме, штат Иллинойс. Они ничего не боятся, не ищут для себя выгод, их душу питает вечное удивление чудесами, которые являет сама жизнь. Эти люди совершенно неинтересны. В них отсутствуют те черты характера – наши неразлучные спутники, – которые всегда привлекают интерес: агрессивность, стремление подчинять, зависть, страсть к разрушению и саморазрушению. Они избегают пафоса. Попытайтесь найти пример, когда эти люди выступали в качестве трагических персонажей (не найдете; такие попытки предпринимались, но когда страсти утихали, публика вдруг начинала понимать, что слезы, которые проливала, были бессмысленны, потому что все оплакивали самих себя). У них отсутствует чувство юмора, которое тянет за собой осознание собственного превосходства и равнодушие к чужим проблемам. В большинстве своем они косноязычны, и прежде всего в отношении того, что касается веры. Интеллектуальные силы веры – как мы еще увидим, когда будем рассматривать связь веры Эшли с математическими способностями и талантом карточного игрока, – развиваются и укрепляются благодаря умению наблюдать и цепкой памяти. Вера создает научные школы и не зависит от них. Один знаменитый мыслитель как-то сказал, что мы скорее найдем настоящую веру у старухи, которая на коленях скоблит пол в общественном здании, чем у сидящего на своем троне епископа. Мы описываем этих мужчин и женщин словами, в которых содержится отрицание, словами с частицей «не» – они ничего не боятся, не ищут выгоды, не вызывают интереса, не обладают чувством юмора, часто не имеют образования. Если так, то в чем же их ценность?
Мы не выбираем день нашего рождения или день смерти, однако выбор – это суверенное право разума. Мы не выбираем родителей, цвет кожи, пол, состояние здоровья, таланты – нас выбрасывают в бытие как игральные кости из стаканчика. Барьеры и тюремные стены окружают нас со всех сторон, препятствия повсюду – внутренние и внешние. Эти мужчины и женщины, обладающие наблюдательностью и цепкой памятью, начинают быстро ориентироваться в огромном пространстве, которое раскинулось перед ними. Они прекрасно знают себя, но собственная личность не становится для них единственным окном, через которое можно наблюдать за своим существованием, и абсолютно уверены в том, что даже самой малой частью данного нам свыше можно пользоваться свободно. Они каждодневно исследуют и осуществляют принцип свободы. Их взгляд устремлен в будущее. В трудный час они выстоят. Они спасают города, но даже если вдруг потерпят поражение, их пример спасет другие города после их гибели. Они противостоят несправедливости. Они приводят в чувство и вдохновляют отчаявшихся.
Но во что верят эти мужчины и женщины?
Они с трудом подбирают слова, когда пробуют описать объект своей веры, да и зачем? Для них это нечто само собой разумеющееся, а само собой разумеющееся не так легко описать. Вот у мужчин и женщин, которые не верят, это получается с легкостью. Они постоянно и во весь голос рассуждают на эту тему, и вдруг откуда ни возьмись появляется вера в саму жизнь и в ее смысл, в Бога, в прогресс, в гуманизм – вся эта словесная шелуха, все эти расшатанные столбы с указателями, которые никуда не ведут, вся эта взятая напрокат бижутерия, все это красноречие предателей.
Без веры и надежды не существует творчества.
Не существует веры и надежды, которые не выразили бы себя в творческом процессе. Эти мужчины и женщины постоянно трудятся. Их может лишить уверенности в себе не какая-то допущенная ошибка, не проявление невежества или жестокости, а бездеятельность. Их работа не всегда заметна – это характерный признак деятельности тех, кто не старается выставить себя на всеобщее обозрение.
Джон Эшли принадлежал именно к такой породе людей. Никаких требований исторического значения к нему не предъявлялось, и мы не знаем, как бы он откликнулся на них. Он поздно созрел, не был склонен к рефлексии и остался практически невидимкой. Позже многие пытались уловить мимолетные отражения образа Джона Эшли в его детях, но он был лишь звеном в цепи, стежком на гобелене, веточкой на дереве, осколком камня на древней дороге, ведущей пока непонятно куда.
Джон Эшли не имел представления, кем были его освободители. Возможно, чудо всегда совершается так – просто, естественно и таинственно. Действовали эти люди быстро и точно: в полном молчании перебили лампы на потолке, освободили его от наручников. Конвоиры с дикими криками метались в темноте, выстрелили пару раз, потом огонь прекратился. Его вывели – вернее, вынесли – из вагона в лесок. Один из этих людей положил его руку на седло лошади, другой передал ему темный поношенный комбинезон и кошелек, а еще маленький компас, карту и коробок спичек – и все это в полной тишине. На голову ему натянули старую бесформенную шляпу. Наконец один из них зажег спичку, и Джон увидел их лица. Эти люди совсем не походили на негров – скорее на загримированных лицедеев в каком-нибудь негритянском шоу. Самый высокий из них показал ему нужное направление, потом медленно перевел палец градусов на пятнадцать вправо.
– Спасибо, – поблагодарил Эшли, и они растворились в темноте, даже стука копыт не было слышно.
Просто, естественно и таинственно.
Оставшись один, он чиркнул спичкой, чтобы разглядеть показания компаса. Его неизвестный друг указывал в сторону юго-запада, а потом на запад. Эшли понимал, что находится сейчас где-то рядом с железнодорожным разъездом по пути в Форт-Барри. В шестидесяти милях к западу протекала Миссисипи. Переодевшись и скатав тюремную робу, он стал пристраивать ее к луке седла и наткнулся на две чересседельные сумки: одна оказалась с яблоками, другая – с овсом.
Его это обстоятельство и удивило, и развеселило:
– Ну надо же! Все предусмотрели.
Джон Эшли был готов к смерти, но в его восприятии это событие не могло случиться прямо сейчас: всегда оставался месяц, день, час, даже минута жизни. Никогда не знал он и страха. Даже когда в суде огласили приговор, даже когда сидел в поезде, (наверняка газеты назвали это последним путешествием), Джон не испытывал страха. Для него плохое никогда не превращалось в самое ужасное.
При свете спички в темноте леса он посмотрел на лошадь, забрался в седло и хотел еще раз свериться с компасом, но лошадь медленно двинулась вперед сама. Неужели она видит тропу в подлеске? Решила вернуться в конюшню? Через десять минут он опять зажег спичку и взглянул на компас: они двигались на юго-запад. Джон разломил яблоко и поделился с лошадью.
Примерно через час они добрались до проселочной дороги и поехали по ней вправо. Пару раз он слышал топот копыт – явно погоня, – но у него было достаточно времени, чтобы съехать с дороги и укрыться среди деревьев. Когда оказались у реки: под ними задрожал деревянный мост, – Джон напоил лошадь и напился сам, потом продолжил путь. С каждым часом Эшли чувствовал себя все лучше – вроде бы даже помолодел – и был полон непростительного, непозволительного счастья, оттого что вырвался из тюрьмы, где страдал физически больше, чем морально. Ему очень хотелось выговориться, и время от времени шел рядом с лошадью и рассуждал. Лошади, судя по всему, это нравилось: в рассеянном свете звезд было видно, как она прядает ушами.
– Ты у нас кто: Бесси? Молли? Белинда? Кто-то сделал мне шикарный подарок, цена которому жизнь. Неужели я так и не узнаю, почему шесть человек рисковали жизнью, чтобы спасти мою? Или так и умру, не узнав?
Нет, наверное, тебя кличут Евангелиной, добрым вестником. Как интересно, правда? Никто не знал, когда ты была жеребенком, что тебе придется участвовать в загадочном приключении – деянии, полном великодушия и смелости. Никто не подозревал, когда тебя объезжали – должно быть, это отвратительно и страшно, Евангелина! – что однажды ты на своей спине увезешь человека от смерти. Ты – Божье знамение. Мы с тобой оба отмечены дланью Господней.
Порассуждав, Джон почувствовал прилив сил. Не забывая прислушиваться к ночным звукам, он даже принялся тихонько напевать.
Вскоре небо на востоке заалело. Если в Коултауне рассветы были безрадостны, то сейчас Эшли поразило представшее перед ним чудо. На перекрестке через пару миль он увидел указатель: на юг – Кеннистон, 20 миль; на северо-восток – Форт-Барри, 14 миль; на запад – Татум, 1 миля. Миновав Татум, пустой и бесцветный в свете раннего утра, через две мили Джон свернул налево и дальше поехал по берегу небольшой речушки. Наконец в зарослях отвязал от седла веревку длиной семь ярдов и стреножил лошадь и поставил перед ней шляпу, в которую насыпал немного овса. В сумке с яблоками обнаружилось несколько печеных картофелин, и он поел, время от времени поглядывая на Евангелину.
Эшли ездил на лошадях еще мальчишкой, когда проводил летние каникулы на ферме у бабки. Эта независимая и эксцентричная пожилая дама по имени Мари Луиза Сколастик Дюбуа Эшли была единственной, кого он любил больше всех на свете. И бабка платила Джону тем же, хотя и была с ним строга. Помимо всего прочего, она умела лечить и выхаживать животных – пусть и не имела специального образования. Фермеры со всей округи и даже из дальних мест привозили к ней свою скотину, но многие ее просто ненавидели за то, что осуждала их способ ведения хозяйства. С лошадьми она обращалась так, словно понимала их язык. Казалось, что все: рогатый скот, собаки и кошки, птицы, олени и даже скунсы – делились с ней своими секретами. Целый день, а иногда и до поздней ночи, при свете керосиновой лампы, Джон помогал ей делать уколы, давать лекарства, делать припарки и перевязки; вместе они принимали роды; вместе усыпляли животных. Он навсегда запомнил некоторые из ее запретов: «Никогда не смотри в глаза лошади, собаке или ребенку дольше нескольких секунд – они смущаются. Не гладь лошадь по шее – лучше похлопай, а после этого похлопай себя, по бедру. Никогда не делай резких движений ногами: животные используют ноги и зубы для защиты от врагов. Например, Джо Декер всегда закрывает дверь в конюшню пинком, и лошади его ненавидят. Если собираешься использовать хлыст, прежде хлестни себя, но так, чтобы лошадь увидела это издали. Перед тем как кормить лошадей овсом, понюхай его, обдуй, пожуй и только после этого дай им, но с таким видом, словно и сам был бы не против его съесть. В Коултауне у Эшли была лошадь и тарантас. Он купил это немыслимо вздорное животное по кличке Белла за символическую сумму и десять лет ездил на нем. Их связывала такая привязанность и даже дружба, что редко бывает даже между близкими людьми.
Он опять украдкой посмотрел на Евангелину. Лошадь явно немолода, но за ней хорошо ухаживали.
Джон заснул, хотя его донимали вши (как ему не хватает постели с душистыми от лаванды простынями!), и проснулся уже во второй половине дня. Было очень жарко, даже в зарослях.
– Пойдем-ка, Евангелина, к речке: пора помыться.
Присмотрев подходящее местечко, Джон стреножил лошадь и с удовольствием вошел в воду. «Беата уже знает. Роджер тоже скоро услышит, но первым, конечно, узнал Порки». Он попытался представить собственное будущее, но воображение ему отказывало, когда надо было заботиться о самом себе. Он почти не умел строить планы, потому что никогда не переживал за свое будущее. Планы день и ночь куют те, кого сжигает внутреннее беспокойство. А люди безмятежные равнодушны к ним, они просто плывут по течению и тянут время. Но у Джона Эшли определенные планы, конечно, были, хотя он об этом не догадывался. Восемь дней он провел в лесу, отсыпаясь в зарослях, и каждый вечер просыпался с новыми идеями, которые приходили во сне. В первый вечер, недалеко от Татума, ему стало очевидно, что он канадец, едет на заработки на шахты в Чили. Джон не был горным инженером, но имел богатый опыт работы на шахтах; ему почти ничего не было известно про Чили, но то немногое, что знал, вполне подходило для сложившейся ситуации. Чили, страна где-то на краю света, была неотъемлемой частью студенческого фольклора, пока Джон учился в инженерной школе: нерадивые студенты непременно отправятся туда, а условия жизни и работы там были чудовищные. Селитру добывали в шахтах, заложенных в пустыне, где стоит непереносимая жара и вообще не выпадает дождей. В Андах разрабатывали богатейшие медные рудники, хотя имелось одно «но» – располагались они на высоте одиннадцать тысяч футов над уровнем моря, и семью брать с собой не разрешалось. Не было никаких развлечений. На такой высоте даже пить нельзя – в том смысле как это понимают мужчины. И это Джона вполне устраивало: он не только собирался перебраться в Чили, но и стать чилийцем.
На следующее утро Джон понял, что должен спуститься вниз по Миссисипи на грузовой барже. Пять лет назад он арендовал экипаж и со всей семьей поехал к великой американской реке. Это было что-то вроде экскурсии и обошлось дешевле, чем если бы они отправились на поезде в Чикаго. Эшли сидели на крутых речных обрывах и наслаждались великолепными видами, но больше всего их заинтересовали баржи – короткие, с низкой осадкой, или длинные и узкие, которые легко скользили вниз по реке или с трудом, натуженно пыхтя, прокладывали себе путь в верховья. Кто-то из рабочих рассказал им, что длинные узкие баржи перевозят лес с севера в Новый Орлеан, и добавил: «Там команды сплошь шведы, которые и пары слов по-английски связать не могут». Эшли не плавал со студенческих времен, но надеялся, что до середины реки сможет добраться.
На третий вечер его осенило, что он передвигается по местности слишком быстро. Когда доберется до реки, ему понадобится найти какой-нибудь сельский поселок – чем меньше, тем лучше, – чтобы купить провизии и продать лошадь, но пока не отрастут волосы и борода, это невозможно. Каждое утро он изучал свое отражение в воде. Ему обрили голову вечером, после объявления приговора, за пять дней до той судьбоносной поездки, и происходящие изменения его радовали. Подбородок обрастал рыжеватой бородкой, придававшей ему глуповатый вид, но жизненно необходимой сейчас, чтобы прикрыть шрам на челюсти слева: тридцать лет назад он наткнулся на вилы во время летних каникул на ферме у бабушки. Какое-то время ему еще придется скрываться в малолюдных районах, поэтому теперь он будет ночевать на одном месте не одну, а две-три ночи.
Если кое-какие перспективы более-менее ясны: каким способом достичь южного побережья Тихого океана, как заработать денег, – то оставались проблемы, решения которых Эшли не находил даже во сне: как теперь связаться с женой, как посылать семье деньги, как вообще узнать, что происходит в «Вязах»?
Ну а пока страну буквально наводнили Джоны Эшли. В Спрингфилде полковник Стоц сотнями получал письма и телеграммы – даже из Австралии и Африки, – в которых сообщалось, что кто-то где-то видел Эшли, причем их авторы требовали вознаграждения тут же, обратной почтой. Совершенно немыслимое количество скитальцев всех возрастов писали, как их сбивали на землю с лошадей, вытаскивали из тарантасов, как за ними гонялись по полям, срывали с них шляпы. Шерифы уже изнемогали от вида всех этих возмущенных, а часто до предела запуганных, лысых и плешивых мужиков, которых то и дело притаскивали пред их очи. Мальчишки, торговавшие газетами, подливали масла в огонь криками: «Молния!», «Молния!» Эшли находили то в индейской резервации в Миннесоте с лицом, выкрашенным в коричневый цвет соком грецкого ореха, то он оказывался в частной клинике для умалишенных в Кентукки, где жил в полном уединении. Чем дальше, тем больше значимости и связей приобретал беглец.
Эшли делал отметки на седле, считая дни, и все равно сбился со счета. Овес и провизия подошли к концу, но, слава богу, начали созревать ягоды и еще попадался кресс. Лошадь и всадник сильно изменились: оба словно помолодели. Когда они выбирались на дорогу, Евангелина переходила на рысь. Эшли заметил, что шкура у нее теперь блестит даже без чистки, которую он периодически проводил пригоршней мелких веточек и мха. У него вдруг возникло ощущение, что лошадь и раньше вывозила на себе скрывавшихся беглецов, что ей уже доводилось уходить от преследования и прятаться. Когда движение на дорогах усилилось, едва заслышав стук копыт, она реагировала быстрее хозяина и тут же ныряла в укрытие, а когда до нее доносился лай собак, бросалась вперед галопом. Однажды Джон, как обычно, спешился и пошел рядом с ней, она выказала ему свое неудовольствие, и до него дошло, что по следу могут пустить собак. Когда к концу дня настроение у него падало, лошадь подходила к нему и пыталась отвлечь: то фыркала в воду в ручье, то била копытом по земле. Когда Джон страдал от приступов диареи, лошадь отворачивалась и серьезно смотрела вдаль, словно хотела сказать: «Держись, не сдавайся».
