Читать онлайн Стрела Парменида бесплатно
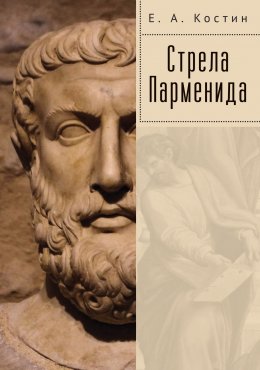
Издательская серия «Тела мысли»
Редакционный совет серии:
С.Т. Золян (БФУ им. И. Канта, ИФиП АН Армении)
А.Ю. Недель (Sorbonne, Paris)
И.А. Савкин (Санкт-Петербург)
Ж. Сладкевич (Uniwersytet Gdaski, Polska)
И.П. Смирнов (Univ. Konstanz, BRD)
Г.Л. Тульчинский (НИУ «Высшая школа экономики», Санкт-Петербург)
М.Н. Эпштейн (Emory Univ., USA)
@biblioclub: Издание зарегистрировано ИД «Директ-Медиа» в российских и международных сервисах книгоиздательской продукции: РИНЦ, DataCite (DOI), Книжной палате РФ
© Е.А. Костин, 2024
© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2024
Предисловие
Уж точно, что книга о немодных сегодня философских темах, нуждается хоть в кратком, но предисловии. И не столько для будущего читателя, сколько для самого автора. Он должен еще раз при реализации данного подхода убедить себя, что избранный им путь феноменологического рассмотрения основных категорий человеческого мышления несет в себе философскую актуальность и, добавим, известную злободневность.
Казалось бы, что можно нового высказать о глобальных вопросах бытия, времени, сознания человека, над которыми билось не одно поколение лучших умов человечества? Но что-то толкает автора к поискам своего ответа, и читателю придется с этим смириться, независимо от того, насколько он осведомлен об уже существующих концепциях понимания ключевых вопросов человеческого познания.
Главный и метафизический вопрос – Почему? Почему существует бытие, время, история, смерть, да и многое другое из данного терминологического ряда, что имеет отношение к главным вопрошаниям человеческой культуры? Их настойчиво реконструирует в своем сознании каждый человек, будучи не до конца уверенным в том, что сами эти вопросы и варианты ответов на них обладают хоть какой-то истинностью и имеют право на существование? Ведь имеет же самозаконное право на свою изначальную необсуждаемость все то, что связано с пищей для человека, с защитой его от холода и других физических воздействий природы, с продолжением рода.
Не пустое ли это занятие – философствование сегодня, когда в полный рост перед нами встают вопросы о реальном выживании человечества (писано в июне 2023 года)? Не лучше ли употребить время, душевные силы, ум на нечто другое, более конкретное, на дело, требующего ответа в текущей повседневности. Наверно, Лев Толстой явно не одобрил бы автора (вообразим себе такую сказочную ситуацию) настоящей книги, так как требование им обнаружения «живой жизни» и служение при ней – было основным лейтмотивом его удивительного творчества и постоянного поиска основ и смысла личного существования. Существования писателя, мыслителя, пророка, великого моралиста, очень похожего на ветхозаветных старцев тем, что он чувствовал духовную силу данную ему кем-то сверху. Эта сила разрешала ему говорить прямо и без обиняков. С другой стороны, упрекнуть великого старика за элементарность высказываемых суждений, «простых», почти Евангельских, истин, – невозможно. Скорее всего, как становится ясно теперь, это можно поставить ему в заслугу. Сложная, во многом противоречивая мысль Толстого касалась разных вопросов жизни, о которых будет идти речь и в данной книге, в том числе и с внутренней отсылкой не только к Толстому, но и ко всей русской мыслительной традиции.
Стоит в этом месте заметить, что примеры, подобные Толстому, или в мировой моралистике – Махатме Ганди, подчас кажутся внешнему наблюдателю, – все равно, производился ли этот взгляд в позапрошлом и прошлом веках или осуществляется он сейчас, со стороны пресыщенного и утомленного своей напускной сложностью современного интеллектуала – примитивно понятными, очевидными до определенного рода мыслительной беззубости. Но за этой очевидностью прописных истин кроется та самая мудрость, какая уж совершенно точно исчезла не столько из мировой культурной традиции как таковой, но из сферы ментального отношения к основным сущностям бытия. Человек современной цивилизации уверен, во-первых, что он обладает необходимыми для анализа и понимания жизни методами интеллектуальной деятельности, а во-вторых, он напрочь не нуждается в простых истинах, все для него устроено гораздо сложнее и «замаскированнее» с точки зрения разума.
И уж вовсе не нужны современному миру пророки и мудрецы, их место твердо заняла бесконечная череда проходимцев различного рода, которые даже не нуждаются в каком-либо рациональном или логически оформленном объяснении действительности – все совершается ими в пределах почти бытового, расхожего дискурса. По существу, то, что наблюдается сегодня повсеместно – это своего рода «мировой базар», на котором друг другу пересказываются последние сплетни и делаются невиданные предположения. Та самая внутренняя разумность человеческой цивилизации, о которой мы всегда помнили и опирались на нее, как на одну из главнейших традиций культуры, исчезла, и хаотизация культурного и интеллектуального пространства человечества доминирует самым очевидным образом.
Есть все же набор никем неотменяемых вопросов, которые приходится решать или, по крайней мере, стремится к их разрешению, каждому поколению живущих людей. Разумеется, что эти процессы проходят по-разному в разных культурах, религиозных доктринах, во всем разнообразии существующих цивилизаций на планете Земля. К тому же, как это ни парадоксально, но кризисность эпохи, разлом времен, что ощущаются сегодня всеми повсеместно, усиливает это желание разобраться в главных категориях человеческого существования.
Неотменяемые инстинкты жизни человека, какой бы сложной формой культурной оболочки в современное время они ни прикрывались, имеют полное право на свое феноменологическое существование и вычленяются нами как бытийные основы развития живой природы в принципе. Ведь, как бы там ни было, но по биологической сути размножение человека в самой малой степени отличается от того, как этим занимаются какие-нибудь лягушки, стрекозы и разные ползучие гады, да и в целом весь мир живой природы.
Но к чему тогда вопросы о смысле тех сущностей, какие внезапно приоткрылись человеческому сознанию и мучают его своими загадками? К тому же совершенно очевидно, что весь круг метафизических вопрошаний человека носит весьма приблизительный и неточный характер, и мы не можем быть уверены в найденных ответах (хотя бы и при интуитивном, первом к ним приближении).
Есть как бы физиологический ответ на природу этих вопрошаний. Сложность человеческого мозга и центральной нервной системы человека, как мы сейчас понимаем, во много раз превышает потребности человека в его инстинктивном физическом существовании. Но, стало быть, природа или что-то другое, чему мы еще не знаем наименования, посчитали необходимым снабдить нас таким уникальным аппаратом мышления (хотя бы и используемым самое большое на 5-10 % его мощности), что мы явно можем рассчитывать на выполнение каких-то иных, более сложных процессов осознания действительности, чем те, что сопровождают нас в каждодневной жизни.
Но сама потребность такого рода поисков смысла нашего существования в мыслительных отвлечениях самого высокого рода имеет под собой и другую мотивацию. Она не носит индивидуализированного характера, связанного с умственным безумствованием каких-либо отдельных человеческих персонажей, вовсе нет. Сама культура в том виде, в каком мы привыкли считать ее «высокой», есть опредмеченная линия осуществленных вопрошаний о сущностях бытия (любимые термины Хайдеггера).
Процесс этот не нами начат и не нам его завершать, несмотря на то, что в современной действительности обнаруживается большое количество приспособлений, позволяющих человеку с удивительной быстротой и в безмерном объеме получать необходимую информацию путем нажатия нескольких клавиш на своем компьютере или на аналогичном гаджете. И нам кажется, что осуществлять наше мышление сегодня гораздо проще, чем, к примеру, в античности. Процессы мысли, поэтому, для подавляющего большинства людей превратились в технические способы получения обезличенной информации. Ответы уже не возникают от проведенной внутри сознания человека долговременной и последовательной процедуры поиска некой истины, соединенной одновременно с некоторыми моментами озарения. Они преподносятся как нечто уже существующее и всеми принятое.
Процессы верификации, то есть оценка той или иной информации, ее достоверности, сочетаемости с иными процессами интеллектуальной и социальной деятельности человека не принимаются во внимание. Они просто игнорируются. Что появится пока на этом пустом месте очевидного угасания мыслительной деятельности человека, совершенно непонятно? (Совсем недавно, в процессе работы над этой книгой автор ознакомился с исследованиями психологов последних лет, которые на основе большого количества проведенных исследований утверждают, что средний индекс интеллектуальности – IQ, в мире катастрофически понизился, и тенденция выглядит уже как неотменяемая). Тем более, что искусственный интеллект будет предлагать и свои ответы на самые разнообразные вопросы, какими задается человек. Они будут, скорее всего, походить на прежние объяснительные формулы, и распознать в этих формулах ложь, специально замаскированный подвох, просто наукообразную абракадабру – для неподготовленного человека будет невозможно.
Таким образом, понемногу будут отмирать ключевые вопросы философии, мучавшие человека на протяжения тысячелетий, как только он вошел в стадию активной когнитивной деятельности и какие легли в основание всей человеческой культуры, определили развитие человека как антропологического разумного существа на планете Земля.
Философия и сопутствующие ей науки с высокой степенью абстрактности отомрут за ненадобностью, так как, с одной стороны, процесс осмысления тех или иных сложных вопросов будет отдан компьютерам и искусственному интеллекту, а с другой, уйдет в сторону весь накопленный объем отвлеченного знания, поскольку областей для его применения почти не останется. Но – главное – сам человек превратится в придаток разнообразной машинерии, и весь пласт вопросов о смысле существования человека, о бытии и времени, о тайне космоса, об этических ценностях, о вере, подобно снежной лавине, подточенной изнутри невидимыми водами и находящейся на склоне горы, соскользнет в долину, погребя под собой витрувианского человека.
Автор вовсе не намерен сотрясать устои, предлагать нечто революционное в плане нового объяснения классических категорий философии. Его задача состоит в другом – поделиться своими соображениями, какие возникли у него в ходе многолетнего изучения разнообразных феноменов культуры. В связи с данным обстоятельством у него выработалось свое отношение к содержанию многих понятий философского аппарата. Вот эти уточняющие моменты он и предлагает тому читателю, какой продолжается интересоваться подобной материей.
Убеждение автора этих строк, что человечество находится в ситуации, когда совершается антропологический слом современного человека (и он немало написал об этом в своих других работах), дополнились другими соображениями, может даже более тревожными, чем вышеотмеченные. Человек, и цивилизация в целом, переживают глубочайший эпистемологический кризис, вторгнувшийся, в том числе, и на мировоззренческую территорию современного индивида. Человек перестал понимать (в широком смысле) окружающий его мир. Его инструменты анализа, оценки, выработки индивидуального отношения к реальности перестали быть адекватными. Говоря совсем лапидарно, и с известной мерой преувеличения – человек перестал узнавать мир, устал его объяснять, оценивать, видеть какую-то в нем перспективу для себя. Реальность стала представать перед сознанием человека конгломератом случайных технологических, социальных, исторических, цивилизацонных линий развития, которые уже не сцеплены друг с другом, не дополняют одна другую. Энтропия вверглась не только в мыслительные процессы homo sapiens, но и в выстраиваемые модели мира, не говоря уже о каких-то отдаленных проекциях будущего.
Человечество катится по какой-то не им наезженной колее, не зная, что встретит его в конце пути и чем закончится это путешествие. В этом своем состоянии человеческая культура достаточно определенно отказывается заниматься «высокими» материями (включая философию), не видя в этом никакого смысла. Существование человека стало носить «реактивный» характер, он откликается на «потребу дня», не задумываясь о дальних горизонтах развития событий. Можно, разумеется, сослаться на известное число пассионарных наций, находящихся на стадии исторического подъема, вроде ряда стран Юго-Восточной Азии, Африки, Латинской Америки, но в силу того, что западная цивилизация продолжает исполнять роль лидера всего человечества, то ее движение неуклонно влияет на весь мир.
Умножение друг на друга этих двух сущностей – антропологического разлома в природном устройстве человека и эпистемологической неуверенности его в познаваемости и объяснении мира неизбежно ведет общечеловеческую культуру к краху невиданного порядка. Не только правила политического и социально-экономического порядка меняются, но незаметным образом реконструируются более глубинные вещи, связанные с сущностью человека как представителя разумной расы на планете Земля.
Хотелось бы с большей иронией отнестись к разнообразным феминистическим, экологическим, гендерным, расовым движениям в мире, приобретающим характер известной эпидемии, но массовость и мгновенное распространение идеологии всех этих «концепций и теорий» по всему миру говорят о том, что перед нами явный феномен эволюции человеческого сообщества. Эволюции известного рода заданности и получения результата, о каком мы еще не догадываемся. Просто мы еще не видим сути этой апостериорности, нам непонятны исходные начала данных процессов, но что-то подсказывает, что это отражение нового витка в развитии биолого-социальной стороны человеческого существа. Мы, как киты, стали выбрасываться на берег и гибнуть от отсутствия воды и привычной среды обитания.
Можно ли с этим бороться, есть ли видимые пути одоления? Это и есть совокупность вопрошаний данной книги. Есть определенная традиция в жанровом своеобразии работ подобного рода, ей и следовал автор этих строк, назвав то, что лежит перед читателем – философскими эссе. Ему кажется, что такого рода работы есть вклад культуры в преодоление хаоса текущего состояния цивилизации и сохранение, хоть каких-то, но островков смысла и упорядоченного понимания бытия, где человек продолжает находиться в его центре и дальше развивается по законам гуманизма, высокого интеллекта и ответственности перед человеческой расой.
* * *
И еще одно, во многом техническое замечание. Автор данной книги сознательно ушел от всякого рода привычных для научного стиля изложения материала ссылок на другое мнение, апеллирования к каким-то источникам, концепциям, полемика с ними и прочее в таком же роде. Разумеется, в полном объеме этого ему не удалось избежать, и те или иные имена появляются на страницах книги. Но установка была как раз на логику представления чистых сущностей ключевых понятий философского мышления. Имя Парменида не случайно открывает книгу, и опора на древнегреческий стиль отношения к воссозданию бытия в самых крупных категориях человеческого сознания (в индивидуальном авторском понимании, конечно), лежит в основе не метода – методом выступает феноменология, но матрицы отношения к действительности, представленной в данном тексте.
Как говорил другой великий грек – «скрытая гармония лучше явной» (Гераклит), но обнаружить ее, гармонию, понять согласованность всех элементов человеческого мышления было задачей великой древнегреческой цивилизации, утерянной во многом на путях развития дробного, «атомизированного» человека, пришедшего в современный момент к ситуации полной своей диссоциации с окружающим миром.
Тот древний хаос, которого так пугал древних греков, и они страшились его больше смерти, стал явью и реальностью сегодняшнего дня. Поэтому стиль возвратности мыслительных усилий автора по реконструкции того пласта человеческого «Я», который связан с отвлеченной идеализацией действительности, показался ему единственно верным и отвечающим потребностям текущей ситуации. Опора на первосущности, открытые в древности, необходима нам и сейчас, иначе все немногие, еще оставшиеся островки смысла и гуманистического содержания жизни человека, погибнут в наборе симулякров псевдокультуры, необходимой всего лишь для воспроизводства псевдочеловека.
И самое последнее. В ходе работы над книгой все с большей определенностью перед автором вставала задача ухода от «нейтрального», освобожденного от наслоений культурных подходов и ассоциаций философствования. Особенно это касалось тех разделов, когда необходимо было «приземлиться» на почву национальной традиции, связать материал с русской линией «любви к мудрости». Но расширять повествование, менять жанр эссе ему не хотелось. И автор нашел, как ему показалось, остроумное решение. Он перевел целый ряд подобных «приземлений» в приложение к книге. Самым любопытным оказалось, что независимо от воли автора, опять на первый план вышли имена Пушкина, Чаадаева, Толстого, Достоевского, Вл. Соловьева, В.Розанова и многих других светочей русской мысли. Но в первую очередь – Александра Сергеевича Пушкина, что по-своему подтвердило изначальную правоту автора (по крайней мере, ему так кажется) в излагаемых им идеях.
Бытие как оно есть
Стрела Парменида
За полтысячи лет до нашей эры, то есть до Рождества Христова, на свет появился один из самых глубоких умов человечества философ Парменид Элейский. Его главное сочинение, какое впоследствии было названо «О природе», определило главную категорию мыслительной деятельности человека – представление о б ы т и и. Приведем дошедшие до нас, к великому счастью, основные тезисы мыслителя. Он таинственным образом постиг и зафиксировал в своих рукописях (хотя, скорее всего, это было записано его учениками и дошло до нас в их передаче, включая Сократа, который сам был воссоздан «чужими» словами, Платона, прежде всего) – самую главную особенность и тайну познания человеком действительности.
Вот как он говорил: «Помимо Бытия нет ничего. Также и мышление, и мыслимое есть Бытие, ибо нельзя мыслить ни о чем. Бытие никем и ничем не порождено; иначе пришлось бы признать, что оно произошло из Небытия, но Небытия нет. Бытие не подвержено порче и гибели, иначе оно превратилось бы в Небытие, но Небытия не существует.
У Бытия нет ни прошлого, ни будущего. Бытие есть чистое настоящее. Оно неподвижно, однородно, совершенно и ограниченно».
Понятие бытия носит, конечно, исключительный характер. Собственно, скорее всего, именно Парменидом было определено то изначальное свойство действительности, какое является основой всего и вся. Нам сейчас легко разбрасываться словами – действительность, реальность, существующее, объективное, не вкладывая в них особого содержания, не актуализируя ту среду, которая окружает нас во всех своих умопомрачительных по сложности проявлениях, а также и нас самих.
Какое же мыслительное усилие необходимо было древнегреческому философу предпринять, чтобы уяснить нечто, что окажется приемлемым для всех видов научного знания и для эмпирического опыта каждого человека! Более того – вообразить наличие некоего невидимого, но основного правила существования всего сущего – воплощение бесконечного объема жизни через категорию бытия! Понимание сущности существования, как это было представлено Парменидом и другими древнегреческими мыслителями (не будем забывать, что Демокрит являлся современником Парменида) в их идеальных проекциях, сродни чуду богоявления и открытия возможности вечного существования человека.
Бытие выступает и как среда существования субъекта, и как непосредственный, единственный и вездесущий объект приложения и реализации всех действий человека, его усилий, идеалов, нравственных установок. Оно выступает как основная опора мыслительных операций человеческого сознания по объяснению и описанию действительности.
Существенные дополнения в понятие бытия привнес М. Хайдеггер[1]. Вот что он писал в своих так и не опубликованных при его жизни тезисах, какие, может быть, лучше отражают некую суть его представлений о категории бытия, чем, к примеру, его классический труд «Бытие и время», к которому мы также обратимся по ходу наших размышлений.
Во-первых, он отнес понятие бытия к так называемым «сущеполагающим словам», в которых концентрируется самая суть понимания действительности. Во-вторых, он добавил к определению Парменида свое уточнение бытия, назвав его «пра-бытием». Но поскольку в основных своих параметрах это добавление совпадает с тем, что имел в виду великий грек, мы не будет особо акцентировать свое внимание на этой терминологической новации. И здесь же, в этой точке Хайдеггер заявляет, что «пра-бытие никогда не объяснимо» [1, с. 83], что вполне коррелируется с формулами Парменида.
Прежде чем перейти к изложению дальнейших взглядов Хайдеггера на бытие, необходимо заметить, что в отличие от древнегреческой традиции немецкий философ стремится обнаружить механизм взаимодействия мышления человека и основополагающего представления о сущности бытии. А именно: каким образом оно, это представление, входит необходимой частью в сознание человека, а также, как оно начинает менять процессы апперцепции действительности? Ведь гениальность Парменида состоит, прежде всего, в догадке об объективности реальности в ее неподвижном как бы свойстве – бытие есть материя и среда существования человека [1]. Великий грек и не подозревал, что одно это предположение изменит будущее содержание человеческой культуры, повлияет на развитие человека с когнитивной, прежде всего, стороны его самореализации в действительности. Понятие объективности существования бытия через это фундаментальное представление было окончательно привнесено в европейскую мыслительную традицию[2].
Хайдеггер же выписывает следующий механизм проникновения понятия бытия в сознание человека: «Настоятельно вникнув в пребывание (в действительности – Е.К.), человек «мыслит» Вот-Тут-бытийность (своего существования – Е.К.) в выпрыгивании в… пра-бытие… В таком мышлении человек перепрыгивает через свою прежнюю сущность… мысля, поднявшись над собой» [1, с. 85]. По Хайдеггеру, осмыслив свое пребывание в реальности, человек может подняться (перепрыгнуть) до истинного представления о бытии и тем самым преодолеть свою прежнюю, примитивную человеческую сущность. То есть без представления о бытии человек не может осуществиться как экзистенциальная монада, пребывающая в реальности как таковой и – главное – осознающая ее.
Вышеприведенные рассуждения могут показаться научной тривиальностью, если бы не твердая уверенность и Парменида, и Хайдеггера, что абсолютное большинство людей никогда и не задумывалось о своей бытийпости, не размышляло над тем, насколько их представление о бытии может повлиять на их же реальную судьбу. Но философское сознание, что в древности, что сейчас, никогда не тяготилось этими практическими соображениями, ему всегда было важно обнаружить истинную подкладку присутствия человека в мире.
Возвращаясь к дополнениям, что сделал Хайдеггер в представлении о бытии, приведем еще одну цитату: «Пра-бытие – вырождается в метафизике, в конце концов, в какое-то пустое, затертое слово, которое уже едва-едва может выразить уже недействительное отделение мысли от всего действительного…» [1, с. 86] А «пра-бытие обретает в мышлении, связанном с историей пра-бытия, уникальный ранг основного слова…» [1, с. 87]
В силу того, что автор будет во многом в дальнейшем анализе опираться на явления искусства (литературы, прежде всего), он не может не обратить внимания на то, как соединяет немецкий философ представление о бытии со с л о в о м. При всей неполноценности слова как такового, особенно в пределах неразвитых (эпистемологически примитивных) языков, во весь рост встает гносеологическая проблема соответствия звукового комплекса (слова) тому или иному явлению реальности. Откуда нам знать, что слово б ы т и е на русском языке несет в себе то содержание данного понятия, какое имел в виду Парменид или – в развитие проблемы – соответствует ли оно расширению этого теоретического представления о бытии, какое произвел Хайдеггер?
Ведь очевидно, что понятие «Бытие» в древнегреческом, немецком или русском языках будет представлять из себя различные семантические единицы, содержащие в себе во многом различные коннотации. (Эти коннотации будут отражать не только особенности развития языка, но психологический и культурный опыт становления того или иного этноса). Однако, также очевидно, что существует безусловная корреляция между всеми обозначениями данного понятия в различных языках, и семантическое ядро термина «бытие» наличествует как факт некоего единства в понимании.
Понимается не нечто конкретное в каждом из языков, поскольку эта конкретность как раз не совпадает, но некая, находящаяся за скобкой словесного обозначения суть явления. Она носит во многом нерациональный характер, она направлена к глубинным структурам сознания, которые соглашаются с тем, что ими было угадано нечто объективное в мире. Слова являются лишь маской или символом этого объективного содержания.
Бытия не может быть больше или меньше в разные периоды исторического развития, оно равномерно присутствует в том явлении, что человек называет жизнью, равно как земная атмосфера везде и всюду едина, только ее плотность, давление могут, да и то незначительно, разнится от региона к региону, от континента к континенту, от океана к другому океану. Парменид был абсолютно прав, говоря о неразделяемости и единстве бытия. Другой вопрос, что субъективность человека или субъективность этноса, государства, исторической эпохи, художественного направления, вроде Возрождения, могут сгущать, исходя из собственных целей и задач бытийность бытия как таковую.
Оно (бытие), разумеется, никак на это не откликается, но людям все равно кажется, что бытие подвергается их воздействию, становится то драматичнее, то спокойнее, то предстает в виде конца времен и прекращения истории человечества, но все это опредмеченные человеческие реакции – с самим бытием ничего не происходит по существу. Единственно, что может сподвигнуть наше бытие к изменению, это столкновение с другим, равнозначным ему бытием, каковое воображаемо всего лишь в наших самых отважных фантазийных проекциях. (Вообразим, в конце концов, что человечество может повстречаться с внеземным разумом, скорее всего, существующего в иных координатах реальности).
Учитывая всю непомерную сложность данной категории – бытия, тем более хочется отчетливее вглядеться в те явления искусства, в которых эта объективная стороны жизни представлена с изумительной верностью и глубиной адекватного выражения. Это все великие имена – и Гомер, и Данте, и Шекспир, и Толстой, и Шолохов, конечно же.
* * *
Надо честно признаться, что при подходе к миру Шолохова мы встречаемся с целым рядом интеллектуальных задач, какие простым сопоставлением или аналогией его мира с творчеством какого-либо писателя, или какой-либо художественной школы, стилевого направления не работают. Хотя они, безусловно, видны, что называется, при первом взгляде на «Тихий Дон», к примеру. Тут сразу возникают ассоциации и параллельные пересечения разной плотности и сложности с Гомером, Толстым, русским реализмом в целом, с мировой романной традицией.
Однако такого рода взгляд становится расплывчатым и дефокусированным, как только мы начинаем углубляться в конкретный материал и вычленять то, что можно обозначить, как специфику художественного почерка, независимость и оригинальность эстетического миросозерцания, не говоря уже о философской основе творчества. Все это во многом не носит какого-либо определенного характера и требует дополнительных ухищрений, какие часто у ряда исследователей выглядят просто-напросто притянутыми за уши и не добавляют ясности к той проблеме, какая обозначена чуть выше.
Такое ощущение, что весь набор мировоззренческих и эстетических координат Шолохова располагается совсем в ином пространстве, с которым работает и в котором находится сам исследователь. Ведь, к слову сказать, безусловно, что шолоховское творчество стоит особняком и всякого рода его привязки к тому массиву русской литературы, какой мы обозначаем, как советская литература, носят весьма условный характер.
Вот, и проблема хронотопа шолоховского мира оттуда же. Кстати сказать, кроме собственной работы автора, да и подходов к этой теме крайне незначительного числа ученых, весь набор исследований о Шолохове демонстрирует поразительное равнодушие к этой ключевой для творчества любого писателя категории. Разговор о хронотопе – это ведь не совокупность разрозненных суждений о формах отражения времени и пространства в словесных текстах какого-либо писателя, но выражение самых глубинных его представлений о сути изображенной действительности – понимание ее в основных бытийных (художественно переданных) категориях.
Главная задача словесной формы искусства – литературы есть «выговаривание» действительности, бытия, как об этом убедительно писал Хайдеггер, да и вся «платоническая» линия мировой философии и эстетики была в основном об этом. При всей внешней ограниченности своего материала – всего лишь слово – литература подступает к решению самых сложных вопросов бытия. И это не красивые слова. Ведь нам только кажется, что данный процесс носит рутинный характер. Мы относим нашу возможность мыслить (или что мы понимаем под этим понятием, и его придется уточнить несколько ниже) к разряду некой особой функции нашего человеческого естества, похожей, может быть, на чувство голода, на процессы поглощения пищи, на некоторые другие инстинкты.
На самом деле, мышление как таковое ограничено в своем применении, и проявляется в полном виде у считанного количества индивидов. Основной массив человеческих субъектов и производимые ими простейшие логические операции, связанные с перемещением людей в пространстве, с выполнением тех или иных профессиональных функций, с выявлением своего отношения к окружающей действительности – погоде, социальным условиям, политике своего государства и т. д. и т. п. – человек относит их по разряду мышления, хотя таковыми состояния человека, описанные выше, совершенно не являются. Это поверхностный слой примитивных (у каждого из индивида свой по разветвленности и известной сложности) когнитивных рефлексов человека, которые никак не несут в себе признаков развитой мыслительной деятельности, предполагающей известную системность, и главное – высокую степень абстрагированное™ от конкретных условий существования.
Мыслить – означает оперировать не «слепками», «образами», «символами» конкретных предметов, явлений, событий и тому подобное, но работать с выделенными сущностями {гештальтами) предметов, явлений, процессов. Таким образом, процесс мышления начинается там, где субъект посредством своего сознания и более тонких особенностей своей когнитивной личности, среди которых немаловажное место занимают таинственная интуиция и ощущение сути того или иного явления в его очищенном виде, начинает проникать в некое ядро предметов и явлений и в закономерности их взаимодействия.
Это занятие куда как скучное для большинства людей; и на самом деле, прожив всю свою жизнь, они так и не узнают, а что такое мыслить по-настоящему, они так и умирают, уходя в мир иной, ни разу ни помыслив о мире, в котором им довелось побывать. В таком бытийном состоянии многих и многих людей нет ничего обидного или для них унизительного – жизнь прекрасна и удивительна и в том случае, когда индивид ее проживает на известном рефлекторном уровне, не стараясь обнаружить более глубокие основания своего личностного отношения к действительности, к своему собственному Я и другим вопросам так называемого философского сознания, что вовсе не является обязательным – повторим еще раз – для каждого из живущих людей.
Важность философствования как такового, если, опять-таки, под этим понимать не схоластическое и ложное манипулирование терминами, малопонятными для обычных людей, или выстраивание каких-либо безумных схем и теорий, за которыми не кроется ничего содержательного, и такого рода деятельность носит, конечно, профанный характер, – связана совершенно с иным позиционированием человека по отношению к жизни. Заметим, кстати, что основной массив философской литературы, особенно в период XX века, создан именно по вышеотмеченным (профанным) признакам.
Но как только мы начинаем ставить перед собой, своим сознанием, вопросы о смысле жизни, о Боге, о происхождении человека, о тайнах Вселенной, об этической стороне человеческой души, о самой душе, о смерти, о разделении живой и неживой природы, о красоте и добре, о тайнах организации материи в нашем мире – мы неизбежно упираемся в необходимость сформулировать самые общие и принципиальные представления о бытии, на базе которых и будут решаться все вышеозначенные вопросы. Не в том смысле, что они непосредственно будут решены в практической деятельности человека, но человек приобретает основание, на котором он может утвердиться, задержаться и начать обозревать данный ему в ощущениях, отношениях и первоначальных представлениях объективный мир. Причем в пределы этого понятия «объективный мир» законным образом помещается вся сфера индивидуально-субъективного контента жизни каждого человека, то, что изначально присуще только ему одному и не имеет никакого эпигонского начала – «не сравнивай, живущий несравним», сказал поэт.
Вопрос даже не в создании некой одной-единственной и правильной «теории всего», о которой, кстати, мечтал А. Эйнштейн [3], – вовсе нет. Теорий, точек зрения, концепций может быть значительное множество, и они могут обладать своей относительной истинностью применительно к тем или иным областями человеческого существования, к вопросам духовной жизни. Они, в конце концов, могут носить совершенно экстравагантный характер, быть исключительными по своей оригинальности и сополагаться с очень ограниченным кругом лиц, уверовавших в данную картину мира; она также может стать привилегией и итогом мыслительной деятельности отдельного человека. Русская литература, кстати говоря, хорошо описала этот тип людей – «доморощенных философов», реально создавших свою систему отвлеченных представлений о действительности, причем как бы самого высокого ранга, но рассыпающуюся от столкновения с реальностью в то время, как истинно философское знание является наиболее «твердым» из всех «расходных» материалов мыслительной деятельности человека.
У Достоевского, к примеру, о Боге, милосердии, неотвратимости наказания, о нравственности человека рассуждают не только Иван и Алексей Карамазовы, получившие известное образование, но и Смердяков, носитель своей собственной житейской философии, создающий абстракции как бы высокого плана, но, по сути, являющимися пародией, «смещенной проекцией» совсем неадекватного жизни мышления.
Для понимания хода наших размышлений сошлемся, к примеру, на текст Нового Завета, который для этической стороны существования человека является некой «теорией теорий» и имеет высшую степень обобщенности применительно к «внутреннему человеку» христианской доктрины. К слову сказать, наличие четырех канонических Евангелий (от Марка, Матфея, Луки и Иоанна), признанных церковью, и немалого числа неканонических, лишь подтверждают наше предположение – все они инвариантны по отношению к некоему универсальному содержанию созданного и воспроизведенного высказывания Нового Завета, которое находится, собственно, за пределами данных текстов (отдельных Евангелий)[3]. Соответственно, подобные универсальные тексты мы обнаруживаем и в других религиях, помимо христианства, без которых данный (религиозный) способ изъяснения действительности в принципе является невозможным.
Термин «религиозный» указывает в данном случае только на специфику произведенного обобщения, но он не отменяет высшей степени абстракции, регулирующей как раз основные параметры бытия. Это его, бытия, упорядочивание произошло замечательным образом, включив, наконец, в состав евангелического высказывания самого человека, антропное начало, какое нашло себе место и ожитворило холодность космической жизни, представленной на земле.
* * *
Но, помимо осуществления в коре головного мозга человека сложного соединения разного рода нейронных цепочек, возникновения тех или иных электрических импульсов там же, какие активируют те слои нашего серого вещества, какие отвечают за процессы абстрагирования и архетипирования, на выходе мы получаем не просто некий набор сложившихся нейронных структур (физиологическая сторона процесса мышления, какую никак не обойти) в голове философа, но и определенного рода текст (большой или маленький – не суть, это может быть в итоге, несколько слов или предложений, опредмеченных в сознании человека) или набора графических формул, какие также сопровождаются определениями и понятиями, воплощенными в слова.
Таким образом, вся сложнейшая мыслительная деятельность человека по объяснению данного ему мира упирается в некие ограничивающие его когнитивные возможности словесные пределы. Нет другого (пока!) механизма перевода складывающихся представлений в сознании мыслящего субъекта, кроме как воплощение их в сочетания слов, многие из которых и не приспособлены (и не могут быть таковыми, по существу) для передачи сложнейшего содержания, какое определилось (опредметилось) в сознании человека[4]. Разумеется, большую роль играют в процессе мышления интуитивные прозрения, смутные ощущения угаданной истины; очень многие явления творческой жизни не попадают в сферу формализованных определений и подчас осуществляются как подсознательная, не подвергаемая рефлексии, деятельность.
Удивительным примером «первоназывания» первых же осознанных человеком отвлеченностей, вроде представлений о времени, пространстве, объеме, весе, длине и т. д. является система философствования, представленная в древнегреческом языке. Кроме отрывочных и не систематизированных представлений об этих абстракциях, идущих от микенской культуры, бывшей до древнегреческой античности, частично от древнеегипетской – первым древнегреческим философам не на что было опираться. Процесс определения действительности в понятых ими сущностях и самой номинативности называния всех предметов и явлений реальности шел удивительным образом – сам язык помогал формулировать систему первоначальных представлений о реальности. Самым парадоксальным, может быть, является осознание понятия ничтожно малого (атома), как основного элемента материальной жизни. Степень гениальной глубины проникновения в бытие, какую мы наблюдаем у древних греков в данном случае, настолько поразительна, что подчас приходят в голову соображения о помощи иной цивилизации, может быть, и внеземной.
Вообще, само выделение древними греками основных четырех стихий (огонь, земля, воздух и вода) говорит о наличествовавшем в языке механизме, который способствовал появлению формул максимальной отвлеченности в их мышлении. Собственно, величественные фигуры Аристотеля и Платона, итожащие развитие древнегреческой философии говорят нам именно об этом – настолько легко они оперируют абстракциями самого высокого плана и создают настоящий язык философии. В этом языке наличествует не просто глубина тех или иных проникновений в тайны мироздания и нахождение этим тайнам (сущностям) соответствующих понятий (слов), но удивительная конгруэнтность сочетания этих представлений, которая говорит о непротиворечивости и внутренней слаженности (апостериорности) создаваемой философской системы, и самой действительности.
Разрыв между нейронным отражением мира и его словесным воплощением всегда и неизбежно существует. В зависимости от таланта и глубины проникновения в тайны мира воображаемого философа существует большее или меньшее соответствие представленного в сознании человека и воплощенного в слове. От этого, между прочим, терминологическое новаторство многих мыслителей, создание ими особых терминов, даже слов, какие, по их мнению, наиболее точно передают пойманное, угаданное ими содержание бытия.
Но нас привлекает аспект именно словотворчества, который в силу национальной традиции так сильно проявился в русской культуре. Русская культура, и соответственно, русская философия, решили сэкономить на некоторых этапах этого сложного процесса, поэтому часть из них она элиминировала и сразу перешла к словесному воплощению тайн и сути жизни, человека и бытия мира. Поэтому главными русскими философами стали русские писатели [4].
Также крайне важен сам язык, на котором происходит оформление философских категорий, отвлеченных понятий. Очевидно, что по своему генезису, дальнейшему развитию языковой системы, по наличию созданных на данном языке разного рода текстов, в которых воссоздана модель и сопутствующее ей объяснение действительности, языки разнятся между собой и очень сильно. Способность одних языков с большей легкостью генерировать из себя отвлеченные понятия и суждения может контрастировать с языками с неразвитым уровнем абстрактности. Среди индоевропейских языков мощным потенциалом абстрактности обладают немецкий и французский языки, обширны в этом отношении возможности английского языка. Русский язык находит свое особое место в этом оркестре мировых языков, обладая как очевидными преимуществами, так и известными недостатками в плане создания разветвленных и сложных философских систем [5].
Самое удивительное в этом процессе, что он еще не закончен, несмотря на усилия, так называемого постмодернизма, он все тянется и тянется в будущее, невзирая на то, что данный процесс активно «подминается» новыми формами отражения бытия – визуальными, прежде всего. А также цифровыми, какие требуют отдельного рассмотрения, и, скорее всего, в философском ключе. Происходит перенастройка самого способа освоения человеческим сознанием реальности. Если прежний способ был связан с переводом и итоживанием в известном смысле эмпирических, чувственных восприятий действительности в процессе классификации, систематизации, и, говоря проще – понятийного (и в этом отношении абстрактного) оформления полученной информации, то сегодня этот процесс выглядит несколько иным. Прежде, в традиционном типе культуры, конечным – и поэтому особой важности – носителем полученной информации когнитивного плана выступал сам звуковой комплекс слов или его варианты в виде разнообразных математических, физических и химических формул. Впоследствии к этому добавились биологические формулы, описывающие, хотя бы и в первом приближении, основные механизмы действия человеческого организма.
Сейчас же, с появлением сложно организованных чипов, являющими основой компьютерной и всякой иной вычислительной техники, включая весь набор разнообразных гаджетов, процесс передачи информации совершается по модели действия сложных систем в живой природе, где прохождение электрического или иного импульса не нуждается и не требует какого-либо его словесного оформления. Разумеется, что возможно создание словесной адекватной модели всякого вычислительного устройства, но это будет иметь, во-первых, бессмысленный характер, а, во-вторых, она будет громоздкой и крайне не функциональной.
Соответственно и видеоряды, связанные с передачей информации, по-иному, нежели слово, влияют на организацию нейронных сетей человека. А сегодняшние подходы к созданию квантового компьютера уводят посредническую роль словесных понятий вовсе на второй план – они перестают быть функционально полезными для работы тех или иных устройств.
* * *
Так вот, в этом месте, опять о хронотопе Шолохова. Он описывает ситуацию, в которой мировое время как бы переформатировано, оно перестает существовать в прежнем виде. Завершение первой мировой войны, перешедшей в России в гражданское столкновение, усилило момент катастрофичности на родине Толстого и Достоевского. Но это был ужасный процесс для человечества в целом, так как никто не знал достоверно, не остановилось ли мировое время окончательно, протянется ли оно в дальнейшее, будет ли оно еще «быть». Отчетливо эти эсхатологические настроения проявились в культуре, философских построениях, исторических проекциях, подобных «Закату Европы» О.Шпенглера. (Сегодня мы переживаем во многом схожие перипетии). Это не раз и не два случалось с человечеством во всей истории его существования, но особенности исторической памяти, которая в отличие от биологических и физиологических рефлексов, заключается в том, что ее содержание не переходит в состав тех или иных геномов и не влияет на изменение природы человека. Оно просто прекращает быть для отдельного человека, этноса, государства, целой цивилизации, не оставляя после себя никаких своих следов временного рода.
Опосредованно оно запечатлевается в произведениях быта, культуры в самом широком плане, но оно неуловимо для проведения его анализа и дальнейшего исследования. Оно или есть или его нет. Подобный кризис перелопачивает историю человечества. Ухватиться за какое-то подобие времени, связанного в основном с представлениями о будущей непостижимой жизни после-смерти, исчезновения, небытия, философски трудно, почти невозможно. Поэтому столь актуализируется эта тематика от самых примитивных цивилизаций, в которых племена чуть должны были пожирать части умершего человека, чтобы продлить его существование, до сложнейших и детально разработанных представлений и технологий по оформлению загробной жизни человека в разнообразных мировых религиях. Достаточно сослаться, чтобы не расширять этот аспект, на мумификацию в Древнем Египте, которая носила исключительно изощренный и продвинутый характер, так что умерший собственно продолжал активно существовать в своей новой ипостаси в сознании многих и многих людей. Он продолжал для них жить и во внеземном существовании.
При этом высшие божества во всех мировых религиях наделяются бессмертием и вечным существованием. Одно христианство провело своего бога через смерть и временное небытие, чтобы доказать исключительную победу высшей силы не столько над смертью, сколько над временем. А так, в обыденной культуре человека, время и смерть, небытие становятся синонимами.
Таким образом, бытие и время увязываются теснейшим образом и не могут существовать одно без другого. Какое же все это имеет отношение к имени Шолохова? На наш взгляд, безусловно, прямое. Те же самые категории – бытие и время – являются ключевыми для художественного мира писателя. (Мы понимаем всю относительность этого привычного словоупотребления «художественный мир» применительно к автору «Тихого Дона». «Мимесис» гораздо более уместное выражение по отношению к той воспроизведенной реальности Шолоховым через совокупность выбранных им, и соединенных в некое удивительное единство, слов).
Именно воспроизводством бытия и времени занят этот уникальный писатель. Что же, воскликнет нетерпеливый читатель, не то же делает любой писатель, обладающий мало-мальским талантом соединения слов в некую целостность? И да, и нет.
Обозначим для дальнейшей логики наших рассуждений несколько проблем, какие необходимо решить, отвечая на вопросы скептически настроенного стороннего реципиента наших соображений. Вот, к примеру, Гомер, его великие поэмы. Понятное дело, что собственно вопросы о сознательном воспроизводстве бытия и времени слепым древнегреческим поэтом, не имеют никакого смысла. Излагаемые им рассказы, с одной стороны, о Троянской войне, с другой, о странствиях Одиссея, идут почти по линии физического линейного времени – от точки альфы до точки омеги, от начала действия, какое он считает важным и каким он начинает повествование, до финального завершения излагаемых историй.
Но внутри линейного, сцепляемого своими частицами, времени, через причины и следствия событий, воплощенных через замыслы, поступки, фантазии героев античных поэм, живет и ярко себя проявляет – время мифологическое, обобщенно укрупненное, поскольку и самому сказителю понятно, что речь идет о существенных историях в жизни целых народов, не только выдающихся героев и вождей. Это мифологическое время может быть нами сегодня понято как время историческое, наполненное тем содержанием, что ляжет потом в основу целой культуры, на базе которой вырастет здание европейской цивилизации. Есть странное предубеждение, что представление об историческом времени отсутствует в древности, что оно также не развито в Средневековье, и появляется в светской традиции всего лишь в период Нового времени. Но это не так, просто оно упрятано в другие формы помещения человека в бытие.
Христианство делает попытку размыкания бытового времени человека, воспринимаемого как движение его жизни от рождения до смерти, исчезновения, оно вводит понятие бесконечности через отрицание смерти, через возможность продолжения жизни за пределами физического существования. Для этого, правда, необходимо человеку оторваться от своей физической оболочки, потерять свою индивидуальность, понимаемую и ощущаемую как совокупность созданных в течение первоначального, исходного времени признаков себя как отдельного, независимого тела.
Тело – это то, что связывает человека с пространством. Само его трехмерность и объемность есть слепок пространства, некая его запечатленность (можно сказать, и не ошибиться – запечатанность). Время спрятано внутри человека, оно воплощено в процессах его перевоплощения, эволюции его физичности – всякий индивид растет, развивается, стареет, кровь густеет, сердце бьется с перерывами, позвоночник сгибается, человек приближается к смерти – и для этого необходимо время. Для совершения всего подобного, во-первых, и для объяснения феноменологии самого процесса, во-вторых. Не было бы времени, тело не разрушалось бы, человек бы не умирал. Тем самым пространство, засевшее в самом теле человека, одновременно пропускает через себя своего главного врага – время. Время заставляет пространство осуществляться, без времени нет и пространства. Существует ли время само по себе, помимо пространства, – это большой и нерешенный вопрос. Единственно внятный ответ, какой придумали физики, связан с тем, что в точке Большого взрыва не было ни того, ни другого. Ни времени, ни пространства. Но вместе с тем остается «висеть» вопрос – где же именно произошел взрыв? В каком моменте времени и в какой точке пространства? Не ответив на этот вопрос, невозможно получить внятного ответа о природе Вселенной и, соответственно, о времени и пространстве.
Очевидно, что, разрушив свое тело через неумолимую работу времени, человек познает время как некую неодолимую суть, он сам становится частью времени, располагается внутри этого беспрерывного потока летящих куда-то равнодушных частиц времени.
Преодолеть проклятие времени человек может, отказавшись от своей плоти, перейдя в иное состояние, связанное с его духовными представлениями о ценностях, находящихся за пределами тела и не подвластные его плотскости. Это самое уязвимое место для христианина: ведь создаваемая им максимально праведная или просто достойная человека жизнь, воплощаемая во временном процессе, осуществляется именно что в теле и через тело, и все это выступает в качестве некоего неразделяемого единства.
Человек как совокупность своих внутренних представлений, эмоций, желаний, страстей, помыслов, идеалов может их взять с собой в вечное время, только отказавшись от своей плоти и уйдя в бестелесность, став, собственно, духом как таковым. Но и в этом случае момент историзма никак не помогает человеку и, может быть, нахождение его за пределами этого историзма и есть лучший выход для него в онтологическом смысле.
Проблема сегодняшнего человека заключается как раз в том, что частное существование у него совместилось с историческим, и не по воле самого человека. Причем историческое понимается, как нахождение внутри определенного рода внеличностных событий. Частное и всеобщее совпадают в компендиуме исторического времени. Индивидуальное время для человека сопряжено с представлением о его собственной жизни – это движение к моменту своего физического исчезновения, поэтому оно конечно и в этом отношении трагично для всякого человека. Чем больше у конкретного человека развита рефлекторная сторона отношения к действительности, тем большей остротой сопровождается у него ощущение субъективного временного потока.
Этот аспект является наиболее объединяющим для большинства людей, так как схожесть реакций исключительно велика. Другое дело – восприятие человеком того времени, какое как бы находится за пределами его индивидуального сознания – времени мифологического, исторического, вечного. Оно не подвергается эмоционально-чувственной апперцепции и выступает для подавляющего большинства людей как антураж их существования. По существу контакта у человека с историческим временем и не происходит. Погибающий на войне в бою герой или уничтожаемый в газовой печи узник концлагеря или ступающий на Луну астронавт не могут вообразить себя вне своего личного времени и передать часть своих поступков или переживаний так называемому всеобщему или историческому времени.
Последнее протекает сквозь более серьезные образования материи как таковой – культурные артефакты, цивилизацию, историю человечества в целом, через жизнь планеты Земля в том антропологическом измерении и понимании, какое нам доступно. Я уже не говорю о невозможности, будучи в коконе своего физического тела, осознать возможность времени вечного, то есть связанного с возможным бессмертным, то есть бесконечно длящимся, состоянием твоей души, твоего ментально-нравственного Я.
Хотя последнее представляет собой наиболее сложную метафизическую задачу – что же именно внутри человека будет претендовать на вечное существование? Душа? Какой-то слепок твоего ментального образа? Совокупность всех эмоций и мыслей, пережитых в реальной жизни? Заметим, что Демокрит предполагал, что душа также состоит из атомов.
Гораздо проще вообразить себя и окружающий мир элементами некой компьютерной игры, в которую играют высшие существа, могущества и форм существования которых мы не можем и представить. Приходилось, кстати, читать исследования, в которых определенным образом доказывается искусственность среды, в которой мы существуем. Согласимся, по крайней мере, с теми соображениями, что количество загадок существования человека, связанных с развитием его возможностей и усложнением самой цивилизации, только увеличивается, а не уменьшается.
Становится очевидным, что идея эволюционного развития живой природы и самого человека совершенно не работает. Она противоречит фактам многообразия живой природы, нарушает, собственно, эволюционное правило осуществления природного мира прежде всего в аспекте многообразия (мириады существующих форм, причем ряд из них технологически настолько сложны и избыточны для существования самых простых существ – насекомых, животных, что искусственность появления таких свойств, как «тепловидение, инфракрасное зрение, особого рода чувствительность» и многое другое, выглядит как единственно разумное объяснение). Эволюция или то, что мы под нею понимаем, утилизирует (делает доминантными, но никак не многообразными) оптимальные свойства и качества живых существ – от растительных до самого человека – природного мира. Но она, эта эволюция не нуждается в многообразии мира, которое по существу не функционально и не предполагает дальнейшего развития свойств и качеств живой природы. А потом – и это один из самых загадочных элементов картины мира – она до безумия прекрасна и создана именно что под осознание и прочувствование всего этого разнообразия форм живой жизни человеческим существом. Мир – прекрасен сам по себе, но в первую очередь для сознания и чувств воспринимающего его человека.
Наконец, так и не объясняется наукой топологичность (совпадение) наших знаний, как бы и точных, с реальными законами действительности. Почему, откуда появляется соположение и последовательность в научном изъяснении мира? Ведь, все, что допускали в качестве гипотезы наши великие предки, нашло дальнейшее подтверждение в точных науках, таких как математика и физика, прежде всего.
Совершеннейшей загадкой выглядит наблюдаемый нами мир. Никакого рода внятного объяснения происхождения Вселенной, смысла космоса, самой картины безбрежного мирового пространства – как не было, так и нет.
* * *
И вот в этом моменте безусловной метафизики необходимо вернуться к Шолохову, к его вселенной, которая обладает подобными же загадками и туманностями, которые, безусловно, нельзя разгадать в полной мере, но наметить пути поисков и осуществления хоть какого-то приближения – необходимо.
У Шолохова представлено полное и развернутое бытие как таковое. Оно носит абсолютный характер в силу своей объективности и готовности все внутри себя перетерпеть и пережить, не рассчитывая ни на чье-либо сочувствие, ни разделение с ним, бытием, тяжести происходящего. Тем-то удивителен мир Шолохова, что он обладает изначальной универсальной наполненностью и целостностью в своем состоявшемся единстве. Оно, это единство, никак не зависит от конкретного содержания, каким наводнен внешний мир – оно равнодушно по отношению к своему содержанию и независимо от возможного соучастия субъективного начала, его оценок, отношения или всякого другого рода вмешательства в свое устройство.
Ему, единству, все равно – оно существует само по себе, не будучи связанному с какими-то идеологическими, этническими, моральными и всякими иными ограничениями и требованиями. Это все равно, как смешно просить у урагана быть в каком-то месте поспокойнее, а в другом побушевать сильнее: пока эта бытийная сила не исчерпает всего своего потенциала, она будет равно одинаково беспощадна, или напротив, милостива, по отношению ко всем участникам «события» и всем субъектам.
Выскажем в некотором отношении крамольное соображение, связанное с удивительной благожелательностью советской власти, говоря конкретнее – Сталина – ко всем тем вещам, какие Шолоховым выписывались не только в «Тихом Доне», но и в первой книге «Поднятой целины». Там было столько «несоветского», внешне враждебного и противоречащего установкам и тезисам новой власти, что и за меньший объем подобных прегрешений современники и коллеги Шолохова по писательскому цеху оказывались в местах не столь отдаленных, а пуще того – кончали свою жизнь на плахе. Но Шолохову все прощалось, даже и тогда, когда он усилил свою критику текущей социальной действительности в письмах к вождю, какие однозначно и молниеносно могли быть интерпретированы, как клевета на советскую власть и подрыв существующего строя.
Но чудесным образом все это ему сошло с рук и, хотя он ходил по самому краю, тронуть его Сталин никому не дал. Только глуповатые вожди позднего застойного периода развития СССР посчитали возможным корректировать классика, исходя из своих убогих представлений об искусстве и правде в нем. Не понимая, к тому же, что творчество талантливого писателя – лучший камертон и точка отсчета для исследования того, что делается в стране. Но осознать все это, им было не дано. Так в чем же дело было со Сталиным?
На наш взгляд, ответ кроется именно в той силе воссозданного Шолоховым бытия в его новом временном (глобально цивилизационном и культурном аспектах) выражении, какое обнаруживается в текстах писателя. По сути, Сталин мог утверждать, что именно Шолохов посредством своих произведений понял и адекватно воссоздал все то, что он, Сталин, задумал и стал воплощать в стране. Он увидел в силе объективности текстов Шолохов силу своих идей и их реальную осуществимость. Это был его масштаб и его глубина понимания мировой истории, какая делалась в то время в стране, называемой Советским Союзом. Писатель и вождь совпали в своем уникальном восприятии нового, в мировом смысле, бытия.
Мощь и правда, трагедия и возрождение, сила и перспективы жизни – все это выразилось в произведениях Шолохова. Именно через них Сталин увидел правоту совершающихся изменений невиданного масштаба, которые невозможно было предугадать никакими теориями или абстрактными проекциями. Никто из теоретиков, других вождей не мог дать Сталину ощущение его правоты (в скрытом виде – правоты Ленина и всей большевистской доктрины), а Шолохов смог это сделать. Вопрос даже не в Сталине, хотя его звериная историческая прозорливость и гениальность не могут не восхищать, но в феномене этого удивительного сочетания двух просмотров наступившей новаторской эпохи – художественной и практической, воплощаемой в реальность.
На самом деле так оно и было – советский Гомер показал выигранную новым Ахиллесом Троянскую войну у самой истории. Чудесный порыв русского народа к новым вершинам социального творчества, к перелопачиванию истории человечества, к чему, так или иначе, но был причастен каждый из живущих людей в новой российской империи – и правота всего этого, историческая сила совершаемого были доказаны – в эстетическом отношении – текстами Шолохова.
Да, часть этого отрезка русской цивилизации уж слишком сильно отдает красным оттенком, но что, разве крови было меньше во всех других мировых преобразованиях истории, включая Великую Французскую революцию? Но разглядеть смысл происходящего, гениально точно его воссоздать, разделить с народом поиск идеалов, лучшей участи – можно ли мечтать о другой судьбе русскому писателю?
Даже и написав все это, автор остается в некотором недоумении, так как подобного рода совпадения не могут быть случайными, в них заложена определенная историческая правота, отнюдь не зависящая от индивидуальных усилий и масштаба личности участников, даже находящихся на высших ступенях этой исторической иерархии.
Как без Пушкина был бы невозможен Ренессанс русской культуры и возрождение русской империи в своем высшем виде в XIX веке, воплощенное в победе над Наполеоном и объединенной им Европой и последующем контроле над европейским континентом, так и без Шолохова невозможно адекватное понимание правоты совершенных Россией преобразований в содержании и формах мировой истории в XX веке.
* * *
Но вернемся к понятию бытия в его философском содержании. Оно, еще раз повторим, предельно универсально. Если рядом с понятием времени неизменно вырастает представление о пространстве, то в случае с бытием оно поглощает и ту, и другую категорию, да и все, что только можно вообразить в реальности. Оно выступает как первомонада для определения и существующей, и умершей, и еще не появившейся действительности. Все существующее запечатано его гносеологическими границами. Даже то, что невозможно себе представить в самом отдаленном (будущем) времени уже несет на себе отпечаток бытия как такового.
Удивительным образом оно объединяет живую и неживую материю. Единственное отличие между ними заключено в том, что живое осознает бытие как среду своего осуществления. Особая роль в этом отношении принадлежит сознанию человека. Собственно, представление о бытии ничего не меняет в жизни живого существа, будь то заяц, шимпанзе, бабочка-однодневка, колония муравьев (да мало ли можно привести примеров подобного рода!). Да и в жизни человека разумного, какой снабжен механизмом самоидентификации и понимания краткости своего физического существования, такое представление о своей бытийности ничего не меняет в практическом смысле. Ко всем этим явлением бытие равнодушно, Оно находится везде и нигде нельзя обнаружить его физический эквивалент, если только не брать то или иное явление в его завершенной целостности – от зарождения до небытия. Именно тогда бытие получает свое воплощение, когда физическое воплощение явлений, события, действия, человека, в конце концов, исчезает быть, существовать.
Только завершение того или иного явления, его разрушение и исчезновение позволяет бытию оформиться, стать видимым. «Здесь-существование» любого факта реальности никогда не ощущает своей бытийности, только «там-существование» придает ему определенность.
Этот парадокс (истинное бытие начинается там, где оно заканчивается в своем физическом варианте осуществления) решается самым простым способом. Ниже мы скажем, в чем он заключается, только сразу заметим, что современная культура решила от него отказаться. Понять свое бытие человек[5] может, не просто умерев, но перейдя в другое свое состояние, сохранив свою душу, чтобы получить власть над бытием и окончательное его понимание. Здесь только религиозное представление решает данный парадокс именно таким и очевидным образом: чтобы воскреснуть, нужно умереть. А воскресение и есть фиксация бытия в его очищенном виде и, если хотите, управлением им.
* * *
Так почему же «стрела Парменида»? Куда уместнее было бы найти другое сравнение, другой образ. Вот, к примеру, там же в античности обнаруживаются нами «солнечные» стрелы Аполлона или «легкие», охотничьи стрелы Артемиды. Но автору показалось, что некие идеи, созданные нашими предшественниками по человечеству, продолжают жить и сегодня. И сегодня они пронзают наши сердца и сознание своей точностью и непреложностью понятой, а подчас и угаданной, истины. Нам, кто в современную эпоху постмодернизма отказался от поиска истины как таковой, считая это пустым и несуразным занятием, стоит в очередной раз обратиться в прошлое и увидеть незакрытыми глазами, как из него, из прошлого, нам навстречу летят и летят эти стрелы слов правды, откровений, добра и любви. Мы вяло отмахиваемся от них, считая, что в век торжества цифры и разнообразных гаджетов, в век существования технически всемогущего, но морально опустошенного, человека, они нам ни к чему. Ни к чему не только сами слова, но их смысл, их содержание.
Скорее всего, мы боимся их влияния на нас, боимся увидеть, насколько мелкими, ничтожными, морально пустыми стали наши мысли, желания и идеалы. Не по Сеньке сейчас эта шапка – Парменид, Хайдеггер, Достоевский, Сартр, Камю. Но стрелы летят и летят, и надо подставить, наконец, под них свое сердце, чтобы соединить времена и вернуться назад к обретению тех истинных сущностей бытия, без которых жизнь человека предстает пустой и безнадежной.
Литература и примечания
1. Мартин Хайдеггер. Постижение смысла. Пер. с нем. А.В. Перцева, О.А. Матвейчева. СПб.: Алетейя, 2022.
2. Автор желает в примечаниях привести некоторые отрывки из книги, которая повлияла на него в юности весьма сильно: Древнегреческие материалисты. Сборник. Под ред. проф. А. Дынника. Киев, 1956. В ней наличествует целый раздел, посвященный «бытию». В нем пред став ленны суждения Левкиппа, Демокрита, Аристотеля, других древнегреческих мыслителей, а также их средневековая рецепция, какая носит, во многом, уточняющий характер. Ведь не исключено, что в средневековье ученым были доступны и те источники античности, какие до наших дней уже не дожили. «Ибо сущее в собственном смысле – (есть – Е.К.) абсолютно полное бытие» [с. 56], – одно из высказываний, характерное для Демокрита и подхваченное далее Аристотелем. Там же обнаруживаем замечательный оборот, связанные с тем, что существует представление об элементах действительности; одни из них «полные», другие «пустые». Так вот, Левкипп и Демокрит «полное называли бытием, пустое же и редкое – небытием» [с. 55].
3. Крайне любопытным выглядит сравнение А. Эйнштейна с Парменидом, которое производит выдающийся социолог и мыслитель К. Поппер. Приведем отрывки из его «Интеллектуальной автобиографии» под названием «Неоконченный поиск» (русский перевод 2014 г., Москва). Он пишет: «Всего мы встречались (с Эйнштейном – Е.К.) три раза. Главной темой наших разговоров был индетерминизм. Я пытался убедить его отказаться от детерминизма, который приводил к воззрению, что мир является замкнутой четырехмерной парменидовой вселенной, в которой изменения являются человеческой иллюзией, или очень близко к этому. (Он согласился, что таковы его воззрения, и во время обсуждения я называл его «Парменидом» [Указ, соч., с. 139]. Суть их дискуссий сводилась к тому (я опускаю для ясности изложения набор аргументов с одной и с другой стороны), что Эйнштейн придерживался точки зрения так называемого реализма, в том числе и по отношению к времени и пространству, и тем самым по отношению к бытию в целом, что предполагало достаточно жестко действующие принципы детерминизма, то есть взаимоувязанности всего со всем, в то время, как Поппер исходил из положений индетерминизма, в которых и время, и пространство, и в итоге, само бытие представляются сочетанием постоянно меняющихся, прежде всего, временных срезов, а происходящие изменения, отнюдь не увязанные друг с другом, являются основным механизмом.
Поппер в своих аргументах доходил до достаточно категорических утверждений, какие впоследствии легли в основание его концепции «открытого общества», но то же самое он исповедал в общетеоретическом смысле. Он подчеркивал: «Четкая позиция должна быть занята в пользу «открытой» Вселенной – такой, в которой будущее никоим образом не содержится в прошлом и настоящем, хотя последние и накладывают на него жесткие ограничения» [с. 140].
Это принципиальный момент, связанный с тем, что нам демонстрируется та самая база теории культуры (в том числе и в сфере философии и отвлеченного умствования) постмодернизма, в которой все в мире является индетерминистским, релятивным, собственно, деструктивным, распадающимся на отдельные части и детали.
Замечательно, что он пытается убедить в этом автора знаменитой «теории относительности», самого Эйнштейна, который никак не желает согласиться с навязываемым ему «новым» представлением о действительности. Поппер передает содержание дискуссии с ним следующим образом: «Эйнштейн явно не хотел отвергать реализм (детерминизм – Е.К.) (самые сильные аргументы в пользу которого находятся в области здравого смысла), но, по-видимому, также, как и я, готов был признать, что нам, возможно, придется от него отказаться, если против него будут выдвинуты очень мощные аргументы… Поэтому я и утверждал, что в отношении времени, а также индетерминизма (то есть неполноты физики) ситуация обстоит в точности так же, как и в отношении реализма. Апеллируя к его собственному стилю изложения вещей в теологических терминах (курсив наш, это чрезвычайно важное свидетельство Поппера о том, как, помимо научного дискурса, рассуждал Эйнштейн-Парменид – Е.К.), я говорил: если бы Бог захотел вложить в мир все с самого начала, то Он создал бы мир без изменений, без живых организмов и эволюции, а также без человека и его опыта изменений. Но, по-видимому, Он решил, что живая Вселенная с событиями, неожиданными даже для него, была бы более интересной, чем мертвая» [с. 141].
Стоящий на основах детерминизма и «здравого смысла» и, к тому же ссылающийся на некие теологические аргументы (то есть Бога), Эйнштейн не устраивает Поппера. Более того, его прямо раздражает уверенность великого физика в «реальности времени и проходящих изменений» в реальности. Та самая «беспочвенность» западного способа мышления, о которой писал Хайдеггер и которую он, как философ, анализировал на протяжении своего научного пути, в данном случае доходит до совершенно очевидного эпистемологического тупика, какой в сокращенном виде может быть представлен известным лапидарным высказыванием Воланда из «Мастера и Маргариты» М. Булгакова – «чего не спросишь, ничего у них нет».
Удивительна эта установленная линия близости между Парменидом и Эйнштейном, какую не очень благоприятным для себя способом выстраивает Поппер, так как она демонстрирует истинное (вот еще одно слово – «истина», какое не принимается в построениях Поппера всерьез) подтверждение неугасимости поисков человека и развития его, как фигуры, равной самому Богу.
4. Сошлемся в этом месте на нашу работу, где эта тема разработана достаточно подробно: Костин Е.А. Русская литература в судьбах России. Достоевский против Толстого. СПб., 2019.
5. Отсылаем любопытного читателя к другим нашим работам, в которых детально представлено сопоставление русского языка с иными развитыми языками в аспекте абстрактности и метафизичности: Костин Е.А. Понять Россию. Книга о свойствах русского ума. СПб., 2016.
Тайны времени
Из ниоткуда в никуда
Физики утверждают, что в определенный момент так называемой сингулярности, до «Большого взрыва», ни времени, ни пространства не было. Не было, собственно, и тех форм материи, какие впоследствии развились в связи с разлетом «кварков» и началом действия закона тяготения.
Строго говоря, время – это полет кварков (или того, что кроется под этим словом – элементарных сгустков материи и энергии), изначальных частиц, и дальнейшее развитие всех форм неживой и, в нашем земном случае, живой материи. И это почти очевидно с точки зрения теоретической физики. Но данное понимание ничуть не приближает нас к осознанию природы времени как такового. Время насыщает собою любой материальный объект, любое проявление бытия. Оно выступает в качестве той субстанции, без которой наступает окончательная точка замерзания бытия, и ничто начинает торжествовать над всей Вселенной. Фактически, в момент исчезновения времени прекращает существовать и космос. То есть время всегда есть, оно движется от момента сингулярности до момента окончательного сжатия всей материи в некую черную дыру, из которой не просачиваются ни свет, ни само время. И этот факт позволяет нам утверждать, что время имеет свой физический эквивалент, заключенный во все объекты и явления Вселенной. Но огромность этого эквивалента позволяет нам всего лишь вообразить всемогущество времени, без которого и разбег материи во Вселенной был бы невозможен.
Сознание, правда, отказывается представить себе пребывание абсолютной точки-времени в состоянии некой неподвижности, но, вероятно, так оно и есть. Только со «взрывом», разбегом кварков и других элементарных частиц начинается жизнь времени. Здесь же возникает вопрос о возвратности времени. Ведь предполагаемое движение материи после максимального «разбега» к точке сжатия предполагает, что когда-то время начнет двигаться назад, или, по крайней мере, оно сделает некий разворот, при котором вектор движения времени поменяется на возвратный.
Те же самые физики достаточно уверенно утверждают, что в какой-то момент времени (точка максимального процесса «разбега» Вселенной) материя во всем многообразии форм начнет «собираться» вновь, стремиться к той самой сингулярности, с которой все началось. Но что будет происходить со временем? Будет ли оно продолжать носить тот же линейный характер, или же в данном случае оно просто пойдет «вспять»? И какие процессы при этом будут происходить во Вселенной? Изменяться ли все формы материи, не поменяется ли содержание Вселенной в таком случае?[6]
Все эти отвлеченные и в чистом виде философские вопросы имеют самое прямое отношение ко всякому человеку и ко всем проявлениям живой материи, какие представлены в нашем конкретном случае на планете Земля.
Первоначальное определение времени, особенно ярко выраженное в древнегреческой культуре, связано с ощущением его непрерывности и постоянного свершения. Время никогда не останавливается. Время – это постоянное изменение, оно не имеет никакого физического воплощения, помимо самого всеобщего, о чем было сказано выше, – оно всегда выражается косвенно для человеческого сознания, через смену времен года, старение самого человека, его рождение и смерть в итоге. Это все признаки, по которым узнается время, но понять его исходную природу не представляется возможным.
«Вот-тут-бытие», как говорил Хайдеггер, является не более чем иллюзией, так как оно преодолевается в каждый момент своего существования. «Сейчас», «сию секунду» мгновенно превращается в прошлое, уже ушедшее, умершее. Оно предстает для человеческого сознания той самой неразрешимой апорией, согласно которой Ахиллес никогда не догонит черепаху, так как на каждый промежуток пространства, преодоленный Ахиллом, черепаха отвоюет часть своего пространства. Это не логический парадокс, какой не учитывается качественного изменения преодоления пространства и Ахиллесом и черепахой, но когнитивно – это тупик, не решаемая задача.
То же самое происходит со временем – его, по сути, никогда нет в прежнем обличье, в любой свой миг оно уже другое, и все, что помещается в «пространство» данного времени также всегда и постоянно другое. Таким образом, непостоянство и изменчивость – это главные характеристики времени. Но мы замечаем время только тогда, когда оно облекается в нечто конкретное, материально очевидное – человеческую жизнь, историю земной цивилизации, историю Вселенной, в конце концов. (Последнее утверждение носит несколько безумный характер, так как для того, чтобы видеть и понимать историю Вселенной, необходим некто иной, чем сам человек. Скорее всего, Бог и есть главный зритель истории живой и неживой материи.)
Рассмотрим материальное воплощение времени на примере как раз человеческой отдельной жизни. Точнее говоря, на примере развития и угасания живого организма человека, который зарождается удивительно сложным образом из мельчайших элементов жизнедеятельности других живых существ и в финале распадается на мельчайшие частицы неживой материи, которые прекращаются в итоге в почву, становятся набором атомов самого разного рода, в которых не будет никакого намека на то сложное целостное явление человеческого организма, какое – в ничтожное с точки зрения вечности время – развилось в избыточно сложное существо. Существо, от которого в итоге ничего не остается в физическом смысле, кроме соединения разных элементарных частиц, какие в равной степени могут принадлежать птице, бабочке, собаке, любому другому явлению жизни, которые, подобно человеку, прошли свой временной путь от зарождения, развития до исчезновения, до небытия в абсолютном виде, – как соединение атомов и молекул неорганической природы[7].
Это еще ничего, с этим мы готовы примириться, но человеческий организм, проходя через временной отрезок своего существования, какой в масштабах космоса не различим вовсе, сопровождается иным, странноватым способом отражения действительности, он, оказывается, обладает сознанием и самосознанием и совершает постоянно акты идеального восприятия жизни и себя самого, и всей окружающей действительности.
По большому счету тот отрезок времени, какой проживает обыкновенный человек, даже долгожитель, совершенно не заметен в масштабе понятного нам времени происхождения Вселенной (14–15 миллиардов лет). Он даже не является математической погрешностью. С точки же зрения жизни каждого отдельного человека его существование представляет собой огромный, неповторимый отрезок времени, в котором минуты счастья, часы общения с детьми, месяцы счастливой любви, годы активного творчества и многое другое – являются громадными, важными объемами воспоминаний, пережитых ярких чувств и эмоций, ощущением счастья бытия, какие в конце жизненного пути с наслаждением перебираются в памяти, как важнейшие части и смыслы его времени жизни.
В этом случае (феномен сознания) никого распада не происходит в материальном смысле. Сознание человека с его смертью просто выключается, как телевизор, и не остается никакой, даже малейшей, связи с тем, что составляло громадную, сложную, непонятную по своим интенциям и последствиям интеллектуальную и эмоциональную жизнь человека. Все мгновенно исчезает, как будто этого никогда не было: все чувства любви, привязанности к женщине, детям, внукам, друзьям. Их не остается вовсе, они гибнут мгновенно.
* * *
Известно, что древние греки делили время на три свойства его проявления – хронос, циклос и кайрос. Хронос, постоянно длящееся время, даже имело своего божество, бога с таким же именем. Циклос предполагал наличие понятных человеческому сознанию отрезков времени, которыми можно было измерить жизнь государства, длящуюся много лет Троянскую войну, жизнь самого человека и т. д. Кайрос знаменовал понимание краткого, быстро уходящего момента времени, это то, что мы сейчас называем мгновением.
Гераклит говорил, что «все течет, все изменяется». Это самая полная характеристика понимания времени в античной культуре. Подвижность, отсутствие фиксированности становится субстантивной чертой жизни вообще, но времени в первую очередь. Борьбы со временем в этой культуре не было, поскольку устойчивый антропоморфизм античности резко ограничивал возможности моделирования действительности, выражаясь современно. Тем более удивительными представляются прозрения древнегреческих мудрецов в этом отношении. Понятие атома, пустоты, пространства, космоса, огня как основы жизни Вселенной, обнаружение противоречий между сущностями мира как главного механизма его развития – все это, по сути, противоречит исходному антропоморфизму античности. Даже и подвижки в сторону антропологизма – «человек есть мера всех вещей», как говорил Протагор, ничего не меняет в этой эпистемологии.
У греков были далеко друг от друга разведены абстрактности высшей степени, о которых здесь уже говорилось, и тот самый бытийный антропоморфизм, который позволял великому Аристотелю обнаруживать прямую связь между физическим обликом человека и его психологическими состояниями и чертами характера, ничуть не отрицал самую высокую их интеллектуальную идеальность.
У них же было объемное и живое, замечательно полно выраженное в античной мифологии, чувство физической, материальной жизни, связанное с отчетливым представлением, что все в реальности, окружающее человека, носит не случайный характер. Помимо своего перечня античных богов, которые были больше похожи на конкретных людей по своей сварливости, вздорности, подверженности эмоциям и прочим именно что человеческим чертам, античные мыслители ясно представляли себе некую высшую сконструированность всего бытия, зависящего в этом отношении от другого Бога как управителя и космоса и земной жизни. Обитатели Олимпа были всего-навсего посредниками, которые принимали участие в жизни людей и управляли теми или иными природными стихиями, но никак не претендовали на создание тех высших сущностей, о которых размышляли античные философы.
Этот античный Бог не является вариацией Божественного начала в христианстве. По сути, он не имеет к человеку никакого прямого отношения, да и сам субъект жизни не может претендовать на какие-то короткие с ним отношения. Это, на самом деле был Вседержитель в античном смысле, объективный и всемогущий и затрагивающий человека всего-навсего по реальным причинам – он существует в созданном этим Богом мире.
Знакомясь с мифологией, а также уже и разработанными философскими построениями древнегреческой культуры, нас не покидает ощущение, что античные мудрецы пользовались какими-то дополнительными источниками знания, какие не носили запечатленного в письменном виде характера. Знакомство с этими источниками исключало всякого рода возможности влияния на само представление о бытии или его корректировку в необходимом направлении – более увязанном с потребностями и непосредственной жизнью человека.
Эта запредельная объективность, какая сквозит в эпистемологических, исходных построениях древних греков и делала их открытия столь далеко и мощно работающими, влияющими на сознание человека и более поздних эпох, вплоть до сегодняшнего дня.
Но в древнегреческой культуре были сложные отношения с понятием бессмертия. Собственно, бессмертие – это отрицание времени, его игнорирование. Оно в этом случае теряет всякое существенное свое содержание. Если время длится бесконечно, ничего не меняя для субъекта его восприятия – не важно, человеческого существа или бога (древнегреческого), оно теряет смысл и серьезность своего бытия. Если оно никак не влияет на состояние бессмертных сущностей, то для них оно тогда функционально бесполезно. Не стоит в этом случае на него обращать внимание. Его для бессмертного начала как бы и нет. Он сам, бессмертный элемент, становится иным воплощением всемогущего времени, принимает его основные черты и качества.
Время, как и природа, по гениальному замечанию Пушкина, равнодушно ко всему, чего оно касается. А касается оно всего и всех. И бороться с равнодушной и бессмертной сущностью не имеет никакого смысла. Любая попытка обречена на провал и поражение.
Человечество смогло проявить всего два подхода и выработало в себе слабые, но инструменты борьбы со временем. Или же, хоть какое-то, но противодействие ему. Это вера и творчество. Это основные начала, которые мы разберем ниже более подробно. Есть еще любовь. Но не то исключительное чувство привязанности человека к существу другого пола. Это величественное и сильное чувство, как эманация всех внутренних и нематериальных, то есть не порожденных с участием времени, свойств и качеств человеческого Я. (Наверно, лучше употребить здесь такое неточное, но исключительно попадающее в цель слово – душа).
Любовь к жизни, природе, детям, другим людям, когда происходит отказ человека от всякой своей физичности и материальности (то есть происходит невидимая, но не менее важная от этого победа его над временем), и человек выходит за собственные пределы духовного и психологического состояния и становится готовым к самопожертвованию; его внутренний мир превышает объем его когнитивной личности – человек освобождается от тенет времени и ему становится не страшно умирать.
* * *
Важный вопрос, какой необходимо обсудить, прежде чем перейти к вопросам веры и творчества. Как нужно понимать длительность времени для человека применительно к его бытийности как таковой? Насколько вопрос о времени (а также обо всех других сущностях его пребывания в мире) связан с его сознанием и самосознанием? Это важнейшие вопросы, и мы постараемся дать варианты своих ответов. Ведь, очевидно, что младенца и ребенка первых лет жизни вопрос времени является органической частью его физичности, укорененности в материальном. Сон, потребность еды, голод, боль, которая возникает от какой-то причины, включают дитя в поток времени непосредственно и без обиняков. Какой-то промежуток времени спустя эта укорененность во времени исчезает. Но в самом начале его существования время для человеческого детеныша складывается из частиц его материального существования. Он полностью растворен в «тут-бытии». Представление о времени возникает позже, когда он начинает совершать передвижение по жизни, связанное с известным распорядком и последовательностью событий. Но весь этот процесс совершается неким социальным образом, ребенок попадает в известную общественную среду, которая и приучает его к членению времени, к его восприятию.
Если вообразить себе жизнь детей каких-либо неразвитых, примитивных обществ, какие еще сохранились где-то в самых глубинах Африки, то членение времени для них связано с чередованием дня и ночи, поглощением пищи, с какими-то постоянными физиологическими оправлениями, с ожиданием времени своей инициации и нечто похожего. Никакого осознанного отношения к времени там не существует. То есть фактически времени для детей – нет.
Актуализированное отношение к времени появляется в тот момент, когда подросток, молодой человек начинают фиксировать свое когнитивное и психологическое своеобразие, когда начинает проявлять себя его самосознание. Тогда-то встает перед ним вопрос о времени в метафизическом, то есть в отвлеченном смысле. Время окончания школы, университета, прохождения воинской службы, женитьбы, совершение других, важных для него действий и т. п.
Решающий этап – это осознание конечности своего физического существования. И здесь важнейший момент. Оказывается, что всякое ощущение и понимание времени является фактором внутренней, когнитивной деятельности человека. Если ее не существует, не возникает, тем самым, восприятия времени, то есть в этом случае его для индивида просто-напросто – нет. Чем сложнее и разнообразнее, утонченнее и отрефлектированнее внутреннее пространство человека, тем острее он воспринимает свои отношения со временем. Особенно со временем будущим – прекращение в какой-то момент его отдельного, неповторимого и уникального самосознания. Такого рода конфликт носит абсолютный характер, из него нет никакого выхода для индивидуального сознания, и часто именно пессимизм становится главной эмоцией, сопутствующей восприятие человеком времени именно в этом персоналистическом ключе.
Несколько другие отношения со временем возникают у людей, укорененных в метафизике веры в высшее божество, убежденных в наличии бессмертия для какой-то части его самого, так называемой души. Хотя и здесь кроется известное опасение и верующего человека, а что именно из содержания его Я добьется дружеских отношений со временем. Он верует, что именно его душа войдет в сонм бессмертных сущностей, соединенных в составе Высшего существа. Понятно, что речь не идет о физическом перемещении человека во всем его материальном облике в райские кущи (или в ужасы ада), но о транспозиционировании его духовного слепка (душевной матрицы) как квинтэссенции его настоящей сущности, в другое пространство, где он продолжает свое существование в бессмертных формах, включает себя в «облако» Бога.
* * *
Древние греки, кажется, Демокрит, говорили, что бояться смерти нет никакого смысла: когда мы есть, ее – нет, когда она – есть, нас уже нет. Но для человека веры важно выстроить свою земную жизнь таким образом, чтобы он преодолел свою земную и физическую ограниченность и мог претендовать на какое-то соединение с вечными сущностями.
Строго говоря, то или иное человеческое существо не начинает жить с момента рождения. Оно присутствует в жизни, как некое тело в своей единой и неповторимой физической сущности. Но его пребывание в бытии начинается с момента возникновения, хотя бы и слабого, но самосознания, и в первую очередь по отношению ко времени. Здесь есть еще один поворот, совершенно законный, с точки зрения логики: можно предположить, что данный народившийся человек был запрограммирован к жизни намного раньше, и странным образом он присутствует в скрытом виде во всем сонме своих предков, издревле. При этом можно предположить, что какое-то сочетание атомов, электронов, молекул, проходя через громадную череду предков каждого рожденного человека, уже и несет возможность его физического осуществления в том или ином виде. Вот эта замечательная и бесконечная, по сути, с точки рения обыкновенного человека, лестница какая воссоздана и в Ветхом Завете.
Именно что современное мышление и может разложить по полочкам строгую необходимость появления данного существа из рассмотренной совокупности его предков. Он же, этот конкретный человек, не мог появиться из н и ч е г о, он взаимосвязан с той совокупностью физической плоти, реальной биологической материи, какая после умопомрачительных трансформаций превратилась в данный индивид с тем или иным набором определенных физических свойств.
Однако что-то подсказывает нам, что не только внешний облик, черты лица, строение тела и пр. и пр. связывает данного индивида со своими предками. Но и свойства его психологии, когнитивные способности, душевные качества содержались в определенном наборе атомов и молекул, которые сами по себе не обладают самодостаточными характеристиками, но нуждаются в воплощении через отдельное человеческое существо.
Также можно предположить, что и через своих потомков данный индивид продолжает свое существование, и определенного рода совокупность атомов (хромосом, иных механизмов внутриклеточного обмена информацией, или еще как-то, что нам еще неизвестно), продолжает свою материальную жизнь внутри других организмов. И время для этих элементарных частиц, связанных с конкретным существом, продолжает длиться, продолжает быть. Да и в дальнейшем, вообразив себе гибель планеты Земля, солнечной системы, нашей Галактики, можно предположить, что в определенных скоплениях звездной пыли будут присутствовать, на самом деле бессмертные частицы всех, без исключения, людей.
Но вопрос заключается в другом. Эти частицы не будут обладать нашей человеческой индивидуальностью, памятью, нашими эмоциями, потаенными мыслями, всем тем, что составляет неповторимое своеобразие человеческой личности, воплощаемой вовсе не в материальных носителях, в конкретных совокупностях молекул и разветвленности нейронных сетей, а в сложнейшем наборе отпечатков (символов, знаков, картин) отраженной реальности во всем том многообразии, что даровала каждому из нас его конкретная судьба.
Сведение наших когнитивных и психологических реакций к какой-то комбинации электрических импульсов в нашем головном мозгу, в центральной нервной системе не делает нашу личность исчисляемой и более понятной даже с точки зрения физиологии. Этот феномен нашего сознания как раз лучше всего и объясним, как мы написали выше, в явлениях веры и творческого состояния человека.
Мир сознания (то есть мир обобщенных и абстрагированных представлений обо всем на свете) всякого человека продуцирует из себя некие идеальные проекции, которые проявляются в его организме в своем двойном осуществлении – и как совокупность химических, электрических, нейронных реакций человека, и как абстрактный результат этой деятельности. Но между ними нет детерминированной связи, идеализация (в философском смысле) действительности вовсе не предопределяется сложившимся набором физиологических импульсов.
Наглядным примером этого процесса может служить представление о том, что некий источник света (сам человек во всей полноте его биологического и химического существования) испускает лучи своей психической деятельности, но для их опредмечивания он пропускает их через фильтр своего сознания (можно также сказать о фильтре его ментального внутреннего облика). В нем существует различное количество разнообразных отверстий, зияний, какие связаны с неповторимой физиологической индивидуальностью человека, но только пропустив свой собственный источник света (знания) через фильтр своего же сознания, он получает на воображаемой стене, помещенной также внутри его психического мира, те отпечатки действительности, какие соответствуют именно его, данного субъекта, своеобразию и неповторимости восприятия бытия.
Никогда и никто не мог обнаружить двух одинаковых людей именно что в их реакции на окружающий мир. Даже если они будут однояйцевыми близнецами, практически биологическими клонами, психически они будут отделены друг от друга, будут представлять отдельные человеческие существа, даже и с похожими реакциями и эмоциями.
Наше Я – это безмерно сложный, отражающий действительность, механизм (очень неточное сравнение). Его идеальность носит божественный характер и предполагает (лучшая из гипотез) наличие внешнего источника для появления столь очевидной определенности личности человека на базе отсутствия всякой материальной конкретности. Личность, дух, душа, индивидуальность человека подобны звучащей музыке, гармонии мелодии, только мы не видим и не можем понять, что за инструмент издает эти звуки, и почему он является полным и окончательным выражением нашего Я. Если генетики убедительно говорят, что всякого рода положительные изменения в эволюции человека определяются мутациями, происходящими в генотипе антропоса, то есть имеют ярко выраженный предметный и конкретный характер, – по сути, это слом биологической программы в некоторых своих аспектах
Здесь же возникает сразу несколько вопросов. Почему, собственно, такого рода слом происходил всего лишь на одной ветви развития гоминоидов, а, скажем, кроманьонец был его лишен? И был вынужден оказаться на генетической свалке человеческой истории, не оставив никаких заметных следов своего существования в виде развитой культуры. Почему это нарушение программы было связано с усилением и развитием когнитивных способностей человека, включая формирование избыточно мощного головного мозга, развитие речи, выработку эстетических потребностей в виде создания симметричных конструкций, стремления к гармоническому сочетанию цветов, штрихов при изображении действительности и т. д. и т. п.?
Невозможно не видеть определенной телеологичности во всех этих процессах эволюции человека как вначале чисто биологического существа, а потом уже как представителя иной категории живой материи – человека разумного (homo sapiens). Мы дальше будем рассматривать вопросы веры и творчества как элементы мутации человека, но не как биологического субъекта жизни, но мутации в странном направлении – по выработке, на первый взгляд, совершенно ненужных свойств и качеств данного организма, данного соединения аминокислот и белков.
Та эволюция человека, какую мы можем наблюдать к началу XXI века, заключается в том, что человек все с большим упорством следует тем линиям своего развития, которые не связаны с совершенствованием его внешнего облика, уточнением его физических или физиологических параметров. Те изменения человека, о которых мы можем говорить в последние два века, связанные с улучшением разнообразия и качества питания человека, без сомнения, повлияли на рост человека, его мышечную массу, на увеличение продолжительности жизни (здесь, разумеется, сработали достижения в области медицины, других областях знания).
Но эволюция «внутреннего человека», которую мы можем рассматривать, прежде всего, как регулирование его социального и нравственного поведения, не так очевидна и положительна, как изменение его физических параметров.
Для трезво мыслящих исследователей, культурологов и философов, очевидно, что человек почти не меняется в своем внутреннем содержании за последние, по крайней мере, две с лишним тысячи лет. Трудно обнаружить особую разницу по привязанности человека к особям другого пола, к детям, к семье, по чувствам любви к своей родине, ее ценностям и т. д. и т. п. Доблесть, отвага, любовь, нравственное и достойное поведение, чувство красоты, почитание предков и высших божеств, все это, перечисленное, и многое другое, претерпели с периода древнегреческой и римской цивилизаций до сегодняшнего дня лишь самые малые изменения, да и то больше связанные с вопросами изменения технологической стороны цивилизации. Подвиг под Фермопилами, сокрушение агрессии варваров, поиски смысла существования, для чего лучше всего использовать нравственные свойства человеческой натуры, – все это абсолютно рифмуется с идеальными представлениями современного человека.
И это, невзирая на плачевные последствия искажения человеческой природы после разрушительных войн XX века, после Холокоста, наблюдая и сегодня стремление человека решить те или иные вопросы сосуществования народов и государств при помощи военной силы.
* * *
Что меняет вера в человеке, каково отношение верующего существа к времени? Верующий даже и не борется со временем, он заключил соглашение с Богом, в котором взамен своего нравственного поведения, причем важно, что полновесного – внешнего и – самое главное – внутреннего соблюдения неких правил, какие не имеют как раз материального или физического воплощения, Высшее существо дарует ему жизнь вечную. Если сказано в Нагорной проповеди, не убий, не прелюбодействуй, не укради (и другие заповеди), то это обращение к сердцу и душе мирянина. Все это не имеет материального эквивалента, более того, возможная материализация этих принципов в виде какого-то выкупа, искупления грехов через денежную индульгенцию приводит к фанатичности и сектанству.
Таким образом, вера не только позволяет человеку избежать страха смерти (тут как раз, может быть, все наоборот по сравнению с атеистом: тот готов к гниению и полной своей аннигиляции, и морально он предуготовлен к акту исчезновения, другое дело смерть для верующего человека – он все время страдает, что совокупность его грехов не позволит вкусить ему царствия небесного), но и способствует примирению с краткостью, тяжестью жизни, – в рамках нашего исследования – раз и навсегда разобраться
