Читать онлайн Обратный эффект санкций. Как санкции меняют мир не в интересах США бесплатно
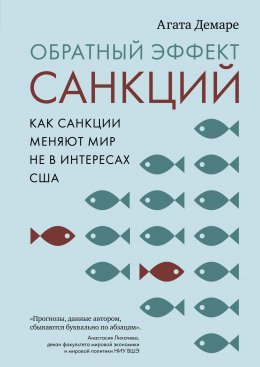
Об авторе
Агата Демаре — специалист по геоэкономике, геополитике, международным финансам и инвестициям. Окончила Институт политических исследований (Sciences Po) в Париже и магистратуру Колумбийского университета (США).
В 2011–2014 гг. — экономический советник французского казначейства в Москве, где впервые стала изучать вопрос санкций. В 2014–2017 гг. — старший экономический советник посольства Франции в Ливане, отслеживала экономические и финансовые процессы в 15 странах Ближнего и Среднего Востока, в том числе находившихся под санкциями США (Иран, Ирак, Ливан, Сирия и Йемен).
С 2017 по 2023 г. была директором по глобальному прогнозированию в Economist Intelligence Unit (исследовательское подразделение медиакомпании The Economist Group). С сентября 2023 г. — старший аналитик в области геоэкономики Европейского совета по международным отношениям (ECFR).
Agathe Demarais
BACKFIRE
How sanctions reshape the world against U. S. interests
© Agathe Demarais, 2022
© Поникаров Е.В., перевод на русский язык, 2023
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа «Азбука-Аттикус», 2024
Азбука Бизнес®
Предисловие к русскому изданию
Экономические санкции с древности фигурируют в арсенале мер негативного воздействия одних суверенных государств на другие, занимая промежуточное положение между по преимуществу вербальными — дипломатичными и не очень — выражениями неудовольствия и прямым силовым вмешательством. Но за последние десятилетия частота применения санкционных ограничений и, соответственно, их роль зримо выросли. В каком-то смысле можно видеть в этом свидетельство гуманизации международных отношений, ведь война оказывается в существенной мере замещена экономическим давлением и должна, по идее, отходить на второй план как средство разрешения конфликтов. Кроме того, современные санкции, несомненно, являются продуктом глобализации: они были бы немыслимы без ее достижений — многократно увеличившихся взаимопроникновений и взаимозависимостей государств.
Ученые давно спорят о степени эффективности санкций и различных их видов, однако методы исследований и критерии успеха довольно сильно варьируют, поэтому об окончательном результате этих дискуссий говорить пока не приходится. К тому же вместе с окружающим нас миром заметно меняются и сами санкции (в частности, они смещаются из традиционной сферы торговли в область технологий и финансов), становясь все более изощренными и целенаправленными, или, как еще говорят, «умными». Тем не менее, как подробно иллюстрирует в своей книге Агата Демаре, даже самые умные санкции очень часто вредят не только своим непосредственным «мишеням», но и всевозможным третьим сторонам, не имеющим никакого отношения к конфликту, несут с собой негативные социальные последствия и разрушают привычные паттерны ведения международного бизнеса.
Не стоит забывать, что у санкционной практики есть еще важное и самостоятельное внутриполитическое измерение — как в странах, которые инициируют санкции, так и в странах, против которых они действуют. Хотя эти ограничения, безусловно, ведут к совокупным потерям в общественном благосостоянии, по обеим сторонам противостояния есть не только пострадавшие от санкций, но и их бенефициары, заинтересованные как минимум в сохранении status quo. В этом еще одна причина устойчивости некогда введенных санкционных режимов, даже уже утративших всякий смысл.
Трудно было бы выбрать более удачный момент для выхода книги А. Демаре в свет на русском языке — ведь Россия как объект санкций сегодня является несомненным чемпионом мира по количеству, разнообразию и интенсивности введенных ограничительных мер. Кроме того, наша страна — это самая крупная экономика, против которой когда-либо вводились столь всеобъемлющие санкции, причем со стороны широкой коалиции, куда входят не только государства, но и значительное число негосударственных субъектов — коммерческих компаний, общественных организаций и др. Так что живой интерес со стороны читателя книге обеспечен, и каждый может самостоятельно делать выводы, насколько выкладки автора убедительны не просто сами по себе, но и на фоне того, как разворачиваются события текущей политико-экономической повестки.
Выходит так, что современная история и теория санкций и противостояния им пишется на наших глазах. К сожалению, в этой истории российские граждане — не сторонние и безучастные наблюдатели, а как раз та сторона, по которой наносится самый тяжелый удар…
Олег Буклемишев,
доцент кафедры макроэкономической политики и стратегического управления
экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова
Предисловие
В 2002 году в Судане шла ожесточенная гражданская война. Пытаясь заставить официальный Хартум начать мирные переговоры с противниками, члены Конгресса США обсуждали вопрос о введении санкций против энергетических компаний, работающих в этой африканской стране. Американские законодатели рассуждали просто: возможно, угрозы санкций будет достаточно, чтобы убедить суданское правительство, стремящееся избежать ухода иностранных предпринимателей из Хартума, пойти на переговоры с повстанцами. Конгресс решил, что лучший способ усилить давление на суданских руководителей — ввести новые меры, не позволяющие мировым нефтяным компаниям, ведущим бизнес с Суданом, привлекать капитал на американских финансовых рынках[1].
Администрация США яростно сопротивлялась предложению Конгресса, опасаясь, что такие санкции в конечном итоге навредят самой Америке. В любом случае они в значительной степени оказались бы символическими: вследствие разрушений, вызванных конфликтом, в Хартуме продолжали работать всего три компании — из Канады, Китая и Швеции. В то же время запрет на доступ иностранному бизнесу к американским финансовым рынкам противоречил давним обязательствам Вашингтона по обеспечению свободного движения капитала — одной из составляющих экономического успеха Америки. Скептики указывали, что ради ухода от американских санкций транснациональные корпорации могут поддаться искушению привлечь заемные средства или выпустить акции в других финансовых центрах — например, Лондоне, Сингапуре или Токио. Создавалось впечатление, что Вашингтон собирается выстрелить себе в ногу. В итоге Конгресс положил свое предложение на полку.
Полемика вокруг санкций в отношении Судана открыла дискуссию о чрезмерном применении санкций. С тех пор споры не прекращаются. В последние годы дискуссия стала еще более интенсивной, поскольку в основу американской дипломатии легли такие экономические меры принуждения, как торговые тарифы, финансовые санкции и экспортный контроль. Тем не менее на горизонте вырисовываются неприятности. Излишнее применение санкций вызывает во всем мире недовольство Вашингтоном, заставляя как друзей, так и врагов США пересматривать свои связи с Америкой и искать альтернативные пути для ведения бизнеса. Именно этого и опасались критики санкций против Судана.
Неудивительно, что за последние два десятилетия санкции обрели столь широкую популярность: у них масса плюсов. Прежде всего, это быстрый способ продемонстрировать решимость США и наказать за плохое поведение. Чтобы ввести санкции против Москвы после начала СВО на Украине в 2022 году, Вашингтону потребовалось менее двух дней. Кроме того, санкции — сравнительно малозатратная политика. Для их разработки требуется всего несколько государственных служащих. Вся тяжесть реализации американских санкций взваливается на плечи транснациональных корпораций и банков, которые несут бремя упущенных возможностей и издержек по соблюдению принятых мер[2].
Непосредственные политические и человеческие издержки санкций также выглядят незначительными, что увеличивает их привлекательность по сравнению с другими формами принуждения — например, военным вмешательством. Санкции заполняют пустоту в дипломатическом пространстве между неэффективными заявлениями и несущими смерть военными операциями. С помощью санкций администрация США, оставаясь в безопасности в Вашингтоне, может оказывать давление на другие страны, чтобы вынудить их выполнять свои требования. Когда журналисты спросили министра финансов Стивена Мнучина, что могут сделать США, чтобы остановить нападение Турции на курдов в Сирии в 2019 году, он стандартно упомянул санкции в своем ответе: «Мы можем парализовать турецкую экономику» [3].
Наконец, американские санкции доказали, что способны заставить ту или иную страну изменить свое поведение. В качестве примера можно привести Иран. Если бы санкции не оказали колоссального давления на иранскую экономику, вряд ли Тегеран согласился бы подписать соглашение по ядерной программе в 2015 году. Дополнительным бонусом здесь является тот факт, что санкции, как правило, повышают рейтинг политиков, которые их вводят[4]. Поэтому неудивительно, что самым большим энтузиастом санкций является Конгресс: политикам нужно угождать избирателям, а видимость решительных действий по защите интересов США обычно способствует росту числа голосов.
Я познакомилась с санкциями, работая финансовым атташе французского казначейства в Москве в 2014 году. После того как Россия присоединила Крым и начала поддерживать сторонников независимости на востоке Украины, я прошла экспресс-курс по санкциям. Затем я продолжила изучать эту тему на следующем месте работы — в посольстве Франции в Бейруте. Там я следила за экономическими и финансовыми процессами в 15 странах Ближнего и Среднего Востока, включая те, что находились под санкциями США, — например, Иран, Ирак, Ливан, Сирия и Йемен. Примерно половину своего времени я проводила на месте событий, получая информацию о жизни в условиях санкций из длительных разговоров с государственными чиновниками, бизнесменами и простыми гражданами.
Я освещала события в Иране, когда в 2015 году было подписано соглашение по ядерной программе [5]. Однако восторг от подписания этого эпохального документа вскоре сменился разочарованием. Несмотря на снятие санкций, европейские компании по-прежнему опасались возвращаться на иранский рынок: все они полагали, что США не сдержат своего слова и вскоре вновь введут ограничения против Исламской Республики. Это стало проблемой: ведь возвращение европейских компаний в Иран было главным способом убедить Тегеран в том, что он поступил правильно, подписав соглашение, и что для восстановления иранской экономики следует соблюдать его условия. Но убедить большинство западных фирм и банков вновь начать вести бизнес с Ираном оказалось невозможно.
Пример Ирана показывает, каким образом угроза американских санкций — реальная или воображаемая — становится ключевым фактором, влияющим на глобальные бизнес-стратегии. По прошествии времени можно сказать, что европейские компании утвердились в правоте своего решения не возвращаться в Тегеран: во время президентства Трампа в 2018 году США в одностороннем порядке вышли из ядерной сделки и вскоре после этого вновь ввели против Ирана тяжелейшие санкции. К тому времени я переехала в Лондон и поступила на работу в Economist Intelligence Unit [6], где продолжаю внимательно следить за санкциями.
Пример Ирана не является уникальным. За последнее десятилетие я на собственном опыте убедилась в том, что санкции стали играть важную роль в жизни миллионов людей и компаний по всему миру, как в странах, попавших под санкции, так и — что немаловажно — в странах, наложивших эти ограничения. И это лишь часть истории. Санкции также меняют отношения между странами и, в свою очередь, глобальную геополитику. Мало какие инструменты внешней политики оказывают столь сильное воздействие, как санкции (если такие вообще найдутся). В то же время последствия таких мер остаются малоизученными. Фактически интерес к побочным эффектам санкций проявляют только эксперты в области обороны; экономисты и политологи их в основном игнорируют.
Эта книга — не «за» и не «против» санкций. В ней не высказывается мнение, следует ли Соединенным Штатам прибегать к соответствующим действиям, когда они чувствуют угрозу своим интересам. Но если Америка хочет обеспечить долгосрочную эффективность своего, пожалуй, самого мощного экономического оружия, ей необходимо составить четкое представление о побочных эффектах санкций и о том, как они влияют на стратегии компаний, союзников и противников по всему миру.
I
Генезис санкций
1
От эмбарго к санкциям
Краткая история
Санкции стали модным трендом. В газетах регулярно обсуждается их влияние на Иран, Россию или Венесуэлу. Компании по всему миру нанимают команды юристов и специалистов по контролю, которые отслеживают, чтобы их деятельность не противоречила наложенным ограничениям. Страны, попавшие под санкции, хвастаются тем, что нашли хитроумные способы их обхода. Двадцать лет назад обыватель с трудом смог бы объяснить, что такое санкции. Сегодня большинство людей имеют базовое представление о том, как они работают: причиняют экономическую, финансовую и социальную боль стране, чтобы заставить ее изменить свое поведение.
Санкции США имеют глобальное воздействие. За последние два десятилетия Америка ввела больше санкций, чем Европейский Союз, ООН и Канада, вместе взятые[7]. В настоящее время Вашингтон запустил около 70 санкционных программ, направленных против более чем 9000 физических лиц, компаний и секторов экономики практически во всех странах мира[8]. Одни программы направлены против негосударственных субъектов, таких как исламские террористические группировки, латиноамериканские наркокартели и сирийские полевые командиры. Другие распространяются на целые страны, такие как Венесуэла, Куба или Северная Корея. Под наибольшим давлением оказались, безусловно, Иран и Россия: в их отношении введены тысячи ограничений[9].
Стремление к введению принудительных экономических мер исходит из самых высоких эшелонов американской власти: министр финансов Стивен Мнучин любил хвастаться, что посвящает санкциям половину своего рабочего времени[10]. Интересно, что Мнучин лично проводил брифинги для прессы по последним санкциям, отвечая на десятки вопросов от полчищ журналистов. Та же картина наблюдается и при администрации Байдена: новому президенту понадобилось всего три недели, чтобы подписать свои первые санкционные рекомендации в ответ на военный переворот в Мьянме[11]. Государственный секретарь Энтони Блинкен даже написал книгу о санкциях [12].
Увлечение США этим методом воздействия насчитывает несколько десятилетий. В 1990-х годах под американскими санкциями находилось более половины населения мира[13]. Уже тогда некоторые беспокоились о «санкционном безумии»[14], задаваясь вопросом, не становятся ли санкции просто рефлекторной реакцией правительства, столкнувшегося с очередной проблемой. В 1998 году президент Билл Клинтон сетовал на то, что США «упиваются санкциями»[15]. Он опасался, что страна «рискует выглядеть так, будто мы хотим наказывать всех, кто с нами не согласен, и не помогать тем, кто с нами согласен»[16].
В последние годы эта тенденция усилилась. В 2017–2020 годах администрация Трампа ввела санкции в отношении более 3900 физических и юридических лиц — в среднем почти по четыре эпизода каждый рабочий день[17]. Для сравнения: президент Джордж Буш — младший наложил санкции на 3484 физических и юридических лица за восемь лет[18]. Безусловно, главной мишенью Трампа стал Иран: 77 раундов санкций против Тегерана при его администрации — это почти по два в месяц. Такие масштабы, впрочем, меркнут по сравнению с реакцией администрации Байдена на вторжение России на Украину в 2022 году. Всего через два месяца после начала СВО США ввели санкции в отношении примерно 1000 физических лиц, банков и компаний, связанных с Кремлем[19].
Пусть санкции и вошли сейчас в моду, но это отнюдь не новое явление: их история прослеживается до античной Греции. В 432 году до нашей эры афинский государственный деятель Перикл ввел блокаду города Мегары после похищения трех женщин [20]. Если не считать Древнюю Грецию, то большинство историков сходятся во мнении, что первые современные санкции появились во время Наполеоновских войн в начале XIX века [21]. В 1806 году французский император Наполеон ввел эмбарго против британской торговли, пытаясь задушить экономику Великобритании [22].
Континентальная блокада (как стали называть эти меры) основывалась на простом принципе. Корабли, следовавшие из Великобритании, не могли разгружать грузы и высаживать пассажиров ни в каких портах и колониях, контролируемых Францией. Связь между Великобританией и континентальной Европой, в том числе и почтовая, фактически прервалась. Неудивительно, что эмбарго привело к резкому сокращению торговли Великобритании с Европой. Однако это лишь часть истории. Британцы быстро адаптировались к условиям блокады, переориентировав торговые пути на Американский континент. На этом усилия Великобритании по смягчению последствий французского эмбарго не закончились: для обхода наполеоновской блокады англичане также потихоньку наладили контрабандные пути в Европу.
Действия Великобритании оказались успешными: несмотря на французскую блокаду, общая стоимость британского экспорта в период с 1805 по 1810 год выросла более чем на 20 %[23]. На фоне экономического опустошения, которое принесли Европе Наполеоновские войны, это стало впечатляющим достижением. Сами того не ведая, британцы продемонстрировали, как страны, находящиеся под санкциями, приспосабливаются, чтобы избежать их или хотя бы ослабить их воздействие. Этот урок не потерял своей актуальности и по прошествии более двух столетий.
Торговое эмбарго Наполеона против Великобритании действовало шесть лет — пока французский император не понял, что оно наносит ущерб самой Франции [24]: таможенные доходы упали, и владельцам магазинов пришлось искать поставщиков товаров, которые они привыкли получать из британских колоний, — например, кофе, какао или сахара. И снова этот урок не потерял актуальность. Санкции наносят вред не только тем, на кого они направлены: зачастую они вызывают дальнейшую реакцию и могут привести к издержкам также и для страны, которая их вводит.
В настоящее время санкции являются распространенным дипломатическим инструментом Соединенных Штатов для продвижения своих интересов. В простейшей форме современные американские санкции направлены против физических лиц: замораживаются активы этих людей в Америке. Когда такие лица включаются в перечень специально обозначенных граждан [25], их банковские счета в США блокируются. Кроме того, им запрещается посещать Соединенные Штаты. Эти люди часто хвастаются тем, что попали под американские санкции, так как это свидетельствует об их хороших связях и влиятельности на родине.
Несмотря на шумиху в СМИ вокруг нескольких громких случаев (например, санкции против главы администрации Гонконга Кэрри Лам из-за подавления свободы слова или против президента России Владимира Путина после начала СВО на Украине), санкции против физических лиц имеют ограниченное значение. По сути, их назначение в основном символично. Люди, против которых направлены подобные действия, зачастую прекрасно понимают, что в отношениях между их родной страной и США не все в порядке. Обычно они принимают меры предосторожности, чтобы скрыть или вывести свои активы за пределы Америки, задолго до наложения санкций.
Впрочем, в упреждающих шагах зачастую нет необходимости. При наиболее распространенном сценарии адресаты санкций не имеют активов в США и не планируют туда ехать; они часто (и вполне обоснованно) опасаются, что могут столкнуться с серьезными проблемами либо на американской территории, либо после возвращения на родину. Для многих режимов-изгоев поездка в США является верным признаком того, что данный человек намерен сбежать в Америку, и поэтому с ним необходимо «разобраться». Как правило, это не лучшим образом сказывается на продолжительности жизни несчастного путешественника. Таким образом, эти санкции являются чисто демонстративными.
Помимо санкций для физических лиц, в санкционном арсенале Америки имеется еще несколько видов оружия. Наиболее распространенными из них являются торговое эмбарго, финансовые санкции (ограничивающие доступ страны к доллару США или к международной банковской системе) и отраслевые санкции (направленные против конкретных секторов экономики данной страны — например, нефтедобывающей отрасли). В 1950-е годы, когда США начали применять санкции для достижения своих внешнеполитических целей, доступными были не все эти инструменты: в то время в арсенал экономического принуждения Вашингтона входили только торговые эмбарго. Они представляют собой наиболее известную и, пожалуй, самую простую для понимания форму экономических санкций: разрываются все торговые связи.
Самым знаменитым американским торговым эмбарго является введенное президентом Дуайтом Эйзенхауэром против Кубы в 1960 году — в ответ на решение кубинского лидера Фиделя Кастро национализировать три американских нефтеперерабатывающих завода. Однако истинная цель Белого дома состояла не в мести Кубе за захват заводов. В первую очередь Эйзенхауэр хотел сменить режим в Гаване: американской администрации было некомфортно осознавать, что близкий союзник Советского Союза находится менее чем в 100 милях от побережья Флориды. Смена политического строя на Кубе являлась первоочередной задачей Вашингтона, пока в рассадники коммунизма не превратились другие страны Латинской Америки.
В 1959 году США имели статус крупнейшего торгового партнера Кубы: на американские компании приходилось 73 % кубинского экспорта и 70 % импорта. Эмбарго США ввело запрет на любую торговлю через Флоридский пролив; коммерческие связи между США и Кубой внезапно оборвались, и кубинскому режиму пришлось экстренно заняться поисками других торговых партнеров для удовлетворения своих потребностей в импорте. Вашингтон понимал, что при такой зависимости Кубы от США эмбарго окажет на Гавану огромное экономическое давление. С этой точки зрения блокада имела безоговорочный успех. Согласно данным ООН, с 1960 года эмбарго обошлось Кубе в 130 млрд долларов, и эта сумма продолжает расти[26]. И все же, несмотря на столь ощутимые экономические издержки, американское эмбарго против Кубы не достигло поставленной Вашингтоном цели — смены правящего режима.
Оценить эффективность санкций сложно, поскольку у нас нет противоположной картины: никто не знает, как развивалась бы ситуация, если бы они не вводились. Однако трудно найти доказательства того, что санкции вызвали на Кубе какие-то изменения, идущие на пользу США. Самая простая иллюстрация этого: спустя шесть десятилетий после прихода Кастро к власти на Кубе все еще сохраняется коммунистическая однопартийная система.
Долговечность режима отчасти отражает способность Кубы адаптироваться к условиям американской блокады. После введения эмбарго Гавана быстро углубила связи с Советским Союзом. Москва начала покупать сахар, который Куба ранее экспортировала в США. Кроме того, после прекращения экспорта американских энергоносителей на остров Советский Союз занялся поставками столь необходимой кубинскому режиму нефти. Недавно Куба начала развивать отношения с Китаем, и сегодня Пекин превратился в крупнейшего торгового партнера страны, поставляя Гаване технику и потребительские товары[27]. С этой точки зрения эмбарго Кубы, возможно, оказалось вполне выгодно России и Китаю. Ирония судьбы, поскольку обе эти страны принадлежат к числу главных противников Америки.
Укрепление связей Гаваны с Москвой и Пекином — одна из причин провала кубинского эмбарго. Еще одна причина заключается в том, что Америке не удалось убедить своих союзников присоединиться к блокаде острова; партнеры США никогда не воспринимали Кубу как угрозу своей безопасности. Несмотря на эмбарго, Куба продолжает свободно торговать с другими странами: Канада (которую едва ли можно назвать врагом США) — один из крупнейших торговых партнеров Кубы[28]. Остров имеет торговые связи практически со всеми странами мира, за исключением США, и является крупным мировым поставщиком никеля и медикаментов.
Пожалуй, одним из главных достижений американского торгового эмбарго является то, что оно подтолкнуло Кубу к углублению торговых связей практически со всеми другими государствами мира. Американская блокада не привела к достижению ни одной из заявленных Вашингтоном целей на Кубе. Соединенным Штатам потребовалось несколько десятилетий, чтобы разработать более эффективную форму экономического принуждения. Примерно 40 лет спустя полигоном для испытания нового подхода к санкциям стала Северная Корея.
Санкции США против Северной Кореи, первоначально принявшие форму торгового эмбарго, восходят еще к Корейской войне в начале 1950-х годов. Цель этих санкций — способствовать смене режима в Пхеньяне — никогда с тех пор не менялась. Американская администрация всегда рассматривала правящую династию Кимов как угрозу национальной безопасности США. Кимы уже давно разрабатывают ракеты, способные поражать американские города. Кроме того, северокорейский режим продает оружие террористическим группировкам. Но Соединенные Штаты, по всей видимости, могут смириться со всем этим — с учетом незначительного экономического влияния Северной Кореи и удаленности этой страны от Америки.
Первоначально санкции США против Северной Кореи преследовали в основном символическую цель: они являлись наследием участия США в корейском конфликте. Также они дали толчок планам создания государственного агентства, отвечающего за санкции. В 1950 году перед только что появившимся и в то время вполне безобидным Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США поставили единственную задачу: управлять эмбарго против Северной Кореи.
В течение 50 лет у OFAC было мало работы, связанной с Кореей. Эмбарго существовало, но его повседневное соблюдение в основном проходило без каких-либо происшествий. Ситуация резко изменилась в 2003 году, когда Северная Корея вышла из международного договора, призванного предотвратить распространение ядерного оружия. Вскоре после этого ситуация стала еще более тревожной: Пхеньян начал проводить ядерные испытания. Это заставило США добавить к списку проступков Северной Кореи еще один, гораздо более серьезный: содействие распространению ядерного оружия. Отражая растущее неприятие военного вмешательства, США и другие западные державы выбрали санкционный путь давления на Пхеньян, чтобы заставить его отказаться от своих ядерных планов.
Вследствие того, что с необходимостью сдерживания Северной Кореи соглашался весь Запад, санкции против Пхеньяна вводились под эгидой ООН. В основном они направлены на ограничение импорта нефти и экспорта угля. Ограничивая доступ режима к энергоресурсам, западные страны надеются ослабить возможности Пхеньяна по разработке оружия. Той же логике следуют меры, ограничивающие экспорт из страны угля — одного из немногочисленных товаров, производимых режимом. Цель — создать Северной Корее финансовые трудности, чтобы снизить ее возможности по созданию ядерной бомбы.
Тот факт, что подход США к Северной Корее задействует и другие страны, свидетельствует о том, что Вашингтон извлек определенные уроки из кубинского эмбарго. Вместо того чтобы в одиночку бороться с режимом-изгоем, как это было в случае с Кубой, для введения санкций против Северной Кореи администрация привлекла к сотрудничеству своих союзников и Организацию Объединенных Наций. Это принципиальное отличие. В результате Пхеньян лишен возможности легко обойти американские санкции, развивая торговые связи с другими странами. Однако это не означает, что меры против Северной Кореи работают идеально. Даже самые продуманные торговые эмбарго можно обойти. Пожалуй, это самый большой их недостаток.
В жесткой конкуренции Северная Корея занимает первое место в мировом рейтинге нарушителей санкций[29]. За последние 20 лет северокорейские контрабандисты придумали изобретательные способы импорта нефти и экспорта угля сверх установленных ООН уровней. Один из наиболее распространенных приемов заключается в отключении транспондеров — устройств слежения в режиме реального времени — на судах, участвующих в незаконной торговле. Суда, на которых отключены транспондеры, не отображаются в международных системах слежения, что позволяет им совершать так называемые «темные рейсы»[30]. Поэтому трудно обнаружить используемую Северной Кореей незаконную перевалку нефти или угля с судна на судно посреди Восточно-Китайского моря — особенно дистанционно.
Если северокорейские контрабандисты не выключают транспондеры, чтобы не вызывать подозрений, они, как правило, скрывают истинный порт назначения своих судов. Например, делают вид, что направляются в африканские порты, а на самом деле следуют в северокорейские воды. Чтобы договориться о встрече для перевалки груза с судна на судно, экипажи отправляют друг другу свои координаты через популярную китайскую систему обмена сообщениями WeChat. На этом северокорейские контрабандисты не останавливаются. Они также меняют внешний вид судов, участвующих в незаконной деятельности, и поэтому службы безопасности испытывают затруднения с распознанием этих судов на спутниковых снимках.
В 2018 году инспекторы ООН обнаружили прекрасный пример сочетания всех этих методов обхода санкций. Они отслеживали местонахождение судна «Юк-Тун» (Yuk-Tung), попавшего под ограничения ООН за помощь Северной Корее в нелегальном импорте нефти[31]. После нескольких месяцев расследования инспекторы ООН установили, что владельцы судна «Юк-Тун» разработали тщательно продуманную стратегию по уклонению от международных санкций.
Прежде всего, контрабандисты подделали идентификационные данные судна в международных системах слежения. Они выдавали «Юк-Тун» за судно «Майка» (Maika) под панамским флагом. Настоящее судно «Майка» принадлежало легальной компании, никак не связанной с Северной Кореей. На устройствах слежения местонахождение судна-нарушителя «Юк-Тун» отображалось как местонахождение вполне законопослушной «Майки». Тем временем настоящее судно «Майка» стояло на якоре у африканского города Ломе. Службы безопасности, пытавшиеся отследить местонахождение «Юк-Туна», наблюдали перемещения «Майки» в Гвинейском заливе.
Планы контрабандистов не ограничивались подменой информации. Они сделали фальшивое свидетельство о регистрации судна «Юк-Тун», использовав название «Майка». Экипаж «Юк-Туна» также перекрасил свой корабль, удалив прежний логотип YT, и заменил международный идентификационный номер «Юк-Туна» на корме номером «Майки». Владельцы «Юк-Туна» не случайно выбрали «Майку»: «Юк-Тун» и «Майка» — систершипы (однотипные корабли), построенные в одном году и имеющие сходный внешний вид. Службы безопасности, обнаружившие деятельность судна, похожего на «Юк-Тун», которому санкции ООН запрещали плавать, приняли его за не подпадающую под санкции «Майку».
Все эти изощренные приемы позволили «Юк-Туну» в течение нескольких месяцев незаметно осуществлять незаконную перевалку нефти с судна на судно у побережья Северной Кореи. Стоимость этих нелегальных поставок была значительной: по мнению инспекторов ООН, она составила около 7,5 млн долларов США. Кажется, что это много, однако схема с «Юк-Туном», раскрытая ООН, представляет лишь вершину айсберга. Многие другие суда занимаются подобной деятельностью на протяжении целых десятилетий, наглядно иллюстрируя, каким образом страны-адресаты приспосабливаются к обходу торговых эмбарго.
Ловкость, с которой северокорейский режим обходит санкции, подчеркивает недостатки торговых эмбарго[32]. Первая проблема заключается в том, что такие блокады крайне сложно контролировать. Страны, применившие санкции, не имеют возможности досматривать все грузовые самолеты и суда, перемещающиеся по планете. Даже если ограничиться морской контрабандой, нужно учесть, что в международных водах курсирует около 100 тысяч грузовых судов[33]. Если проверять их раз в месяц, то потребуется 1,2 млн проверок в год, то есть примерно 3300 проверок в день, причем по всему Мировому океану. Это невозможно, даже если бы этим ежедневно круглый год занимались все правоохранительные органы мира.
Еще одна проблема заключается в том, что в большинстве случаев торговые эмбарго не достигают своей цели. Они редко наносят ущерб влиятельным элитам режимов-изгоев. В качестве примера можно привести Северную Корею. Более 40 % населения этой страны (то есть свыше 10 млн человек) недоедают[34]. Девять миллионов жителей не имеют доступа к базовым медицинским услугам. Около 20 % северокорейских детей отстают в росте вследствие плохого питания и постоянных инфекций. При этом представители северокорейской элиты продолжают получать предметы роскоши благодаря сетям, созданным Пхеньяном для обхода эмбарго ООН.
Блокады также затрудняют деятельность гуманитарных организаций. Теоретически эмбарго не должно осложнять их работу. Однако большинство международных агентств считают санкции основной помехой для своей деятельности в странах-изгоях, таких как Северная Корея. Например, часто жалуются, что эмбарго ООН запрещает экспорт в Северную Корею насосов для очистки воды и оборудования для производства продуктов питания, что препятствует доступу населения к чистой воде и еде.
На эту критику ООН отвечает так: крайне сомнительно, что Пхеньян, обзаведясь подобными товарами, начнет использовать их для улучшения санитарии и производства продуктов питания. Скорее всего, насосы применят для откачки воды из нелегальных угольных шахт. Оборудование для производства продуктов питания приспособят для производства товаров, которые, по мнению режима, важнее, чем продовольствие, — например, ядерного оружия.
Все это так. Но эти рациональные соображения мало утешают сотрудников гуманитарных организаций, которые опасаются, что при вводе санкций часто игнорируется сопутствующий вред людям. Отношения между налагающими санкции государственными служащими Министерства финансов США и работниками гуманитарных организаций зачастую холодны (в лучшем случае), а в большинстве ситуаций позиции сторон кажутся просто несовместимыми.
Осознавая эти недостатки, в начале 2000-х годов OFAC организовало «мозговой штурм» в надежде придумать нечто более удачное, нежели торговое эмбарго. Перед агентством стояли три задачи. Усовершенствованные санкции должны стать более адресными, нежели полное торговое эмбарго, щадить гражданское население и одновременно наносить ущерб спаянным элитам. Они должны быть более сложными для обхода. И, пожалуй, самое главное — от новых методов требовался больший ущерб режимам-изгоям, нежели от торгового эмбарго. Исходя из этих целей, OFAC приступило к работе.
В ходе этой деятельности в 2003 году сотрудники OFAC обнаружили, что один из малоизвестных банков в Макао — Banco Delta Asia (BDA) — проводит огромное количество транзакций для Северной Кореи[35]. Управление заподозрило, что здесь что-то кроется. С помощью разведывательных служб OFAC принялось копать глубже. После тщательного расследования кусочки головоломки сложились в ошеломляющую картину. Более 20 лет[36] северокорейский режим использовал сети банков, связанных с Banco Delta Asia, для ведения нелегального бизнеса за рубежом и последующего возвращения незаконных доходов в Пхеньян[37].
Специалисты OFAC быстро поняли, что на кону стояли огромные суммы. Северная Корея является крупным (и, вероятно, самым искусным) мировым игроком в области подделки американских банкнот номиналом 100 долларов. Страна также преуспела в контрабанде метамфетамина и героина. В начале 2000-х годов Северная Корея получала около 500 млн долларов в год от подделки банкнот и еще 100–200 млн долларов от наркоторговли[38]. Эти средства шли на финансирование военных целей Пхеньяна.
Расследование OFAC раскрыло всю схему. Управление установило, что во многих из этих операций участвовал банк Banco Delta Asia, оказавшийся не чем иным, как единственным финансовым каналом между Северной Кореей и остальным миром. Но на этом договоренности между Пхеньяном и этим учреждением не заканчивались. Они также позволяли Северной Корее размещать на счетах Banco Delta Asia массу фальшивых денег[39]. После этого северокорейские контрабандисты и дипломаты могли, не привлекая внимания, снимать деньги в банкоматах в любой точке мира. По мнению аналитиков OFAC, действия против Banco Delta Asia стали бы идеальным способом давления на Пхеньян. Однако имелась одна загвоздка: в то время санкционный арсенал США ограничивался торговыми эмбарго. Управление не предложило никаких принудительных мер против Banco Delta Asia.
На тот момент прошло еще немного времени после событий 11 сентября 2001 года, и Северная Корея не являлась главным приоритетом для OFAC. Значительную часть своих ресурсов Управление направляло на отслеживание финансовых операций террористов. Финансирование терактов 11 сентября обошлось «Аль-Каиде» примерно в 450 тысяч долларов США[40]; в начале 2000-х годов годовой бюджет этой террористической группировки составлял около 30 млн долларов. Без доступа к международным финансовым каналам и без банков, готовых проводить незаконные операции, финансирование террористических атак осложняется и обходится дороже. Вскоре сотрудники OFAC пришли к выводу, что те же самые рассуждения можно применить не только к террористическим группам, но и к целым странам — например, к Северной Корее.
Специалисты OFAC подумали: почему бы не нанести удар по международному банку, от которого так зависит финансирование незаконной деятельности Пхеньяна? Если следовать логике, разрыв связей между Banco Delta Asia и международной банковской системой лишит Северную Корею возможности отмывать и возвращать доходы от своей нелегальной деятельности за рубежом. Без денег режиму будет сложнее финансировать ядерное оружие и, возможно, продолжать свое существование. Так родилась концепция финансовых санкций, направленных против банковских связей. Они актуальны и по сей день.
Идея финансовых санкций весьма проста. Без участия банков трудно привлечь средства, вести международный бизнес или отмывать доходы от незаконной деятельности. Наличные деньги — это прекрасно, но банкноты громоздки и непрактичны для перевозки. Для передачи больших сумм денег необходимы банковские переводы, а значит, и банки для их обработки. Вместо того чтобы вводить торговые эмбарго, которые трудно реализовать и легко обходить, Соединенные Штаты решили преследовать банки, проводящие транзакции для режимов-изгоев, и начали с Banco Delta Asia.
У Соединенных Штатов не было намерения замораживать счета Северной Кореи в Banco Delta Asia. В любом случае США не имели для этого полномочий; при всей своей мощи OFAC остается американским ведомством, которое может заморозить исключительно банковские счета, принадлежащие Соединенным Штатам. Вместо этого OFAC предложило банку Banco Delta Asia, казалось бы, простой выбор: либо прекратить сотрудничество с Пхеньяном, либо оказаться исключенным из американской финансовой системы. Банковские руководители во всем мире содрогаются, услышав о разрыве связей банка с американской финансовой системой: без этого финансовые учреждения не могут использовать американский доллар. Если учесть мировой авторитет доллара США, то для банков это равносильно смертному приговору[41].
Не смущаясь, Banco Delta Asia выбрал второй вариант и продолжил свои прибыльные операции с Пхеньяном (которые он с самого начала отрицал). После этого сотрудники OFAC наложили на банк финансовые санкции, запретив ему использовать доллар США. Слухи о возможных санкциях уже спровоцировали массовое бегство из банка. К тому моменту, когда Banco Delta Asia фактически оказался под американскими санкциями, его клиенты уже забрали из банка треть своих вкладов[42].
Удар оказался сильным, но OFAC на этом не остановилось. Управление связалось с международными банками, которые раньше работали с Banco Delta Asia. Американцы предупредили эти учреждения о рисках сотрудничества с сомнительными организациями. Получив такой сигнал, международные банки стали хорошенько думать, прежде чем вести дела с мутными партнерами. Вскоре Banco Delta Asia оказался изгоем на международной финансовой арене, и с ним не желала связываться ни одна солидная финансовая организация. Закрылось несколько международных банков, ранее сотрудничавших с Banco Delta Asia в интересах Северной Кореи. (В конце 2020 года США сняли ограничения в отношении Banco Delta Asia.)[43]
Финансовые санкции нанесли ущерб Северной Корее гораздо эффективнее, нежели торговые эмбарго. Воздействие на банк и уничтожение единственного канала, через который осуществлялись международные банковские операции Северной Кореи, стали серьезным ударом по Пхеньяну. С тех пор Пхеньян усовершенствовал трюки по обходу санкций и нашел другие способы финансирования своей незаконной деятельности по всему миру. Однако один из высокопоставленных северокорейских чиновников вскоре после разоблачения Banco Delta Asia признался американскому представителю: «Вы наконец-то нашли способ причинить нам вред»[44]. Так родились финансовые санкции. Вскоре их с высокой эффективностью применят против Ирана.
2
Удар по больному месту
Эра финансовых санкций
Успех Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) в борьбе с Северной Кореей оказался потрясающим. Перекрыв доступ одного банка к американской финансовой системе, ведомство нанесло серьезный удар по Пхеньяну. Сотрудники OFAC все еще праздновали эту победу, когда получили указание заняться Ираном. Как и Северная Корея, этот исламский режим занимает одно из первых мест в мировом рейтинге стран-изгоев. Тегеран давно спонсирует мировой терроризм через «Хезболлу» — свой ливанский военно-политический филиал. С точки зрения Вашингтона, поддержка Ираном военизированных группировок в Йемене, Сирии и Ираке также представляет собой угрозу стабильности на Ближнем Востоке.
Однако основное беспокойство Америки, как и в случае с Северной Кореей, вызывают ядерные амбиции Ирана. Тегеран утверждает, что его ядерная программа преследует исключительно гражданские цели, однако большинство экспертов и западных правительств думают иначе: они уверены, что исламский режим хочет создать атомную бомбу. Израильское правительство убеждено, что если Тегерану удастся получить ядерное оружие, то Израиль будет стерт с лица земли. При таком сценарии существует явный риск, что и другие страны Ближнего Востока, такие как Саудовская Аравия, Турция или Египет, захотят стать ядерными державами. Это подорвет многолетние усилия Вашингтона по сдерживанию распространения ядерного оружия[45].
Опасения по поводу ядерных устремлений Ирана особенно усилились в начале 2000-х годов, когда группа иранских эмигрантов раскрыла усилия Тегерана по созданию ядерных центрифуг[46]. К тому времени страна уже более двух десятилетий находилась под санкциями США. В 1979 году кризис с заложниками в Тегеране [47] заставил президента Джимми Картера наложить запрет на импорт иранской нефти и заморозить иранские активы в 12 млрд долларов, размещенные в американских банках[48]. В 1980-х годах Вашингтон также ввел эмбарго на поставки оружия Тегерану — в ответ на ирано-иракскую войну.
Санкции ужесточились в 1990-е годы, когда президент Билл Клинтон установил полноценную торговую блокаду Ирана из-за поддержки этой страной исламистских террористических группировок, таких как ХАМАС в Палестине. Это эмбарго стало также реакцией на первые признаки того, что Иран стремится запустить ядерную программу. И все же эффективность этих санкций оказалась умеренной. В начале 2000-х годов глобальные усилия Ирана по спонсированию терроризма только наращивались — как и повышались ядерные амбиции страны.
К разочарованию OFAC, подход, который управление использовало против Banco Delta Asia, в отношении Ирана не сработал бы. Пхеньян уже давно является парией на мировой арене, в то время как Тегеран обладает крупными запасами нефти и газа, что делает его значимым игроком на мировых энергетических рынках. В начале 2000-х годов из-за многолетнего торгового эмбарго Вашингтона исламский режим был слабо связан с Соединенными Штатами, зато Иран имел серьезные коммерческие контакты с европейскими странами, такими как Германия, а также с ближневосточными соседями, в частности с Дубаем и Турцией.
В отличие от Северной Кореи, Иран не полагался на единственный финансовый канал для торговли с остальным миром; Тегеран поддерживал связи со множеством международных банков, включая ряд авторитетных европейских и азиатских финансовых учреждений. Применение ограничительных мер к Banco Delta Asia, малоизвестному банку в Макао, сотрудничавшему с Северной Кореей, было вполне оправданно. Напротив, наложить санкции на десятки крупнейших финансовых учреждений из стран-союзниц абсолютно нереально: подобные меры почти наверняка спровоцировали бы мировой финансовый кризис и нанесли бы серьезный ущерб экономике самих Соединенных Штатов.
У OFAC возникла другая идея: а как насчет того, чтобы заняться иранскими банками? На бумаге такая стратегия выглядела многообещающе: Соединенные Штаты разорвут связи между Ираном и мировой финансовой системой, что приведет к удушению иранской экономики и замедлению воплощения в жизнь ядерных амбиций Тегерана. Для реализации этой стратегии в распоряжении США имелось мощное оружие — доллар США, который Иран использовал для ведения международной торговли и экспорта нефти. Как и в случае с Banco Delta Asia, иранские банки, попавшие под санкции, потеряли бы доступ к американской валюте.
Такие санкции имели дополнительное преимущество, которое облегчало их реализацию для американских политиков: большинство иранских банков, на которые OFAC хотело наложить ограничения, участвовали в финансировании террористических операций «Хезболлы» по всему миру[49], например, нападения на казармы американских и французских военных в Ливане в 1983 году[50], захвата рейса 847 авиакомпании TWA в 1985 году[51] или взрыва израильского посольства в Буэнос-Айресе в 1992 году[52].
Предложенный подход пришелся по душе администрации США, и вскоре OFAC занялось введением финансовых санкций против крупнейших банков Ирана. В 2006 году управление начало с банка «Садерат», который представлял собой основное финансовое звено между Тегераном и «Хезболлой»[53]. В последующие месяцы в список OFAC были включены и другие иранские банки, в том числе «Мелли» (крупнейший банк страны), «Меллат» и «Сепах»[54]. Санкции перекрыли этим банкам доступ к мировым банковским каналам, затруднив международные транзакции. Был запущен процесс, который в конечном итоге привел к полной финансовой изоляции Ирана [55].
У США имелся еще один скрытый мотив для введения санкций против иранских банков. Вашингтон хотел послать транснациональным корпорациям четкий сигнал, что администрация намерена ограничить возможности Тегерана вести бизнес с остальным миром, и Соединенные Штаты следят за всеми транзакциями в Иране, законными или незаконными. Для отслеживания этих операций Министерство финансов припрятало туза в рукаве. Ранее OFAC инициировало тайное сотрудничество с кооперативным обществом SWIFT [56], обеспечивающим инфраструктуру для обработки финансовых переводов по всему миру (штаб-квартира общества находится в Бельгии)[57].
Эта схема преследовала простую цель: сбор данных о деятельности международных компаний в Иране. Учитывая старое эмбарго США в отношении Тегерана, эти компании могли быть только неамериканскими. Соединенные Штаты утверждают, что их интересовали только те операции, которые могли принести пользу спонсируемым Ираном террористическим группировкам, таким как «Хезболла» или ХАМАС[58]. На деле фиксировались все финансовые операции, хотя многие из них были абсолютно законными. Это не оплошность: у американских официальных лиц имелось четкое представление о том, как они могут использовать эти ценные массивы данных.
Представители Министерства финансов США начали наносить визиты банкирам по всему миру, демонстрируя им, что министерство располагает списками всех транзакций, которые финансовые институты этих банкиров провели для иранских предприятий. Посыл был ясен: вести бизнес с Ираном опасно, и Соединенные Штаты следят за этим. Если международные банки будут уличены в проведении нелегальных операций для Тегерана, США без колебаний примут меры и перекроют им доступ к американскому доллару. Очевиден был и подтекст: проще и безопаснее разорвать все связи с Ираном. Многие западные банки стали тщательно взвешивать, прежде чем проводить расчеты, касающиеся иранских компаний [59].
Санкции против иранских банков оказались болезненными для Тегерана. Однако их воздействия не хватило, чтобы убедить исламский режим сменить курс. В 2012 году, спустя шесть лет после введения Соединенными Штатами санкций против иранских финансовых институтов, западные спецслужбы продолжали передавать сообщения о ядерных устремлениях Ирана[60]. Такое развитие событий тревожило Вашингтон, а также европейские столицы и Израиль. Администрация Обамы перешла к решительным действиям. Она пригрозила наложить на SWIFT санкции, если эта организация не прекратит сотрудничество с Ираном[61]. SWIFT посчитала, что у нее нет другого выхода, кроме как подчиниться, и разорвала связи с Тегераном. Обработка международных переводов в Иран и из Ирана стала практически невозможной.
Нацелившись на иранские банки и перекрыв доступ Тегерана к SWIFT, США фактически ввели финансовое эмбарго против Ирана. Отсутствие международных банковских связей сильно придавило иранскую экономику. Некоторые деловые операции с Тегераном оставались легальными, несмотря на санкции, но их нельзя было провести из-за неимения финансовой инфраструктуры для их обработки. Иран лишился возможности вести торговлю с западными странами. Еще хуже для иранских лидеров было то, что без доступа к мировым банкам под ударом оказались возможности Ирана экспортировать нефть — важнейший источник существования режима[62].
Экономика рухнула. Курс иранской валюты — риала — обвалился. Инфляция взлетела до рекордно высокого уровня. Уровень жизни снизился, а в супермаркетах возникли проблемы с основными товарами первой необходимости[63]. Руководству страны пришлось признать, что санкции калечат экономику. В 2012 году президент Ирана Махмуд Ахмадинежад в своем выступлении на эту тему заявил: «Враг мобилизовал все силы для реализации своего решения, и идет скрытая война в глобальных масштабах… Мы должны осознавать, что это война такого рода, когда враг самонадеянно полагает, что сможет победить иранскую нацию»[64]. Тон Ахмадинежада был задиристым, но Иран столкнулся со стеной санкций.
Именно в экономическом разрушении и заключался смысл этих мер. Соединенные Штаты надеялись, что, столкнувшись с такими трудностями, иранское население начнет сомневаться в том, что ядерные амбиции государства действительно того стоят. В Вашингтоне рассчитывали, что в какой-то момент у иранского руководства не останется выбора, кроме как сменить курс и отказаться от ядерной программы в обмен на смягчение санкций. Ставка США была смелой, но она оказалась выигрышной.
В 2013 году иранцы избрали президентом Хасана Рухани, умеренного прагматика (по иранским меркам), — довольно серьезные перемены после восьми лет правления агрессивного Ахмадинежада. Предвыборная декларация Рухани включала два обещания: во‐первых, он посулил заключить ядерное соглашение с США в обмен на снятие санкций; во‐вторых, он заявил, что это снятие приведет к быстрому восстановлению экономики. Для остального мира избрание Рухани стало многообещающим событием: оно показало, что иранцы считают спасение экономики более важным, нежели реализацию ядерных устремлений руководства страны.
В день своего вступления в должность Рухани поклялся положить конец «гнетущим санкциям Запада»[65]. Однако в Иране власть не полностью находится в руках президента. Многолетний высший руководитель Али Хаменеи [66] является гораздо более влиятельной фигурой, нежели избираемые на ограниченный срок президенты. На тот момент Хаменеи находился у власти уже почти четверть века. Он присутствовал на инаугурации Рухани. Высший руководитель напрямую напомнил Рухани, что Иран должен «противостоять заносчивости и запугиваниям»[67]. Путь к ядерной сделке не выглядел простым.
Поборник жесткого курса Хаменеи не желал идти на уступки по ядерной программе Ирана, считая переговоры с западными странами не просто унизительным делом, но и пустой тратой времени. Если учесть количество переворотов, которые, как считается, американские и британские спецслужбы организовывали на территории Ирана с 1950-х годов, глава государства, вероятно, полагал, что нельзя доверять Америке и Европе. По мнению Хаменеи, конфликт с США также является частью самоидентификации режима[68]; по его словам, Тегерану «нужна вражда с Америкой, {исламской} революции нужна вражда с Америкой»[69].
Мотивы, по которым Хаменеи выступал против ядерного соглашения, выходили за рамки политики. Подобные ему сторонники жесткого курса близки к Корпусу стражей исламской революции (КСИР), который официально является одним из видов вооруженных сил Ирана. Но деятельность КСИР выходит далеко за рамки военного сектора. Эта военизированная группировка также контролирует значительную часть иранской экономики, особенно в энергетической и строительной отрасли. Санкции означают, что многочисленным компаниям, принадлежащим КСИР, не приходится конкурировать с международным бизнесом. КСИР не заинтересован в отмене ограничений: ведь эта организация, долгое время находившаяся под санкциями, получала от них прямую выгоду.
Хаменеи оказался между реформаторами, которые хотели заключить ядерное соглашение, чтобы спасти экономику, и сторонниками жесткой линии, которые противились идее сотрудничества с ненадежными западными державами. Какое-то время ядерная программа представляла собой один из важнейших пунктов политической повестки дня Ирана — даже если осуществлялась в ущерб экономическому развитию. Однако вскоре у Хаменеи не осталось выбора, кроме как сменить курс. Иранская экономика находилась в отчаянном положении, и избиратели выразили желание добиться отмены санкций. Вскоре после избрания Рухани Хаменеи дал иранским дипломатам разрешение на переговоры с Вашингтоном по ядерной сделке[70].
Секретные переговоры с Соединенными Штатами начались в Омане еще за несколько месяцев до избрания Рухани, но шли, мягко выражаясь, неконструктивно. Между иранскими и американскими участниками переговоров обнаружились многочисленные разногласия. Американская сторона считала, что иранские требования нереалистичны — причем именно для того, чтобы торпедировать возможность ведения результативных переговоров. Смена позиции Хаменеи привела к тому, что все кардинально изменилось. После новых инструкций из Тегерана иранская сторона начала соглашаться на некоторые ограничения своей ядерной программы, что ранее казалось невозможным. Дискуссия по-прежнему продвигалась тяжело, но, по крайней мере, она стала продуктивной.
Через два года, в 2015 году, Иран и пять постоянных членов Совета Безопасности ООН под шумные фанфары подписали ядерное соглашение. В обмен на снятие санкций Иран обязался ограничить свою ядерную программу. Энтузиасты санкций ликовали: по их мнению, заключение ядерного соглашения продемонстрировало, что санкции являются эффективным инструментом в принуждении страны-изгоя к переговорам. Некоторым людям санкции стали казаться почти волшебным инструментом для продвижения интересов США. Примерно в это же время Россия начала угрожать территориальной целостности Украины. Неудивительно, что Америка не стала ничего изобретать, а обратилась к санкциям, чтобы послать предупреждение российскому президенту Владимиру Путину.
В начале 2014 года, когда американские и иранские дипломаты были заняты обсуждением ядерной сделки, Россия присоединила Крым и начала поддерживать сторонников независимости на востоке Украины. Резкие действия Москвы вызвали недоумение в западных странах: зачем Кремлю рисковать войной с Западом из-за небольшого полуострова, который 60 лет назад передал Украине советский руководитель Никита Хрущев? Европа и Америка сочли, что нужно действовать быстро, чтобы не дать России занять более значительную часть Восточной Европы[71]. Целесообразно было применить санкции.
Разработка санкций подразумевает тщательное изучение сильных и слабых сторон предполагаемого адресата. В OFAC давно знали, что энергетический сектор является и главным богатством России, и ее ахиллесовой пятой. Добыча нефти и газа составляет примерно треть экономики России, обеспечивая половину налоговых поступлений и почти две трети экспорта страны[72]. Соответственно, нацеливание на российский энергетический сектор выглядело надежным способом нанести смертельный удар по Кремлю.
Но именно потому, что российский нефтегазовый сектор настолько велик, американские и европейские официальные лица столкнулись с непростой проблемой: если США ограничат доступ российских энергетических компаний к доллару США (возможно, путем введения санкций против этих компаний или против российских банков), Москва не сможет экспортировать углеводороды. Без доступа к российским нефти и газу электростанции и заводы многих стран просто остановятся.
Одно дело — введение эмбарго против Кубы и Северной Кореи, второстепенных игроков на мировой экономической арене: мировая экономика при этом не страдает ни на йоту. Глобальным влиянием иранской экономики пренебрегать нельзя, учитывая огромные энергетические ресурсы Тегерана, но и оно остается ограниченным. Совсем другое дело — «наказание» России, которая в 2014 году была шестой по величине экономикой мира и крупнейшим производителем нефти и газа. Неправильно введя санкции в отношении России, западные страны рисковали навредить себе.
Сложившаяся ситуация больше беспокоила европейские правительства. Наследие холодной войны означает, что Россия уже давно является для США второстепенным торговым партнером, и Вашингтон, вероятно, мог бы разорвать все связи с Москвой без особого ущерба для американской экономики. В то же время Европа находится в совершенно ином положении: Россия — ее сосед, и в 2014 году Москва обеспечивала около трети импорта энергоносителей в Евросоюз[73]. Санкции против российского нефтегазового сектора оказались бы в целом безболезненными для США, но катастрофой для Евросоюза.
Такое несовпадение интересов привело к острым дискуссиям между Вашингтоном и Брюсселем. Американская администрация хотела проявить жесткость, что означало нацеленность на российский экспорт нефти и газа. Эта перспектива вызывала тревогу у европейских стран, которые в ходе бесчисленных (и часто казавшихся бесконечными) поздних совещаний настаивали на более мягких мерах. Страны ЕС также опасались, что санкции против российского экспорта энергоносителей приведут к скачку мировых цен на нефть, что негативно скажется на мировой экономике. После кризиса суверенной задолженности в еврозоне Европейский союз не хотел идти на подобный риск.
Еще большее беспокойство европейских стран вызывало обстоятельство, связанное со временем возникновения кризиса. Напряженные трансатлантические дискуссии по разработке санкций против России начались в холодном феврале, зимой, когда Европа больше всего нуждается в энергоресурсах. Лидеров ЕС не вдохновляла перспектива сообщить европейским гражданам, что им придется несколько месяцев обходиться без тепла ради Крыма, о существовании которого до присоединения его к России мало кто из европейцев слышал [74].
Еще одной головной болью для США и Евросоюза оказался тот факт, что в России работали многие западные энергетические компании, предоставлявшие Москве самые современные технологии для освоения все более отдаленных месторождений нефти и газа. Британская BP, американская Exxon, итальянская ENI, французская Total и другие корпорации запустили в России многомиллиардные проекты. Они не собирались терять свои инвестиции и позаботились довести до сведения своих правительств, насколько решительно они выступают против ограничительных мер. В аргументах против санкций, которые руководители этих компаний представляли правительствам европейских стран, немаловажное значение имело стоящее на карте количество рабочих мест на родине.
Оставалось последнее препятствие. Россия — это не Куба, не Северная Корея и не Иран, которые уже давно являются государствами-изгоями. В начале 2014 года Россия была членом тогдашних групп G8 и G20, а также союзником Европы и (в меньшей степени) США в войне с терроризмом. Страны по обе стороны Атлантики хотели дать российскому руководству возможность сохранить лицо, разрядив или остановив конфликт. В конце концов, целью санкций было именно предотвращение дальнейшей эскалации противостояния с Украиной. В любом случае Россия выглядела слишком большой мишенью: жесткие санкции были бы губительны не только для Москвы, но и для европейских союзников Вашингтона. Требовалась более проработанная форма санкций.
Компромисс, найденный Соединенными Штатами для оказания максимального давления на Россию при сохранении экономических интересов Европы, представлял собой доработку финансовых санкций. Вместо того чтобы накладывать на российские банки сплошные санкции, которые не позволили бы Москве экспортировать нефть и газ из-за лишения доступа к американскому доллару, Вашингтон применил более адресный подход. Америка выбрала в качестве целей три основных столпа российской экономики: энергетический, финансовый и военный секторы. Для этого OFAC разработало новую концепцию — отраслевые санкции. Такие санкции направлены на секторы (отрасли) экономики, а не на отдельных лиц, банки или компании.
Американский подход ограничил доступ России к двум важнейшим западным товарам: масштабным, хорошо функционирующим рынкам капитала и технологиям добычи нефти и газа. Некоторым крупнейшим российским компаниям, работающим в сфере энергетики (например, крупнейшей нефтяной компании «Роснефть»), обороны (например, «Рособоронэкспорту», который является посредником в экспорте российского оружия) и финансов (например, государственным банкам ВТБ и Сбербанку), было запрещено привлекать средне- и долгосрочные долговые обязательства в Соединенных Штатах, что ограничило их финансовые возможности на рынках капитала. При этом крайне важно, что указанные меры не затронули их доступ к доллару США.
Однако наиболее значимые положения американских санкций против России касаются энергетического сектора. В рамках пакета санкций против России Вашингтон ограничил возможности американских энергетических компаний по разведке и добыче углеводородов в Арктике, где находится большая часть нетронутых запасов нефти и газа России. Под запрет также попал и экспорт в Россию нефтебурового оборудования американского производства. Эта мера имела обратную силу: пришлось аннулировать даже существующие контракты.
Для Москвы освоение месторождений в Арктике имеет критически важное значение: в долгосрочной перспективе эти запасы должны прийти на смену истощающимся месторождениям Урала и Сибири. Разведка нетронутых ресурсов в Арктике весьма непроста: месторождения энергоносителей расположены глубоко под Северным Ледовитым океаном, который большую часть года находится в замерзшем состоянии. Россия понимает, что для достижения успеха ей необходимо достаточное финансирование, а также западные (в идеале — американские) технологии. Перекрыв российским энергетическим компаниям доступ к заемным средствам в США и отрезав Москву от американских технологий, санкции нанесли серьезный удар по российскому энергетическому сектору.
Если совсем прижмет, Россия сможет получить необходимое финансирование из Китая; в 2016 году китайские банки ссудили 12 млрд долларов возглавляемому Россией консорциуму энергетических компаний, чтобы спасти газовый мегапроект «Ямал» стоимостью 27 млрд долларов после того, как санкции привели к проблемам с его финансированием[75]. Однако со временем привлечение финансирования из Китая может усложниться. Условия, предлагаемые китайскими банками, также могут оказаться непривлекательными, но других альтернатив у российских энергетических компаний не будет.
Еще одной проблемой для России станет поиск необходимых технологий. И опять китайские фирмы тоже будут только рады помочь, однако китайские поставки, возможно, не удовлетворят потребности Москвы: российские энергетические компании привыкли работать с первоклассным оборудованием западного производства, а адаптация к другим стандартам может вызвать затруднения. Итог очевиден: сузив варианты с финансированием и закрыв доступ к американским технологиям, санкции, введенные США в 2014 году, ограничат возможности России оставаться в ближайшие десятилетия одним из главных игроков на мировой энергетической арене. Для российского руководства это представляет существенную угрозу.
После 2014 года США добавили несколько пакетов санкций против России — сначала в ответ на вмешательство Москвы в президентские выборы в США в 2016 году[76], а затем после объявления СВО на Украине в 2022 году. За СВО на Украине со стороны Соединенных Штатов последовали четыре меры — на первый взгляд, жесткие. США заморозили долларовые валютные резервы Москвы (что составляет довольно небольшую часть общих резервов страны), и отключили несколько российских банков от SWIFT. Вашингтон также ввел ограничения на возможность России привлекать государственные долговые обязательства (против чего ранее выступали представители Министерства финансов США)[77]. Наконец, администрация Байдена объявила о запрете на импорт российской нефти. Эти меры попали в заголовки газет, однако их влияние, скорее всего, окажется умеренным.
Ограничение доступа России к своим валютным резервам усложнит деятельность российского Центрального банка по поддержанию курса рубля. Однако это не приведет к банкротству Кремля: его резервы оцениваются приблизительно в 300 млрд долларов США в золоте, юанях и других незападных валютах. Отключение некоторых российских банков от SWIFT стало приговором для этих финансовых учреждений, однако санкции не затронули подавляющее большинство российских банков, которые продолжают осуществлять международные операции. Препятствия к привлечению государственных долговых обязательств будут иметь для России лишь символические последствия: государственный долг Москвы является одним из самых низких в мире. Эта мера, вероятно, больше навредила не Кремлю, а американским инвестиционным фондам, в которых до СВО находилось около 15 млрд долларов российского суверенного долга[78]. Наконец, запрет США на импорт российской нефти практически не играет никакой роли: американский импорт российской нефти весьма незначителен.
Недостаточная эффективность санкций США 2022 года свидетельствует о том, что наиболее жесткие санкции Вашингтон ввел еще в 2014 году, причем самым мощным американским оружием стали меры, направленные на энергетический сектор. Стратегия Соединенных Штатов уже длительное время направлена на медленное удушение российской экономики. Вашингтон понимает, что для получения результатов потребуются десятилетия, однако американские политики сходятся во мнении, что со временем эти меры окупятся. Вскоре после антироссийских санкций в 2014 году OFAC переключилось на Венесуэлу. В случае с Каракасом расчет оказался совершенно иным. После некоторых первоначальных колебаний США перешли к политике максимального давления на финансовые жизненные артерии Венесуэлы.
Первые санкции против Венесуэлы американцы ввели еще в середине 2000-х годов. В то время претензии Вашингтона к Каракасу были умеренными. Венесуэла не сотрудничала с Соединенными Штатами в борьбе с терроризмом (некоторые венесуэльские лица были связаны с «Хезболлой»), и страна служила базой для колумбийских наркоторговцев (в частности, для отмывания денег). Несколько лет спустя администрация Обамы ввела дополнительные санкции против Каракаса, направленные в адрес венесуэльских официальных лиц — в ответ на нарушение прав человека, контрабанду наркотиков и поддержку международных преступных сетей. Одновременно Белый дом также запретил экспорт американского военного снаряжения в Венесуэлу, опасаясь, что авторитарное правительство Уго Чавеса будет использовать его для подавления оппозиции. На самом деле эти санкции имели в основном символическое значение. По большому счету Венесуэла просто не являлась приоритетным направлением внешней политики для американских дипломатов.
Все изменилось в марте 2017 года, когда Венесуэла замелькала в заголовках международных газет. Сторонники репрессивного режима Николаса Мадуро, преемника Чавеса, лишили полномочий контролируемый оппозицией парламент страны. Международные наблюдатели и оппозиционные политики расценили это как переворот, после чего разразился тяжелый политический кризис, напоминающий гражданскую войну между проправительственными и антиправительственными группировками. Появилось много человеческих жертв. Десятки граждан погибли во время демонстраций, требуя проведения свободных и справедливых выборов[79].
Спустя пять месяцев протесты все еще продолжали бушевать, вызывая в Вашингтоне опасения, что происходящее в Венесуэле может перекинуться на всю Латинскую Америку. Президент Дональд Трамп ранее заявлял, что не исключает военного варианта противостояния с режимом Мадуро[80]. Однако отправка американских войск представлялась рискованным делом и противоречила изоляционистской политике президента «Америка превыше всего». Гораздо привлекательнее выглядели санкции, превратившиеся к тому времени в проверенный дипломатический инструмент. Управлению OFAC было поручено выяснить, какую форму они могут принять.
Провести оценку оказалось несложно: Венесуэла — просто экономический бардак, и сохранилось всего лишь несколько точек, на которые можно болезненно надавить. Единственным сектором, который еще находился в приличной форме, была нефтяная промышленность. Это делало ее идеальной мишенью, тем более что углеводороды являлись финансовым спасательным кругом для режима Мадуро: в 2017 году государственная нефтяная компания Венесуэлы Petróleos de Venezuela (PDVSA) обеспечивала Каракасу 60 % бюджетных доходов[81] и почти всю экспортную выручку страны[82]. PDVSA также представляла собой единственный источник твердой валюты для режима, поскольку только продажа нефти приносила выручку в долларах США.
Что немаловажно, OFAC указало на незначительный риск того, что союзники выступят против санкций в отношении PDVSA. Венесуэла обладает крупнейшими в мире запасами нефти, однако десятилетия недостаточного инвестирования привели к тому, что страна не заняла место среди серьезных игроков на мировых энергетических рынках. Азиатские и европейские экономики импортируют из Венесуэлы очень мало углеводородов (если вообще импортируют). Это означало, что возможные санкции США против PDVSA не обернулись бы проблемами для американских партнеров. Однако существовала одна загвоздка: в то время американские нефтеперерабатывающие заводы покупали треть экспортируемой Венесуэлой нефти, что делало Соединенные Штаты крупнейшим рынком сбыта для PDVSA[83].
Американским нефтепереработчикам не потребовалось много времени, чтобы встревожиться из-за потенциальных санкций против PDVSA. У них имелись все основания возражать и добиваться слушаний в Вашингтоне. По их мнению, санкции против нефтяного сектора Венесуэлы обязательно должны привести к массовым увольнениям на американских заводах и повышению стоимости топлива на внутреннем рынке[84]. Особенно активно против санкций в отношении PDVSA выступала Citgo, восьмая по величине нефтеперерабатывающая компания в США[85]. Это и неудивительно: компания базируется в Техасе, но полностью принадлежит PDVSA, то есть по сути правительству Венесуэлы. Венесуэльская нефть тяжелая, и поэтому ее трудно перерабатывать. Citgo вложила огромные средства в приобретение технологии переработки сырой венесуэльской нефти на гигантских нефтеперерабатывающих заводах в Техасе, Иллинойсе и Луизиане[86]. Если бы США ввели санкции против PDVSA, то существование Citgo оказалось бы под угрозой. Встревоженная компания наняла группу лоббистов для отстаивания своих интересов в вашингтонских коридорах власти.
Вскоре у потенциальных санкций США против экспорта нефти из Венесуэлы обнаружился еще один возможный побочный эффект — причем еще более тревожный. PDVSA только что взяла кредит у российского государственного нефтяного гиганта «Роснефти». В качестве обеспечения PDVSA предложила 49,9 % акций Citgo[87]. Если PDVSA не сможет больше экспортировать нефть, то она и не выплатит кредит. Следовательно, «Роснефть» вскоре может оказаться владельцем почти половины активов Citgo, включая широкую сеть автозаправочных станций в США, три нефтеперерабатывающих завода, несколько трубопроводов и топливных терминалов.
Такой сценарий порождал массу проблем. Во-первых, эти предприятия давали тысячи рабочих мест для американцев. Если «Роснефть» поглотит Citgo, то не исключено, что эти рабочие места в одночасье исчезнут. Еще большее беспокойство вызывал тот факт, что крупнейшим акционером «Роснефти» является сам Кремль. Позволить России взять под контроль приличный кусок американской энергетической инфраструктуры — кошмарный сценарий для американской администрации. Кроме того, это стало бы катастрофой в отношениях с общественностью — прошло всего несколько месяцев после вмешательства Москвы в президентские выборы 2016 года. Риск того, что санкции против PDVSA приведут к обратному эффекту, был попросту слишком велик. OFAC пришлось искать что-то другое.
Вместо того чтобы решиться на полномасштабный вариант действий — нанести удар по нефтяному сектору Венесуэлы, — OFAC сократило доступ страны к международным рынкам долговых инструментов. В результате Каракасу фактически отказали в возможности выпускать суверенные долговые обязательства в долларах США. Теоретически эта стратегия была очень эффективной: она препятствовала пролонгации существующего государственного долга, что повышало вероятность государственного дефолта. Будучи государственной компанией, PDVSA также попала под действие этих ограничений. Пострадала и компания Citgo, которой запретили направлять в Венесуэлу прибыль, полученную в США. На бумаге эти меры казались финансовым удушением венесуэльского режима. Однако специалисты по санкциям понимали, что описанные действия имеют в основном символическое значение.
Венесуэла уже давно столкнулась с проблемами выпуска государственных долговых обязательств, и они не имели ничего общего с санкциями. Финансовые инвесторы не проявляли интереса к долгам режима-изгоя, искалеченного десятилетиями хронической экономической бесхозяйственности. Процентная ставка по государственному долгу Венесуэлы составляла почти 30 %, что примерно в десять раз превышало среднюю процентную ставку на других развивающихся рынках[88]. Несмотря на колоссальные потребности в финансировании, за год, прошедший до введения американских санкций, Каракас лишь дважды смог выйти на международные рынки долговых инструментов. В теории санкции, связанные с государственным долгом Венесуэлы, выглядели прекрасно, но на практике они были бесполезными: страна уже не имела доступа к международным рынкам долговых инструментов.
Эксперты также понимали, что блокирование репатриации дивидендов от Citgo в Венесуэлу мало что изменит для режима Мадуро. Конечно, Citgo представляет собой крупнейший и наиболее доходный иностранный актив страны: до введения санкций эта американская энергетическая компания ежегодно направляла в Венесуэлу в виде дивидендов около 1 млрд долларов США[89]. Да, важен каждый цент, однако величина бюджетного дефицита Венесуэлы имеет совершенно иной порядок. В 2017 году дефицит составил почти 30 млрд долларов, так что дивиденды от Citgo были для Каракаса некритичными суммами.
Через три месяца после введения американских санкций Венесуэла объявила дефолт по государственному долгу. Вскоре после этого PDVSA начала допускать просрочки по выплате задолженности. Администрация США официально приветствовала такое развитие событий, но сотрудники OFAC знали, что санкции здесь ни при чем. Единственной мерой, способной серьезно ослабить Каракас, являлись ограничения на экспорт нефти PDVSA, однако американские нефтепереработчики категорически возражали против подобных мер. OFAC положило на полку свое досье на PDVSA. Управлению пришлось ждать второго шанса для преследования венесуэльской «дойной коровы». Американские специалисты по санкциям еще не подозревали, что много времени на это не потребуется.
В январе 2019 года оппозиционный политик Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы до проведения свободных и справедливых выборов. Гуайдо быстро получил поддержку международного сообщества, однако Мадуро твердо держался за власть. Вашингтонская администрация начала искать пути послать мощный сигнал о своей поддержке Гуайдо. Соединенные Штаты считали, что смена режима в Венесуэле вполне возможна, а то и неизбежна. Чтобы ускорить процесс прихода Гуайдо к власти, США обратились к санкциям.
На этот раз у сторонников санкций против PDVSA имелся солидный аргумент, который можно было предложить всем желающим. Они утверждали, что санкции против этой венесуэльской энергетической компании лишат режим ключевых доходов от продажи нефти. По их мнению, это может ускорить падение режима Мадуро и способствовать приходу к власти администрации во главе с Гуайдо. Перед таким предложением было трудно устоять. К тому же оно вполне соответствовало внешнеполитическим приоритетам администрации, включавшим смену режима в Венесуэле. В Вашингтоне начала набирать обороты поддержка мер против PDVSA.
Нашлась и еще одна причина того, что администрация проявила бо́льшую склонность к действиям против PDVSA, нежели два года назад. С 2018 года США наращивали внутреннюю добычу нефти и экспорт энергоносителей, дойдя до исторических максимумов. Рост добычи нефти в США означал, что отечественные нефтепереработчики могли заменить венесуэльскую нефть собственной нефтью с побережья Мексиканского залива, что было невозможно еще в 2017 году. С точки зрения администрации Трампа, поддержка развития американских нефтедобывающих компаний не могла быть плохой идеей. После двух лет интенсивного лоббирования сторонники Citgo проиграли, и Соединенные Штаты наложили жесткие санкции на PDVSA.
Действия США против PDVSA были направлены на то, чтобы оказать максимальное давление на Каракас. Венесуэльской компании запретили экспортировать нефть на американские нефтеперерабатывающие заводы. Это стало катастрофой для казны PDVSA, поскольку американские нефтепереработчики расплачивались за венесуэльскую нефть деньгами, что обеспечивало PDVSA около 70 % денежного дохода. Поставки другим покупателям, например российской «Роснефти» и китайской CNPC, были менее выгодны; они представляли собой погашение товаром предыдущих кредитов[90]. Денежные средства от поставок нефти в США в одночасье исчезли, оставив на счетах PDVSA дыру размером в 11 млрд долларов[91].
Санкции США также перекрыли доступ PDVSA к американской финансовой системе, лишив эту энергетическую компанию возможности пользоваться долларом и еще более усложнив незаконный экспорт нефти покупателям, готовым игнорировать американские санкции (в обмен на значительные скидки). Кроме того, американским компаниям, поставлявшим в Венесуэлу легкую нефть, запретили это делать[92]. Такая мера была важнейшей частью санкционного пакета: венесуэльская нефть настолько тяжела, что ее нельзя транспортировать по трубопроводам, если не разбавить предварительно более легкой нефтью, которая зачастую поступала из США. Без доступа к американской легкой нефти и до появления альтернативных поставщиков компании PDVSA пришлось продавать венесуэльскую нефть по заниженным ценам.
Еще до введения Вашингтоном санкций против PDVSA добыча нефти в Венесуэле сократилась вдвое всего за два года из-за хронически неграмотного руководства и недостаточного инвестирования в нефтяной промышленности. Санкции нанесли Каракасу дополнительный удар. Американские компании мгновенно прекратили закупки венесуэльской нефти. Большинство международных покупателей венесуэльской нефти также отказались от контрактов с PDVSA — после того как американские дипломаты нанесли им визиты, чтобы (более или менее мягко) напомнить о необходимости соблюдения американских санкций. Компания столкнулась с трудностями погашения существующей задолженности. Некоторые аналитики предсказывали, что PDVSA окажется не в состоянии выполнить свои финансовые обязательства.
Крах PDVSA представлялся вполне возможным. Казалось, что такой сценарий является вполне благоприятным развитием событий, однако он не давал спать спокойно некоторым сотрудникам OFAC. Это ведомство хотело быть уверено в том, что российский энергетический гигант «Роснефть» не сможет захватить активы Citgo, если PDVSA не сможет выплатить долги. У американских чиновников имелись серьезные основания для беспокойства. Венесуэльская компания заложила половину акций Citgo в качестве обеспечения по облигациям, срок погашения которых наступал в 2020 году. Вторую половину акций Citgo PDVSA использовала в качестве обеспечения для кредита от «Роснефти». В конце 2019 года было просрочено погашение долга на сумму 928 млн долларов по облигациям PDVSA с погашением в 2020 году.
Кредиторы проявляли растущее нетерпение. Чтобы вернуть свои деньги, они пригрозили заняться преследованием Citgo, используя обеспечение облигациями. Если в ходе переговоров Citgo оказалась бы расчлененной, то существовал шанс, что российская нефтяная компания получила бы половину американской фирмы. Подобный исход представлялся маловероятным, однако Вашингтон не хотел рисковать. Снова всплыли опасения, что российский государственный нефтяной гигант может взять под контроль часть энергетической инфраструктуры США. Некоторые сенаторы заявили, что такой сценарий представляет собой угрозу национальной безопасности[93].
Под чудовищным давлением Министерство финансов США наложило запрет на все операции, связанные с облигациями PDVSA 2020 года, по сути, лишив инвесторов возможности захватить половину Citgo, чтобы компенсировать пропущенные выплаты по облигациям[94]. Соединенные Штаты имели возможность ввести такой запрет: облигации были номинированы в американских долларах. Это стало очередным примером того, как Соединенные Штаты могут использовать доллар для навязывания своей воли в деловых переговорах между частными кредиторами. После принятия этого решения активы Citgo остались недоступными для «Роснефти»[95].
Чтобы ослабить режим в Венесуэле, Вашингтону достаточно было нанести удар по одной компании. Денежные поступления от экспорта нефти через PDVSA исчезли, и Каракас столкнулся с необходимостью искать других покупателей. Поначалу режиму удавалось обходить санкции, но постепенно Соединенные Штаты затянули гайки, препятствуя нелегальному экспорту нефти[96]. К началу 2020 года поставки нефти компанией PDVSA составляли лишь малую долю от прежних объемов[97].
Для Каракаса еще не все потеряно. Неудивительно, что на помощь Мадуро пришли Россия и Китай. Венесуэльское правительство также активизировало торговлю наркотиками и незаконную добычу полезных ископаемых, чтобы возместить часть утраченных доходов от продажи нефти[98]. В результате Мадуро остается у власти и может заявлять, что американские санкции проходят безболезненно. В конце 2020 года он даже вернул себе контроль над парламентом — последним институтом, остававшимся в руках оппозиции. Однако на самом деле все обстоит иначе. Санкции будут оказывать на его режим чудовищное давление до тех пор, пока Мадуро не сдастся и не пойдет на соглашение с Соединенными Штатами. Возможно, он это сделает, а возможно, и нет. Пока же перспективы Венесуэлы выглядят мрачными.
3 Переменный успех Почему санкции иногда срабатывают, но чаще терпят неудачу
Отношения Америки с Муаммаром Каддафи не заладились с самого начала, когда он пришел к власти в Ливии в 1969 году. Вскоре после свержения короля Идриса I Каддафи национализировал энергетическую промышленность Ливии и выдворил из страны американские нефтяные компании. Спустя десять лет Ливия стала олицетворением государства-изгоя. Приверженность Каддафи терроризму и желание обзавестись химическим оружием беспокоили Вашингтон[99]. Автократический правитель также имел склонность убивать своих противников на улицах европейских столиц. Помимо этих убийств, Каддафи спонсировал теракты в аэропортах Запада и пытался нелегально создать ядерный арсенал для своей страны.
Вашингтон увидел в Триполи прямую угрозу американской безопасности. В 1979 году президент Джимми Картер включил Ливию в список государств — спонсоров терроризма, запретив экспорт американских военных товаров и финансовую помощь этой стране. Однако поведение Каддафи не изменилось. Спустя два года ливийские истребители открыли огонь по американским самолетам, участвовавшим в военно-морских учениях в международных водах, которые, по заявлению Каддафи, принадлежали Ливии. В ответ президент Рональд Рейган усилил давление: он ввел запрет на экспорт ливийской нефти в Америку. Вашингтон также запретил продажу Триполи нефтегазового оборудования американского производства. Стратегия Рейгана была очевидна: он стремился оказать максимальное давление на Каддафи, нацелившись на локомотив ливийской экономики — энергетический сектор.
Каддафи не изменил позицию. В апреле 1986 года к Вашингтону пришло болезненное осознание, что санкции не смогли удержать ливийского правителя от использования террористических актов в качестве инструмента внешней политики. Сотрудники ливийской разведки заложили бомбу в берлинской дискотеке, популярной среди американских солдат; при взрыве погибли три человека (в том числе двое американских военнослужащих), а еще 230 получили ранения. Через десять дней Рейган отдал приказ о нанесении ответных авиаударов по Триполи и Бенгази. Обращение Рейгана к военной силе означало признание Белым домом того факта, что влияние американских санкций оказалось недостаточно серьезным, чтобы убедить Каддафи поменять курс.
Умеренное воздействие санкций не стало неожиданностью для американской администрации: Вашингтон действовал в одиночку. Европейские государства выражали сожаление по поводу поведения Каддафи, но не считали Ливию угрозой безопасности. По сути, союзники США извлекали выгоду от ссоры Америки с ливийским лидером. Санкции означали, что Триполи не мог экспортировать нефть в США, однако Каддафи просто перенаправил маршруты экспорта к европейским покупателям. Ливия не могла импортировать нефтегазовые технологии из Америки, но и это не стало проблемой для Каддафи: он начал закупать нужное оборудование у европейских компаний, которые с радостью соглашались продавать его. Соединенные Штаты понимали, что без поддержки европейских союзников санкции против Ливии не имеют никаких шансов. Чтобы убедить партнеров Вашингтона в необходимости введения мер против Триполи, должно было что-то произойти.
Долго ждать Соединенным Штатам не пришлось. В конце 1980-х годов Ливия добавила к длинному списку кровожадных инструментов своей внешней политики еще и взрывы пассажирских самолетов. В 1988 году сотрудники ливийской разведки принимали участие во взрыве рейса 103 авиакомпании Pan American над шотландским городком Локерби, в результате которого погибли 270 человек (в том числе заместитель начальника резидентуры ЦРУ в Бейруте). Спустя год после этого Триполи взорвал над Нигером французский авиалайнер авиакомпании UTA, совершавший рейс 772: еще 170 жертв (в том числе жена американского посла в Чаде). Последовал международный резонанс, и США начали лоббировать введение санкций против Ливии под эгидой Организации Объединенных Наций.
После присоединения американских союзников все упростилось. Через несколько недель после крушения рейса 772 UTA ООН предприняла жесткие действия против Триполи. Западные страны заморозили активы ливийского правительства за рубежом, лишив режим столь необходимых ему источников денежных средств. Под санкции ООН попал экспорт в Триполи любого нефтегазового оборудования, а также оружия. Прекратились авиаперевозки в Ливию и из нее. Страна стала изгоем на международной арене. В создавшихся условиях иностранные энергетические компании начали покидать Триполи.
Такие всесторонние санкции, введенные по инициативе ООН, оказали серьезное влияние на ливийскую экономику. Энергетическая инфраструктура Ливии вскоре начала разрушаться, в то время как инвестиции и доступ к западным технологиям резко сократились. Рост экономики превратился в далекое воспоминание, повысив риск социальных волнений: заработная плата стагнировала на фоне стремительно растущей инфляции. В целом, по оценкам ливийских властей, международные санкции обошлись стране примерно в 30 млрд долларов[100]. Цена для Триполи оказалась слишком высокой. Ливия продержалась десять лет, но уступила санкционному давлению.
В 1999 году страна в итоге выдала двух ливийцев, подозреваемых во взрыве самолета компании Pan American, совершавшего рейс 103 (один из них был приговорен к пожизненному заключению, а второй признан невиновным). Каддафи также объявил о прекращении террористических актов и сдержал свое слово. Ядерный арсенал и запасы химического оружия Ливии были ликвидированы под международным контролем. В ответ США и ООН отменили все санкции против Триполи.
Для Вашингтона это был редкий случай однозначной санкционной победы: Ливия оказалась в числе избранной группы стран-изгоев, которым удалось выбраться из-под американских ограничений. Для энтузиастов санкций капитуляция Каддафи явилась наглядной демонстрацией того, что этот метод может стать эффективным, чтобы заставить страны-изгои изменить свое поведение. Но на самом деле Ливия — это исключение. В большинстве случаев санкции не работают. В некоторых случаях они даже могут привести к обратному эффекту и нанести ущерб интересам США.
В 1919 году президент Вудро Вильсон заметил: «Страна, которая подвергается бойкоту, — это страна на пороге капитуляции. Примените это экономическое, мирное, тихое, смертоносное средство, и необходимость в силе отпадет. Это не подвергнет риску жизни за пределами бойкотируемой страны, но окажет на нее такое давление, которому, по моему мнению, не сможет противостоять ни одно современное государство»[101]. В этом вопросе Вильсон ошибался. За исключением нескольких громких побед (таких, как Ливия), найдется немного свидетельств, что санкции эффективны так, как хотелось бы политикам. На самом деле история показывает, что в большинстве случаев страны противостоят санкциям, и те не срабатывают.
В своем отчете за 2019 год Счетная палата США (GAO) отметила, что правительство США не знает, работают ли существующие санкционные программы и какой эффект они оказывают[102]. Это неудивительно. Министерство финансов США не публикует исследования эффективности санкций до их введения или после некоторого периода их действия. Не публикуют эту информацию ни Государственный департамент, ни Министерство торговли. Фактически таких оценок вообще не существует: перед наложением санкций администрация проверяет лишь то, насколько они задевают непосредственно население[103].
В этом нет вины правительственных чиновников. Как правило, они вынуждены разрабатывать санкционные программы в спешке, пытаясь реагировать на быстро развивающиеся дипломатические кризисы. Непросто оценить и эффективность санкций. Точно предсказать до введения, подействуют ли санкции, — все равно что заглянуть в хрустальный шар гадалки. Когда же санкции введены, то для определения их полезности необходим доступ к альтернативной реальности: ведь такая оценка должна базироваться на невозможном сравнении того, что могло происходить (без наложения санкций), и того, что произошло в действительности (при введенных санкциях).
Однако вполне можно сравнить результат санкций и их исходную цель. Результаты не обнадеживают. Анализ всех американских санкционных программ, начиная с 1970 года, показывает, что страны-адресаты изменили свое поведение так, как рассчитывали США, только в 13 % случаев[104]. Еще в 22 % случаев политика стран, попавших под санкции, стала несколько более приемлемой для Вашингтона (но не полностью)[105]. Эти данные свидетельствуют, что санкции вряд ли можно считать панацеей: они оказываются неудачными в среднем в двух третях случаев.
Примеры неудач обнаружить несложно. На Кубе режим Фиделя Кастро продолжает существовать после более чем 60 лет американского эмбарго. В Северной Корее династия Кимов остается у власти, а население голодает. В Ираке международные санкции не подтолкнули Саддама Хусейна задуматься об уходе из Кувейта. Иран по-прежнему поддерживает «Хезболлу» и дестабилизирует ситуацию на Ближнем Востоке. Россия не вернула Крым Украине после присоединения полуострова в 2014 году. Наоборот, российская армия восемь лет спустя начала СВО на Украине. Реальность такова, что санкции иногда эффективны, но чаще нет, и трудно точно предсказать, сработают ли они.
Определение эффективности санкций сродни гаданию. Это не означает, что совершенно невозможно предположить, есть ли у предлагаемых санкций хотя бы небольшой шанс на эффективность. Как показывает опыт, существуют четыре фактора, которые помогают установить, сработают санкции или нет: продолжительность их действия; преследуют ли они узкую или широкую цель; наличие предыдущих торговых связей между США и страной-мишенью; и, что, пожалуй, важнее всего, наличие союзников.
Прежде всего, санкции срабатывают либо быстро, либо никогда[106]. Если меры не принесли результатов в течение двух лет, то страна-адресат чаще всего не намерена уступать. В 2018 году Вашингтон ввел санкции против Турции в знак протеста против задержания американского пастора Эндрю Брансона. Всего через два месяца Анкара уступила давлению и освободила Брансона, а Вашингтон отменил соответствующие санкции. Если ограничения срабатывают, как оказалось в случае с Турцией, то это происходит быстро.
И наоборот, если за пару лет санкции не оказались эффективными, то они вряд ли когда-нибудь принесут результат. По прошествии нескольких лет санкции становятся новой нормой для стран, против которых они направлены. Они запускают механизмы обхода санкций. Страны-мишени увеличивают внутреннее производство, чтобы снизить зависимость от импорта. Оказавшись под санкциями, Россия развивает сельское хозяйство, чтобы стать самодостаточной в обеспечении продовольствием. Подсанкционные страны также налаживают новые связи с другими торговыми партнерами. За последние два десятилетия Иран переориентировал свой экспорт с Запада на Китай, Индию и Турцию[107].
Подавляющее большинство санкционных программ США действуют уже более двух лет, что ставит болезненные вопросы. Если эти меры имеют мало шансов на получение нужного результата, должен ли Вашингтон отменить их, хотя они не достигли заявленных целей? Теоретически это имело бы смысл, но одновременно ослабило бы американские рычаги давления: в будущем страны, против которых введены санкции, решат, что им просто нужно продержаться несколько лет, пока Вашингтон не сдастся и не отменит ограничения.
Цели санкций зачастую расплывчаты, и поэтому их отмена — как правило, в обмен на какие-то конкретные действия, например, на отказ от ядерной программы — еще более сложная задача. В качестве примера можно привести Иран. Когда в 2018 году администрация США вышла из ядерного соглашения и вновь ввела санкции против Ирана, Вашингтон поначалу определил 12 шагов, которые Тегеран должен предпринять для снятия санкций, — включая вывод войск из Сирии, освобождение американских заключенных и сворачивание программы создания баллистических ракет[108]. Однако вскоре после выдвижения этих требований президент Дональд Трамп пошел наперекор собственной администрации, заявив в Твиттере, что его единственная цель — добиться от Ирана отказа от ядерного оружия (существование которого никогда не было доказано).
Спустя год Трамп вновь изменил позицию. Он дал понять, что готов отменить санкции в отношении Ирана, если Хасан Рухани согласится встретиться с ним (иранский президент отклонил это предложение). В то же время другие американские официальные лица продолжали намекать, что единственным приемлемым результатом является смена режима в Тегеране[109]. В свете этих путаных заявлений Иран никак не мог сориентироваться, каким образом ему следует изменить свое поведение, чтобы убедить США снять санкции. Даже в Вашингтоне официальные лица затруднялись дать четкое описание действий, которые Тегеран должен предпринять для отмены санкций.
Еще одна проблема заключается в том, что многие санкционные программы США не только не имеют четко определенных целей, но и не содержат положений о прекращении своего действия: после введения они могут действовать вечно без пересмотра. Например, Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) практически не обновляло санкции в отношении Кубы с момента их введения в 1960-х годах. Они по-прежнему отражают унаследованные от прошлого опасения по поводу связей Гаваны с бывшим Советским Союзом. Положить конец этим санкциям будет непросто: американские граждане и компании, активы которых конфисковал режим Кастро, до сих пор имеют неурегулированные имущественные претензии к Кубе на сумму около 8 млрд долларов[110]. Тем не менее представляется, что давно назрел пересмотр санкций против Кубы: нужно разбираться с текущими спорами, а не с проблемами времен холодной войны.
На этом сложности с ранее разработанными санкционными программами не заканчиваются. Устаревает информация об ответственных лицах в программах, действовавших десятилетиями. Это неудивительно: OFAC уже много лет испытывает нехватку персонала[111]. Многие сотрудники OFAC, приобретя за несколько лет знания о санкциях, предпочитают перейти в частный сектор, поскольку зарплаты в компаниях, занимающихся юридической экспертизой, более привлекательны, чем в OFAC. Дефицит кадров приводит к тому, что в некоторых санкционных программах, касающихся Африки, полностью отсутствуют управляющие ими штатные сотрудники[112]. Еще хуже ситуация в Государственном департаменте: в 2020 году здесь было вакантно около половины должностей специалистов по санкциям[113].
Вернемся к признакам успешных санкций. Второй характерной чертой эффективных мер является узкая цель. Как правило, срабатывают санкции, имеющие ограниченную задачу — например, освобождение политического заключенного или урегулирование торгового спора[114]. В 2018 году санкции против Турции оказались эффективными в немалой степени потому, что их цель была ограниченной: администрация США добивалась от Анкары только освобождения пастора Брансона. Наоборот, санкции, преследующие более масштабные цели — например, смену режима на Кубе, в Северной Корее или Венесуэле, — обычно не действуют.
Это объясняет, почему редко срабатывают санкции против диктаторских режимов, с помощью которых пытаются добиться смены верхушки[115]. С 1950-х годов почти 90 % мер США, доказавших свою эффективность, вводились против государств с многопартийной избирательной системой[116]. Это вполне логично. Авторитарные режимы по определению не намерены отказываться от власти; во многих случаях их лидеры тем самым подписали бы себе смертный приговор. Кроме того, важным фактором эффективности санкций является недовольство населения. Теоретически санкции не должны затрагивать население стран, против которых они введены, но в реальности простые люди из-за них зачастую становятся беднее. Сокращается доступ к потребительским товарам. Возникают сложности с путешествиями. Граждане вскоре начинают задумываться о том, стоит ли политика государства таких проблем. Лишения избирателей превращаются в давление на правительство[117].
Именно это происходило, например, в Иране в 2012–2015 годах. Иранцы возмущались последствиями санкций, тем более что раньше страна обеспечивала достойные условия жизни населения. Важно, что у граждан Ирана имелся способ выразить свое недовольство санкциями. Иран — это теократическое государство с мрачной репутацией в области прав человека, однако в стране проводятся президентские выборы (независимые наблюдатели считают, что они не являются свободными и справедливыми, однако эти выборы все же дают населению возможность как-то влиять на управление страной)[118]. В 2013 году иранцы избрали президентом реформиста Рухани, поручив ему добиться отмены санкций. Он выполнил свое обещание, подписав в 2015 году ядерное соглашение.
И наоборот, в странах, где процесс принятия решений не является демократическим, гражданское давление не может принести результатов; у людей нет возможности донести свое мнение. Там, где инакомыслие подавляется, у авторитарных режимов нет стимула менять свое поведение, чтобы добиться отмены санкций. В реальности история показывает, что, когда диктаторские режимы попадают под санкции, ситуация в области прав человека, как правило, ухудшается. Учащаются случаи исчезновений, пыток и политических тюремных заключений, поскольку правительства стран-изгоев ужесточают наказания для тех, кто, по их мнению, содействует врагу, наложившему санкции[119].
Третья особенность успешных санкций заключается в том, что они направлены против экономических партнеров[120]. И здесь снова уместен пример с санкциями США против Турции в 2018 году. Вашингтон и Анкара — давние экономические партнеры и союзники по НАТО. Санкции стали аномалией, которую требовалось устранить. Напротив, если Соединенные Штаты нацеливаются на государство, с которым у них мало связей, то у подсанкционной страны окажется мало стимулов для изменения своего поведения. Разрыв слабых связей будет означать всего лишь сохранение существующих условий. Партнерам есть что терять. Противникам — нет.
Наконец, для эффективности санкций крайне важна общая поддержка. Несмотря на свою непревзойденную экономическую мощь, США не могут выступать в одиночку: с 1970 по 1990 год только 13 % односторонних американских санкций достигли заявленных целей[121]. Здесь наглядным является пример Северной Кореи. Более 90 % торговли Северной Кореи происходит через Китай, а остальная часть в основном приходится на Россию. Если Пекин и Москва не присоединятся к санкциям против Пхеньяна, они бесполезны; их просто не реализовать[122].
Идеальным вариантом является многосторонняя поддержка санкций в Организации Объединенных Наций. Это означает, что все страны (теоретически) введут одинаковые ограничения. В итоге международные компании по всему миру должны будут соблюдать определенный набор общих правил в отношениях со страной, против которой введены санкции. Для бизнеса это крайне важно: если государства не будут выступать единым фронтом, то фирмы из стран, не присоединившихся к санкциям, смогут извлечь выгоду из сложившейся ситуации, захватив рыночные доли компаний из стран, наложивших санкции. Именно это происходило в Ливии до того, как союзники присоединились к санкциям США против Каддафи. Однако добиться одобрения ограничений в ООН зачастую непросто.
Разработка санкций ООН — дело сложное, и не в последнюю очередь из-за традиционного сопротивления России и Китая — двух постоянных членов Совета Безопасности ООН — санкционной политике. Москва и Пекин умело обесценивают действия ООН в отношении своих союзников, например Северной Кореи. В 2019 году Россия и Китай заблокировали резолюцию Совета Безопасности ООН, осуждающую импорт Пхеньяном в предыдущем году 3,5 млн баррелей нефтепродуктов, что в семь раз превышает лимит, предусмотренный санкциями ООН[123].
Но даже с Россией и Китаем подготовка санкций на уровне ООН сопряжена с мучительными дебатами по выбору слов, чтобы угодить всем, включая страны, имеющие тесные связи с государством-мишенью — например, в случае России и Сирии или Китая и африканских диктаторских режимов. Этот длительный процесс часто открывает определенные возможности для стран, против которых направлены санкции: они могут принять упреждающие меры, чтобы ослабить воздействие предстоящих санкций, наращивая запасы, перенаправляя торговлю и создавая обходные схемы[124].
Таким образом, эффективные санкции — это обычно те, которые вводятся на короткий срок, имеют узкую цель, направлены на демократические страны, имеющие значительные связи с США, и поддерживаются американскими союзниками. То есть полная противоположность большинству американских санкционных программ. Санкции Вашингтона в основном действуют годами (если не десятилетиями) и направлены против диктаторских режимов, с которыми у США мало связей. Во многих случаях американские санкции преследуют широкие цели — например, смену режима. Зачастую эти цели неясны. В последние годы США также все чаще применяют санкции в одиночку, о чем свидетельствует односторонний выход Вашингтона из иранского ядерного соглашения в 2018 году. Если исходить из вышеописанных параметров, то многие санкционные программы США кажутся обреченными на провал.
В 1990 году США ввели санкции против Пакистана — в ответ на тайную ядерную программу этой страны. Сократилась экономическая и военная помощь Исламабаду (до этого американская поддержка составляла около 600 млн долларов в год)[125]. Соединенные Штаты приостановили поставки американской военной техники, включая долгожданные истребители F‐16, и отменили совместные американо-пакистанские военные учения[126]. Последствия санкций против Исламабада оказались гораздо более масштабными, нежели предполагали США. Они привели к снижению влияния Америки в этом регионе, что имело катастрофические последствия для национальной безопасности. Пример Пакистана наглядно показывает, как санкции могут привести к обратному результату и нанести ущерб интересам США.
В 1980-е годы Вашингтон и Исламабад тесно сотрудничали в сфере выдавливания Советского Союза из Афганистана[127]. Связи между пакистанскими и американскими военными отличались широтой: пакистанские офицеры проходили подготовку в США. В Исламабаде американские и пакистанские официальные лица поддерживали тесные отношения, обмениваясь информацией по деликатным вопросам за рюмкой или на поле для гольфа. После введения Соединенными Штатами санкций против Исламабада подобные программы военной подготовки и неформальные встречи прекратились. Пакистанские официальные лица не хотели, чтобы кто-то заподозрил их в дружеских отношениях с американцами.
Примерно в это же время пакистанская разведывательная служба ISI начала тайно поддерживать зарождающееся движение талибов в Афганистане[128]. Несмотря на отрицания Пакистана, Вашингтон подозревал, что страна оказывает помощь этому исламистскому движению. Однако американские официальные лица в регионе с трудом собирали необходимую информацию по этому вопросу: санкции разрушили ранее плодотворные неформальные каналы общения с пакистанскими чиновниками. Из-за санкций американские дипломаты и сотрудники разведки оказались в темноте, без надежных пакистанских источников, к которым можно было бы обратиться.
Пакистан стал поддерживать талибов не из-за американских санкций; ключевым мотивирующим фактором для пакистанских военачальников было мнение Исламабада, что Афганистан является важным буфером при возможном военном нападении Индии[129]. Однако американские санкции стали поворотным пунктом в отношениях между Вашингтоном и Исламабадом. Они привели к резкому ухудшению американо-пакистанских отношений, разрушив существовавшие десятилетиями связи с важной — хотя зачастую и мутной и ненадежной — региональной силой[130]. В условиях, когда влияние Соединенных Штатов в Исламабаде значительно снизилось, Вашингтон оказался в «слепой зоне», не имея возможности отслеживать подъем «Аль-Каиды» в Афганистане. Это привело к катастрофическим последствиям.
Пример Пакистана далеко не единичен. Во многих случаях американские санкции вместо того, чтобы завоевывать сердца и умы граждан, которых они намерены спасти от режимов-изгоев, провоцируют рост антиамериканских настроений. В Иране американские санкции, введенные после выхода Вашингтона из ядерного соглашения, сумели сделать то, о чем всегда мечтал местный режим: объединить иранцев против санкций. В Венесуэле почти 60 % граждан возражают против санкций США[131]. Более того, рост популярности президента Венесуэлы Николаса Мадуро в начале 2020-х годов, возможно, был связан с тем, что его оппонент Хуан Гуайдо активно поддерживал санкции. В России рейтинг президента Владимира Путина достиг рекордно высокого уровня после того, как страна впервые попала под американские санкции в 2014 году[132]. Восемь лет спустя популярность Путина вновь подскочила после начала СВО на Украине.
В долгосрочной перспективе существует риск того, что увлечение США санкциями подорвет привлекательность американской мечты для жителей подсанкционных стран. Это опасное развитие событий: из-за санкций США теряют влияние даже среди образованной городской молодежи в странах-мишенях. В недалеком будущем значительная часть населения государств, против которых США ввели санкции, может проникнуться антиамериканскими настроениями. Некоторые из этих людей могут стать легкой добычей для вербовщиков террористических группировок, таких как «Аль-Каида» или «Исламское государство».
В 1763 году один из отцов-основателей США Бенджамин Франклин узнал от своего друга, что Великобритания нашла новый способ получения денег: Лондон планировал повысить налоги на товары, которые британские колонии, включая будущие Соединенные Штаты [133], импортировали из Соединенного Королевства. Удивительно, но Франклин не встревожился. Он написал своему британскому другу: «Вы не можете навредить нам, не навредив себе»[134]. Почти три столетия спустя рассуждения Франклина по-прежнему актуальны: одна страна не может применить принудительные экономические меры к другой, не нанеся при этом ущерба своим собственным интересам. Это — тоже обратный эффект санкций. Во многих случаях основное бремя американских мер экономического принуждения ложится на предприятия США[135].
Самый известный пример того, как санкции США могут навредить американским фирмам и рабочим, относится к 1980 году. Тогда Картер ввел частичное эмбарго на экспорт зерна в СССР в ответ на вторжение советских войск в Афганистан. Вашингтон делал смелую ставку: Белый дом надеялся, что Советский Союз вскоре столкнется с трудностями с ввозом пшеницы, сои и кукурузы, и в стране появится дефицит продовольствия. Картер полагал, что у Москвы не будет выхода, кроме как вывести войска из Афганистана в надежде на отмену американского эмбарго на поставки зерна.
План Картера ударил по самим Соединенным Штатам. США обеспечивали около трети советского импорта зерна. После введения эмбарго эта доля сократилась примерно до 20 %[136]. На утраченную Соединенными Штатами долю рынка позарились другие страны. Поставки зерна в Советский Союз нарастили Аргентина и Бразилия. Выгодной ситуацией воспользовались даже близкие союзники США — Канада и Австралия, также увеличившие экспорт в СССР. Тем временем американские фермеры остались с огромным избытком зерна и неясными экспортными перспективами. Цены на сырье обрушились, стоимость сельскохозяйственных земель в США резко снизилась, и многие американские фермеры оказались не у дел.
Столкнувшись с такой драматической ситуацией, Рейган всего через год отменил эмбарго на поставки зерна Советскому Союзу. Однако ущерб был нанесен, и американские фермеры так и не смогли вернуть доверие Москвы. Весь мир также осознал, что Вашингтон не исключает использования продовольственных поставок в качестве оружия. Страны, которые раньше полагались на импорт американского зерна, стали проявлять осторожность и стараться диверсифицировать свои заказы. В последующие годы доля США в мировом экспорте кукурузы, сои и пшеницы снизилась[137]. Зерновое эмбарго для СССР оказалось не единственной причиной такого уменьшения доли США на рынке: свою роль играло укрепление курса доллара, из-за которого импорт из США дорожал. Однако эмбарго Картера усугубило ситуацию.
Компании часто упоминают это эмбарго на поставки зерна в Советский Союз, которое многие американские фермеры продолжают считать «катастрофической ошибкой»[138], чтобы объяснить, почему они считают, что своими санкциями США порой стреляют себе в ногу. Американские фирмы утверждают, что «они уже проходили через это раньше {во время зернового эмбарго}, и все закончилось плачевно как для компаний, так и для налогоплательщиков»[139]. Данные показывают, что с чисто экономической точки зрения они правы.
В середине 1990-х годов в одном из масштабных исследований негативное воздействие санкций на американские компании оценили почти в 20 млрд долларов в год[140]. Этот показатель включает только убытки от потерянного экспорта, хотя трудно определить, в какой степени американские компании смогли перенаправить часть своего экспорта в страны, не находящиеся под санкциями. По данным того же исследования, ежегодно из-за санкций американцы теряют более 200 тысяч рабочих мест. Если учесть, насколько сложно достоверно оценивать затраты, связанные с санкциями, к этим данным следует относиться с осторожностью. Однако эти впечатляющие величины дают представление о скрытых издержках санкций для американских предприятий.
Эти данные имеют почти 30-летнюю давность. Сегодня реальная величина убытков от не осуществленного из-за санкций экспорта гораздо больше. Консервативная оценка дает около 50 млрд долларов в год (при условии, что упущенные возможности росли пропорционально объему экспорта с 1995 года)[141]. Однако реальная сумма может оказаться гораздо выше. Санкции применяются шире, чем в 1990-е годы, и направлены на более крупные экономики — например, российскую. Кроме того, эти величины относятся только к торговле товарами; они не учитывают экспорт услуг, который сегодня составляет почти половину американского экспорта.
Другие упущенные возможности для американского бизнеса измерить еще сложнее. Например, международные компании могут счесть, что американские поставщики ненадежны из-за санкций. Вследствие этого некоторые иностранные компании сообщают, что предпочитают пользоваться услугами неамериканских поставщиков — чтобы избежать риска постсанкционных сбоев в цепочке поставок. Находясь вдали от режимов-изгоев, американские фирмы часто расплачиваются за принудительные экономические меры США. Однако издержки, которые несут американские компании в результате санкций, не отражаются в государственной статистике, и поэтому санкции выглядят менее дорогостоящими, нежели на самом деле.
В некоторых наихудших сценариях ограничительные меры могут даже приносить пользу врагам США или, как ни иронично звучит, другим странам, попавшим под санкции. В качестве примера можно привести ситуацию с Венесуэлой. В январе 2019 года санкции США в отношении экспорта нефти из Венесуэлы вызвали всемирный дефицит кислой тяжелой нефти. Нефтеторговцы быстро адаптировались к такой ситуации. Они увидели идеальную замену в российской нефти Urals, поскольку та имеет схожие характеристики с венесуэльской. Впервые в истории российская марка Urals стала торговаться с премией к марке Brent, что принесло выгоду российским энергетическим компаниям, часто попадающим под санкции.
История на этом не заканчивается. Через три месяца после этого истек срок действия соглашений, позволявших Ирану продолжать экспорт нефти в некоторые страны (несмотря на выход США из ядерной сделки), что усугубило глобальный дефицит тяжелой нефти. Вызванная санкциями нехватка венесуэльской и иранской нефти стала отличной новостью для российских энергетических компаний, а нефть Urals стала пользоваться еще большим спросом. Поэтому российские экспортеры получили около 1 млрд долларов дополнительных доходов[142]. Крупнейшая российская нефтяная компания «Роснефть» является государственной. Это означает, что часть этих денег поступала в государственную казну, финансируя военную операцию Москвы в Сирии или отправляясь по иронии судьбы к испытывающему денежные затруднения венесуэльскому правительству.
Выгоды, которые принесли России американские санкции против Венесуэлы, не ограничиваются лишними продажами нефти. После того как США запретили экспорт венесуэльской продукции, Москва пообещала помочь Каракасу с экспортом сырой нефти. Некоторое время сделки проходили через две малоизвестные дочерние компании «Роснефти», расположенные в Швейцарии[143]. В какой-то момент через эти две компании проходило около 70 % венесуэльского экспорта нефти, при этом для сокрытия истинного места назначения нелегального груза осуществлялась перевалка нефти с судна на судно по образцу Северной Кореи[144].
Помощь России не безвозмездна: Москва берет за нее вознаграждение. «Роснефть» приобрела доли как минимум в шести венесуэльских совместных нефтепредприятиях и получает возврат в натуральной форме (в виде нефти) тех миллиардных кредитов, которые российский энергетический гигант ранее предоставил венесуэльской государственной нефтяной компании Petroleos de Venezuela (PDVSA)[145]. В итоге США ввели санкции против тех двух фирм, которые обеспечивали незаконный экспорт венесуэльской нефти. Это не остановило Москву[146]: прибыльной деятельностью занялись другие российские государственные подставные компании, играя с OFAC в кошки-мышки[147]. Когда эти компании попадают под санкции, на их место приходят новые — до тех пор, пока Вашингтон не отлавливает очередную новую схему.
В мае 2019 года Трамп разговаривал час по телефону с Путиным. После беседы президент США твердо заявил, что Россия «вовсе не стремится вмешиваться в дела Венесуэлы, кроме того, что желает «чего-то позитивного» для Венесуэлы»[148]. Возможно, Трамп заблуждается насчет того, что российский президент считает «чем-то позитивным» для Мадуро. У Кремля есть все основания не бросать Каракас: Москва получает прибыльные доли в венесуэльских нефтяных месторождениях в обмен на поддержку в обходе санкций. Меры США против Венесуэлы выгодны России, которая также находится под жесткими американскими санкциями. Даже хорошо проработанные санкции могут дать обратный эффект. В худшем случае они могут пойти на пользу противникам США.
II
Перекрестный огонь санкций
4
Сопутствующий ущерб
Когда санкции убивают
В августе 1990 года в ответ на вторжение Ирака в Кувейт международная коалиция во главе с США начала операцию «Щит пустыни». Неудивительно, что дипломатический и военный арсенал, который Вашингтон и его союзники применили для оказания давления на иракского лидера Саддама Хусейна, включал в себя и санкции. Через четыре дня после начала операции «Щит пустыни» международное сообщество приняло против Ирака жесткие меры, отрезавшие стране доступ к гуманитарным товарам, таким как продовольствие и медикаменты.
Уже через несколько недель в стране образовался дефицит основных продуктов питания, а медицинское обслуживание стало недоступным[149]. Вслед за этим началось недоедание, а детская смертность достигла рекордных показателей, что настроило общественное мнение в Ираке против западных стран[150]. Вернулись болезни, казавшиеся уже исчезнувшими, — малярия, тиф и туберкулез. Улучшения происходили медленно. Договор о схеме «нефть за товары», позволявший Ираку экспортировать ограниченное количество нефти в обмен на продовольствие и медикаменты, был подписан только через пять лет, в 1995 году.
Население Ирака заплатило высокую цену за эти санкции. По оценкам ООН, в результате этих мер погибло около полумиллиона иракских детей[151]. Эта величина вызывает большие вопросы [152], однако неоспоримым фактом является то, что после санкций умерло несколько тысяч иракских детей[153]. В 1995 году тогдашний представитель США при ООН Мадлен Олбрайт заявила, что такое количество жертв «оправданно»[154], учитывая необходимость оказать давление на Саддама Хусейна. Впоследствии Олбрайт отказалась от этого заявления, неоднократно утверждая, что эти слова были «ужасной ошибкой»[155].
Ирак — экстремальный пример отрицательного влияния санкций на людей. Начиная с 1990-х годов США предпринимают шаги, направленные на ограничение пагубного побочного воздействия санкционных программ на население стран-адресатов. Прямолинейное эмбарго, подобное введенному против Ирака, теперь используется редко. Немногие действующие торговые блокады — например, в отношении Кубы и Северной Кореи — включают положения о поставках определенных гуманитарных товаров. В последнее десятилетие нормой стали целевые санкции против отдельных секторов экономики, финансовых каналов и определенных лиц, как было в случае Ирана, России и Венесуэлы. Современные санкции не приводят к массовому голоду, однако это не означает, что они не несут ущерба. Гражданское население стран, против которых направлены санкции, по-прежнему страдает от их негативных последствий.
Спросите любого иранца, россиянина или венесуэльца, и они скажут, что самым явным побочным эффектом санкций является инфляция. В Иране в 2012–2013 годах, когда санкции привели к полной финансовой изоляции Тегерана, потребительские цены росли более чем на 30 % в год[156]. В России в 2015 году — вскоре после того, как страна попала под санкции США и ЕС за присоединение Крыма и поддержку сторонников независимости на востоке Украины — инфляция подпрыгнула примерно до 15 %[157]. Рекордсменом стала Венесуэла: после введения Соединенными Штатами жестких мер против Каракаса в 2018 году инфляция в этой стране взлетела до небес, превысив уровень в 1 000 000 %[158]. Цена одного рулона туалетной бумаги подскочила практически до 3 млн боливаров, и для ее покупки требовалась почти трехкилограммовая пачка банкнот номиналом 1000 боливаров[159].
По мнению экономистов, такой впечатляющий рост цен неудивителен. Санкции ограничивают торговлю и приводят к обесцениванию валют, в результате чего импортные товары становятся менее доступными и более дорогими. Санкции также нарушают цепочки поставок, увеличивая число посредников, участвующих в торговле товарами — даже такими основными, как зерно. Поскольку каждый посредник стремится получить свою долю, импорт становится дороже. В таких условиях дефицита часто процветают «черные рынки», предлагающие товары сомнительного качества по завышенным ценам (что еще больше раскручивает инфляционную спираль).
Меры, ограничивающие экспорт, оказывают влияние и на инфляцию. Санкции приводят к росту потребительских цен, когда они уменьшают возможности стран-адресатов экспортировать товары — например, нефть в случае Ирана. Вследствие таких эмбарго центральные банки стран, попавших под санкции, сталкиваются с сокращением своих валютных резервов, в результате чего у них остается мало вариантов для защиты своей валюты и оплаты импорта.
Последствия повышения инфляции могут оказаться губительными для населения стран-мишеней. Демократическая Республика Конго (ДРК) — наглядный пример того, как вроде бы благонамеренные санкции могут пагубно отразиться на простых людях[160]. В этой нищей африканской стране, где ВВП на душу населения составляет около 1000 долларов США в год[161], младенческая смертность в регионах, богатых ресурсами (с огромными запасами таких полезных ископаемых, как олово, золото или вольфрам), вдвое выше, чем в среднем по стране[162]. Это кажется нелогичным: почему дети умирают чаще в районах, которые должны быть самыми богатыми?
Объяснение заключается в том, что эти регионы контролируют полевые командиры, причастные к широкомасштабным нарушениям прав человека. В попытке справиться с этой проблемой американские штрафные санкции, предусмотренные одной из статей закона Додда — Франка 2010 года [163], обязуют международные компании проверять свои цепочки поставок, чтобы не допустить появление «минералов из зон конфликтов», где хозяйничают полевые командиры. Цели этого закона — сократить доходы ополченцев и способствовать установлению мира в ДРК — похвальны. Закон Додда — Франка оказал определенное положительное влияние, не в последнюю очередь благодаря привлечению внимания СМИ к бедственному положению ДРК. Однако негативные побочные эффекты закона значительно перевешивают позитивные.
Сразу после принятия закон ввел фактический запрет на ручную добычу полезных ископаемых в ДРК, в результате чего тысячи бедных старателей остались без работы[164]. Ухудшилось транспортное сообщение с деревнями, где добывается меньше полезных ископаемых, что привело к удорожанию продуктов питания и товаров для ухода за младенцами. Поэтому родители не могут приобрести основные продукты питания для своих детей, которые умирают от недоедания или отсутствия медицинской помощи. Последствия роста инфляции не ограничиваются увеличением детской смертности[165]. Повышение цен также способствует распространению бедности, что приводит к дальнейшему насилию[166], например бандитизму и похищениям людей с целью получения выкупа[167].
При разработке своего законопроекта сенатор Крис Додд и конгрессмен Барни Франк, вероятно, не представляли, что его принятие приведет к росту младенческой смертности в ДРК, расположенной за тысячи километров от Капитолия. Однако непредвиденные последствия этих санкций, по всей видимости, наказывают ни в чем не повинные конголезские семьи, а не могущественных полевых командиров, власть и состояние которых, похоже, не уменьшаются[168]. Спустя десять с лишним лет после введения мер Додда — Франка охваченная войной ДРК не приблизилась к миру, а американские санкции не помогли в урегулировании проблем.
На вопрос о влиянии санкций на население у представителей американского правительства обычно есть наготове два ответа[169]. Первый — отрицать, что санкции имеют какие-либо негативные последствия для людей, ссылаясь на исключения, касающиеся продовольствия и медикаментов. Такая позиция в значительной степени несостоятельна и часто вызывает недоумение. Поэтому большинство официальных лиц предпочитают уклониться от ответа, утверждая, что американские санкции введены вследствие поведения страны-адресата. Вопрос о том, всегда ли администрация осознает всю тяжесть последствий санкций для населения соответствующих стран, остается открытым.
Политики тут не виноваты. Во многих случаях санкции оказывают структурное воздействие на экономику стран-адресатов, что затрудняет вычленение их последствий для людей от других причин экономического коллапса. Это хорошо видно на примере Ирана. В начале 2020 года по всему миру начал распространяться коронавирус, а в марте Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии. Иран быстро оказался в числе наиболее пострадавших стран. Официальная иранская статистика остается неточной, однако с начала 2020 года коронавирусом заболело более семи миллионов иранцев[170], что привело к сотням тысяч смертей[171].
Еще до начала пандемии Covid‐19 последствия американских санкций для иранского населения были хорошо задокументированы[172]. Например, американские запреты затруднили доступ Ирана к лекарствам[173]. Сложно было достать химиотерапевтические препараты и средства для лечения эпилепсии, рака и рассеянного склероза: западные фармацевтические компании ограничивали поставки, опасаясь попасть под санкции за сотрудничество с Тегераном[174]. Санкции также разогнали инфляцию до таких высот, что непомерно дорогими стали те немногие лекарства и запчасти для медицинского оборудования, которые еще оставались в продаже[175].
Пандемия только усугубила неблагоприятную ситуацию. Маски, лекарства, облегчающие симптомы, и средства индивидуальной защиты вскоре стали дефицитом — как это произошло и во многих других странах мира. Исламская Республика производит значительное количество медицинских товаров внутри страны, однако заводы с трудом справлялись с растущим спросом, что привело к необходимости импорта из менее затронутых стран. Однако отчаянные попытки иранских больниц получить необходимые импортные товары провалились — в отличие от многих других стран[176].
Вялая реакция исламского режима — основная причина быстрого распространения коронавируса на территории Ирана. В начале пандемии иранское правительство пыталось скрыть истинные масштабы вспышки. Власти также затягивали с введением мер социальной дистанции, направленных на сдерживание распространения заболевания. Верховный лидер Али Хаменеи состряпал собственную теорию заговора: коронавирус был создан Соединенными Штатами. Он даже заявил, что Америка использовала генетические данные иранцев, чтобы сделать вирус более смертоносным для Ирана[177].
Для оправдания ужасной ситуации, сложившейся в стране, Тегеран выбрал санкции в качестве идеального козла отпущения. Чтобы объяснить, почему все плохо, представитель Министерства здравоохранения Ирана заявил: «Помните, что {Иран — } это страна, находящаяся под санкциями»[178]. У правительства появилась солидная аргументация. Если санкции препятствуют импорту медицинского оборудования и лекарств, то вполне обоснованным выглядит предположение, что именно они ответственны за высокую смертность от коронавируса.
По всему миру в средствах массовой информации стали обсуждать вопрос, правильно ли поступают США, продолжая политику максимального давления на Иран во время пандемии[179]. В конце марта газета New York Times потребовала смягчить меры против Тегерана, пока бушует коронавирус[180]. Более 30 членов Конгресса призвали администрацию отменить санкции против Ирана по гуманным соображениям[181]. Вмешалась и ООН, заявив, что нужно «срочно» ослабить санкции против Ирана[182].
Однако поведение Тегерана не способствовало завоеванию сердец и умов в Белом доме и в администрации. Стремясь сохранить лицо, исламский режим отклонил предложение Вашингтона о помощи через ВОЗ. Добавив еще один уровень к своим изобретательным конспирологическим теориям, Хаменеи заявил, что американские врачи хотели приехать в Иран только для того, чтобы оценить эффективность своего изготовленного в США «яда»[183].
Вскоре администрация США столкнулась с мощным информационным штормом вокруг событий в Иране, однако американские официальные лица упорно настаивали, что трудности Ирана в борьбе со вспышкой заболевания никак не связаны с санкциями. Представитель Госдепартамента заявила: «Мы неоднократно подчеркивали, что санкции США не мешают иранскому режиму реагировать на кризис, вызванный Covid‐19»[184]. Формально она была права. В 2000 году американские фермеры и фармацевтические компании успешно пролоббировали в администрации Клинтона разрешение на ограниченные продажи продовольствия и медикаментов в Иран[185]. В 2010-е годы США расширили ассортимент медицинских товаров, разрешенных к экспорту в Иран.
Таким образом, санкции 2020-х годов против Тегерана не препятствовали поставкам масок, медикаментов и некоторых средств индивидуальной защиты. Подобный экспорт подпадает под общие исключения, то есть автоматическое отступление от санкций, и это позволяет вести соответствующую торговлю — чтобы не допустить повторения происходившего в Ираке в 1990-е годы. Американские официальные лица постоянно озвучивали эти тезисы. Позиция администрации была четкой: смягчения санкций не произойдет.
В начале апреля Госдепартамент США выпустил служебную записку под названием «Иранская афера со снятием санкций»[186]. В этой информационной справке утверждалось, что «ловкая кампания иностранного влияния, проводимая Ираном с целью добиться снятия санкций, направлена не на облегчение жизни и улучшение здоровья иранского народа, а на сбор средств для своих террористических операций»[187]. Политика максимального давления США на Иран, по всей видимости, продолжалась. В разгар пандемии Вашингтон ввел дополнительные меры против фирм, содействующих экспорту иранской нефти, что еще сильнее подорвало способность режима финансировать импорт лекарств[188].
Несмотря на очевидную твердость позиции, администрация понимала, что не удастся избежать пристального внимания СМИ, если не объявить о мерах, демонстрирующих ее добрую волю. По мере того как разгоралась полемика, Министерство финансов США сообщило, что для проведения операций, связанных с импортом медицинских препаратов, Тегеран может использовать обычно замороженные счета центрального банка Ирана за рубежом. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) также опубликовало четкое руководство о том, что разрешено и запрещено в рамках санкций. Это был полезный шаг, поскольку детали санкционных программ, как правило, изложены в туманных юридических документах объемом в сотни страниц, способных отпугнуть даже самых решительных экспортеров. В этом руководстве еще раз было указано, что экспорт медицинских товаров в Иран в целом разрешен.
Наконец, администрация припасла еще одного туза в рукаве: Министерство финансов США разъяснило, что с Ираном можно свободно вести гуманитарную торговлю через «швейцарский канал». Этот механизм позволяет швейцарским компаниям экспортировать в Иран товары первой необходимости, такие как продукты питания и медикаменты, не опасаясь санкций со стороны США. В соответствии с этой схемой правительство Швейцарии берет на себя обязанность проверять, чтобы экспортируемые товары не попали в руки иранских организаций, находящихся под санкциями.
На бумаге швейцарский канал выглядел многообещающе. Несмотря на небольшие размеры швейцарской экономики, в стране расположено несколько фармацевтических производителей (например, Roche и Novartis) и пищевых компаний (например, Nestle). Кроме того, швейцарский механизм запустили в начале 2020 года, как раз в начале пандемии. Тем не менее за три месяца после этого в швейцарском канале не было зарегистрировано ни одной сделки, кроме пилотной. Для наблюдателей за санкциями это не стало неожиданностью. Компании, желающие воспользоваться швейцарским каналом, обязаны направлять американским властям огромное количество конфиденциальной информации[189].
Помимо прочих требований, швейцарские экспортеры должны предоставлять OFAC отчеты с детальным описанием финансового положения иранских банков, с которыми они намерены вести бизнес. В отчеты необходимо включать подробную информацию о счетах иранских банков в иностранных учреждениях. Многие компании задаются вопросом, что Соединенные Штаты намерены делать с этими массивами данных; европейские официальные лица называют этот процесс «сбором компромата»[190], направленным на документирование связей между иранскими и европейскими банками. Даже если бы экспортеры смогли предоставить эти данные, их сбор занял бы месяцы, что сделало бы канал практически бесполезным для борьбы с пандемией[191].
При всех недостатках швейцарского механизма администрация надеялась, что объявление об этих шагах ослабит полемику в СМИ по поводу влияния американских санкций на население Ирана. Она ошиблась. И все же истина заключается в том, что Белый дом, Министерство финансов и Конгресс не могли сделать намного больше того, что сделали: санкции США отчасти объясняют нехватку медицинского оборудования в Иране, однако их снятие не помогло бы во время пандемии. Ограничения оказали настолько глубокое структурное воздействие на торговлю между Ираном и остальным миром, что для исправления ситуации требовалось нечто большее, нежели простая отмена.
Проблема, с которой столкнулся Иран, имела как минимум три аспекта. Прежде всего, большинство компаний не хотят торговать в условиях общих исключений, позволяющих экспортировать гуманитарные товары в страны, находящиеся под санкциями. Причина в том, что такие исключения сопровождаются жесткими условиями. Медицинское оборудование должно быть признано «устройством» согласно разделу 201 Федерального закона о пищевых продуктах, лекарственных средствах и парфюмерно-косметических товарах и определено как EAR99 в американских Правилах экспортного контроля (EAR)[192].
В результате общие исключения — которые ограничиваются всего лишь суммой в 500 тысяч долларов в год — не распространяются на некоторые виды медицинского оборудования, имеющего решающее значение для борьбы с коронавирусом — например, на кислородные генераторы, лабораторные установки и оборудование для медицинской визуализации. OFAC считает, что эта продукция имеет отношение к национальной безопасности, поэтому компаниям, желающим экспортировать ее в Иран, необходимо обращаться за специальными экспортными лицензиями.
Получить такие лицензии весьма непросто. В 2016 году юристы оценивали, что вероятность получения экспортной лицензии компанией, обратившейся в OFAC, составляет примерно 50 %[193]. Специалисты по санкциям полагали, что солидная заявка имеет хорошие шансы на одобрение. В 2019 году доля успешных заявок на получение лицензий от OFAC снизилась примерно до 10 %[194]. Вероятно, в начале пандемии этот показатель был еще ниже, что отражает широко разрекламированную президентом Дональдом Трампом политику максимального давления на Тегеран.
У фирм, готовых вести торговлю в соответствии с общими исключениями, имеются и другие причины для проявления осторожности. Даже в случае применения общих исключений компании должны проверять, не ведут ли они бизнес с организациями, находящимися под санкциями. Это реально, хотя и требует времени. Однако здесь есть своя загвоздка: запрещено также ведение бизнеса с компанией, которая имеет связи с организацией, находящейся под санкциями. Для фирм, желающих торговать с Ираном, недостаточно изучить потенциального местного иранского партнера. Они вынуждены также выяснять, с кем этот потенциальный партнер ведет бизнес.
Учитывая непрозрачный характер деловых связей в Иране, практически невозможно с уверенностью сказать, что та или иная компания никак не связана с подсанкционными организациями. Например, находящийся под санкциями Корпус стражей исламской революции (КСИР) настолько сильно контролирует иранскую экономику, что многие иранские компании в тот или иной момент имели дело с этой военизированной группировкой. В любом случае проведение тщательной экспертизы требует денег и времени. Большинство международных компаний полагают, что потенциальные выгоды не стоят таких затрат даже в лучшие времена, не говоря уже о периоде пандемии, когда длительное изучение вопроса обречено на неудачу.
Второй комплекс проблем для Ирана относится к финансовой сфере. Даже при наличии общих исключений иностранные банки не могут вести дела с иранскими финансовыми институтами, попавшими под санкции в связи с терроризмом и ядерной программой. Такие меры приняты к большинству иранских банков, и транзакции, обеспечивающие гуманитарный импорт Ирана, осуществляли только четыре банка, избежавшие санкций. Однако в октябре 2018 года США наложили санкции на самый важный из них — Parsian Bank[195].
Санкции против Parsian Bank стали серьезным ударом для Тегерана. Это учреждение совершало большинство финансовых операций, связанных с импортом продовольствия и медикаментов в Иран. Даже обычно осмотрительные американские юристы, занимающиеся вопросами санкций, выразили протест, заявив о скудности доказательств для введения санкций против Parsian Bank[196]; эту организацию, известную надежными процедурами по борьбе с отмыванием денег, никогда не уличали в незаконной деятельности[197]. Согласно OFAC, дело заключалось в том, что иранская инвестиционная компания Andisheh Mevaran купила и продала менее 0,3 % акций Parsian Bank. Эта инвестиционная компания не находилась под санкциями, поэтому сама по себе указанная операция не представляла проблемы.
Проблема заключалась в том, что Andisheh Mevaran впоследствии направила прибыль, полученную от продажи акций Parsian Bank, в сеть организаций Басидж — полувоенной иранской группировки, находящейся под санкциями. Parsian Bank заявил, что ничего не знал о намерении Andisheh Mevaran финансировать Басидж и что банк не может нести разумную ответственность за сделки своих 70 000 акционеров[198]. Кроме того, сумма сделки Andisheh Mevaran была настолько невелика, что не превосходила всех нормативных требований. Однако США не уступили и назвали Parsian Bank спонсором террора[199].
Второй финансовый вопрос связан с нежеланием иностранных банков работать с Ираном. До начала пандемии Covid‐19 те немногие банковские операции, которые проводились между Ираном и западным миром, осуществляла лишь горстка европейских банков, причем чаще всего нерегулярно и только для нескольких надежных клиентов, с которыми эти финансовые учреждения вели дела на протяжении многих лет. После начала пандемии этих ограниченных финансовых каналов оказалось недостаточно для того, чтобы Иран мог нарастить импорт лекарств и медицинского оборудования.
Отсутствие финансовых связей между Ираном и Европой, которая не возобновила санкции после выхода США из ядерного соглашения в 2018 году, отражает тот факт, что многие международные банки неохотно производят операции, имеющие отношение к Ирану, даже если они являются законными. Вместо того чтобы тратить время на тщательный анализ потенциальных сделок и проверять их на соответствие санкциям, многие финансовые учреждения предпочитают отклонять любые запросы, связанные с Ираном (этот процесс известен как «снижение рисков» или «чрезмерное соблюдение требований»).
Как и компании, банки считают, что они могут много потерять (в случае нарушения американских санкций) и мало выиграть от ведения бизнеса с Ираном. Боязнь попасть под санкции — это лишь один из аспектов проблемы. После мирового финансового кризиса 2008–2009 годов большинство западных финансовых институтов прекратили сотрудничество с теми странами Ближнего Востока и Африки, которые были признаны слишком рискованными с точки зрения соблюдения требований законодательства и недостаточно прибыльными во времена оптимизации затрат. Иран прекрасно вписывался в эту категорию.
Теоретически проблему чрезмерного соблюдения требований могли бы решить «гарантийные письма» от Министерства финансов США, предоставляющие иностранным банкам гарантии того, что они могут вести операции, не нарушая санкций. Однако с конца 2010-х годов получение гарантийного письма от OFAC стало настолько сложным делом, что многие международные банки прекратили любые попытки. Как и в случае со швейцарским каналом, эти гарантийные письма также сопровождаются обременительными требованиями к отчетности, которые, по мнению многих банков, в лучшем случае не стоят того, а в худшем представляют собой операцию по сбору информации для американской разведки.
Даже если иностранным банкам удается получить от OFAC такие письма, юридические отделы банков, как правило, не считают эти документы достаточно надежными гарантиями. Финансовое регулирование в США осуществляется как на федеральном уровне, так и на уровне штатов. Это означает, что генеральный прокурор конкретного штата или прокурор любого города может трактовать санкционные правила не так, как делает управление OFAC, действующее на федеральном уровне.
У многих европейских банков сохранились болезненные воспоминания о взаимодействии с федеральными и городскими прокурорами[200]. В 2014 году окружной судья в Манхэттене оштрафовал французский банк BNP Paribas на баснословные 8,9 млрд долларов за «масштабные и систематические нарушения»[201] американских экономических санкций в отношении Кубы, Судана и Ирана. По мнению юристов, чтобы обезопасить себя, финансовым институтам, прежде чем осуществлять операции с Ираном, потребуется получать гарантийные письма от финансовых органов всех штатов США, где они так или иначе представлены.
На этом проблемы, связанные с финансовой сферой, не заканчиваются. Как и Северная Корея, Иран находится в черном списке Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) — международного органа, контролирующего деятельность по борьбе с отмыванием денег, финансированием террора и распространением ядерного оружия; Исламская Республика не ратифицировала международные соглашения по борьбе с финансированием террора и организованной преступностью. В связи с этим FATF призывает международные банки с осторожностью относиться к любым операциям с участием иранских контрагентов. Если выражаться проще, то это означает отказ от любых связей с Ираном.
Последним финансовым сдерживающим фактором является то, что международные компании нередко опасаются, что им не заплатят за продукцию, которую они экспортируют в Иран, и это не лишено оснований: иранским компаниям трудно добыть твердую валюту для выплат своим иностранным партнерам. Объяснение этому кроется в санкциях. Действия США серьезно ограничивают экспорт иранской нефти, которая является основным источником валютных средств для Тегерана. В свою очередь, международные компании не испытывают уверенности, что их иранские партнеры смогут быстро (и в полном объеме) расплатиться с ними.
Третий и последний комплекс проблем связан с логистикой. Даже если бы какому-нибудь поставщику медицинских товаров удалось установить, что его иранский партнер не связан с подсанкционными организациями, а потом найти банк, готовый провести соответствующую транзакцию, он все равно столкнулся бы с трудностями при доставке товара в Тегеран. Как и банки, большинство судоходных компаний предпочитают соблюсти санкции «с запасом» и отказаться от бизнеса с Ираном. Те немногие западные судоходные фирмы, которые хотели продолжить торговлю с Ираном после введения Соединенными Штатами санкций против Тегерана в 2018 году, не смогли этого сделать: отказались их страховые компании, опасавшиеся, что они сами могут попасть под санкции.
Вашингтон мало чем мог помочь Тегерану в борьбе с пандемией коронавируса, если не считать отправки самолетов с медицинским оборудованием, которого не хватало даже в США. От снятия санкций могли выиграть только те компании, которые уже имели налаженные связи с Ираном, поскольку они смогли бы быстро нарастить экспорт. Однако большинство медицинских фирм давно ушли с иранского рынка, опасаясь оказаться под американскими санкциями или столкнуться с репутационными проблемами.
Вести бизнес с Тегераном во время пандемии просто не имело смысла. Спрос на маски и средства индивидуальной защиты взлетел до небес, и компании, поставляющие медицинские товары, с трудом удовлетворяли мировой спрос. Многие страны были готовы покупать медицинское оборудование за любую цену; зачем же тогда частным фирмам связываться с рискованным экспортом медицинского оборудования в Иран?
Пример Ирана показывает, что очень сложно отделить негативные последствия санкций для населения от других факторов. Нельзя быстро устранить все последствия ограничительных мер, действовавших на протяжении нескольких десятилетий. В большинстве случаев государства, попавшие под санкции, также страдают от десятилетий хронической бесхозяйственности, и Иран не является исключением из этого правила. Санкции часто усугубляют уже имеющееся сложное положение для населения стран-мишеней.
Исправление этих проблем — далеко не простой процесс. Разбегающиеся последствия ограничений зачастую настолько глубоки и сложны, что отмены санкций — простого юридического акта — недостаточно для восстановления прочных деловых, финансовых и логистических связей. Восстановление деловых и финансовых связей также требует времени и доверия — тех компонентов, которых при пандемии сильно не хватало. И пусть это кажется противоречащим здравому смыслу, но тот факт, что санкции обладают столь глубокими структурными последствиями, может сделать их менее эффективными.
Санкции работают только в том случае, если их снятие — выгодная альтернатива. Если страны-адресаты уверены, что снятие не принесет быстрых и ощутимых экономических выгод, у них нет причин менять свое поведение, чтобы удовлетворить требования США. Руководители стран-адресатов учитывают также эффект чрезмерного соблюдения: они знают, что правительства практически ничего не могут сделать для того, чтобы убедить компании вновь выйти на некогда подсанкционные рынки. С точки зрения противников США, перспектива отмены санкций часто выглядит не такой привлекательной, как хотелось бы Вашингтону.
Эта реальность подтверждается примером Ирана. Даже в тот короткий период, когда США участвовали в ядерной сделке, опыт снятия санкций оказался горьким. У Тегерана нет особых стимулов ограничивать свои ядерные амбиции или программу создания баллистических ракет в угоду Соединенным Штатам: Иран давно пришел к выводу, что даже после снятия санкций компании по-прежнему страшатся заново выходить на иранский рынок, а банкиры панически боятся проводить какие-либо транзакции. В случае с Ираном сама эффективность американских санкций может иметь негативные последствия для стабильности на Ближнем и Среднем Востоке и для безопасности Америки.
Иран — не единственный пример. Другие страны-изгои, в первую очередь Северная Корея, понимают, что ослабление санкций часто не оправдывает ожиданий. Если Вашингтону удастся начать переговоры с Пхеньяном по ограничению доступа этой страны к ядерному оружию, то ему будет сложно убедить северокорейское руководство в том, что потенциальная отмена санкций даст немедленные и ощутимые экономические выгоды. Это может привести к тому, что США скорее останутся с пустыми руками, чем договорятся с Северной Кореей.
Если санкции станут оружием американской дипломатии (что выглядит все более вероятным, если учесть их центральную роль в экономических войнах), они могут войти в противоречие с международным правом. Согласно Женевской конвенции, оружие должно различать гражданских лиц и комбатантов. Даже в зоне боевых действий солдаты не могут вести себя, как им вздумается; они обязаны соблюдать правила, направленные на предотвращение убийства ни в чем не повинных мирных жителей или причинение им вреда. Проблема с санкциями может заключаться в отсутствии глобальных правил, регулирующих их применение. Если санкции приводят к закрытию заводов и смерти граждан стран-изгоев, не имеющих доступа к медицинскому обслуживанию, то так ли сильно они отличаются от других смертоносных форм вмешательства? Отсутствие доступа к жизненно важным лекарствам может убить столько же людей, как и длительное военное наступление.
Можно ли вообще разработать санкции, которые не имели бы отрицательного воздействия на гражданское население? Цель санкций — оказывать давление на население стран-адресатов, чтобы подталкивать правительства к изменению их политики. Из этого следует, что санкции, не причиняющие боли, скорее всего, оказываются бесполезными. Это означает, что по самой своей сути санкции являются оружием, имеющим вредоносные последствия для населения. Они приводят к меньшему числу жертв, нежели обычные войны, но все же они убивают. Остается открытым вопрос о том, считают ли политики это приемлемым компромиссом для отстаивания интересов США.
5
Расширение
Когда под огонь попадают иностранные фирмы
За последние два десятилетия американские санкции стали предметом серьезной озабоченности международного бизнеса: компании опасаются, что они могут случайно попасть под санкции и получить астрономические штрафы или судебные иски в США. Следить за соблюдением нормативных актов очень сложно, что создает еще одну проблему для руководителей компаний. Каждый год около 1000 регулирующих органов выпускают почти 60 тысяч нормативных предупреждений. Это означает, что каждый рабочий день необходимо учитывать 240 новых правил[202]. По словам Колина Белла, ответственного сотрудника банка HSBC по соблюдению нормативных требований, «уже просто для того, чтобы переваривать все изменения в законодательстве, вам необходимо выстроить процесс промышленного масштаба»[203].
Лавина этих новых нормативных актов дала толчок к развитию собственных отделов по обеспечению соответствия, особенно в финансовых организациях. С середины 2000-х годов количество сотрудников, которым поручено следить за соблюдением требований законодательства в международных банках, увеличилось в три раза. Сегодня около 15 % персонала крупных банков работает в отделе обеспечения соответствия, следя за тем, чтобы все операции отвечали международным правилам. В крупном банке вроде Citi это 30 тысяч сотрудников — примерно как в большом университете, например Колумбийском[204]. Бюджет HSBC на определение рисков и соблюдение требований законодательства составляет 1 млрд долларов в год — достаточно, чтобы купить около 5000 средних домов в США[205].
В прошлом должность специалиста по соблюдению нормативно-правовых требований была малопривлекательной: это считалось ролью второго плана для неудачников. Сейчас все изменилось: сотрудники, отвечающие за обеспечение соответствия, руководят большими командами, подчиняются непосредственно генеральному директору и входят в управленческие комитеты. Когда совет директоров HSBC оценивает работу генерального директора банка, соблюдение нормативных требований является основным фактором, который принимается во внимание. Прибыли и рост выручки занимают второе и третье места[206].
Быстро развиваются и специализированные фирмы, оказывающие услуги по обеспечению соответствия нормативам, что свидетельствует о превращении этой сферы в полноценную индустрию. Спрос на такие услуги — от предоставления юридических консультаций до проверки потенциальных партнеров по бизнесу в отдаленных странах — ежегодно возрастает на двузначное число процентов. Технологические стартапы также инвестируют в эту область: они разрабатывают алгоритмы искусственного интеллекта, которые позволяют проверять сложные сделки за считаные секунды, в то время как человеку на это потребовались бы часы. Так, нью-йоркская компания Arachnys утверждает, что может автоматизировать все проверки на соответствие нормативным требованиям и тем самым исключить человека из этого процесса[207].
Другие технологические компании идут еще дальше: некоторые из них создали алгоритмы, сканирующие большие массивы транзакций с целью выявления подозрительных закономерностей. Подобные методы особенно полезны для отслеживания нарушителей санкций из Северной Кореи[208]. Пхеньян относится к наиболее изобретательным и изощренным нарушителям санкций: режим использует тысячи подставных компаний, которые закрываются, как только на них накладывают санкции. Проверка быстро устаревающих списков организаций, подпадающих под санкции, малоэффективна при попытке обеспечить соблюдение санкций, связанных с этим государством. Гораздо более эффективным подходом является отслеживание поведения, похожего на северокорейское.
Санкции США — самая большая головная боль для бизнеса. Как ни странно, это особенно актуально для неамериканских фирм. Упоминание о санкциях США в разговоре с руководителями европейских или азиатских компаний зачастую вызывает гневную, обеспокоенную или грозную реакцию. Многие международные фирмы считают, что в вопросах ограничений Вашингтон специально ориентируется на неамериканские компании. Похоже, эти подозрения подтверждаются фактами: с 2009 года объем штрафов, наложенных Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) на иностранные компании, нарушившие санкции, составил более 4 млрд долларов США; американским компаниям за тот же отрезок времени пришлось заплатить менее 300 млн долларов[209].
Теоретически такая впечатляющая разница может означать, что отделы по соблюдению нормативов в американских компаниях работают гораздо лучше, чем их зарубежные коллеги, или что американские компании просто более законопослушны. Однако более внимательное изучение данных показывает, что это не так: американские компании нарушают санкции не реже иностранных; просто, когда их ловят, OFAC проявляет гораздо больше снисхождения. В последнее время уличенную в обходе санкций иностранную компанию мог ожидать штраф в размере 139 млн долларов. В то же время средний размер штрафа для американских компаний был в 70 раз меньше и составлял всего 2 млн долларов[210].
Соединенные Штаты уже давно применяют санкции, влияющие на деятельность неамериканских компаний. Такие санкции делятся на две категории: экстерриториальные и вторичные. Обычно происходит путаница, является ли данная программа санкций экстерриториальной или включает в себя вторичный компонент. Несмотря на то что оба этих вида санкций преследуют одну и ту же цель — не допустить, чтобы все компании мира вели бизнес со странами, находящимися под американскими санкциями, с технической точки зрения они совершенно различны.
Экстерриториальные законы США — это нормативные акты, которые применимы в любой точке мира. Они не являются какой-то новинкой. Еще в 1789 году в США был принят Закон о правонарушениях в отношении иностранных граждан (Alien Tort Statute, ATS), который предоставил американским судам право рассматривать иски иностранцев по поводу нарушений американского или международного законодательства, произошедших вне американской территории[211]. В XVIII и XIX веках эти законы касались в основном актов пиратства в международных водах. В XX веке США приняли и другие экстерриториальные законы, касающиеся антимонопольного, банковского и трудового законодательства[212]. Однако экстерриториальные законы США представляли в целом незначительное явление, интересовавшее лишь немногих специалистов.
В начале 1980-х ситуация изменилась[213]. Парагваец, отец молодого человека, которого пытали и убили во время заключения в Парагвае, получил информацию о том, что в США находится один из мучителей его сына — парагвайский полицейский. Этот полицейский в течение девяти месяцев проживал в Нью-Йорке по туристической визе, нарушив иммиграционные правила страны. Отец добился ареста полицейского за просроченную визу. Пока тот ожидал депортации в Парагвай в Бруклине, отец возбудил против него дело по закону ATS.
Процедура оказалась прыжком в неизвестность: в подобных ситуациях к ATS никогда не прибегали. Федеральный суд США удовлетворил иск, заявив, что ATS здесь применим и что федеральные суды обладают юрисдикцией в отношении данного иска, несмотря на то что преступление было совершено за 5 тысяч миль от Америки и не затрагивало граждан США. Суд присудил этой парагвайской семье 10,4 млн долларов США (впрочем, она так и не смогла получить эти деньги, поскольку полицейский не имел никаких активов в Соединенных Штатах). С тех пор иностранцы, пострадавшие от нарушений прав человека в какой-либо точке мира, используют ATS для подачи иска против предполагаемых виновников и получения компенсации в США.
До середины 1990-х годов санкционные программы Вашингтона не носили экстерриториальный характер. В то время большинство американских ограничений применялись к целым странам, например Кубе, или конкретным лицам и компаниям. Попавшие под санкции лица и предприятия включались в Список специально обозначенных граждан (Specially Designated Nationals, SDN), который составляет OFAC; им запрещалось использовать американский доллар и вести бизнес в США или с американскими гражданами. Для соблюдения санкций американским фирмам достаточно было просто убедиться, что они не ведут бизнес со странами, на которые наложено эмбарго, и что их иностранные деловые партнеры не содержатся в списке SDN. При этом неамериканским компаниям незачем было беспокоиться о блокадах Вашингтона и списке SDN; теоретически от них не требовалось соблюдать американское законодательство, включая санкционные правила.
Американские компании сетовали на такую непоследовательность, утверждая, что она ставит их в невыгодное положение: когда американские организации не могли вести дела с подсанкционной страной или фирмой, их ниши с радостью занимали неамериканские компании. В 1996 году США попытались положить конец подобной дифференциации. В феврале того года кубинские ВВС сбили два самолета некоммерческой организации «Братья спасения» — группы противников кубинского режима, базирующейся во Флориде. В ответ на это США приняли закон Хелмса — Бёртона [214], который распространил торговое эмбарго, не позволявшее американским компаниям вести бизнес с Кубой, на все международные фирмы.
Закон Хелмса — Бёртона стал первым шагом США на пути к экстерриториальности санкций. Такой мерой Вашингтон стремился уравнять возможности американских и неамериканских компаний: вне закона оказывались все деловые отношения с Кубой — не только для американских, но и для международных фирм. Неудивительно, что правительства европейских стран выступили против этого закона, заявив, что он ущемляет их суверенитет. Евросоюз подал жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО). К беспокойству Вашингтона, союз также рассматривал возможность замораживания некоторых американских активов, находящихся в ЕС, и введения визовых требований для американских бизнесменов[215]. Последовали напряженные переговоры. В конце концов президент Билл Клинтон отступил и отменил положения закона, относящиеся к неамериканским компаниям. Тем не менее идея введения американских экстерриториальных санкций уже появилась на свет.
Закон Хелмса — Бёртона потряс мировое бизнес-сообщество. Он стал первым намеком на то, что иностранным предприятиям, возможно, однажды придется соблюдать американские санкции. Вашингтон понимал, что может использовать свое мировое экономическое влияние, чтобы вынудить международные компании принять американские ограничения. Ни одна солидная фирма не могла пойти на риск попасть в черный список крупнейшей экономики мира. Компании получили предупреждение, но после того, как Клинтон отказался от закона Хелмса — Бёртона, они постепенно забыли об этой угрозе.
На возрождение концепции экстерриториальных санкций у США ушло 14 лет, и когда страна вернулась к ней, то сделала это неординарным способом. В 2010 году Конгресс одобрил новый раунд санкций против Ирана. В течение ряда лет США вели кампанию максимального давления на Исламскую Республику. При этом в санкциях появилось новшество: было введено понятие вторичных санкций, угрожавших внести в список SDN те иностранные компании, которые не соблюдают американские санкции. Как и в случае со всеми организациями, включенными в список SDN, фирмы, попавшие под вторичные санкции, теряют доступ к доллару США и обязаны покинуть американский рынок. Кроме того, их руководителям угрожают индивидуальные меры воздействия.
США утверждают, что вторичные санкции не направлены против неамериканских предприятий, однако иностранные компании должны выбирать между американским рынком и рынком стран-мишеней. В действительности свободного выбора тут нет: лишь немногие глобальные компании могут позволить себе потерять доступ к доллару и прекратить сотрудничество с крупнейшей экономикой мира[216]. Поэтому почти все международные компании соблюдают санкции США из страха самим попасть под них. Вторичные санкции расширяют сферу действия американских санкций за пределы Соединенных Штатов: на практике все вынуждены следовать американским правилам.
Наиболее активным сторонником вторичных санкций является Конгресс. Большинство последних санкционных программ против Ирана, России и Северной Кореи, разработанных под руководством Конгресса, предусматривают возможность введения вторичных санкций. Это неудивительно. Когда дело касается внешней политики, законодатели часто испытывают сильное давление со стороны своих избирателей и неправительственных организаций, требующих от них решительных действий. Для членов Конгресса вторичные санкции выглядят даже более привлекательно, чем «обычные», поскольку их действие выходит далеко за пределы американских границ. Кроме того, заинтересованность законодателей в столь далеко идущих санкциях объясняется лоббированием со стороны американских компаний: угроза введения вторичных санкций заставляет неамериканские компании дважды подумать, прежде чем заменять американские фирмы в странах-мишенях.
Напротив, президенты США, включая Барака Обаму, Дональда Трампа и Джо Байдена, традиционно проявляли гораздо более осторожный подход к вторичным санкциям. Белый дом прекрасно понимает, что они создают напряженность в отношениях с союзниками США, которые недовольны тем ущербом, который эти потенциальные меры наносят их национальным компаниям. В последние годы разногласия между Белым домом и Конгрессом по поводу вторичных санкций углубились. В течение десятилетий законодатели оставляли президенту право определять внешнюю политику, но сейчас они вновь пытаются отстаивать свое место в этой области. Интерес законодателей к вторичным санкциям является частью подобной тенденции.
На данный момент в черном списке OFAC числятся лишь несколько неамериканских компаний, попавших под вторичные санкции[217]. В 2018 году США внесли туда одну китайскую фирму и ее директора за покупку истребителей и ракетных систем у России (американские санкции запрещают закупку у России военной техники). Если не считать нескольких громких случаев, введение санкционных программ в отношении России, Северной Кореи и Китая в последние годы практически не пополнило этот список. Безусловно, куда вероятнее попасть в список SDN за ведение бизнеса с Ираном. Здесь самыми злостными нарушителями являются китайские фирмы. С 2020 года США внесли в санкционный список OFAC несколько десятков китайских компаний — за покупку иранской нефти вопреки американским санкциям[218].
Однако дело даже не в том, что США вводят вторичные санкции. Простой угрозы введения вторичных санкций часто оказывается более чем достаточно, чтобы удержать международные компании от заключения сделок, которые могут повлечь за собой подобные меры. Потенциальные репутационные проблемы также слишком велики для такого риска. Американские политики прекрасно осознают, что сила вторичных санкций заключается в их сдерживающем эффекте. Со своей стороны они предпочитают культивировать двусмысленность в отношении критериев, которыми руководствуются Соединенные Штаты при принятии решений, когда и почему вводить вторичные санкции, что еще больше повышает неопределенность и усиливает сдерживающий эффект вторичных санкций[219].
В 2017 году Конгресс принял новые санкции против России, Ирана и Северной Кореи, которые предусматривали автоматическое введение вторичных санкций против компаний, осуществляющих «крупные сделки» с подсанкционными организациями в этих странах. Но при этом Соединенные Штаты не дали определения «крупной сделки»; OFAC лишь опубликовало неисчерпывающий список примеров таких сделок, отметив — к ужасу большинства юристов, — что реальные случаи будут оцениваться в индивидуальном порядке по неизвестным критериям[220].
Президент США также обладает значительной свободой действий при введении вторичных санкций, что еще больше усиливает неопределенность в вопросе о том, что может спровоцировать подобные действия. В 2019 году Турция получила от России зенитные ракеты — в нарушение санкций США против Москвы. Трудно вообразить, что покупка на сумму 2 млрд долларов США не соответствовала порогу, установленному OFAC для определения «крупной сделки». Тем не менее Белому дому потребовалось два года, чтобы ввести вторичные санкции в отношении турецких организаций и граждан, участвовавших в этой торговой операции. Международные компании не сочли подобную медлительность положительным явлением: очевидная сдержанность Вашингтона по отношению к Анкаре только усложнила расшифровку критериев, по которым определяется необходимость наложения вторичных санкций.
Сторонники вторичных санкций утверждают, что такое отсутствие предсказуемости дает Соединенным Штатам рычаги влияния в дипломатических переговорах — например, в случае, когда Вашингтон пытался (но не смог) убедить Турцию не размещать российские ракеты. Это вполне обоснованное утверждение. Вторичные санкции обычно призваны усилить воздействие первичных санкций, если те оказались недостаточно мощными. В то же время иностранным компаниям, возможно, трудно смириться с ощущением, что они являются заложниками дипломатических переговоров, к которым не имеют никакого отношения.
Многие неамериканские компании также считают, что, когда речь идет о неопределенности, связанной с вторичными санкциями, они находятся в невыгодном положении по сравнению с американскими. Ответы OFAC на запросы иностранных компаний о законности потенциальных сделок приходят крайне медленно, если вообще приходят; не существует никакого официального механизма, позволяющего иностранным компаниям обрести юридическую ясность в вопросе, является ли та или иная сделка легальной или нет. Но даже когда американские компании получают разъяснения, они вряд ли могут ими пользоваться. Ответы OFAC зачастую сформулированы настолько расплывчато, что даже опытным юристам остается чесать в затылке; типичный ответ этого ведомства гласит: «Деловое сообщество должно само провести необходимую юридическую экспертизу и принять собственное решение о санкционном риске»[221].
Еще хуже то, что иностранные компании не имеют права подать заявку на отмену санкций; это могут сделать только американские компании[222]. OFAC утверждает, что предоставление таких разрешений неамериканским компаниям будет укреплять мнение об экстерриториальности американских санкций, что это ведомство яростно отрицает[223]. Американское правительство также не хочет создавать впечатление, что разрешает сделки, которые могут быть выгодны странам, находящимся под санкциями. Но если смотреть на ситуацию извне, то иностранным компаниям трудно не склониться к мысли, что США применяют двойные стандарты в отношении американских и неамериканских компаний.
За последнее десятилетие вторичные санкции США оказали колоссальное влияние на деятельность — и стратегию — иностранных компаний. В качестве примера можно привести судьбу европейских компаний, которые вернулись на иранский рынок после заключения ядерной сделки в 2015 году. Спустя три года США в одностороннем порядке вышли из этого соглашения и вновь ввели против Тегерана санкции, включавшие вторичный компонент. Евросоюз остался в соглашении, однако фирмам из ЕС пришлось уступить требованиям США и покинуть Иран. Вскоре после того, как США повторно ввели санкции против Тегерана, Трамп написал в Твиттере: «Санкции против Ирана официально наложены. Любой, кто ведет бизнес с Ираном, НЕ будет вести бизнес с Соединенными Штатами»[224].
Для большинства европейских компаний решение США о возобновлении санкций в отношении Ирана не создало проблем. Многие из них никогда не имели дел с Тегераном, а те, что работали в Иране до 2010 года, крайне осторожно относились к возвращению на иранский рынок после подписания ядерного соглашения, опасаясь (и не без оснований), что отмена санкций США будет носить лишь временный характер. Однако некоторые европейские компании намеревались вернуться на иранский рынок. Ситуация с крупной французской нефтяной компанией Total является хрестоматийным примером того, как вторичные санкции могут сорвать бизнес-планы неамериканских компаний.
Компания Total имела долгую историю преодоления проблем, связанных с американскими ограничениями в Иране. В 1996 году Конгресс США принял закон Д’Амато — Кеннеди, который вводил экстерриториальные санкции против Ливии и Ирана с целью пресечения их ядерных притязаний и поддержки террора. Этот закон запретил практически все международные инвестиции в иранский и ливийский энергетические секторы, пытаясь воспрепятствовать деятельности неамериканских энергетических компаний. Более ранние санкции США против этих стран не распространялись на иностранные компании, и неамериканские компании были готовы заполнить пустоту, образовавшуюся после ухода американцев. Закон Д’Амато — Кеннеди был призван обеспечить соблюдение иностранными компаниями американского законодательства в той же мере, что и американскими.
В середине 1990-х годов Total уже была активным игроком в иранском энергетическом секторе. Французская компания разрабатывала вторую и третью фазы Южного Парса — гигантского морского газового месторождения в Персидском заливе [225], которое Иран и Катар используют совместно[226]. Заявленная экстерриториальность американских санкций представляла собой серьезную проблему для Total: закон Д’Амато — Кеннеди ставил под угрозу участие французов в проекте Южный Парс. Евросоюз занялся интенсивным лоббированием интересов европейских фирм, таких как Total, в Иране и Ливии.
Европейские правительства были тем более возмущены, что в США только что приняли закон Хелмса — Бёртона, который не позволял европейским компаниям вести бизнес с Кубой. Страны ЕС расценили закон Д’Амато — Кеннеди как дальнейшее развертывание закона Хелмса — Бёртона и угрозу европейским экономическим интересам. Однако осуждение Европы не остановило администрацию США. Клинтон шел на переизбрание и стремился продемонстрировать, что твердо стоит на страже американских интересов. В соответствии с законом Д’Амато — Кеннеди OFAC начало расследование деятельности Total в Иране — первый шаг к санкционному штрафу.
Соединенные Штаты рассчитывали, что после нескольких месяцев накаленной риторики Европейский союз сдастся и прекратит борьбу против экстерриториальных санкций. Вашингтон ошибся. Европейские правительства во главе с Францией перешли в контрнаступление, выступив против американских экстерриториальных мер. Брюссель выпустил общеевропейский акт, который теоретически запрещает европейским компаниям соблюдать неевропейские законы. Так называемый «блокирующий акт» означает, что правительства стран ЕС могут подавать в суд на европейские компании, соблюдающие экстерриториальные санкции США.
Такая мера выглядела странно: вряд ли угроза штрафа для европейских компаний, попавших под перекрестный огонь санкций, — это хороший способ их поддержать. Более конструктивным шагом оказалось предупреждение Евросоюза, что он начнет спор с США в ВТО; по мнению Брюсселя, положения закона Д’Амато — Кеннеди нарушают правила этой организации[227]. В конце концов Клинтон понял, что Европейский союз не сдастся. Администрация президента сообщила ему, что дело в ВТО имеет хорошие шансы на успех и что это может поставить под угрозу будущие санкционные программы США.
Соединенные Штаты решили, что мудрее всего будет уступить. В 1998 году, после двух лет трансатлантических трений, Клинтон пообещал, что закон Д’Амато — Кеннеди не затронет инвестиции европейских компаний в Иране и Ливии. В ответ европейские правительства отказались от иска в ВТО и обязались объединиться с американцами в борьбе с террором, который поддерживали Тегеран и Триполи. Total вернулась к работе на иранском газовом месторождении Южный Парс. Но передышка для французского нефтяного концерна оказалась недолгой.
В 2010 году французам пришлось во второй раз покинуть Иран, поскольку американские санкции из-за ядерной программы Тегерана привели к угрозе введения вторичных санкций против иностранных компаний, ведущих бизнес с Исламской Республикой. В то время Европа действовала совместно с американцами: Евросоюз тоже ввел жесткие санкции против Ирана. Европейским компаниям пришлось уйти из страны, поскольку их бизнес стал незаконным как с точки зрения США, так и с точки зрения ЕС. Последней международной нефтяной компанией, покинувшей Иран, оказалась Total. В реальности она не ушла из страны окончательно: французы сохранили офис в Тегеране, сделав ставку на то, что санкции со временем будут сняты.
Ставка Total выиграла: через пять лет появилось ядерное соглашение. Исчезли большинство европейских санкций и вторичные санкции США против Ирана (впрочем, первичные санкции США оставались в силе — американские компании не могли вести деятельность в Иране). Международные компании смогли вернуться в Иран. Компания Total снова расширила свое представительство в Тегеране. К тому времени требовалось разрабатывать одиннадцатую фазу газового месторождения Южный Парс; инвестиции составляли около 5 млрд долларов[228]. Total находилась в выгодном положении для вхождения в этот проект: компания уже проводила разведку соответствующего участка газового месторождения[229] и могла инвестировать в его разработку 1 млрд долларов[230]. Решающее значение имела возможность Total самостоятельно финансировать работу: несмотря на снятие большинства западных санкций, международные банки по-прежнему опасались вести дела с Ираном.
Привлечение инвестиций в нефтегазовый сектор являлось одним из главных приоритетов Тегерана. Иран надеялся, что наращивание экспорта энергоносителей сможет защитить страну от нового раунда западных санкций в случае очередного обострения отношений с США и Евросоюзом. Для иранских политиков превращение Ирана в крупного экспортера энергоносителей стало бы оптимальным способом предотвратить действия против нефтегазового сектора страны в будущем: если Ирану удалось бы стать одним из крупнейших мировых производителей энергоносителей, то введение подобных санкций повлекло бы риск дестабилизации мировых рынков нефти и газа.
Кроме того, нефтяной сектор Ирана остро нуждался в западных инвестициях и технологиях. Исламская Республика уже десять лет не подписывала крупных контрактов с международными нефтяными компаниями. По оценкам Тегерана, энергетической отрасли требовалось примерно 200 млрд долларов[231]. Страна была явно не в состоянии вложить такие средства, поэтому решающим фактором стало финансирование со стороны иностранных компаний. Однако время для этого оказалось не особо удачным: в связи с резким падением цен на нефть в 2015–2016 годах энергетические компании сокращали инвестиционные бюджеты. Также крайне необходимы были западные технологии — особенно для работ со сжиженным природным газом.
Total могла предложить Тегерану все, о чем только мечтали иранские лидеры: французская компания являлась мировым энергетическим гигантом, обладала колоссальными денежными ресурсами и располагала свободным доступом к первоклассным технологиям. После двух лет переговоров Total вернулась в Иран в июле 2017 года и стала развивать мегапроект Южный Парс в партнерстве с китайской компанией CNPC и иранской Petropars. Соглашение предусматривало, что Total продолжит работать на этом гигантском газовом месторождении в течение 20 лет, инвестировав в проект около 5 млрд долларов.
Иранские чиновники были довольны. Они размахивали сделкой с Total по Южному Парсу как доказательством, что Иран может привлечь крупнейшие мировые энергетические компании. В Тегеране надеялись, что примеру Total вскоре последуют и другие международные компании, которые принесут западные технологии и деньги, необходимые для разработки колоссальных энергетических запасов Ирана. Исламский режим также стремился подстраховаться за счет российских и азиатских компаний, которые, по всей видимости, были готовы остаться в стране в случае введения западными странами санкций против Ирана. Но вся эта тщательно продуманная стратегия оказалась под угрозой срыва в результате событий, совершенно не зависящих от страны.
За тысячи километров от Тегерана президентом США избрали Трампа. Руководство Total быстро осознало, что это событие — плохая новость для планов компании в Иране, если учесть его предвыборное обещание вновь ввести санкции против Тегерана. Юристов Total беспокоила и еще одна вещь: формально Соединенные Штаты не отменяли вторичные санкции в отношении иранского энергетического сектора; работа Total на Южном Парсе зависела от специальных разрешений, которые президент США должен продлевать каждые несколько месяцев[232]. В обычное время этот процесс не предполагал каких-либо затруднений, однако с приходом Трампа в Белый дом уже ничто не казалось рутинной процедурой.
На протяжении всего 2017 года загадочные заявления Трампа не позволяли понять, выполнит ли он свое обещание выйти из ядерного соглашения. Компания Total понимала: если Трамп решит двинуться по этому пути, ей придется действовать быстро, чтобы спасти свои инвестиции в Южный Парс. Сохранялись крупицы надежды, что если даже США вновь введут санкции против Ирана, то они не будут включать в себя вторичный компонент, а тогда Total, вероятно, сможет продолжить разработку газового месторождения. Но в случае появления вторичных санкций перспективы Total выглядели гораздо мрачнее: единственным шансом компании остаться в Иране стало бы продление специальных разрешений, на которые опирались иностранные энергетические компании для работы в Иране после подписания ядерного соглашения.
В парижской штаб-квартире компании Total началась подготовка упреждающего лоббистского плана по спасению проекта Южный Парс. Стратегия французского энергетического гиганта заключалась в укреплении связей с США. Total давно и прочно присутствовала в Северной Америке: американские активы французской компании составляли около 10 млрд долларов[233]. В конце 2017 года Total закончила инвестировать 1,7 млрд долларов в нефтехимический завод в Техасе, создав 1500 рабочих мест для американцев[234]. Это вооружило французскую компанию инструментом давления. Компания также открыла офис по работе с государственными органами в Вашингтоне; пять сотрудников получили задачу на постоянной основе «координировать отношения» (синоним термина «лоббировать» на языке пиара) с Министерством финансов и Государственным департаментом[235].
В начале 2018 года Патрик Пуянне, генеральный директор Total, еще сильнее активизировал лоббистские усилия компании[236]. На форуме в Давосе Пуянне за ужином сказал Трампу, что президенту следует придерживаться условий ядерной сделки, иначе он рискует усилить иранских сторонников жесткой линии[237]. Генеральный директор Total также втолковывал Трампу, что Южный Парс отличается от других энергетических проектов: предполагалось, что газ Южного Парса будет потребляться в Иране. Таким образом, от эксплуатации этого месторождения Тегеран не получит ни одного доллара США, ведь его газ не пойдет на увеличение экспорта. Согласно тщательно разработанному лоббистскому плану Total, проект Южный Парс являлся, по сути, второстепенным и не способствовал укреплению позиций Ирана в качестве серьезного игрока в энергетической отрасли.
Однако надежды французской энергетической группы на спасение своих инвестиций в Южный Парс вскоре рухнули. Через три месяца после ужина Пуянне с Трампом в Давосе Соединенные Штаты вышли из ядерного соглашения. OFAC незамедлительно отозвало специальные разрешения, позволявшие Total и другим иностранным компаниям работать в Иране, дав им шесть месяцев на то, чтобы покинуть страну[238]. Самый пессимистичный сценарий для Total быстро превратился в реальность. Новый раунд американских санкций на деле оказался даже жестче существовавших до подписания ядерного соглашения: теперь экспорт иранского природного газа вообще запретили, чего не было в период, предшествовавший ядерной сделке.
Евросоюз не вышел из ядерного соглашения, и европейские предприятия оказались в странной ситуации. Согласно нормам ЕС, компании имели полное право работать в Иране. Более того, европейские правительства пытались убедить их не уходить с иранского рынка, пытаясь спасти отношения с Тегераном. Однако угроза оказаться под вторичными санкциями вынудила европейские фирмы прекратить свою деятельность в Иране. Немецкая Siemens, датская Maersk, французская Peugeot и многие другие компании энергетического, финансового, страхового и судоходного секторов объявили, что у них нет другого выхода, кроме как уйти с иранского рынка. Угроза вторичных санкций означала, что американские нормы возобладали над нормами ЕС.
В последней отчаянной попытке спасти свои инвестиции Total направила все силы на получение специального разрешения США на продолжение работ на Южном Парсе[239]. Французское правительство начало лоббировать в США поддержку интересов Total. Впрочем, одновременно Total четко дала понять, что если с Вашингтоном ничего не получится, то она моментально откажется от проекта Южный Парс. Решение французов не вызывало сомнений: как и большинство энергетических гигантов, Total 90 % своих финансовых операций ведет через американские банки и, соответственно, использует доллар США[240]. Потеря доступа к доллару означала смертельную угрозу для компании.
Параллельно Франция, Германия и Великобритания выдвинули требование о полной санкционной индульгенции для европейских компаний, работающих в Иране. Соединенные Штаты категорически отказались[241]. В письме, адресованном европейским правительствам, госсекретарь Майк Помпео и министр финансов Стивен Мнучин заявили, что США будут «стремиться оказывать беспрецедентное финансовое давление на иранский режим»[242]. Поэтому, продолжали Помпео и Мнучин, США «не могут делать исключения из этой политики, если не считать весьма специфических обстоятельств, когда это явно идет на пользу национальной безопасности {США}». Париж, Берлин и Лондон, ранее осторожно надеявшиеся на компромисс с Вашингтоном, были в шоке.
Письмо Помпео и Мнучина стало четким сигналом, что США не намерены позволять Total — или любой другой европейской компании — оставаться в Иране. Через два месяца французы уведомили правительство Ирана, что вынуждены выйти из проекта Южный Парс[243]. Интересно, что долю Total в проекте изначально отдали китайской компании CNPC[244]. Администрация Трампа только что начала торговую войну с Пекином, но при этом вторичные санкции США против Ирана пошли на пользу государственной китайской компании — за счет европейской. Однако уже через несколько недель CNPC также прекратила работу над проектом из-за угрозы попадания под вторичные санкции со стороны США[245].
В итоге проект Южный Парс вернулся под контроль Корпуса стражей исламской революции (КСИР), который американские санкции должны были ослаблять. Эта военизированная группировка, давно находящаяся под санкциями, еще больше укрепила свой контроль над иранским энергетическим сектором; газ составляет основу иранской экономики и является важнейшим сырьем для цементной, сталелитейной и нефтехимической промышленности страны. Прогноз Пуянне в Давосе оказался точным: из-за санкций в иранской экономике возросло влияние сторонников жесткого курса, а влияние реформаторов снизилось[246].
На протяжении всей эпопеи с Total европейские правительства не скрывали своего недовольства вторичными санкциями США. По словам одного европейского дипломата, «мы пришли к ситуации, когда существует стремление наложить санкции на европейцев и недовольство европейскими компаниями, которые теперь обвиняются в поддержке террористического государства»[247]. Европейские правительства припомнили, что в 1986 году Соединенные Штаты быстро отменили нефтяное эмбарго против Ливии из опасения, что запрет может затронуть интересы американских энергетических компаний[248]. Однако на этот раз европейским компаниям, попавшим под санкционный огонь в Иране, аналогичная помощь не светила.
Европейские компании и правительства с трудом переваривали озвученные Трампом причины выхода США из ядерного соглашения. По мнению президента США, это соглашение не принесло американским компаниям достаточной выгоды, чтобы стать разумными инвестициями для Вашингтона: в отличие от отмененных вторичных санкций, первичные санкции США против Ирана оставались в силе даже после смягчения в 2016 году, и это не позволяло американским компаниям вновь выйти на иранский рынок. Вместо попыток договориться с Ираном, чтобы ядерная сделка приносила пользу американским компаниям, Трамп вообще отказался от этого соглашения — чтобы ни одна компания, ни американская, ни иностранная, не смогла извлечь выгоду.
В Европе полагали, что США имеют полное право выйти из ядерной сделки (хотя и настаивали на том, что Иран выполнил условия соглашения). Но вместе с тем европейские власти считали, что угрожать фирмам ЕС вторичными санкциями — это уже перебор. США — единственная страна, которая применяет вторичные санкции. Это означает, что американским компаниям незачем беспокоиться о европейских ограничениях, а вот европейские фирмы должны соблюдать как санкции ЕС, так и санкции США. Трудно было проглотить и отказ Вашингтона рассматривать просьбы Европы о санкционных индульгенциях для европейских компаний. Даже когда на карту были поставлены экономические интересы союзников, США оказались не готовы сделать ни одного исключения в своей политике максимального давления на Иран.
Правительства стран ЕС в частном порядке отмечали, что у американских компаний дела в подсанкционных странах, похоже, шли лучше, чем у прочих. В то время как Total покидала Иран, на другом конце земного шара Chevron, Halliburton и ряд других американских нефтяных сервисных компаний продолжали работать в Венесуэле даже после того, как США ввели жесткие санкции против энергетического сектора Каракаса[249]. Министерство финансов США предоставило американским энергетическим компаниям ряд якобы временных трехмесячных исключений из санкций. Эти исключения действовали в течение двух лет. Для сравнения: от европейских компаний потребовали свернуть деятельность в Иране в течение шести месяцев после выхода США из ядерного соглашения.
Пример Венесуэлы подтверждает широко распространенное среди европейских политиков мнение, что американским фирмам, похоже, не стоит особо опасаться санкций. На их взгляд, показательным примером двойных стандартов Вашингтона в отношении американских и иностранных компаний является российская эпопея компании Exxon. В 2011 году Exxon заключила партнерство с российской государственной нефтяной компанией «Роснефть». В обмен на обещание создать несколько совместных предприятий в России американский гигант согласился передать «Роснефти» доли в шести месторождениях в Техасе и Мексиканском заливе[250]. Для «Роснефти» эта сделка означала уникальную возможность получить доступ к американским технологиям и ноу-хау в области бурения скважин.
В 2013 году «Роснефть» выполнила свое обещание и предоставила Exxon доступ к совместным предприятиям в России. Проекты были масштабными: американские нефтяники планировали вложить до 500 млрд долларов США в разработку российских месторождений, расположенных глубоко под Черным морем, в Арктике и в Сибири. Рекс Тиллерсон, занимавший в то время пост генерального директора Exxon, с энтузиазмом подписал эти соглашения. В знак признания плодотворного сотрудничества Exxon и «Роснефти» президент России Владимир Путин наградил Тиллерсона престижным российским орденом Дружбы[251].
Через несколько месяцев после этого Россия присоединила Крым и поддержала сторонников независимости на востоке Украины, вследствие чего США начали вводить санкции против Москвы. Однако Exxon, не смущаясь этим, пыталась продолжить реализацию своих мегапроектов в России. На ежегодном собрании акционеров компании Тиллерсон заявил: «Мы не поддерживаем санкции в целом, потому что не считаем их эффективными, если только они не реализованы всеобъемлющим образом, а это очень трудно сделать»[252]. Любопытный комментарий для человека, который три года спустя станет госсекретарем США (и убежденным сторонником санкций)[253].
Весной 2014 года, когда на востоке Украины шли боевые действия, американский нефтяной концерн повысил ставки и подписал договоры о новых совместных предприятиях с «Роснефтью». Генеральный директор российской нефтяной компании Игорь Сечин лично поставил подпись под этими соглашениями, несмотря на попадание под санкции США. Сделка была законной, но вызвала удивление[254]. Это не остановило Exxon. Компания продолжала разведку нефтяных месторождений в российской Арктике. В сентябре 2014 года Exxon и «Роснефть» обнаружили гигантское месторождение, которое назвали Победа. В буровые работы на Победе Exxon вложила 600 млн долларов[255].
После введения американских санкций против России компания Exxon приостановила сотрудничество с «Роснефтью» на семь месяцев[256]. В течение всего этого времени американский нефтяной гигант умолял администрацию США смягчить санкции в отношении российского энергетического сектора. Но лоббистские усилия Exxon ударили бумерангом по самой компании: OFAC начало расследовать сделки Exxon с «Роснефтью» на предмет соблюдения санкций. После трехлетнего расследования на Exxon наложили штраф в размере 2 млн долларов (в точности средний штраф для американских компаний, пойманных за несоблюдением санкций) — за то, что Министерство финансов США назвало «грубым пренебрежением»[257] санкциями.
Такой штраф был эквивалентен бухгалтерской ошибке округления для Exxon (в 2014 году выручка нефтяного гиганта составила 412 млрд долларов США)[258]. Тем не менее Exxon обжаловала решение, утверждая, что штраф был «волюнтаристским»[259] и «в принципе несправедливым»[260]. Юристы Exxon заявили, что директивы OFAC по российским санкциям были неясными, хотя все остальные компании, похоже, ясно и четко поняли, что бизнес с Россией стал табу. Exxon подала в суд на правительство США, выиграла дело, и ей так и не пришлось выплачивать штраф в размере 2 млн долларов. В 2018 году Exxon окончательно прекратила сотрудничество с «Роснефтью».
Когда речь идет о вторичных санкциях, европейским компаниям предлагается немедленно аннулировать свои вложения, иначе они рискуют столкнуться с неприятностями. Интенсивное лоббирование со стороны европейских правительств обычно бесполезно, поскольку иностранные компании не могут даже подать заявление об отмене санкций. Напротив, компания Exxon целых четыре года выходила из своих громких проектов в России. Фактически Exxon завершила вывод своих российских активов только в марте 2022 года — после начала СВО на Украине. До этого времени компания в рамках совместного предприятия с «Роснефтью» продолжала эксплуатировать нефтегазовое месторождение на Сахалине, российском острове на Дальнем Востоке[261].
Пример Exxon злит европейских союзников Америки. Успех компании, которая в течение нескольких лет продолжала активно работать в России, несмотря на санкции, убедил многих людей в Европе, что Вашингтон применяет двойные стандарты в отношении американских и неамериканских компаний. Однако последствия вторичных санкций США выходят далеко за рамки отказа иностранных компаний от инвестиционных проектов. Такие меры могут также иметь далеко идущие последствия для мировых энергетических и товарных рынков.
6
Перегиб
Когда санкции разрушают товарные рынки
В 2007 году Австрия пригрозила подать в суд на пятый по величине банк страны — Bank fur Arbeit und Wirtschaft (BAWAG) [262]. Странный шаг: зачем государству подавать иск против одного из своих ведущих финансовых учреждений? Ответ кроется в санкциях США. BAWAG только что был приобретен американским фондом прямых инвестиций Cerberus. Поскольку банк теперь принадлежал американскому инвестору, он, чтобы не нарушить эмбарго США против Кубы, закрыл банковские счета около 100 кубинцев. В соответствии с законодательством ЕС это являлось незаконной дискриминацией по признаку гражданства[263].
Правительство Австрии пришло в ярость от того, что BAWAG, казалось, поставил американские нормы выше европейских. Вена решила применить так называемый «блокирующий акт» ЕС, который (теоретически) запрещает европейским компаниям соблюдать американские экстерриториальные санкции. Министр иностранных дел Австрии заявил: «Американские законы в Австрии не действуют. Мы не пятьдесят первый штат США»[264]. Банк BAWAG понял, что попал в беду, и вскоре подал заявку на предоставление специального исключения от применения американских санкций. В конце концов, после того как банк восстановил все счета, правительство Австрии решило закрыть дело[265].
Такие случаи, как правило, попадают в заголовки европейских газет, однако это лишь верхушка айсберга, когда речь идет о расходящемся воздействии американских санкций на компании по всему миру. На самом деле влияние санкций ощущают не только те предприятия, которые попали под санкционный огонь. Действия США против российского концерна «Русал», крупнейшего в мире производителя алюминия (за пределами Китая), в итоге оказали неожиданное побочное влияние на товарные рынки и, соответственно, на сотни производственных компаний в десятках стран. Мировые последствия санкций против «Русала» оказались настолько масштабными, что Вашингтону пришлось спешно пойти на попятную, так как произошел обвал поставок алюминия, нарушивший производственно-сбытовые цепочки и поставивший тысячи людей по всему миру под угрозу увольнения.
Сага с «Русалом» началась в 2017 году. Тогда Конгресс США принял широкий пакет санкций против трех обычных стран-адресатов — Ирана, Северной Кореи и России. В случае с Россией санкции стали ответной мерой на позицию Москвы по Донбассу, продажу оружия в Сирию, кибератаки, вредившие американским интересам, и вмешательство в президентские выборы 2016 года. В рамках этих мер Конгресс обязал Казначейство США опубликовать список влиятельных россиян, в отношении которых можно ввести индивидуальные санкции. В начале 2018 года Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) опубликовало в установленном порядке такой список. Это событие стало отправной точкой санкционной эпопеи, длившейся целый год.
Список американского Министерства финансов поначалу вызвал всеобщий скепсис, и не без оснований. Он представлял собой скопированные фрагменты двух документов: списка 96 российских бизнесменов, фигурировавших в списке миллиардеров Forbes за 2017 год, и, что, вероятно, еще более экстравагантно, телефонного справочника Кремля[266]. Никакой ошибки: OFAC подтвердило, что использовало метод включения всех россиян из списка Forbes, обладающих активами свыше 1 млрд долларов США[267].
Методология OFAC выглядела, мягко говоря, небезупречной. Бывший редактор российского списка Forbes назвал документ агентства «позором», подчеркнув примитивность оценок благосостояния в журнале[268]. Второй источник, которым пользовалось OFAC, — телефонный справочник Кремля — оставил наблюдателей в полном недоумении. Многие задавались вопросом, не действовало ли OFAC второпях — просто чтобы выполнить требования Конгресса: агентство опубликовало список посреди ночи, всего за 11 минут до истечения установленного Конгрессом срока.
В Кремле высмеяли то, что вскоре стало известно как список Forbes. Президент России Владимир Путин пошутил, что чувствует себя «обиженным»[269], что его туда не включили. В то же время представителей бизнес-сообщества Москвы список OFAC не позабавил[270]. Российские руководители беспокоились о репутационных рисках, задаваясь вопросом, продолжат ли международные банки вести с ними дела, если они окажутся в списке потенциальных объектов американских санкций. Но больше всего они опасались, что Министерство финансов США намеренно сделало список случайным, чтобы дать понять Москве: каждый человек находится в зоне риска и может попасть под санкции — только потому, что он богат и россиянин.
По всей России руководители начали предпринимать упреждающие меры по защите своих активов. Деловое сообщество переживало не зря. Спустя несколько недель OFAC объявило о введении санкций в отношении семи лиц из списка Forbes и 12 компаний, принадлежащих им или контролируемых ими. Мало кто сомневался, что некоторые из этих бизнесменов вели мутные дела и имели непрозрачные связи с Кремлем. Однако почему именно они были выбраны из списка 96 потенциальных мишеней, оставалось загадкой — несмотря на заявления министра финансов Стивена Мнучина, что процесс отбора был «крайне тщательным»[271].
Остальные 89 бизнесменов из списка Forbes не имели представления, настанет их очередь или такая участь их минует. Деловые круги Москвы охватила паника. При более внимательном изучении правовой основы для этих санкций бизнесмены встревожились еще больше: Конгресс не уточнил, каким критериям должны соответствовать российские лица, попавшие под санкции, чтобы ограничения сняли. Это было необычно. Казалось, что под санкции мог попасть каждый россиянин, а однажды попав в список, он мог остаться там навсегда.
Пакет санкций, основанный на этом списке Forbes, стал самым значительным усилением американского давления на Россию с тех пор, как Вашингтон впервые ввел санкции против Москвы четыре года назад[272]. Многие компании, включенные OFAC в черный список, работали в основном в России; потеря доступа к американскому доллару была для них болезненной, но они могли приспособиться, перейдя на евро или рубль. Однако в рамках этого пакета OFAC наложило санкции на близкого к Кремлю бизнесмена Олега Дерипаску, чистая стоимость активов которого составляла около 6,7 млрд долларов[273]. Дерипаска контролировал несколько международных компаний через свой холдинг EN+, который также попал под санкции.
Одной из таких фирм, внесенных в список, оказалась компания «Русал», производящая 10 % мирового объема алюминия[274]. Юристов беспокоила шаткость правовой основы для включения этой российской корпорации в черный список. OFAC ясно дало понять, что с «Русалом» все в порядке, и это уважаемая мировая компания с котируемыми на рынке акциями. Российское государство не владело ни одной акцией «Русала». Фактически Вашингтон преследовал не компанию; целью администрации являлся Дерипаска, который владел третью акций «Русала» и был близок к команде Путина[275].
Российская корпорация представляла собой крупного игрока в этой отрасли, присутствуя во всей цепочке производства алюминия[276]: добыча бокситов, затем переработка их в глинозем и загрузка глинозема в плавильные печи для превращения его в алюминий. Более половины своих бокситов «Русал» добывал за пределами России, в том числе в Гайане, Ямайке и Гвинее. Две трети произведенного компанией глинозема перерабатывалось вне России — в таких совершенно разных странах, как Украина, Ирландия и Австралия. Производственный процесс завершался на плавильных заводах «Русала» в России, Швеции и Нигерии: они выпускали алюминий, который шел на изготовление автомобилей, самолетов и всевозможных прочих металлических вещей, включая консервные банки и линии электропередачи.
Решение Вашингтона о введении санкций против «Русала» стало серьезным шагом: от поставок его алюминия зависят многие производственные компании по всему миру. Такие меры также представляют собой отход от традиционного подхода OFAC к санкциям: в прошлом США вмешивались в сделки глобально значимых компаний (например, российских энергетических компаний) только ограниченно — перекрывая им доступ на американские финансовые рынки. Однако на деятельность «Русала» наложили полный запрет. После того как компания оказалась в черном списке OFAC, она больше не могла использовать американский доллар и вести бизнес в Америке.
Санкции против «Русала», введенные Конгрессом, включали в себя и вторичный компонент. От сотрудничества с российским алюминиевым гигантом должны были отказаться все компании мира — иначе они тоже рисковали попасть под ограничения. Угроза введения вторичных санкций мгновенно превратила «Русал» в изгоя. Стоимость компании на Гонконгской фондовой бирже упала вдвое. Американские банки перестали обслуживать операции компании. В качестве крайней меры «Русал» предлагал клиентам осуществлять платежи в евро, чтобы можно было проводить расчеты через европейские финансовые учреждения.
Последствия санкций в отношении «Русала» потрясли мировые рынки металлов. На волне новостей цены на алюминий подскочили на 30 %; трейдеры и производственные компании переключились на режим панических закупок, опасаясь, что подобные меры приведут к глобальному дефициту алюминия. Лондонская биржа металлов, являющаяся мировой площадкой для торговли практически всеми металлами, объявила, что не будет торговать алюминием российского производства, если владельцы не смогут доказать, что его произвел не «Русал». После этого компании, активно использующие алюминий, заметили, что их норма прибыли исчезает, поскольку цена на этот металл взлетела. Они предупредили, что потребители вскоре тоже почувствуют повышение цен.
Выбрать более неудачное время для санкций было невозможно. Другие меры американской политики уже оказали огромное давление на алюминиевый сектор. Пытаясь поддержать внутреннее производство, США недавно ввели тарифы на импорт алюминия, к которым мировые металлургические компании все еще пытались приспособиться[277]. Вдобавок еще один мировой производитель алюминия, норвежская компания Norsk Hydro, только что закрыла крупный бразильский глиноземный комбинат после загрязнения близлежащих вод[278]. Мировые поставки алюминия истощались еще до того, как «Русал» попал под американские санкции. Новые ограничения значительно ухудшили и без того плохую ситуацию.
Действия США немедленно отразились на глобальных операциях «Русала», поставив под угрозу тысячи рабочих мест по всему миру. Компания владела крупнейшим в Европе глиноземным комбинатом, обеспечивавшим около 30 % европейских поставок глинозема[279]. Это предприятие в Ирландии перестало получать бокситы, поскольку судоходная отрасль расторгла контракты на поставку в страхе перед вторичными санкциями. Ирландский завод «Русала» располагал запасом бокситов для работы в течение двух месяцев, но предупредил, что после этого ему придется прекратить работу[280].
В любом случае продукцию завода пришлось отправлять на склады. Опасаясь нарушить ограничения, грузовые суда отказывались забирать глинозем с ирландского комбината для отправки на алюминиевые заводы в континентальной Европе. Было неясно, сможет ли этот завод продолжать работу. На карте стояло около 450 рабочих мест с годовым фондом заработной платы около 60 млн долларов, которые поддерживали местный ирландский бизнес[281]. В целом завод приносил экономике Ирландии 145 млн долларов США в год[282].
Что касается других стран Европы, то завод «Русала» в Швеции продолжал выдавать алюминий, но тоже был вынужден отправлять свою продукцию на склад, поскольку транспортные компании не желали к ней прикасаться. Впрочем, это была наименьшая из забот «Русала» в стране. На заводе происходили серьезные перебои с электроэнергией; крупнейший в Европе рынок электроэнергии Nord Pool отказался обслуживать комбинат, опасаясь нарушить вторичные санкции США. «Русалу» пришлось покупать электроэнергию напрямую у местного поставщика по завышенной цене. На шведском металлургическом заводе работало около 500 человек. Многие боялись, что завод придется закрыть.
«Русал» был не единственной фирмой, испытывавшей трудности из-за американских действий. Вторичные санкции помешали деятельности и других металлургических компаний. Англо-австралийской группе металлургических компаний Rio Tinto пришлось прибегнуть к форс-мажорным обстоятельствам в своих договорах с «Русалом», что привело к значительным финансовым потерям[283]. Алюминиевые заводы Rio Tinto во Франции и Исландии зависели от глинозема, производимого «Русалом», и в условиях рекордно высокого мирового спроса этим заводам пришлось искать других поставщиков. Однако у Rio Tinto наблюдались и более серьезные проблемы.
В Австралии эта группа управляла одним из крупнейших в мире глиноземных комбинатов в рамках совместного предприятия с «Русалом»[284]. Узнав о введении санкций, Rio Tinto поспешила заявить о необходимости пересмотреть отношения с российской компанией, которой принадлежало 20 % акций австралийского комбината[285]. Многие аналитики опасались, что австралийский завод придется закрыть — как минимум временно. Там работали сотни людей, годовой фонд заработной платы составлял 136 млн долларов. Завод опирался на сеть из более чем 350 местных поставщиков, операции которых также оказались под угрозой.
Санкции против «Русала» повлияли не только на металлургический сектор, но и на судоходную отрасль. Сотрудничество с российской компанией немедленно прекратили Maersk и MSC — две крупнейшие мировые судоходные компании[286]. Остановилась перевозка произведенного «Русалом» алюминия, который был отправлен из Европы к азиатским клиентам еще до введения санкций[287]. Потери доходов у Maersk и MSC были существенными, но вполне приемлемыми. Однако для других судоходных компаний, зависевших от сотрудничества с «Русалом», последствия санкций оказались гораздо более серьезными.
В качестве примера можно привести немецкую фирму Oldendorff. Эта судоходная компания эксплуатировала на реке Бербис в Гайане специальные баржи и буксиры, которые доставляли бокситы с рудников «Русала», расположенных выше по течению, к грузовым судам на побережье Атлантического океана. Oldendorff также занималась морскими перевозками гайанских бокситов «Русала» на комбинаты на Украине и в Ирландии. Из-за нависшей угрозы введения вторичных санкций немецкой компании не оставалось ничего иного, как приостановить все операции с «Русалом», после чего ее сотрудники в Гайане остались без работы[288]. Событие стало серьезным ударом для немецкого предприятия, на котором было занято 4000 работников: оно в значительной степени зависело от ведения бизнеса с «Русалом»[289].
Находившиеся далее в цепочке поставок европейские производители алюминия предупредили, что если деятельность «Русала» не возобновится, то им, возможно, придется остановить свои алюминиевые заводы. Это далеко не простое дело: остановка такого комбината — дорогостоящая крайняя мера. При подобном сценарии производство алюминия в Европе могло прекратиться. Остаться без алюминия рисковали европейские автопроизводители — например, Audi, BMW и Volkswagen[290]. Немецкие деловые круги указали, что потенциальная остановка производства автомобилей ставит под угрозу 800 тысяч рабочих мест только в Германии[291].
Американские санкции против «Русала» привели к серьезному хаосу. Цены на алюминий взлетели до рекордно высокого уровня, и международные компании-производители испытывали трудности с поставками этого металла. По иронии судьбы, санкции пошли на пользу китайским производителям: те располагали достаточными свободными мощностями и четко дали понять, что готовы заполнить пустоту, образовавшуюся после ухода «Русала». Введя санкции против «Русала», Соединенные Штаты наказали потребителей алюминия по всему миру и одновременно непреднамеренно помогли китайским металлургам.
Европейские дипломаты и чиновники Министерства финансов были в ярости. Перед вводом санкций против «Русала» Соединенные Штаты не проконсультировались с европейскими союзниками. Около половины доходов российской компании поступает из Европы, где она обеспечивает работу десятков тысяч человек, которые сейчас опасались, что вскоре ее потеряют. Находившиеся далее в цепочке европейские компании-производители не получили от своих правительств никаких предупреждений о том, что поставки алюминия находятся под угрозой. Союзники США узнали о санкциях против «Русала» из СМИ и были вынуждены перейти в режим антикризисных мер, практически ничего не зная о стратегии США.
Под огромным давлением деловых и дипломатических кругов Соединенным Штатам не оставалось ничего другого, как развернуться на 180 градусов. OFAC выдало генеральную лицензию, продлившую срок, в течение которого иностранным компаниям требовалось свернуть отношения с «Русалом». Санкции оставались в силе, но эта лицензия временно отложила их. В итоге «Русал» смог возобновить отправку алюминия, устранив страх перед кризисом поставок. Тем не менее юристы, занимающиеся вопросами санкций, вскоре предупредили, что работа с российской компанией усложнилась: о каждой сделке, совершенной с «Русалом», приходилось сообщать американским властям[292]. Бюрократия развернулась вовсю: OFAC запрашивало отчеты, содержащие имена и адреса всех сторон, тип и рамки операций, а также даты совершения сделок. Этого было достаточно, чтобы обескуражить даже самых опытных специалистов по соблюдению нормативно-правовых требований.
В любом случае компаниям по-прежнему сложно вести дела с «Русалом». Генеральная лицензия США, отменившая санкции, имеет временный характер. OFAC может отозвать ее в любой момент или даже принять решение о применении ретроактивных (имеющих обратную силу) санкций к компаниям, которые ведут бизнес с российским концерном. Такую неопределенность поддерживали намеренно. Министерство финансов США начало переговоры с Дерипаской, чтобы тот уступил контроль над своим холдингом EN+ и, соответственно, над «Русалом». Серьезные потрясения на мировых рынках металлов стали для Вашингтона полезным рычагом давления на этих переговорах.
Дерипаску приперли к стене. Он мог либо пойти на сделку с США и попытаться спасти свою бизнес-империю, либо ничего не делать и наблюдать, как его компании раз за разом теряют контракты. Бизнесмен объявил, что согласен уменьшить свою долю в EN+ ниже 50 % (ранее она составляла 70 %), тем самым снизив свою долю в «Русале» примерно до 25 %. В обмен на это США согласились снять санкции против EN+ и «Русала» (однако персональные санкции против Дерипаски, похоже, остались в силе). Через несколько месяцев после этого стороны заключили сделку. Состояние Дерипаски сократилось примерно на 3 млрд долларов, зато EN+ и «Русал» смогли продолжать свою деятельность[293]. Потребители алюминия выдохнули с облегчением. Однако требовалось преодолеть еще одно препятствие.
Для сделки с Дерипаской требовалось одобрение Конгресса, который и ввел санкции против «Русала». У законодателей имелось 30 дней на то, чтобы внимательно изучить предложенное Министерством финансов соглашение с российским бизнесменом. Компаниям, зависящим от поставок алюминия «Русалом», снова пришлось пережить неприятные мгновения: конгрессмены едва не отклонили это соглашение. Прежде всего, неудачно было выбрано время: этот 30-дневный срок пришелся как раз на рождественские и новогодние праздники, когда у законодателей был перерыв в работе.
Что важнее, многим членам Конгресса условия сделки показались неприемлемыми. Дерипаска сохранял за собой 44,95 % акций EN+. Меньше контрольного пакета, но все равно слишком много, на взгляд многих конгрессменов. Министерство финансов США понимало, что соглашение не является идеальным, но оно отражало прагматическую истину: на рынке не имелось достаточного аппетита, чтобы поглотить всю долю Дерипаски в EN+. Другие законодатели опасались, что Дерипаска передаст свое богатство и влияние в EN+ своим детям и друзьям, чему предлагаемое соглашение полностью не препятствовало, хотя сделка и предусматривала, что Дерипаска передает часть своей доли в EN+ в собственный благотворительный фонд[294]. Опасения были вполне обоснованными: как OFAC собиралось проверять то, что происходит за закрытыми дверями в России?
Для отклонения предложения OFAC об отмене санкций в отношении EN+ и «Русала» требовалось 60 голосов. Было подано 57[295]. В январе 2019 года Соединенные Штаты окончательно сняли санкции с «Русала». Четыре месяца спустя компания объявила о планах строительства в штате Кентукки металлургического завода, производящего алюминий для американских автозаводов — первого за 37 лет нового алюминиевого комбината в США[296]. Дерипаска по-прежнему находился под индивидуальными санкциями и оставался крупнейшим акционером «Русала». Однако теперь, когда на карте стояли американские рабочие места, это уже не имело значения.
Формально Соединенные Штаты выиграли битву: из-за угрозы вторичных санкций сотрудничество с «Русалом» стало токсичным практически для всех компаний мира, и это вынудило Дерипаску отказаться от контроля над активами ради спасения своей бизнес-империи. Это был первый подобный случай: никогда ранее санкции не приводили к смене руководства и собственников в гигантской мировой компании уровня «Русала». В то же время победа Вашингтона досталась высокой ценой: санкции вызвали резкий скачок цен на алюминий, едва не уничтожили тысячи рабочих мест по всему миру и заставили правительства стран-союзников и руководителей бизнеса задаться вопросом, действительно ли США понимали, что делали, вводя санкции.
Сомнительно, что Вашингтон вводил санкции против «Русала», не подумав об их мощных побочных эффектах. Действительно, сотрудники OFAC предупреждали, что действия против российской компании пошатнут мировые рынки металлов[297]. И все же администрация решила прибегнуть к санкциям — возможно, потому, что в то время у «Русала» не было собственных заводов в США. Поэтому международные компании пришли к выводу, что Соединенные Штаты не заботятся о возможных побочных эффектах своих действий. Другие руководители вслух задавались вопросом, не являлся ли такой небрежный подход намеренной стратегией, направленной на поддержку американских производителей этого металла. Ведь администрация только что ввела серьезные тарифы на импорт американского алюминия.
Случай с «Русалом» нанес серьезный репутационный ущерб Вашингтону. Последствия санкций против компании оказались настолько масштабными, что США пришлось в спешном порядке пойти на попятную и выдать генеральную лицензию, которая фактически отменяла их. Международный бизнес приветствовал такой разворот, но он показал слабость Америки, использовавшей санкционную стратегию типа «сначала стреляй, потом целься»[298]. Если целью было наказание компании, принадлежащей человеку, близкому к Кремлю, то США достигли ее, и отменять санкции не было необходимости. Поспешная смена курса администрацией лишь внесла путаницу в вопрос, что являлось настоящей целью санкций и существовала ли здесь вообще какая-то стратегия.
Эпопея с «Русалом» также продемонстрировала отсутствие предварительных консультаций по вопросам санкций между правительством США и частным сектором[299]. Практически во всех областях политики администрация организует консультации с компаниями, чтобы узнать их мнение по поводу планируемых нормативных актов. Например, Министерство торговли и Государственный департамент представляют на рассмотрение предполагаемые тарифы или меры экспортного контроля, чтобы узнать мнение частного сектора[300]. Публично обсуждаются даже чувствительные планы Министерства финансов США по ужесточению борьбы с отмыванием денег. Но санкции являются исключением: OFAC обсуждает свои планы за закрытыми дверями лишь с горсткой влиятельных американских фирм.
OFAC утверждает, что предварительное обсуждение санкций подорвет их эффективность. Это верно лишь отчасти. Безусловно, нецелесообразно заранее объявлять о введении индивидуальных санкций: за время консультаций люди, против которых они направлены, поспешат вывести свои активы из США. Однако общественное обсуждение предполагаемых санкций в отношении компаний или целых секторов экономики, скорее всего, не снизит их эффективности. Все равно планы по введению таких санкций обычно просачиваются в СМИ задолго до их практической реализации, не говоря уже о том, что перевезти завод в одночасье, как известно, весьма трудно.
При ближайшем рассмотрении сделка, заключенная Соединенными Штатами с Дерипаской, также порождает щекотливые вопросы[301]. Часть бывшей доли Дерипаски в EN+ приобрел ВТБ — российский государственный банк, находящийся под санкциями. Вместо того чтобы приносить выгоду Дерипаске, часть прибыли EN+ теперь идет непосредственно в казну Кремля. Эти дополнительные доходы могут пойти на финансирование тех самых действий Российского государства, которые послужили для Соединенных Штатов поводом ввести санкции против «Русала», — например, кибератаки Москвы против Вашингтона и военная операция в Сирии.
Возникают также обоснованные сомнения в том, действительно ли Дерипаска отказался от контроля над EN+ и, соответственно, над «Русалом»[302]. По условиям соглашения, подписанного с OFAC, его право голоса в EN+ ограничено 35 %. Тем не менее Дерипаска по-прежнему может создавать неформальные альянсы с другими акционерами, чтобы влиять на стратегические решения. Для предотвращения этого соглашение предусматривает, что акционеры EN+ должны сообщать о любых попытках бизнесмена повлиять на их голоса. Если Дерипаска предпримет подобные шаги, то США снова введут санкции против «Русала». Однако остается загадкой, каким образом OFAC собирается реализовывать эту политику: зачем акционерам «Русала» добровольно сообщать то, что может привести к введению санкций против компании, в которой они имеют долю?
В любом случае Министерство финансов США, судя по всему, не торопится повторно вводить санкции против этой российской компании. В конце 2020 года европейские правительства проинформировали США, что, по имеющимся у них сведениям, Дерипаска по-прежнему участвует в повседневной деятельности «Русала», используя персонал и ресурсы компании для собственных целей — например, для организации кампании в СМИ против присутствия Китая в Африке[303]. Дерипаска отправил своих юристов опровергать эти обвинения, и OFAC до сих пор не предприняло никаких действий, несмотря на запрос одного американского сенатора о проведении брифинга по этим европейским данным[304]. Даже после начала СВО на Украине «Русал» по-прежнему не включен в санкционный список США. Но пойдут ли Соединенные Штаты на введение санкций против «Русала» во второй раз, когда глобальные последствия мер против этого алюминиевого гиганта уже хорошо известны?
Тем временем Дерипаска продолжает активно действовать. Вскоре после отмены санкций против «Русала» он возбудил дело против Министерства финансов США, чтобы получить финансовую компенсацию за ущерб в размере 7,5 млрд долларов, который, по его мнению, он понес из-за санкций (суд он проиграл)[305]. Адвокаты Дерипаски утверждали, что «незаконные»[306] санкции, основанные «не более чем на ложных слухах и инсинуациях»[307], привели к «полному уничтожению {его} состояния, репутации и материального источника дохода»[308]. Теперь Дерипаска любит изображать из себя страдальца — защитника законности[309]. В последнем списке миллиардеров Forbes он занимает 1050-е место в мире с состоянием около 3 млрд долларов[310]. Если целью американских санкций действительно было ослабление Дерипаски, то в этом процессе что-то явно пошло не так.
История с «Русалом» — не единичный случай. Существуют и другие примеры, как санкции США едва не приводили к разрушению каналов поставок по всему миру. Всего через десять месяцев после снятия санкций с российской компании американская администрация применила ограничительные меры по отношению к китайской судоходной компании COSCO Shipping — за транспортировку нефти из Ирана вопреки санкциям[311]. Уловки COSCO были словно скопированы из учебника по северокорейским методам обхода санкций: танкеры с поддельными международными идентификационными номерами отключали свои транспондеры, чтобы совершить темный рейс между Ираном и Китаем[312]. Меры против COSCO включали и вторичный компонент. Почти 50 нефтяных танкеров компании внезапно остались не у дел, поскольку международные фирмы не захотели нарываться на американские санкции.
Эти шаги стали аналогом действий против «Русала»: в считаные часы они нарушили мировые транспортные связи, спровоцировав рост стоимости фрахта примерно на 30 %. Цена на транспортировку нефти из США в Китай достигла рекордно высокого уровня[313]. Нефтяные компании, которые раньше рассчитывали на танкеры COSCO, вынуждены были обращаться к другим компаниям, задравшим цены. COSCO владеет одним из крупнейших флотов в мире, состоящим из больших нефтеналивных судов, эквивалентных гигантским нефтяным танкерам. Большинство других судоходных компаний не располагали такими крупными кораблями, к тому же транспорт требовался срочно. В результате нефтяным компаниям пришлось заказывать несколько меньших по размеру нефтевозов, чтобы компенсировать потерянную вместимость[314].
Сначала Соединенные Штаты отвергли сообщения, что санкции против COSCO негативно отражаются на морских перевозках. Официальный представитель Госдепартамента США заявил, что не слышал ни о каких сбоях, добавив, что кампания максимального давления Трампа на Иран была применена «без какого-либо ущерба»[315]. Сотрудники OFAC оказались в шоке: им вовсе не нравилась идея санкций против COSCO из-за полученного болезненного урока из истории с «Русалом».
Политические назначенцы из Госдепартамента США лоббировали введение санкций против COSCO в рамках кампании максимального давления Вашингтона на Иран; как выяснилось, эти люди практически не имели представления, как работают санкции, и не подозревали о возможных побочных эффектах[316]. Как и в случае с «Русалом» несколькими месяцами ранее, управлению OFAC пришлось самостоятельно расхлебывать последствия и минимизировать влияние санкций против COSCO на отрасль мировых грузоперевозок.
Дальнейшая часть истории очень похожа на эпопею с «Русалом». Через три недели OFAC выдало генеральную лицензию, предоставляющую международным компаниям время на разрыв связей с COSCO. Несколько месяцев спустя Соединенные Штаты отменили большинство санкций против китайской компании[317]. Эпизод с «Русалом» усилил сомнения в способности Вашингтона вводить санкции структурированно и последовательно. Для многих иностранных фирм и союзников США провал мер против COSCO подтвердил опасения, что американский подход к «Русалу» был не исключением из правил, а свидетельством того, что Вашингтон не думает о последствиях своих действий.
7
Санкционные споры
Когда трубопроводы с российским газом разделяют союзников
В 1981 году во время саммита G7 в Оттаве президент США Рональд Рейган обратился к премьер-министру Японии Дзэнко Судзуки с необычной просьбой: он попросил не допустить, чтобы японская фирма Komatsu продала Советскому Союзу оборудование для строительства газопровода из Сибири в Европу. По мнению Рейгана, этот газопровод представлял угрозу национальной безопасности Соединенных Штатов: Белый дом утверждал, что Кремль вложит вырученные от экспорта средства в укрепление боеспособности Советской армии[318]. Komatsu давно вела дела с Москвой и по понятным причинам не хотела отказываться от контракта на 85 млн долларов. Однако Судзуки согласился с Рейганом и попросил фирму приостановить сделку[319].
Через десять дней Министерство торговли США сделало неожиданный ход: оно выдало американской компании Caterpillar экспортную лицензию на тот самый контракт, который было предложено отменить компании Komatsu[320]. Японское правительство было потрясено. По всему миру руководители компаний задавались вопросом, не являлась ли предполагаемая озабоченность Вашингтона этим трубопроводом просто уловкой для продвижения коммерческих приоритетов Америки. Для мира все выглядело так, словно Соединенные Штаты стремятся использовать соображения национальной безопасности для продвижения собственных экономических интересов за счет своих союзников.
Спустя почти четыре десятилетия у американских партнеров возникли аналогичные сомнения относительно мотивов, которыми руководствовались США при введении санкций против газопровода «Северный поток — 2», соединяющего Россию с Германией. США выступали против «Северного потока — 2» по соображениям безопасности, считая, что проект представляет угрозу безопасности Европы: Вашингтон утверждал, что в случае ухудшения отношений между Россией и ЕС Кремль может заблокировать поставки газа в Европу[321]. Германия и некоторые другие страны ЕС смотрели на ситуацию иначе: они подозревали, что противодействие Вашингтона строительству газопровода — часть большого плана по увеличению экспорта американского газа, и утверждали, что односторонние меры США ущемляют суверенитет Европы. На протяжении нескольких лет эпопея с «Северным потоком — 2» серьезно осложняла трансатлантические отношения.
Спор между США и ЕС вокруг «Северного потока — 2», разгоревшийся в 2010-х годах, выглядел новшеством, однако это был не первый случай разногласий Америки и Европы по поводу российского трубопровода. В начале 1980-х годов причиной напряженности стало строительство Сибирского газопровода [322]— того самого проекта, в котором хотела участвовать японская компания Komatsu. Опасения Вашингтона, что Кремль начнет использовать полученные доходы для поддержки армии, были лишь одним из аспектов проблемы. Министерство обороны США также беспокоила сделка, которую только что подписала французская компания Thomson CSF: французы согласились продать Москве несколько высокотехнологичных компьютеров для управления потоками газа в газопроводе. Соединенные Штаты расценили это как тревожный сигнал: в Пентагоне полагали, что Советы могут тайно применить это оборудование в военных целях[323].
По другую сторону Атлантики европейские страны выступили в защиту газопровода: они утверждали, что экономическое сотрудничество — наилучший способ взаимодействия с Москвой. Совместная работа над строительством газопровода была важнейшим компонентом политики разрядки, которую они проводили в отношении Кремля[324]. С точки зрения Европы Сибирский газопровод обеспечивал диверсификацию поставщиков энергоносителей: после нефтяных кризисов 1973 и 1979 годов Европейский союз стремился уменьшить свою зависимость от ближневосточной нефти.
У европейских правительств имелись и экономические мотивы для поддержки проекта: французские, итальянские, западногерманские и британские компании заключили с Советским Союзом договоры на производство различных компонентов трубопровода (например, компрессоров и турбин) на сумму около 4 млрд долларов[325]. Мировая экономика находилась в состоянии рецессии, поэтому эти сделки были крайне важны для двадцати с лишним европейских металлургических и машиностроительных компаний, задействованных в проекте[326]. Правительства ЕС надеялись, что строительство трубопровода поможет снизить высокий уровень безработицы; только в Германии проект должен был обеспечить около 1000 рабочих мест[327].
Американские «ястребы» намеревались сделать все возможное, чтобы помешать строительству трубопровода. Однако администрация Рейгана оказалась в затруднительном положении. Вашингтон понимал, что без веских оснований не может наложить санкции на проект. Единственный реальный вариант — дождаться событий, которые могли бы послужить поводом для введения мер против Москвы. Долго ждать Белому дому не пришлось.
В декабре 1981 года в коммунистической Польше ввели военное положение для подавления продемократических протестов. Навстречу демонстрантам, требовавшим социальных перемен и улучшения условий труда, выступила армия, десятки польских активистов были убиты. Администрация полагала, что приказ о жестоком разгоне демонстрации отдал Кремль. Рейган быстро ухватился за возможность ввести санкции против Москвы, пытаясь сорвать строительство Сибирского трубопровода[328].
Европейские компании производили турбины и компрессоры для газопровода по технологиям США. Это не ускользнуло от внимания Вашингтона. Белый дом решительно взялся за дело: в конце декабря администрация приостановила действие лицензий, позволявших европейским компаниям экспортировать в Советский Союз компоненты, созданные по американским технологиям. Современным эквивалентом подобной меры стал бы запрет на использование компаниями ЕС компьютеров Apple или программного обеспечения Microsoft для производства продукции, предназначенной для экспорта в Россию.
Европейские власти пришли в ярость — не в последнюю очередь потому, что США уведомили их о санкциях всего за пять часов до введения[329]. Такие меры могли привести к задержке строительства газопровода и, соответственно, поставок газа. Ситуация была серьезной, но не катастрофической: новые меры экспортного контроля не распространялись на ранее заключенные договоры. Большинство европейских компаний могли продолжать экспортировать части газопровода в СССР при условии, что они уже подписали соответствующие сделки. Однако Вашингтон намекнул, что санкции вполне могут обрести обратную силу. В этом случае европейским компаниям не осталось бы ничего иного, как расторгнуть действующие контракты. Потенциальные финансовые потери выглядели значительными.
Вашингтон понимал, что угроза придания закону ретроактивности [330] дает ему мощный рычаг влияния. США начали давить на европейские страны, убеждая их ввести санкции против СССР в ответ на польские события. Угроза Америки была практически не завуалирована. Если Европа примет жесткие меры против Москвы, например, введет торговое эмбарго, то американские ограничения на экспорт технологий в СССР не будут распространяться на существующие контракты, и европейские фирмы смогут продолжить строительство различных частей Сибирского трубопровода. Но если европейские страны откажутся выполнять требования США, администрация придаст этим мерам обратную силу.
Евросоюз оказался между молотом и наковальней. Организация [331] хотела поддержать европейские производственные компании, работающие над трубопроводом, но ее члены не желали сокращать торговые связи с Москвой. Европейские правительства также не были уверены в том, что за подавлением польских протестов стоит Советский Союз. Некоторым казалось, что Рейган использовал ситуацию в Польше как предлог для срыва строительства газопровода. В марте 1982 года Европейский союз объявил о скромных мерах: организация сократила ежегодный импорт из Советского Союза на 150 млн долларов. Это был жест доброй воли по отношению к Рейгану, но он совершенно не соответствовал американским требованиям и не произвел впечатления на Вашингтон.
Переговоры продолжались весь июнь, дойдя до кульминации на версальском саммите G7. Несмотря на активные дискуссии, стороны так и не смогли прийти к соглашению[332]. Вскоре после завершения саммита США объявили, что меры экспортного контроля по отношению к строительству трубопровода будут распространяться и на существующие контракты [333]. Подобное произошло впервые: до этого о ретроактивных санкциях не слыхивали. Соблюдение таких мер предписывалось также европейским дочерним предприятиям американских компаний. Это был еще один новый незаконный шаг: Соединенные Штаты не имеют юрисдикции над иностранными дочерними предприятиями американских фирм[334].
Правительства европейских стран возмутились. По словам министра иностранных дел Франции Клода Шессона, «Соединенные Штаты только что фактически объявили своим союзникам в Западной Европе экономическую войну»[335]. Время было выбрано неудачно. Недавно Рейган сообщил, что Соединенные Штаты отменяют эмбарго на экспорт зерна в Советский Союз, поскольку такая политика нанесла ущерб американским фермерам. Это произвело катастрофическое впечатление на общественность: Вашингтон, похоже, соглашался применять санкции к СССР только до тех пор, пока это не мешало американским фирмам.
Но при всем накале дипломатической риторики европейский бизнес полагал, что выбора нет, и ему придется подчиниться американским требованиям. Риск впасть в немилость у американских контролирующих организаций представлялся им неоправданным. Европейские компании начали информировать Москву, что они вынуждены выйти из проекта строительства газопровода. Казалось, что американский план работает. Протесты со стороны правительств стран ЕС постепенно становились все реже. Однако это оказалось лишь затишьем перед бурей. Великобритания, Франция, Италия и Западная Германия перешли в контрнаступление.
В июле 1982 года премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер возобновила военные действия. Выступая в парламенте, она заявила: «Вопрос в том, может ли одна очень могущественная страна мешать выполнению существующих контрактов. Неправильно, что она должна препятствовать выполнению этих контрактов»[336]. Тон был задан. Европейские страны не собирались уступать давлению США. Правительства стали требовать от своих национальных фирм выполнения договорных обязательств с Москвой. Эта мера также распространялась и на филиалы американских компаний: Dresser-France, французская дочерняя компания американской Dresser Industries, получила из Парижа строгое указание отправлять детали трубопроводов в СССР[337].
На случай, если компании отказывались поставлять комплектующие в Советский Союз, у французского и британского правительств имелся план Б. Париж угрожал реквизировать предприятия, подчинившиеся американским санкциям. Лондон поступил аналогичным образом с четырьмя британскими фирмами[338]. Европейские компании четко уловили посыл. Они мигом возобновили поставки различных частей советского трубопровода. В ответ Вашингтон ввел санкции против 12 европейских фирм, запретив им вести бизнес в Соединенных Штатах[339].
Трансатлантическая свара переросла в противостояние. Европейские страны единодушно выступили против санкций США. Напротив, в Вашингтоне их поддержка рассыпалась: в администрации возникли серьезные разногласия по поводу целесообразности введения санкций против союзников[340]. Госсекретарь Александр Хейг подал в отставку, заявив, что санкции против советского газопровода вносят ненужный раскол в трансатлантический альянс[341]. Молодой выпускник Колумбийского и Гарвардского университетов Энтони Блинкен, ставший впоследствии госсекретарем США при президенте Джо Байдене, придерживался того же мнения. Он написал книгу, в которой объяснил, почему блокирование строительства газопровода менее важно для США, нежели поддержание прочных связей с европейскими союзниками[342].
Противники санкций в Вашингтоне утверждали, что они в лучшем случае неэффективны, а в худшем контрпродуктивны: решимость Европейского союза не подчиняться американским требованиям означала, что советский газопровод, похоже, будет построен, несмотря на санкции[343]. Часть сотрудников администрации также опасалась, что эти меры нанесут ущерб американским компаниям, которые вынужденно прекратят продажу технологий европейским предприятиям; по оценкам, краткосрочные потери американских компаний, таких как Caterpillar и General Electric, составили более 2 млрд долларов США (в пересчете на сегодняшние деньги с учетом инфляции — 6 млрд долларов США)[344].
Еще более серьезным выглядел потенциальный долгосрочный репутационный ущерб для американского бизнеса: иностранные компании начали задумываться, стоит ли им вообще обращаться к американским технологиям, если это может подвести их под санкции Вашингтона. Такие опасения выглядели вполне логично. Советские власти намекнули, что европейские фирмы, использующие американские ноу-хау, не будут допущены к будущим контрактам[345]. Столкнувшись с активным лоббированием со стороны промышленных компаний, Конгресс начал готовить законопроект, отменяющий санкции в отношении советского трубопровода и вынуждающий Белый дом добиваться одобрения союзниками аналогичных мер.
В ноябре 1982 года, после почти годичного периода трансатлантической напряженности, Рейган решил, что противостояние чересчур затянулось. В Польше по-прежнему действовало военное положение, но президент отменил санкции. Строительство советского газопровода завершилось через два года в соответствии с графиком, и он работает до сих пор. Ущерб, нанесенный американским компаниям, оказался долгосрочным: европейские фирмы по-прежнему опасаются использовать американские технологии из-за риска новых раундов санкций, имеющих обратную силу. По словам Тэтчер, эти меры «в конечном итоге навредили американским интересам, потому что очень многие люди скажут, что бессмысленно заключать договор на поставку материалов, машин и оборудования из США, если там в любой момент могут просто аннулировать этот договор»[346].
Перенесемся почти на 40 лет вперед, в конец 2010-х годов: распри вокруг «Северного потока — 2» выглядели повторением разногласий 1982 года[347]. Снова строился газопровод, соединяющий Россию с Европой. США, стремясь оказать давление на Москву, ввели санкции, чтобы сорвать реализацию проекта. Под огонь попали европейские компании, а правительства стран ЕС пришли в ярость, заявив, что подобные меры являются посягательством на их суверенитет. Возникла трансатлантическая напряженность. Пререкания оказались бессмысленными: газопровод построили, а затем в конечном итоге исключили из эксплуатации[348].
Формально «Северный поток — 2» не имеет никакого отношения к Соединенным Штатам. Проект был направлен на удвоение мощности «Северного потока — 1», еще одного канала поставки газа из России в Германию. Половину внушительной стоимости «Северного потока — 2»,11 млрд долларов, оплатил «Газпром», российский государственный газовый гигант[349]. Остальные деньги выделили пять европейских компаний, рассчитывавших на получение газа по новой нитке. Этот проект имел огромное значение для Евросоюза: в нем тем или иным способом участвовали около 150 европейских компаний[350]. Однако США видели в «Северном потоке — 2» нечто гораздо большее, нежели просто деловое предприятие.
С точки зрения Вашингтона, этот газопровод представлял собой потенциальное оружие России против Европы. Администрация опасалась, что «Северный поток — 2» усилит зависимость Европейского союза от российских энергоносителей: в то время на долю России приходилось около 40 % импортируемого в Европу газа[351]. США полагали, что это и так слишком много, а дальнейшее увеличение доли Москвы на европейском газовом рынке усилит влияние Кремля на Европу. Другие критики отмечали, что новый газопровод будет эксплуатироваться той же компанией — Nord Stream AG, — что и существующий газопровод «Северный поток — 1», проходящий рядом с предполагаемым маршрутом «Северного потока — 2». В случае кибератаки на Nord Stream AG или взрыва на любом из «Северных потоков» Европа может лишиться почти половины поставок газа[352].
Противники газопровода утверждали, что проект опасен не только для Европы, но и для Украины. Киев уже несколько лет назад прекратил импорт российского газа, однако «Северный поток — 2», похоже, усугублял ситуацию с украинским бюджетом: теперь российский газ мог идти в Европу напрямую, а не через сеть существующих трубопроводов, которыми густо покрыта территория Украины. Оппоненты «Северного потока — 2» утверждали, что это нанесет большой экономический ущерб испытывающему нехватку денежных средств Киеву, лишая его примерно 3 млрд долларов США, которые Москва ежегодно платила за транзит газа.
«Газпром» и пять его европейских партнеров сообщили о строительстве «Северного потока — 2» в 2015 году. Вскоре начались подготовительные работы: в частности, были объявлены тендеры на выбор поставщиков стальных труб. Впервые Конгресс попытался сорвать реализацию проекта в 2017 году, когда в новом законодательном пакете появилась угроза введения вторичных санкций в отношении международных компаний, предоставляющих финансирование или поддержку для российских энергетических проектов[353]. Под удар попадали европейские компании, которые финансировали половину строительства «Северного потока — 2». Однако в течение нескольких недель сохранялась неясность, подразумевает ли угроза введения вторичных санкций [354] их ретроактивное применение.
Как часто бывает, формулировка закона, принятого Конгрессом, была размытой и открытой для интерпретаций. Европейские компании, участвующие в проекте «Северный поток — 2», с тревогой ожидали от США разъяснений. Под сильным дипломатическим давлением Вашингтон пошел на попятную: Госдепартамент объявил, что санкции не будут распространяться на уже запущенные энергетические проекты. Европейский бизнес выдохнул с облегчением: «Северный поток — 2» не подпадал под санкции, и можно было продолжать предварительные работы по строительству газопровода[355].
Работы по укладке труб начались в сентябре 2018 года. Спустя несколько недель министр энергетики США Рик Перри вновь воскресил идею санкций[356]. Во время визита в Москву он заявил, что Вашингтон по-прежнему не отказывается от идеи введения мер против «Северного потока — 2». Еще через несколько недель посол США в Германии Ричард Гренелл усилил нажим: он направил письма европейским компаниям, финансировавшим часть «Северного потока — 2», с призывом выйти из этого проекта[357]. Политики ЕС и энергетические компании снова затаили дыхание, полагая, что санкции не за горами, однако ничего не произошло. Работы по строительству трубопровода продолжались в течение всего 2019 года и шли быстро: к концу года построили участки газопровода в Швеции, Финляндии и России. Начало эксплуатации наметили на 2020 год.
В конце концов на исходе 2019 года Конгресс ввел санкции против «Северного потока — 2»: появился закон, угрожающий введением вторичных санкций против компаний, прокладывающих подводные трубы для российских энергетических проектов. После двух лет тщетных попыток Конгрессу наконец-то удалось поставить под угрозу завершение «Северного потока — 2»[358]. Ультиматум сработал: через несколько часов после голосования Конгресса швейцарско-голландская компания AllSeas, предоставлявшая специализированные крупные суда для укладки 200 тысяч труб, составляющих газопровод, в спешном порядке покинула проект[359].
Угроза вторичных санкций нанесла удар «Северному потоку — 2». Наблюдатели задавались вопросом, не приведут ли американские меры к срыву проекта. Ответ не заставил себя долго ждать. Принятые меры оказались болезненными, но недостаточными, чтобы убедить «Газпром» и европейские энергетические компании отказаться от строительства. Хотя AllSeas ушла, у «Газпрома» имелся план Б для прокладки труб. Тремя годами ранее, во время проведения предварительных работ по строительству газопровода, российская газовая компания удачно приобрела трубоукладочное судно «Академик Черский».
В начале 2020 года «Академик Черский» находился севернее Японии в Охотском море: предполагалось вскоре начать работы на расположенных неподалеку сахалинских газовых месторождениях. «Газпром» немедленно отправил судно в четырехмесячное путешествие от берегов Японии до Балтийского моря вокруг мыса Доброй Надежды (кран «Академика Черского» был слишком высок, чтобы судно могло пройти под автомобильным мостом, переброшенным через Суэцкий канал)[360]. Обеспечение безопасности рейса стало первоочередной задачей для Кремля: для сопровождения был привлечен ВМФ России, и в мае судно благополучно прибыло в российский порт Калининград.
В «Газпроме» знали, что «Академик Черский» работает медленнее судов компании AllSeas, однако благодаря быстрому ходу работ в 2019 году осталось проложить всего около 100 миль (или примерно 5 %) подводных труб. Задача выглядела вполне реальной. Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что в санкциях США «нет ничего катастрофического»[361]. По мнению Москвы, строительство трубопровода было отложено, но не сорвано. Тем не менее развитие событий в Балтийском море не добавляло уверенности в продолжении работ по «Северному потоку — 2».
За май и июнь 2020 года судно «Академик Черский» не уложило ни одной трубы. Ходили слухи, что судно модернизируют, устанавливая на него современное трубоукладочное оборудование, хотя некоторые аналитики считали, что ужесточение американских санкций привело к гибели «Северного потока — 2». Из России не поступало никакой информации, кроме того, что «Газпром» нанял дополнительное трубоукладочное судно «Фортуна». Однако у наблюдателей не было уверенности, что «Фортуне» разрешат работать в Балтийском море.
Возможности «Академика Черского» впечатляли: даже в штормовых водах трубоукладчик мог с высокой точностью прокладывать трубы на глубине почти 700 футов [362] под водой. Оборудование позволяло определять местоположение судна в режиме реального времени, используя сведения о течениях, движении волн и ветре. Однако оно было крайне медленным. «Фортуна» двигалась быстрее, но не располагала технологиями позиционирования, имевшимися у «Академика Черского». В результате для точной прокладки подводных труб «Фортуне» требовалось несколько раз вставать на якорь[363].
Это стало серьезной проблемой: для завершения строительства «Северного потока — 2» оставалось проложить трубы в водах Германии и Дании, однако Копенгаген обычно запрещает судам, стоящим на якоре, работать в датских водах — из опасений, что корабль может задеть неразорвавшиеся мины времен Второй мировой войны. К изумлению США (и после длительных задержек, которые некоторые наблюдатели приписывали давлению американцев), в начале июля 2020 года Копенгаген дал «Фортуне» зеленый свет на укладку труб[364]— отличная новость для «Газпрома». Вскоре «Фортуна» и «Академик Черский» отправились в небольшой немецкий порт Мукран [365], чтобы загрузить стальные трубы и возобновить строительство.
Администрация США решила усилить давление на «Северный поток — 2». В середине июля Госдепартамент выпустил пересмотренные рекомендации, согласно которым прежние санкции, введенные против компаний, работавших над российскими энергетическими проектами с 2017 года, будут иметь обратную силу[366]. Обновленные рекомендации вызвали тревогу у европейских фирм, вовлеченных в проект: это означало, что порты типа Мукрана, принимавшие трубоукладочные суда, компании, страховавшие эти суда, и банки, проводившие транзакции, связанные с «Северным потоком — 2», могут стать объектами вторичных санкций США[367].
Изменение позиции Госдепартамента стало тяжелым ударом для Европы: в санкционном документе 2017 года недвусмысленно указывалось, что американские действия против энергетических проектов должны согласовываться с союзниками[368]. США отказались от этого обязательства[369]. Было трудно представить, насколько применимы пересмотренные рекомендации: юристы считали, что их, скорее всего, оспорят в международных судах[370]. Тем не менее российский владелец судна «Фортуна», испугавшись перспективы санкций, вышел из проекта. Судно «Академик Черский» покинуло место строительства трубопровода и вернулось в Калининград. Спекуляции по поводу перспектив «Северного потока — 2» достигли рекордных высот. Ситуация с достройкой газопровода стала непредсказуемой.
Последующие недели оказались напряженными, поскольку США, похоже, одерживали верх в истории с «Северным потоком — 2». В начале августа некоторые американские сенаторы заявили, что не откажутся от введения «сокрушительных»[371] санкций в отношении немецкого порта Мукран, через который шли трубы и другие материалы для судов-трубоукладчиков. Это был неординарный шаг: сенаторы дошли до угрозы наложить санкции на работников балтийского порта. Угроза применить санкции к стивидорам [372] немецкого порта вызвала смятение во всей Европе. Даже те, кто выступал против «Северного потока — 2», начали задаваться вопросом о серьезности намерений американских сенаторов.
В 1950-х годах небольшой порт Мукран был процветающим рыбацким поселком и популярным местом отдыха шведских туристов. Спустя семь десятилетий местечко превратилось в тень самого себя; многие жители находились за чертой бедности из-за отсутствия работы с зарплатой, превосходящей минимальную. Городок отчаянно пытался создать новые рабочие места, но большинство доступных вариантов были связаны с «Северным потоком — 2»[373]. В случае закрытия проекта исчезли бы ежегодные налоги в размере 2 млн долларов США, на которые рассчитывали местные власти[374]. Мукрану грозила экономическая гибель[375].
Угроза применения санкций к работникам немецкого порта сильно подорвала доверие к Вашингтону. Этот ультиматум подкрепил отрицательные стереотипы в отношении американского империализма, которые имелись у жителей Мукрана, изучавших русский язык в школе и ранее живших в коммунистической Восточной Германии. Одна левая немецкая партия направила в Конгресс письмо с вопросом, как отреагирует Вашингтон, если Берлин пригрозит ввести санкции против американских портов[376]. Еще дальше пошли немецкие ультраправые, дружески настроенные к России: эта партия потребовала от Евросоюза полной отмены санкций, наложенных на Москву после присоединения Крыма.
Резкие заявления американских сенаторов привели к обратному результату. Угроза применить санкции к немецким рабочим превратила строительство газопровода в предмет гордости на фоне того, что в Европе все сильнее воспринималось как злоупотребление силой со стороны Соединенных Штатов. Строительство трубопровода по-прежнему не двигалось, однако некоторые европейские политики начали считать, что завершение проекта — самый лучший способ дать понять Вашингтону, что Европейский союз намерен решительно противостоять американским требованиям. Однако дело осложнилось еще одним обстоятельством, которое не имело отношения ни к газу, ни к трубоукладчикам, ни к санкциям.
В августе 2020 года российский оппозиционер Алексей Навальный тяжело заболел после воздействия нервно-паралитического отравляющего вещества[377]. Быстро возникла версия, что в отравлении виновно российское правительство. Противники строительства «Северного потока — 2» по обе стороны Атлантики почувствовали удобный момент: пока Навальный проходил курс лечения в Берлине, они призвали Германию отказаться от строительства газопровода в ответ на это отравление.
Немецкое правительство попало в сложную ситуацию. С одной стороны, Берлин не хотел преуменьшать серьезность состояния Навального или сводить к минимуму обеспокоенность тем, что выглядело попыткой Кремля устранить оппонента. С другой стороны, Германия была твердо убеждена, что «Северный поток — 2» является бизнес-проектом, который необходимо завершить для удовлетворения энергетических потребностей Европы. Берлин также полагал, что бессмысленно спорить с Россией о том, чего не вернуть, — изменить факт отравления оппозиционера было уже нельзя[378]. Канцлер Ангела Меркель могла двигаться только вперед.
Вероятно, имелась и еще одна причина, по которой Германия не хотела отменять «Северный поток — 2». Пусть Меркель и не была никогда поклонницей проекта, она хотела избежать впечатления, что Берлин окончательно уступил давлению США по газопроводу; Конгресс и Белый дом громогласно праздновали бы это событие как крупную победу санкций. В то время мало кто в Вашингтоне понимал, что это означало на самом деле: если даже инцидент с Навальным не сорвал проект, то у американских санкций практически не оставалось шансов на успех.
Германия решила не торопиться и подождать, пока история с отравлением затухнет и исчезнет из СМИ. Однако работы по прокладке по-прежнему были приостановлены. Эксперты снова ломали голову, пытаясь понять, что происходит. Действительно ли строительство газопровода остановлено из-за угрозы введения вторичных санкций в отношении европейских компаний, занятых в проекте «Северный поток — 2»? Это казалось маловероятным, но уверенности не было. Возможно, Вашингтон также делал тайные предупреждения Кремлю; ЦРУ только что заявило, что у него есть возможность отключить освещение в Москве[379].
Ответ содержался в перемещении судов в районе Калининграда: «Газпром» вовсе не отказался от участия в проекте, а собрал целую армаду плавательных средств, которые должны были стать судами снабжения и спасательными судами для трубоукладчиков[380]. Разумный шаг: при такой поддержке трубоукладчики могли завершить строительство трубопровода практически без помощи с берега. Немецкий порт Мукран не будет задействован, что нейтрализует угрозу санкций со стороны Конгресса[381]. «Газпром» провел жесткие испытания судов, чтобы убедиться, что они смогут выдержать низкие температуры и сильные зимние штормы в Балтийском море. «Фортуна» сменила владельца и тоже подключилась к работе.
Прокладка «Северного потока — 2», похоже, продолжалась. Конгресс вновь попытался ужесточить санкции против «путинского газопровода»[382], а в октябре 2020 года администрация выпустила директиву, которая еще сильнее расширила сферу действия предыдущих раундов санкций[383]. Однако было ясно, что эти действия уже не нанесут сильного ущерба: к тому времени «Газпром» превратил строительство «Северного потока — 2» в чисто российское предприятие. Соединенные Штаты могли сколько угодно накладывать санкции на армаду трубоукладчиков, судов снабжения и спасательных судов: российские капитаны с радостью воспринимали эти действия как почетный знак отличия. Угрозы из Вашингтона стали звучать как заезженная пластинка.
В конце 2020 года «Фортуна» вышла на финишную прямую, возобновив работы на двух последних незавершенных участках трубопровода — немецком и датском[384]. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) наложило санкции на судно, но толку не было. После нескольких лет неопределенности у США не осталось возможностей для дальнейшего ужесточения мер. Казалось, что «Северный поток — 2» уже точно достроят, и российское новостное агентство объявило, что это произойдет в 2021 году[385]. Тем не менее это был еще не конец истории: эксперты продолжали делать ставки, пойдет ли по этим трубам газ.
«Газпром» мог завершить строительство, сделав этот процесс чисто российским делом, но до тех пор, пока газопровод не сертифицирован и не застрахован, пустить по нему газ нельзя. В начале 2021 года США предприняли новый раунд действий, направленных против страховых и сертификационных компаний, работавших над этим проектом; необходимым опытом сертификации обладали только западные фирмы, а они не хотели идти наперекор американским санкциям. Все выглядело так, что трубопровод достроят, но американские санкции не дадут его эксплуатировать. Тупик. Но в этот момент кардинально изменилась политическая обстановка в Вашингтоне.
Президентом США только что стал Джордж Байден. Государственным секретарем назначили Энтони Блинкена, выпускника Колумбийского и Гарвардского университетов, написавшего книгу о советском газопроводе. После четырех лет напряженности в период президентства Дональда Трампа в Белом доме понимали, что поиск компромисса в вопросе «Северного потока — 2» дает редкую возможность восстановить сильно натянутые трансатлантические отношения. Вашингтон также прекрасно осознавал, что любые попытки администрации Байдена реагировать на поведение России окажутся тщетными, если европейские союзники не будут действовать заодно с ними. Но пока США и Германия спорят из-за газопровода, их сотрудничество в вопросе отношений с Москвой будет буксовать.
Вскоре после инаугурации Байдена стали просачиваться слухи о возможном соглашении между Вашингтоном и Берлином по «Северному потоку — 2». Казалось, что США и Германия могут прийти к компромиссу относительно коммерческих условий эксплуатации газопровода: например, снять санкции в обмен на ограничение доли российского газа в европейском энергобалансе[386]. Другой широко обсуждавшийся вариант заключался в том, что Германия может согласиться с механизмом, прерывающим поставки газа по «Северному потоку — 2» в случае эскалации напряженности в отношениях России с Украиной или другими европейскими странами.
То, что Вашингтон и Берлин могут прийти к соглашению по «Северному потоку — 2», выглядело прорывом, но не новостью: Соединенные Штаты всегда оставляли открытую дверь для подобных переговоров, и даже самые жесткие пакеты санкций против «Северного потока — 2» предусматривали проведение трансатлантических «консультаций» для достижения договоренности по этому вопросу. Помимо политики, Белый дом также понимал, что вступление в переговоры — наиболее логичный шаг. До начала российской СВО на Украине в 2022 году было нереально ожидать, что европейские энергетические компании, не говоря уже о «Газпроме», откажутся от «Северного потока — 2», учитывая инвестированные в него миллиарды.
Оставлять трубопровод гнить в Балтийском море — в любом случае негодный вариант: такой сценарий сопряжен со значительными рисками для безопасности и экологии. К своему огорчению, в Вашингтоне также понимали, что приход Байдена в Белый дом означает победу Берлина: если учесть необходимость улучшения трансатлантических связей после враждебности предыдущей администрации, то сохранялось мало шансов, что США решатся пойти по пути санкций, если Берлин прикажет немецким фирмам сертифицировать и застраховать трубопровод.
Ситуация выглядела повторением конфликта между Америкой и Европой из-за советского газопровода 1982 года. С этой точки зрения переговоры по «Северному потоку — 2» стали для Америки возможностью сохранить лицо, хотя администрация и пыталась выглядеть жесткой. Берлин это понимал, и Меркель намеревалась продемонстрировать Соединенным Штатам свою твердость в данном вопросе. Конец истории понятен: Вашингтон проиграл сражение, и американские санкции не смогли сорвать проект строительства газопровода.
Через четыре месяца после вступления Байдена в должность его администрация отменила санкции в отношении «Северного потока — 2» после того, как в докладе Госдепартамента указали, что отмена этих мер отвечает национальным интересам США. В сентябре 2021 года строительство газопровода завершилось. Однако в наиболее вероятном сценарии российский газ так и не потечет по трубам. В начале 2022 года, после объявления Россией СВО на Украине, правительство Германии заморозило «Северный поток — 2», в очередной раз подтвердив, что судьбу газопровода будет определять исключительно Берлин [387].
История с «Северным потоком — 2» высветила глубокие разногласия между членами ЕС по поводу отношений с Москвой. Некоторые страны Восточной Европы, в том числе такие ярые критики России, как Польша и страны Балтии, заявили, что строительство газопровода является опасной затеей, которая приведет к чрезмерной зависимости Европы от российского газа. Против проекта выступил также Европарламент. Этот законодательный орган принял несколько не имеющих обязательной силы резолюций, призывающих остановить строительство газопровода и срочно пересмотреть отношения с Москвой[388].
Между тем европейские правительства, занимающие более мягкую позицию по отношению к России, такие как Германия и Австрия, утверждали, что строительство «Северного потока — 2» поможет обеспечить долгосрочное энергоснабжение Европы при меньшем ущербе для окружающей среды по сравнению с альтернативными вариантами типа угля. (После катастрофы на АЭС Фукусима‐1 в 2011 году Германия начала выводить из эксплуатации атомные станции и использовать для производства электроэнергии угольные электростанции, загрязняющие окружающую среду.) В то же время почти все европейцы сходились в одном: Вашингтон зашел слишком далеко, вводя санкции против газопровода.
Германия полагает, что ей не требуется американское разрешение на увеличение импорта газа из России. По словам министра иностранных дел Германии, «администрация США не уважает право и суверенитет Европы самостоятельно решать, где и как брать энергию»[389]. Это двустороннее взаимодействие: Берлин никогда не давал Вашингтону советов, какого поставщика энергии выбрать. Некоторые немецкие политики задавались вопросом, как бы отреагировали Соединенные Штаты, если бы Евросоюз ввел санкции против трубопроводов, проходящих по американской территории.
Правительство Германии также возмущалось тем, что Вашингтон начал вводить жесткие санкции против «Северного потока — 2» спустя четыре года после начала реализации проекта, когда в строительство трубопровода уже вложили миллиарды. Соединенные Штаты утверждали, что санкции против газопровода введены потому, что Америка считает себя конечным гарантом безопасности Европы. Некоторые европейские официальные лица выражали недоумение: если это действительно так, то почему же Америка ждала несколько лет, прежде чем прийти на помощь Европе в борьбе с такой серьезной, по мнению Вашингтона, угрозой европейской безопасности.
До начала СВО на Украине некоторые европейские чиновники также отмечали, что получение дополнительных объемов газа напрямую из России — положительный фактор для энергетической безопасности Европы: по их мнению, благодаря «Северному потоку — 2» Евросоюз смог бы выпутаться из российско-украинских газовых войн. В Кремле понимали, что угроза прекращения экспорта газа на Украину действенна именно потому, что это напрямую отразится на европейских странах. Если страны ЕС будут получать меньше российского газа через Украину, то у них будет меньше шансов оказаться заложниками споров между Москвой и Киевом. Вероятно, это было одной из ключевых причин, по которым Берлин так не хотел отменять проект.
Сложнее оказалось отмахнуться от американских опасений по поводу финансовых последствий «Северного потока — 2» для Украины. Киев остро нуждался в деньгах «Газпрома» — в частности, для борьбы с поддерживаемыми Россией сторонниками независимости Донбасса. Однако до того, как СВО на Украине заставила Европу пересмотреть отношения с Москвой, некоторые европейские политики полагали, что строительство «Северного потока — 2» в долгосрочной перспективе может оказаться выгодным для Украины: поскольку страна перестанет быть транзитным государством для экспорта российского газа, рычаги влияния Москвы на Киев значительно ослабеют.
На протяжении всей саги с «Северным потоком — 2» Берлину также нравилось думать, что он уже делает достаточно для поддержки Украины. В течение пяти лет до 2019 года Европейский союз являлся крупнейшим инвестиционным донором Киева: после присоединения Россией Крыма в 2014 году ЕС ежегодно направлял Украине в среднем 710 млн долларов — вдвое больше, чем США[390]. Европейские страны также поддерживали Украину на двусторонней основе. Общая помощь Германии Киеву в 2014–2019 годах составила более 1 млрд долларов.
Причины ввода Соединенными Штатами санкций против «Северного потока — 2» не выглядели убедительно в глазах европейцев, и это усиливало подозрения, что у Вашингтона имелись иные мотивы для срыва проекта. Некоторые страны — члены ЕС предположили, что они носят коммерческий характер: по их мнению, США пытаются увеличить экспорт в Европу американского сжиженного природного газа (СПГ). Чтобы поддержать эту точку зрения, европейские чиновники отмечали, что «Северный поток — 2» был одним из немногих вопросов, по которым у Владимира Путина и Дональда Трампа имелись разногласия; главным приоритетом американского президента всегда было увеличение экспорта США, даже если это означало введение принудительных экономических мер в отношении союзников — например, тарифов.
Заявления некоторых американских официальных лиц лишь подтвердили теорию Европы. Министр энергетики США Рик Перри заявил: «Соединенные Штаты вновь несут Европейскому континенту свободу {…}, и не в виде молодых американских солдат, а в виде сжиженного природного газа»[391]. Сенатор США Тед Круз, возглавивший борьбу против немецкого порта Мукран, согласился с этим мнением. По его словам, «для Европы гораздо лучше полагаться на энергию из США, чем подпитывать Путина и Россию, зависеть от России и подвергаться экономическому шантажу»[392].
Недавнее бурное развитие сектора СПГ в США еще больше укрепило подозрения Европы в том, что Вашингтон метил в «Северный поток — 2» ради увеличения экспорта американского газа. В 2019 году Соединенные Штаты занимали четвертое место в мире по экспорту СПГ[393] и претендуют на первое место в 2025 году. Однако в 2019 году Америка обеспечивала лишь малую часть европейского импорта газа, в то время как на долю России приходилось около 40 %[394]. Американские терминалы СПГ, расположенные на Восточном побережье относительно недалеко от Европы, имели достаточно свободных мощностей. С этой точки зрения Европейский союз представлял собой естественное поле битвы для американского и российского экспорта газа, и американские газовые компании стремились отвоевать долю российского рынка. Но если бы российский газ начал поступать еще и по «Северному потоку — 2», то американский СПГ Европе оказался бы не нужен.
Если бы газопровод ввели в эксплуатацию, то поставки по «Северному потоку — 2» с лихвой покрыли бы потребности Европы в газе на ближайшие десятилетия, не говоря уже о том, что российский газ гораздо дешевле американского СПГ. С этой точки зрения стратегия США, направленная на то, чтобы сделать все возможное для предотвращения строительства «Северного потока — 2», выглядит вполне обоснованной. Подобные рассуждения позволяют объяснить, почему США начали проявлять беспокойство по поводу этого газопровода только в 2017 году, когда к власти пришел Трамп, пообещавший сделать все возможное, чтобы США превратились в крупнейшего в мире экспортера СПГ.
Потенциальное использование Вашингтоном санкций для стимулирования экспорта СПГ в Европу также помогло экспертам энергетического сектора разобраться в одном интригующем аспекте американских мер в отношении России. Санкционные пакеты, принятые Конгрессом в 2019 году, грозили штрафными санкциями российским энергетическим проектам стоимостью свыше 250 млн долларов. Однако для российской газовой или СПГ‐инфраструктуры этот порог оказался гораздо ниже: конгрессмены установили его на уровне всего 1 млн долларов[395]. У многих наблюдателей создалось впечатление, что Вашингтон не слишком волнуется о санкциях в отношении российских энергетических проектов, если они не конкурируют с американским газовым экспортом.
История с «Северным потоком — 2», похоже, подтвердила давние опасения европейцев, что в некоторых случаях США не гнушаются использовать санкции для продвижения своих экономических интересов. Вашингтон категорически отрицает это, утверждая, что американские санкции в первую очередь наносят ущерб американским компаниям, не позволяя им вести бизнес в десятках стран. С этой точки зрения вторичные санкции США в отношении иностранных компаний — просто мелочь, которая меркнет по сравнению с теми ограничениями, которые приходится соблюдать американским фирмам. Целились США в «Северный поток — 2», чтобы увеличить экспорт американского СПГ, или нет — возможно, и не самый важный вопрос.
Сами по себе подозрения европейских союзников, что это может быть правдой, еще больше подчеркивают отсутствие доверия между двумя сторонами и еще сильнее нагнетают напряженность в трансатлантических отношениях. Такое развитие событий опасно. Подобная напряженность портит связи между Вашингтоном и европейскими столицами, мешая обеим сторонам взаимодействовать по другим вопросам, в частности по позиции России в преддверии СВО на Украине. Трещины в партнерстве выгодны только противникам США, в случае с «Северным потоком — 2» — той же России.
Как и в случае с советским газопроводом в начале 1980-х годов, американские санкции не смогли предотвратить строительство «Северного потока — 2». Предсказать такой ход событий было трудно. Однако Соединенные Штаты, вероятно, могли предположить, что эти меры уведут дискуссию от опасений Вашингтона по поводу газопровода и превратят ее в спор о легитимности и мотивах — реальных или предполагаемых — санкций США в отношении действий своих союзников[396]. Борьба против «Северного потока — 2» стоила Америке времени, сил и доверия. Все усилия американской дипломатии не смогли убедить европейских партнеров отказаться от газопровода.
Для Европы эпопея с «Северным потоком — 2» стала тревожным сигналом. Она четко обозначила, что Евросоюз должен быть готов к защите своих экономических интересов. В сочетании с другими параллельными событиями, такими как воздействие вторичных санкций США на европейские компании в Иране, история с «Северным потоком — 2» еще больше укрепила решимость Европы противостоять экстерриториальным мерам США. То, что американским санкциям не удалось сорвать проект, также выявило их пределы: подсанкционные государства не могли не заметить, что «Газпром» продолжал строительство газопровода, несмотря на американские меры.
Кроме того, решение США о введении односторонних санкций против «Северного потока — 2» создает опасный прецедент: как отреагирует Вашингтон, если Китай решит последовать его примеру и введет односторонние санкции против американских компаний? Соединенные Штаты склонны считать, что в нравственных спорах они всегда находятся на правой стороне. Нет никаких оснований полагать, что Китай не считает правильной свою позицию. Однако во многих случаях Вашингтон и Пекин расходятся во мнениях, что делает риск односторонних китайских санкций вполне реальным. Американский опыт единоличного введения ограничительных мер против «Северного потока — 2» не позволяет утверждать, что Китай не имеет права поступить при желании аналогичным образом.
III
Проблемы с санкциями
8
Обход санкций
Схемы друзей и врагов США
Летом 2020 года Конгресс США опубликовал доклад, в котором подробно рассказывалось о том, как богатые россияне годами уклонялись от американских санкций[397]. Это расследование показало, что близкие к Кремлю бизнесмены использовали непрозрачный и нерегулируемый американский рынок произведений искусства, чтобы получить доступ к финансовой системе США, пренебрегая санкциями[398]. Доклад произвел сенсацию в СМИ, поскольку это влечет колоссальные последствия: если попавшие под санкции россияне могли незамеченными покупать и продавать произведения искусства в Америке, то что еще они могли делать скрытно? Эффективны ли меры Вашингтона против Москвы, или их можно легко обойти?
Капитолий [399] уже давно обеспокоен тем, что меры против России, возможно, недостаточно надежны. Заказывая этот документ, законодатели стремились понять, как улучшить американские ограничения. Вначале расследователи из Конгресса решили рассмотреть лазейки в санкциях, например, использование неизвестных белорусских подставных компаний для сокрытия сделок с Россией. Проанализировав несколько сделок, исследователи сузили поле поиска, перейдя поближе к США — к американскому рынку произведений искусства. Здесь внимание Конгресса привлекла деятельность двух братьев — Аркадия и Бориса Ротенбергов.
Ротенберги — не мелкая рыбка: их совокупное состояние составляет более 3 млрд. долларов[400]. Они входят в ближайшее окружение президента России Владимира Путина: в подростковом возрасте Аркадий, Борис и Владимир ходили в один и тот же спортзал в Санкт-Петербурге заниматься дзюдо[401]. С тех пор они остаются близкими друзьями. Сегодня Ротенберги входят в число самых влиятельных бизнесменов России. Принадлежащие им компании энергетического сектора тесно сотрудничают с «Газпромом» — газовым гигантом, которому оказывает поддержку Кремль[402].
Деятельность Ротенбергов простирается далеко за пределы нефтегазового сектора. Когда в 2014 году в России проходили Олимпийские игры, российское правительство заключило со строительными компаниями братьев контракты на сумму около 7 млрд долларов[403]. После того как Москва присоединила Крым, фирма Аркадия построила мост, соединяющий полуостров с материковой частью России[404]. Через несколько месяцев после этого Борис подал в суд на финские финансовые учреждения, которые отказались открыть ему банковский счет, поскольку он находился под американскими санкциями, хотя на тот момент европейские еще не были введены (дело он проиграл)[405]. Когда братья не работают с Кремлем, они занимаются общим хобби — покупкой шедевров искусства.
Ротенберги оказались одними из первых российских бизнесменов, к которым США применили санкции в марте 2014 года[406]. Теоретически братья не могут совершать никаких сделок в США, с американскими контрагентами или с использованием американского доллара. Конгресс признал, что в течение семи лет Ротенберги неоднократно осуществляли все три указанных действия: начиная с 2014 года они потратили 91 млн долларов на покупку дорогих объектов искусства у американских аукционных домов. Бизнесмены не работали напрямую с Sotheby’s и Christie’s, а использовали посредников (действовавших в их интересах) и подставные фирмы (которые скрывали их личность).
Аукционные дома не совершали ничего незаконного. Американский рынок произведений искусства огромен — ежегодный объем продаж на нем составляет около 30 млрд долларов. Он также непрозрачен: американское законодательство не требует от аукционных домов проверять, кому будут принадлежать продаваемые предметы искусства; организаторы аукциона должны лишь убедиться, что под санкциями не находятся посредники, с которыми они имеют дело. Если аукционные дома задают дополнительные вопросы, посредники обычно отказываются отвечать. На усмотрение организаторов аукциона также остается вопрос, проводить ли проверку покупателей и продавцов на предмет отмывания денег. Даже если такие расследования и производятся, они мало что значат: аукционные дома могут проверить посредников, но не тех, кто за ними стоит. Личности покупателей и продавцов остаются в тайне.
История с Ротенбергами вызвала замешательство в Вашингтоне, но на самом деле результаты, которые дало расследование, не должны казаться неожиданностью. Пока США будут вводить санкции против богатых и влиятельных лиц, эти люди будут находить хитроумные способы обхода санкций с помощью находчивых юристов и бухгалтеров. Такие схемы увиливания от санкций, как правило, привлекают к себе много внимания, однако они не подрывают эффективность американских санкций, а, скорее, являются частью естественного порядка вещей.
Незаконные схемы, подобные той, что применили братья Ротенберги, не тревожат сон американских политиков. Они опасаются другого: за последние несколько лет увлечение Вашингтона санкциями привело к развитию механизмов, которые направлены на преодоление американских мер принуждения и поддерживаются на уровне государств. Как союзники, так и противники США открыто предпринимают шаги по уклонению от американских санкций, которые они нередко рассматривают как злоупотребление силой и властью. Эти механизмы ухода от санкций различаются, но их объединяет одно: все они направлены на создание альтернативных финансовых каналов в обход американского доллара.
В марте 2020 года в Москве состоялась встреча министров финансов стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Этот альянс редко попадает в заголовки западных газет, однако он имеет значительный вес: клуб единомышленников из развивающихся стран охватывает половину населения планеты и включает среди прочих такие крупные державы, как Китай, Индия, Пакистан и Россия. В ходе встречи министры приняли давно назревшее, на их взгляд, и, казалось бы, безобидное решение: они договорились ускорить процессы организации торговли в национальных валютах, таких как китайский юань, индийская рупия и российский рубль[407].
Министры финансов стран ШОС, договариваясь о создании механизмов для развития торговли в национальных валютах, преследовали четкую цель: готовиться к отказу от платежей в долларах США в попытке обойти американские санкции. Любая транзакция, осуществляемая в американских долларах, должна в какой-то момент пройти через американский банк, что делает ее уязвимой для санкций США. Министерство финансов США регулярно отдает банкам распоряжения о замораживании переводов, которые выглядят подозрительно или нарушают санкции. Многим членам ШОС, имеющим прохладные отношения с Соединенными Штатами, требовалось решить эту проблему.
Через несколько месяцев читатели российской статистики заметили необычную тенденцию: впервые в истории более половины расчетов в российско-китайской торговле осуществлялось не в долларах США, а в другой валюте[408]. Москва и Пекин остались верны своему слову и начали создавать альтернативную платежную систему; российские и китайские фирмы расширили использование рубля и юаня для международных операций. В обеих столицах это стало поводом для праздника: большая часть российско-китайской торговли оказалась неуязвимой для американских санкций. Путин сказал: «Мы не стремимся уйти от доллара. Это доллар уходит от нас»[409]. Однако у американских политиков причин радоваться не было. Такое развитие событий лишь подчеркнуло, насколько противники США заинтересованы в том, чтобы обходиться без доллара.
Самый простой вариант для стран, желающих защитить себя от риска попасть под американские санкции — совсем отказаться от доллара. Здесь лидирует Россия, где раньше долларами торговали на улице. В 2019 году российская государственная нефтяная компания «Роснефть» объявила, что во всех своих экспортных договорах будет использовать евро вместо доллара[410]. Глава «Роснефти» Игорь Сечин не пытался скрыть, что этот шаг направлен на обход американских санкций [411]. По его словам, «это вынужденная мера, направленная на защиту {…} от американских санкций»[412]. Однако лишь немногие международные компании имеют возможность отказаться от доллара США, как это сделала «Роснефть».
Глобальная роль доллара США основана не только на экономическом превосходстве Америки, но и на отсутствии финансовых каналов в других валютах. Большинство центральных банков не имеют прямых связей друг с другом, что делает невозможной торговлю в местных валютах. Не существует системы прямого обмена, скажем, индийских рупий на южноафриканские рэнды. Приходится использовать третью валюту, которой чаще всего является широкодоступный доллар США. Индийские рупии сначала конвертируются в доллары США, которые затем обмениваются на южноафриканские рэнды. Поэтому компаниям обычно целесообразнее выставлять друг другу счета непосредственно в долларах, подвергая при этом свои операции риску потенциальных санкций со стороны Соединенных Штатов. Однако ситуация быстро меняется.
Центральные банки по всему миру, особенно в развивающихся странах, стремятся снизить зависимость от доллара США, чтобы диверсифицировать свои финансовые связи и стимулировать использование собственной валюты — что, по их мнению, будет способствовать укреплению их международного авторитета. По мере того как Вашингтон развивает свой санкционный арсенал, многие руководители центральных банков также начинают остро ощущать риски, связанные с использованием доллара США. Возможно, опасность тут не сиюминутна, но вполне разумно принимать какие-то упреждающие меры на случай ухудшения отношений с Соединенными Штатами. Поэтому десятки стран мира ускоренными темпами разрабатывают государственные механизмы ухода от доллара.
Важное место в планах руководителей центральных банков, стремящихся уменьшить свою зависимость от доллара США, занимают двусторонние валютные свопы [413]. Подобные сделки позволяют центральным банкам напрямую обменивать свою валюту на валюту других стран, не прибегая к посредничеству доллара США (или любой другой валюты). Соглашения о валютных свопах оказались в центре внимания во время финансового кризиса 2008–2009 годов. Тогда Федеральная резервная система США согласилась на открытую линию для отправки долларов США в Европейский центральный банк. По обе стороны Атлантики центральные банки преследовали одну и ту же цель: избежать потенциально катастрофической нехватки долларов США в развитых экономиках.
Мировой финансовый кризис давно миновал, но американские, европейские и японские центральные банки в течение последнего десятилетия продолжали развивать валютные свопы. ФРС имеет действующие своп-соглашения с длинным списком развитых (в основном) экономик на сумму 450 млрд долларов[414]. В этом секторе появляются и развивающиеся рынки, включая Бразилию, Китай, Индию и Турцию. Это отражает их растущее влияние на мировую экономику и готовность выстраивать финансовые каналы, не зависящие от тех, что были созданы западными странами в период их господства над миром.
В авангарде этой тенденции находится Китай: Народный банк Китая заключил 60 соглашений по валютным свопам на сумму около 500 млрд долларов США, и теперь у него больше и количество своп-линий, чем у ФРС, и гораздо больше их общая сумма[415]. Китай подписал договоры с длинным списком как союзников, так и противников США, включая Австралию, Аргентину, Канаду, Новую Зеландию, Пакистан, Россию, Южную Африку, Южную Корею, Турцию, Объединенные Арабские Эмираты и Великобританию. США в этом списке не фигурируют, что неудивительно: Китай использует валютные свопы для обхода американских финансовых каналов. В краткосрочной перспективе Пекин желает избавиться от финансового контроля со стороны Вашингтона, а в долгосрочной — избежать угрозы американских санкций и ослабить доминирующее положение доллара США в мировой финансовой системе.
Энтузиазм Китая в отношении отказа от доллара США не является неожиданным, учитывая прохладные отношения между Вашингтоном и Пекином. Однако и союзники США, особенно в Азии, также в быстром темпе заключают соглашения о валютных свопах. В 2018 году Нью-Дели подписал с центральным банком Японии соглашение о мегасвопах — на сумму 75 млрд долларов[416]. Подобно Китаю, Индия и Япония открыто признают, что эти соглашения позволят им в случае необходимости обойтись без американских финансовых каналов.
Нью-Дели уже использовал свои соглашения о валютных свопах. В 2019 году Индия завершила переговоры о покупке у России зенитных ракет[417]. Для США это стало ударом: Вашингтон всегда обнадеживал себя, что Индия предпочтет американские комплексы Patriot или THAAD. При обычном ходе дел транзакция между Дели и Москвой на сумму 5 млрд долларов США повлекла бы за собой американские санкции: Вашингтон запрещает странам покупать военную технику российского производства. Однако Нью-Дели и Москва быстро нашли выход из положения.
Индия и Россия восстановили двустороннее соглашение о валютных свопах, заключенное еще в советские времена. Индия купила российские ракеты, используя комбинацию российских рублей и индийских рупий, обойдясь без доллара США и американских банков. Вашингтон с трудом переварил эту сделку: Индия, ключевой союзник США в Азии, вопреки американским санкциям покупает оружие у России, врага США[418]. Возможно, ухода Нью-Дели от доллара США недостаточно для того, чтобы избежать американских санкций, которые теоретически распространяются на все продажи военной техники российского производства (независимо от валюты счета). Однако многие правительства считают, что с помощью двусторонних валютных свопов они нашли способ обойти принудительные экономические меры Америки.
Отказ от доллара США в целях обхода американских санкций выглядит как быстрое решение проблемы для стран, не ладящих с США. Однако в отказе от доллара будет немного пользы, если они продолжат использовать западные финансовые каналы, такие как SWIFT. SWIFT — бесспорный лидер в сфере услуг обмена финансовыми сообщениями, кооперативное общество, объединяющее практически все банки[419]. Эта служба сообщений действует как мировой органайзер для финансовых учреждений, помогая направлять переводы в нужный банк по всему земному шару. SWIFT пронизывает весь финансовый мир: около 11 000 организаций, входящих в сеть кооперативного общества, отправляют друг другу около 440 сообщений каждую секунду, ежедневно обрабатывая платежи на сумму около 6 трлн долларов США[420].
Штаб-квартира SWIFT находится в Бельгии, однако эта организация должна поддерживать тесные связи с США: около 40 % платежей, обрабатываемых системой, выражены в американских долларах[421]. Если SWIFT хочет сохранить доступ к доллару, то ему ничего не остается, как сотрудничать с Вашингтоном и блокировать платежи, нарушающие американские санкции. В крайних случаях у SWIFT может не остаться другого выхода, кроме как разорвать все связи с подсанкционными странами. Так произошло в 2012 году, когда компания под сильным давлением США отключила от своей сети иранские банки. Отправка и получение денег для Ирана стали практически невозможными. Недруги США приняли это к сведению и занялись разработкой финансовых механизмов, не использующих SWIFT. Неудивительно, что лидером здесь стал Китай.
Спустя всего три года после того, как компания SWIFT закрыла Ирану доступ к своим системам, Китай объявил о создании собственной службы обмена финансовыми сообщениями CIPS, предназначенной для обработки международных платежей в юанях. В маленьком мире мирового банкинга этот шаг привлек большое внимание: в число учредителей вошли такие тяжеловесы, как BNP Paribas, Citi, Deutsche Bank и HSBC. Даже компания SWIFT предложила Пекину помощь в разработке CIPS[422]. Создавая этот механизм, Китай ставил перед собой две цели: способствовать интернационализации юаня и оградить китайские фирмы от потенциальных санкций США[423]. Побочная выгода: CIPS поможет также скрыть некоторые конфиденциальные операции от SWIFT (и Соединенных Штатов).
Несмотря на помпу, с которой об этом было объявлено, первоначальные надежды Китая на конкуренцию со SWIFT вскоре рассыпались в прах[424]. За весь 2016 год количество транзакций, обработанных CIPS, составило всего лишь 700 млрд долларов США, то есть примерно 10 % от ежедневного оборота SWIFT[425]. CIPS страдала от ряда проблем. Система объединяла всего 20 банков по всему миру и была непрактичной: работала всего 11 часов в сутки и не могла обрабатывать сделки по покупке ценных бумаг или инвестиционные потоки. Еще хуже, что многие банкиры отнеслись к CIPS как к кратковременному увлечению[426]. Международные банки десятилетиями используют SWIFT в качестве единственной службы обмена финансовыми сообщениями, и эта система прекрасно функционирует. Зачем финансовым учреждениям избавляться от того, что работает, чтобы пробовать новую, непроверенную схему?
Трудности, с которыми столкнулась система CIPS на начальном этапе, не остановили китайских политиков. Они продолжали убеждать финансовые учреждения присоединяться к новому механизму. По мере роста экономического влияния Китая азиатские банки начали подписывать такое соглашение, будучи уверенными, что CIPS со временем станет обязательной для тех, кто ведет бизнес с Пекином. Вскоре этой схемой заинтересовались и развивающиеся страны, получающие массу инвестиций из Китая, — например, ЮАР и Кения. В течение пяти лет CIPS подписала соглашения более чем с 40 африканскими банками — это больше, чем число финансовых учреждений, подключенных к CIPS в Северной Америке.
В конечном счете усилия Пекина окупились[427]. В 2021 году CIPS обработала уже транзакции на сумму свыше 12 трлн долларов[428]. Это по-прежнему лишь малая часть оборота SWIFT, но все же налицо семнадцатикратный скачок за пять лет. В настоящее время к системе подключено около 1300 банков в более чем 100 странах. Частью схемы стали и учреждения, против которых США ввели санкции: российский банк ВТБ, находящийся под американскими санкциями с 2014 года[429], присоединился к CIPS в 2016 году[430]. С тех пор в CIPS зарегистрировались еще два десятка российских банков, в том числе те, что были отключены от SWIFT после начала СВО на Украине[431]. Это полностью соответствует целям Пекина: предложить альтернативу SWIFT для тех стран, которые хотят или вынуждены обходить западные финансовые каналы[432].
Маловероятно, что CIPS когда-нибудь догонит SWIFT, учитывая, насколько глубоко бельгийская организация внедрилась в мировые финансовые каналы. Однако с помощью CIPS Китай готовится к тому дню, когда сможет обойтись без SWIFT. Как выразился Эсвар Прасад [433] из Корнеллского университета, «важно, что она есть»[434]. CIPS обладает и дополнительными преимуществами: нет сомнений в том, что китайские спецслужбы отслеживают все транзакции, проходящие через систему, что дает Пекину возможность наблюдать за финансовыми потоками по всему миру. Одновременно Китай создает возможность в долгосрочной перспективе отрезать страны от платежей в юанях и от китайской экономики[435]. Поскольку в начале 2030-х годов Китай станет крупнейшей в мире экономической силой, это даст Пекину решающие рычаги для продвижения своих интересов[436].
CIPS ориентирована на международные платежи, однако альтернативы SWIFT появляются и на национальном уровне. В 2016 году Центральный банк Индии запустил Unified Payments Interface (UPI) — систему внутренних платежей. Всего через четыре года система широко распространилась по всей Индии. В 2021 году UPI обработала почти 35 млрд транзакций на общую сумму около 1 трлн долларов[437]. В стране, где 40 % населения живет примерно на 3 доллара в день, подобный оборот — немалое достижение[438]. Как и CIPS, система не связана с американскими финансовыми каналами, что делает ее устойчивой к санкциям США.
Попытка Индии создать внутреннюю альтернативу SWIFT — не единичное явление. Аналогичные планы строит и Россия, еще одна страна БРИКС. В 2015 году в Москве появилась собственная платежная карта «Мир», призванная конкурировать с западными картами Visa и Mastercard[439]. Более 30 % выпущенных в России платежных карт используют эту систему, и все соответствующие операции обладают иммунитетом к проверкам и санкциям со стороны США[440]. В том же году Москва заставила Visa и Mastercard использовать для обработки операций внутри страны российскую структуру — Национальную систему платежных карт. Такая локализация, безусловно, стала дальновидным шагом Кремля: она обеспечила продолжение платежей по картам даже после ухода Visa и Mastercard из России в 2022 году.
В долгосрочной перспективе страны БРИКС строят планы по созданию собственных финансовых каналов под эгидой БРИКС. Спрос на такие системы высок, особенно в Москве и Пекине[441]. Похоже, существует гарантированный поток финансовых операций, которые могли бы проходить через такую систему. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в 2019 году отметил, что на страны БРИКС приходится более 20 % мирового притока прямых иностранных инвестиций[442]. Запуск платежных систем, принадлежащих БРИКС, произойдет не в одночасье, если вообще произойдет. Однако подобные механизмы могут стать судьбоносными для мировых платежей: они обойдутся и без доллара США, и без системы SWIFT, ограничивая сферу действия американских санкций.
Неудивительно, что страны БРИКС стремятся формировать собственные финансовые каналы. Даже если бы американских санкций не существовало, развивающиеся страны, вероятно, все равно бы стремились создавать собственные платежные системы ради усиления своей роли в мире. Однако санкции США, безусловно, подстегивают такие процессы. Для двух стран БРИКС — России и Китая — противостояние американским санкциям является вопросом экономического выживания. Для трех других — Бразилии, Индии и ЮАР — опыт Китая и России служит предостережением, подчеркивающим необходимость избегать зависимости от американских финансовых каналов.
Отдельные соглашения о валютных свопах и альтернативные платежные системы сами по себе не окажут большого влияния. В то же время в совокупности эти нововведения будут фрагментировать мировой финансовый ландшафт и постепенно подрывать доминирование американского доллара. Даже незначительное снижение доли операций, совершаемых с использованием доллара, может оказаться достаточным для снижения эффективности американских санкций. Возможно, американских политиков еще сильнее тревожит тот факт, что попытки обойти санкции предпринимают не только развивающиеся страны. Европейский союз, ближайший союзник Вашингтона, также успешно совершает шаги в этом направлении.
Недовольство Европы санкциями США длится уже несколько десятилетий. В 1980-х годах произошел инцидент с Сибирским трубопроводом. В 1996 году решение Соединенных Штатов о введении экстерриториальных санкций против Кубы, Ирана и Ливии углубило недоверие между обеими сторонами. Еще больше усилили напряженность предпринимаемые с 2017 года попытки Конгресса США ввести санкции против газопровода «Северный поток — 2», соединяющего Россию с Германией (ныне не действующего). Соломинкой, сломавшей спину верблюду, оказался выход президента Дональда Трампа из иранской ядерной сделки в 2018 году.
Решение администрации Трампа о повторном введении односторонних мер в отношении Тегерана показало, насколько глубоко зашел трансатлантический раскол в вопросе санкций. Трамп не являлся источником проблемы, он лишь привлек внимание к существующим вопросам. Для европейских лидеров президентство Трампа стало тревожным звонком: многие страны ЕС осознали, что больше не могут рассчитывать, что Америка всегда будет надежным союзником. Как европейские страны могут быть уверены, что в США не изберут очередного президента, который захочет снова сделать Америку великой за счет всех остальных?
Даже после избрания Джо Байдена мало что изменилось. Уже через несколько недель после его инаугурации некоторые высокопоставленные европейские дипломаты дошли до того, что стали публично призывать к запрету поездок тех американских официальных лиц, которые вводили экстерриториальные санкции, затрагивающие фирмы Евросоюза, к ответному замораживанию активов, которые Вашингтон держит в Европе, и даже к выдворению американских банковских учреждений из ЕС[443]. Подобные шаги были бы абсурдными: их крайне сложно (если вообще возможно) реализовать на практике, но при этом существует риск спровоцировать финансовый кризис. Тем не менее эти нереалистичные предложения демонстрируют ярость союзников из-за американских санкций. Несмотря на масштабное трансатлантическое сотрудничество после начала СВО на Украине в 2022 году, долгосрочная картина совместной работы в области санкций не выглядит многообещающей.
Справедливости ради следует отметить, что Соединенные Штаты также имеют претензии к санкциям ЕС[444]. Американские политики считают европейский подход узким и неэффективным[445]. Вашингтон обычно указывает на отсутствие общеевропейской санкционной политики и нежелание некоторых (хотя и не всех) стран ЕС активно применять ограничения[446]. Когда европейцы протестуют против слишком жестких мер США, американцы обычно отвечают, что главная проблема заключается в том, что европейцы никогда не относились к санкциям серьезно.
Евросоюз — сложный организм, состоящий из 27 государств-членов, которым нравится не соглашаться друг с другом. Санкции должны приниматься единогласно всеми странами-участницами, а этого не так просто добиться. К тому времени, когда все европейские столицы утверждают пакеты санкций, они, как правило, уже смягчены; каждое государство-член заинтересовано принять только те санкции, которые не идут во вред его отечественным компаниям (и избирателям). Кроме того, после принятия санкций странами-участницами они сами должны обеспечивать соблюдение введенных ограничений: не существует единого европейского агентства, отвечающего за реализацию санкций.
Применение санкций ЕС на уровне государств-членов также означает отсутствие европейского механизма для освобождения от санкций. На практике оказывается, что одни страны ЕС терпимее других при предоставлении исключений, и в результате реализация санкций ЕС не отличается единообразием в масштабах всего союза. Например, семь стран — членов ЕС, включая Францию и Германию[447], отменили санкции в отношении расположенных в ЕС дочерних компаний некоторых российских банков, попавших под европейские санкции после присоединения Россией Крыма[448]. К неудовольствию Вашингтона, европейские регулирующие органы заявили, что предпочтут создать масштабную лазейку для обхода санкций, нежели рисковать финансовой стабильностью Европы[449].
Американские чиновники также сетуют на то, что реализация санкций в Европе в целом проходит менее энергично, чем в Америке. Иногда Соединенные Штаты обнаруживают нарушение санкций в странах ЕС раньше, чем европейские спецслужбы. В 2013 году Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) разоблачило греческую схему обхода санкций против Ирана, которую не выявила Греция. Греческим гражданам и компаниям удалось тайно купить восемь крупных танкеров и контрабандой вывезти нефть из Ирана — в то время, когда и европейские, и американские санкции запрещали Тегерану ее экспортировать[450]. С тех пор американцы открыто задаются вопросом, действительно ли Европа серьезно относится к санкциям.
Явная готовность европейских судей отменять санкции тоже не обнадеживает Вашингтон: в 2016 году Европейский суд (ECJ) признал незаконными санкции ЕС в отношении Аркадия Ротенберга, одного из российских братьев, которые любят покупать в Америке дорогие предметы искусства. Суд заявил, что не смог найти убедительных доказательств причастности Ротенберга к присоединению Крыма. Американских политиков такое заключение озадачило: ведь пока европейские судьи обсуждали этот вопрос, компания Ротенберга строила мост, связывающий полуостров Крым с материковой частью России. (В 2017 году Европейский союз восстановил санкции в отношении Аркадия Ротенберга.)
Американские официальные лица также часто упоминают, что не могут найти ни одного громкого дела, когда европейские суды наказали бы нарушителей санкций[451]. Европейцы объясняют это тем, что применение санкций Евросоюзом не является публичным: судебные иски, связанные с санкциями, носят конфиденциальный характер. Однако опасения Соединенных Штатов вполне обоснованны. В целом Европейский союз использует санкции гораздо менее агрессивно, нежели США. Однако более мягкий подход Европы вряд ли наносит ущерб американским интересам и компаниям. Опасения Евросоюза по поводу американских санкций имеют другой масштаб: Европа рассматривает американские санкции как угрозу глобальной роли ЕС и европейским компаниям.
Брюссель считает, что американские санкции подрывают суверенитет Европы и доверие к ней на международной арене[452]. Распространение в последнее время вторичных санкций США означает, что европейские компании зачастую вынуждены ставить во главу угла соблюдение американских требований, а не законодательства ЕС. Для Европы это проблематично. Если европейские компании вынуждены соблюдать американские санкции в ущерб европейским законодательным директивам, то как же быть с внешней политикой Европы? Будут ли третьи страны заинтересованы в переговорах с Брюсселем, если в решениях, принимаемых европейскими компаниями, ведущую роль в действительности играет Вашингтон?
Поворотным моментом стало решение США в 2018 году повторно ввести санкции против Ирана, несмотря на громкие протесты европейских союзников. Чтобы защитить компании ЕС от санкций Вашингтона против Тегерана, Европа начала разрабатывать механизмы, направленные на обход американских ограничений[453]. Неординарный шаг для союзников США: до этого момента США и Евросоюз сотрудничали в разработке и реализации санкций. Сегодня же порой создается впечатление, что они находятся по разные стороны баррикад.
Вскоре после выхода Вашингтона из ядерной сделки Европейский союз объявил о решении разработать механизм избегания нарушений американских санкций. Для Европы это имело смысл как минимум по двум причинам. Блок хотел попробовать спасти ядерное соглашение с Тегераном. Возможно, еще важнее то, что Брюссель также намеревался поддержать европейские фирмы, которые не могли оставаться в Иране из-за угрозы американских вторичных санкций, даже если их бизнес в Исламской Республике был легальным с точки зрения Европы.
После почти годичных переговоров страны ЕС создали структуру INSTEX (аббревиатура для Instrument in Support of Trade Exchanges, Инструмент для поддержки торговых обменов)[454]. INSTEX — это первый кирпичик в том, что, похоже, со временем превратится в европейскую систему, позволяющую избежать американских санкций. Франция, Германия и Великобритания поддерживают эту схему: они полагают, что Соединенные Штаты не посмеют применить санкции к суверенным государствам, с которыми у них установились тесные отношения. Поддержка крупнейшими европейскими державами механизма, открыто направленного на обход американских ограничений, должна была стать тревожным сигналом для Вашингтона: это свидетельствовало о том, насколько сильно союзников США раздражают американские действия. Однако Вашингтон отмахнулся от INSTEX как от несущественной проблемы.
У американских политиков есть все основания не впечатляться системой INSTEX, которая, по сути, представляет собой современный вариант бартера. Эта схема функционирует как клиринговая палата для торговли между Европейским союзом и Ираном, не использующей доллар и идущей в обход системы SWIFT. Европейские компании, желающие экспортировать товары в Иран, получают оплату от европейских фирм, которым необходимо импортировать продукцию из Ирана. Аналогичная схема действует с иранской стороны. В итоге деньги не уходят ни из Ирана, ни из Европы. INSTEX не является банком. Этот механизм выступает лишь в качестве посредника между всеми сторонами: он состыковывает импортеров и экспортеров Европы и Ирана и ведет учет операций.
Возможно, на бумаге система INSTEX выглядит разумно, однако она имеет серьезные изъяны. Большинство европейских компаний не хотят использовать эту систему, опасаясь ответных преследований со стороны США. Систему INSTEX используют исключительно небольшие предприятия ЕС, которые либо работают в тени, либо не имеют своего представительства в США. Для этих компаний иранский рынок может являться важным источником дохода, необходимого для сохранения рабочих мест или загрузки производственных линий. При этом даже совокупные объемы торговли таких мелких фирм всегда будут оставаться каплей в море.
Еще одна проблема заключается в том, что INSTEX основан на бартере, поэтому для нормальной работы схемы необходимо, чтобы торговля между Евросоюзом и Ираном была сбалансированной. Однако это не тот случай: Иран импортирует из Европы больше, чем Европа из Ирана[455]. Если бы INSTEX охватывал торговлю энергоносителями, то эта проблема бы решилась: Европа могла бы с помощью этого механизма импортировать иранскую нефть (что запрещено американскими мерами, пока ядерное соглашение не будет возобновлено). Но пока INSTEX позволяет осуществлять сделки только с так называемыми гуманитарными товарами, например, продуктами питания или медикаментами, на которые американские санкции не распространяются. Используя INSTEX, Европейский союз не игнорирует американские санкции: система обрабатывает только те транзакции, которые соответствуют американским ограничениям.
Однако вопрос, работает INSTEX или нет, — возможно, не самое главное, на что здесь следует обратить внимание. INSTEX — это наиболее осязаемый символ разочарования Европы в американских санкциях. Пусть схема несовершенна, но это первая попытка союзников США создать официальный, поддерживаемый государством механизм обхода американских санкций. INSTEX существует всего несколько лет. Для создания эффективных схем может потребоваться несколько десятилетий. Как и в случае с китайской платежной системой CIPS, важно уже то, что INSTEX существует [456]. Бартерная схема — это лишь первый шаг для Евросоюза и признак того, что все еще впереди.
В 2021 году Брюссель нанес новый удар. Европейские лидеры подготовили программный документ, в котором заявили, что Европе необходимо «оградить себя от последствий незаконного экстерриториального применения {санкций}»[457]. Европейские политики не деликатничали с выражениями: они назвали экстерриториальные меры «неправомерными», осудив «краткосрочное преследование односторонних интересов конкретными субъектами»[458]. В соответствии с выводами этого доклада блок делает приоритетной задачей защиту от американских санкций[459]. Для достижения этой цели Евросоюз руководствуется тем же принципом, что и противники США: ему необходимо снизить зависимость от доллара США. Однако это легче сказать, чем сделать.
Представление о множестве предстоящих проблем дает энергетический сектор. Примерно 80 % европейского импорта энергоносителей оплачивается в долларах, хотя на США приходится всего 2 % этого импорта[460]. Зависимость Евросоюза от доллара в энергетическом секторе неудивительна: практически вся мировая торговля нефтью и значительная часть продаж газа осуществляется с использованием доллара, и вся финансовая база энергетических деривативов также опирается на доллар. Однако Европа считает, что для уменьшения зависимости от американской валюты ей необходимо инвестировать именно в энергетический сектор.
Изменение климата стимулирует развитие новых источников энергии, таких как водород. В этой области Евросоюз стремится установить глобальные ориентиры, опирающиеся на евро, — подобно тому, как мировая торговля нефтью базируется на долларе. Сосредоточение усилий на энергетическом секторе с целью расширения использования европейской валюты — разумная ставка. Европейский союз является крупнейшим импортером энергоносителей в мире[461]. В газовом секторе Европы доля контрактов, номинированных в евро, в период с 2018 по 2020 год удвоилась, достигнув двух третей. Отчасти это объясняется тем, что российский газовый гигант «Газпром», на долю которого приходилось около 40 % европейского импорта газа, начал заключать свои мировые экспортные контракты в евро, а не в долларах США[462] (разумеется, этот шаг был призван защитить «Газпром» от американских санкций).
Укрепление роли евро — лишь один из элементов стратегии Евросоюза по защите от американских санкций. Блок также планирует усилить механизмы защиты европейских компаний от экстерриториальных санкций. Европа собирается воскресить давно бездействующий закон о блокировании, который теоретически запрещает европейским компаниям соблюдать экстерриториальные санкции. В знак уважения к Вашингтону Евросоюз также намерен отреагировать на утверждения, что Европа несерьезно относится к соблюдению санкций. Блок договорился о создании общеевропейской базы данных для обмена информацией о принятых мерах. Специальное европейское агентство будет координировать исполнение санкций по всему блоку. Кроме того, национальные органы станут автоматически сообщать о нарушениях в Европейский суд (ECJ).
Планы Европы по расширению использования евро в энергетическом секторе вряд ли дадут результаты в течение многих лет или даже десятилетий. Неясно, как Евросоюз собирается убеждать компании отдать предпочтение европейским нормам перед американскими, учитывая неудачу INSTEX и хорошо задокументированное фиаско существующего блокирующего акта (чтобы уклониться от исполнения этого закона, европейские компании делают вид, что не заинтересованы в ведении бизнеса, скажем, с Ираном, и настаивают, что это не имеет абсолютно никакого отношения к санкциям). Однако последние шаги Евросоюза указывают на направление, в котором блок намерен двигаться в долгосрочной перспективе.
Европа выпустила свой документ о стратегической автономии накануне инаугурации Байдена. Это не случайность. Документ остался практически незамеченным в Вашингтоне, но попал в заголовки газет по всему Европейскому союзу. Послание Европы Соединенным Штатам было четким: четыре года правления Трампа убедили европейские правительства в том, что им следует перестать полагаться на американскую финансовую систему. Для Америки это верный признак грядущих проблем: если Европа и США не смогут сотрудничать в области санкций, то они потеряют свою силу.
Шаг за шагом и противники, и союзники США создают инфраструктуру для обхода американских санкций. Если Европейский союз, крупнейшая экономическая сила мира, возьмет на себя инициативу по созданию таких механизмов, ситуация может измениться быстрее, чем хотелось бы Соединенным Штатам. Европейский подход находит поддержку: интерес к INSTEX проявили Россия, Китай, Индия, Турция, Южная Корея и Япония[463]. Китай и Россия также присоединились к европейцам, чтобы снизить зависимость энергетического сектора от доллара США. В 2018 году Пекин приказал китайским банкам начать выставлять счета за импорт нефти в юанях[464]. В 2019 году Россия объявила, что стремится избавиться от доллара США при экспорте нефти и газа — тенденция, которую подстегнет СВО на Украине[465]. В совокупности эти шаги со временем неизбежно окажут влияние на энергетические рынки. Есть все шансы, что эти изменения перекинутся и на другие отрасли экономики.
В долгосрочной перспективе развитие поддерживаемых правительствами инициатив по снижению глобальной зависимости от доллара, а также рост числа двусторонних валютных свопов и альтернатив для SWIFT, вероятно, снизят эффективность американских мер принуждения. Ни одно из этих событий по отдельности не является кардинальной переменой, и поэтому американским политикам трудно осознать эту угрозу и еще труднее с ней бороться. Однако именно совокупное воздействие механизмов, не опирающихся на доллар, может оказаться более мощным, чем хотелось бы Америке. Это означает, что «золотой век» санкций Вашингтона, возможно, подходит к концу.
9
Подавление доллара
Развитие цифровых денег и других резервных валют
В 2019 году дипломаты, ученые и государственные деятели собрались в Гарвардском университете для проведения штабных учений[466]. Был предложен следующий сценарий: в недалеком будущем китайская криптовалюта оспорила глобальное господство доллара США, выбив почву из-под американских санкций. Хакеры похитили 3 млрд долларов у SWIFT — организации, обеспечивающей инфраструктуру для обработки платежей по всему миру. Этой эффектной операцией хакеры подорвали доверие к мировой финансовой системе, побудив людей обратиться к китайской цифровой валюте[467].
Тем временем Северная Корея использует китайские криптоденьги, чтобы ускользнуть от санкций и создать ядерное оружие, которое, по мнению ЦРУ, в течение трех-шести месяцев будет нацелено на американскую территорию[468]. Совет национальной безопасности США проводит экстренное заседание: что делать Вашингтону? Сценарий может показаться надуманным, но на самом деле это не так. Более того, многое из того, что в нем описано, уже происходило. Например, SWIFT вполне можно взломать: в 2016 году северокорейские хакеры использовали инфраструктуру организации для кражи 81 млн долларов со счета Центрального банка Бангладеш в США[469].
Остальная часть сценария, посвященная рискам, могущим возникнуть в случае появления китайской криптовалюты, также была достаточно правдоподобной. В 2020 году китайское руководство запустило суверенную криптовалюту — цифровой юань[470]. Как и в программе гарвардских штабных учений, Китай рассчитывает с помощью своей виртуальной валюты ослабить глобальное господство доллара США. Параллельно с этим гегемонию доллара может поставить под угрозу развитие «традиционных» валют, главными из которых являются (физический) юань и евро. Вместо валютного ландшафта, где доминирует доллар, может возникнуть фрагментированный ландшафт, подрывающий эффективность американских санкций. Если учесть, насколько важными являются санкции во внешнеполитическом инструментарии Вашингтона, ситуация грозит неприятно удивить американских политиков.
Может показаться, что криптовалюты — дело сложное, но их базовые принципы просты. Вместо того чтобы носить с собой наличные деньги или дебетовые и кредитные карты, люди совершают платежи с помощью денег, которые покупают онлайн. Все происходит виртуально: люди покупают и продают криптовалюты в Интернете, а физических криптоденег не существует. Еще одной ключевой особенностью криптовалют является то, что они не имеют никакого отношения к центральным банкам. Это означает, что виртуальные монеты не привязаны к какой-либо стране — как доллар к Соединенным Штатам или иена к Японии. Последняя особенность криптовалют заключается в том, что их пользователи скрываются за псевдонимами, что (теоретически) повышает уровень конфиденциальности.
Криптовалюты часто считают просто модным поветрием, однако такая оценка, похоже, все больше расходится с развитием событий. Совокупная стоимость десяти крупнейших криптовалют составляет около 1 трлн долларов США, что примерно равно размеру экономики Саудовской Аравии[471]. На данный момент самой важной криптовалютой в мире является биткойн — виртуальные деньги, объем которых достигает примерно 500 млрд долларов США. Она обретает все большую популярность в странах с нестабильной местной валютой (например, Аргентина), или испытывающих дефицит американских долларов (например, Нигерия)[472]. Среди других крупных игроков — Ethereum (эфириум), Tether и BNB. Большинство людей не слышало этих названий, но в долгосрочной перспективе они могут стать такими же привычными, как доллар США. Американский банк Citi считает, что биткойн вскоре может оказаться предпочтительной валютой для мировой торговли[473].
Для противников США криптоденьги, по-видимому, являются средством обхода санкций или ведения незаконной деятельности[474]. Иранские фирмы уже много лет используют криптовалюты для ускользания от санкций[475]. В 2014 году северокорейские хакеры похитили из банков по всему миру 1,3 млрд долларов (в обычных деньгах и криптовалюте)[476]. Пхеньян, вероятно, направил полученные средства на разработку ядерного и баллистического оружия. В 2016 году Москва расплатилась биткойнами за компьютеры, с которых позднее осуществляли взлом серверов Демократической партии и получили доступ к электронной почте кандидата в президенты США Хиллари Клинтон[477]. В 2017–2018 годах Северная Корея нанесла новый удар и украла около 500 млн долларов на пяти азиатских криптовалютных биржах[478]. После начала СВО на Украине в 2022 году Россия объявила, что готова принимать биткойны в качестве оплаты за экспорт нефти и газа. Однако идея, что криптовалюты представляют собой волшебное средство для обхода санкций и содействия незаконной деятельности, возможно, слишком преувеличена[479].
На практике криптоденьги не являются той панацеей, на которую надеются Тегеран, Пхеньян и Москва. Европейские преступники отмывают с помощью криптовалют около 4 млрд долларов в год[480]. Может показаться, что это много, но это всего лишь 3 % от общей суммы, которую ежегодно отмывают в Европе. Это указывает на первую (и, пожалуй, главную) слабость криптовалют. При всей шумихе торговля криптоденьгами остается по большому счету незначительным явлением; криптовалюты не могут сравниться с ликвидностью и объемами транзакций, которые обрабатывают обычные банки (около 10 трлн долларов США в день)[481].
Вторая проблема, с которой сталкиваются любители нарушать санкции, заключается в том, что псевдонимы, которые предлагают криптовалюты, не гарантируют анонимности. Вовсе нет. Все криптовалютные транзакции доступны для публичного просмотра, если только виртуальные деньги не используют передовые методы криптографии. Такими возможностями обладает монеро, второстепенная криптовалюта, которую Северная Корея предпочитает использовать для отмывания биткойнов [482] в неотслеживаемые криптовалюты[483]. Но это скорее исключение, чем правило.
Наконец, еще одной проблемой для подсанкционных государств является тот факт, что после некоторой раскачки Соединенные Штаты усилили контроль за криптовалютами. В 2018 году Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) добавило в свой санкционный список иранских физических лиц вместе с их криптовалютными адресами. Эти иранцы участвовали в более чем 7000 незаконных транзакций с биткойнами на миллионы долларов США[484]. В 2019 году в черный список OFAC попали и северокорейские отмыватели денег, которые использовали криптоденьги, чтобы избежать американского финансового надзора. В 2020 году ведомство пополнило список криптовалютными адресами российских хакеров, взломавших электронную почту Хиллари Клинтон.
В ближайшие годы возможности Министерства финансов США по отслеживанию незаконной деятельности с использованием криптовалют, несомненно, будут расти. Криптовалютные адреса вполне могут стать обычным элементом списков OFAC. Это плохая новость для противников Америки: у криптоденег останется лишь ограниченная ценность для незаметного ведения незаконного бизнеса. И тем не менее в исследовательских центрах, поддерживаемых Китаем, зарождается новая форма виртуальных денег. Ее создатели прилагают все усилия для того, чтобы она оставалась вне сферы влияния США.
Китайское руководство обратило свой взор на цифровые деньги, чтобы оспорить господство доллара США, но с определенной изюминкой: Пекин возлагает свои надежды на виртуальную валюту, поддерживаемую государством, — цифровой юань[485]. Интерес Китая к криптоденьгам не нов: уже в пятилетнем плане развития страны на 2016–2020 годы криптовалюты были названы одним из главных приоритетов, что позволило Центральному банку Китая в 2017 году открыть исследовательскую лабораторию по этой теме[486]. С тех пор этот исследовательский центр оформил более 130 патентов, что вывело Китай на первое место в мировом рейтинге по количеству патентов, имеющих отношение к криптовалютам[487]. Город Ханчжоу, расположенный недалеко от Шанхая, превратился в китайскую столицу всего, что связано с криптоденьгами. Только в этом городе инвестиции в криптовалютные компании достигли почти 2 млрд долларов США, причем 30 % этой суммы поступило от китайского правительства[488].
Усилия Китая по развитию криптоденег приносят свои плоды. В 2019 году эта страна начала выпуск собственных суверенных цифровых денег, что осталось практически незамеченным. Государственная криптовалюта отличается от обычной: все операции осуществляются онлайн, однако центральный банк Китая ведет учет всех транзакций, что позволяет коммунистическому руководству легко отслеживать их — вплоть до конкретных лиц или компаний. Цифровой юань по сути представляет собой виртуальную, но полностью прозрачную версию физических монет и банкнот Китая. Такие возможности контроля имеют первостепенное значение для Пекина.
Если в Китае исчезнут наличные деньги и платежные карты, все жители страны, включая приезжих иностранцев (и сотрудников американской разведки), для совершения платежей будут вынуждены пользоваться мобильными телефонами. Все транзакции будут фиксироваться и отслеживаться. Массивы персональных данных, которые генерирует криптовалютный юань, значительно расширят возможности китайских спецслужб. Вместо обеспечения повышенной конфиденциальности, которую могут предоставить некоторые криптовалюты, китайские криптоденьги помогут Пекину фиксировать каждый шаг каждого жителя Китая[489].
Пекин прилагает все усилия для развития этой схемы. Около 300 млн китайских граждан (почти четверть населения Китая)[490] уже используют цифровой юань в десяти городах[491], включая Пекин, Шанхай и Шэньчжэнь[492]. Пользователи могут снимать наличные, оплачивать счета и переводить деньги, используя номер мобильного телефона. В настоящее время для получения доступа к цифровым юаням в телефонном кошельке китайцам необходимо открыть цифровой счет в каком-нибудь коммерческом банке. Со временем центральный банк Китая вполне может принять решение о централизации этого процесса, отказавшись от посредников. Идея размещения денег в физическом банке устареет.
Китайские потребители, как правило, быстро осваивают новые формы цифровых платежей. Мобильные транзакции уже стали нормой в стране: на них приходится около половины продаж в физических магазинах и три четверти платежей в Интернете[493]. Alibaba и WePay, две гигантские китайские технологические компании, управляют платежными системами, которыми пользуются почти все китайские интернет-потребители[494]. С помощью цифрового юаня китайское руководство надеется повторить успех этих платформ, а затем превзойти их и вернуть себе полный контроль над финансовой сферой страны[495].
Описанная цель не столь фантастична, как может показаться [496]. Руководство страны решило использовать зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине для масштабного тестирования цифрового юаня [497], в том числе и на иностранцах[498]. Если предстоящая проверка покажет перспективность результатов, Китай планирует постепенно заменить все физические монеты и купюры виртуальными деньгами[499]. Пекин полагает, что цифровые валюты станут новой нормой, поскольку люди проводят в Интернете большую часть своего времени[500]. Американский банк Goldman Sachs согласен с этим; его аналитики считают, что в течение десяти лет цифровой юань привлечет 1 млрд пользователей[501].
В ближайшие годы к аналогичным схемам могут прибегнуть и другие государства. Многие страны, в том числе Венесуэла, Иран, Россия, Сингапур, Сальвадор, Швеция, Эквадор и Эстония, в той или иной степени разработали планы по запуску суверенной цифровой валюты. Однако у китайского коммунистического руководства будет огромное преимущество перед всеми остальными государствами: страна будет первопроходцем в этой области, что позволит Пекину превратиться в мирового лидера в области криптовалютных технологий и программного обеспечения.
Это поможет Китаю достичь второй цели — обеспечить глобальное распространение цифрового юаня[502]. Обслуживание толп китайских туристов станет для магазинов всего мира стимулом принять цифровой юань в качестве платежного средства. Однако планы Пекина по интернационализации цифрового юаня выходят далеко за рамки предоставления возможности китайским туристам расплачиваться криптоденьгами при покупке сувениров или предметов роскоши в Париже, Лондоне или Нью-Йорке.
Инфраструктурный проект Китая «Один пояс и один путь» включает в себя криптовалютный компонент, который позволит вести торговлю эфириумом, второй по масштабам криптовалютой в мире[503]. Пекин может потребовать, чтобы страны, поддержавшие эту инициативу, получали платежи в цифровых юанях. Впрочем, коммунистическому руководству Китая, возможно, будет незачем и требовать. Для компаний, работающих в этих странах, может оказаться привлекательной возможность быстрых транзакций с китайскими поставщиками с помощью мобильного телефона. Китайские рабочие, занятые на проектах инициативы «Один пояс и один путь», возможно, также обнаружат, что цифровой юань — это самый простой способ отправить деньги на родину.
В ближайшее десятилетие есть все шансы, что пекинская цифровая валюта привлечет мировые компании, ведущие бизнес с Китаем. Китайский центральный банк прощупывает почву: в 2021 году он начал сотрудничество со своими коллегами в Объединенных Арабских Эмиратах и Таиланде, чтобы посмотреть, как можно использовать цифровой юань для налаживания торговли[504]. Для многих экспортеров вполне разумно использовать в сделках с китайскими фирмами китайскую цифровую валюту: это быстрее и дешевле, чем визит в местный филиал обычного банка. Обеспечить спрос будет несложно: Китай уже сейчас является крупнейшим торговым партнером большинства стран мира[505].
Развитие цифрового юаня будет иметь далеко идущие глобальные последствия. Эта китайская виртуальная валюта будет работать вне традиционных банков и западных финансовых каналов, таких как SWIFT. В настоящее время мировая финансовая инфраструктура сосредоточена в Нью-Йорке, поскольку доллар США и американские банки играют доминирующую роль в мировой экономике. Однако криптовалюты не имеют никакого отношения к США, которые не являются движущими факторами таких инноваций: Федеральная резервная система считает, что «нет необходимости спешить» с созданием криптовалюты на основе американского доллара[506]. Со временем рост числа криптовалют, поддерживаемых государствами, будь то Китай или другие страны, может подорвать способность Америки устанавливать финансовые правила на планете.
Такие инновации, как криптовалюты, означают, что американский доллар может постепенно утратить свой гегемонистский статус. Центральный банк Китая не скрывает, что именно это является целью создания цифрового юаня; Народный банк Китая рассматривает свою цифровую валюту как важнейший инструмент, способный нарушить глобальную монополию доллара США[507]. Такие перемены не произойдут в одночасье, если вообще произойдут: китайский цифровой юань быстро развивается, но пока остается малозначимым явлением. Однако это даже усиливает опасность для американских политиков: медленные изменения зачастую трудно обнаружить, а политики редко стремятся бороться с теми угрозами, которые могут обрести остроту только спустя долгое время после их ухода с должности.
Китайская цифровая валюта — это всего лишь один из аспектов долгосрочной стратегии Пекина по борьбе с доминированием доллара. Пекин также пытается расширить использование (традиционного) юаня, и для этого у него есть серьезный базис. Китай — крупнейший мировой производитель и крупнейший экономический партнер более чем 120 стран[508] (в то время как у США таких стран всего 57)[509]. Рост экономики страны отличается устойчивостью: в 2020 году, в разгар пандемии коронавируса, Китай оказался одной из двух стран G20, где не произошло рецессии (второй была Турция). Несмотря на неопределенность из-за демографической ситуации, в начале 2030-х годов ВВП Китая, похоже, превысит ВВП США[510].
Последние тенденции в финансовом секторе свидетельствуют о растущей силе юаня. Мировой объем «редбеков» [511], составляющий около 40 трлн долларов[512], уже почти в два раза превышает объем гринбеков[513]. Еще десять лет назад китайские банки были практически незаметны на мировом рынке; сейчас же их активы, оцениваемые в 40 трлн долларов США, превышают активы американских и европейских банков[514]. В распоряжении Китая есть также серьезный финансовый козырь: он постепенно открывает для иностранных инвесторов свой рынок облигаций объемом 19 трлн. долларов — второй по величине в мире[515]. Инвестиционные фонды проявляют интерес: Китай — одна из немногих стран с низким уровнем риска, где процентные ставки значительно выше нуля.
Незаметные изменения показывают, что сфера действия юаня расширяется. В 2019 году Китай производил в юанях 15 % торговых расчетов, тогда как десятью годами ранее эта величина была близка к нулю[516]. Эта доля неуклонно растет [517], причем основной прирост платежей в юанях приходится на развивающиеся рынки, особенно в Азии, Африке и на Ближнем Востоке. Помимо этого, к редбекам прибегают даже некоторые развитые страны: Франция — давний противник американского доллара — 20 % своей торговли с Китаем ведет в юанях[518].
Китайская инициатива «Один пояс и один путь» будет способствовать дальнейшему росту платежей в юанях, особенно на развивающихся рынках. В 2019 году китайские компании инвестировали в проекты инициативы 15 млрд долларов США, четверть из которых была выплачена в юанях[519]. В долгосрочной перспективе все эти тенденции, вероятно, будут усиливаться, повышая мировую роль китайской валюты. Но для таких изменений потребуется время, и в ближайшей перспективе юань не несет угрозы монополии доллара. Однако Китай — не единственный источник конкуренции для американской валюты. Евросоюз также стремится укрепить на мировом рынке роль своих денег — евро.
Мало кто в Вашингтоне осознает, что евро используется в мировой торговле так же активно, как и доллар США: оба удерживают примерно по 40 % рынка[520]. Неплохой показатель для валюты, которой всего два десятка лет. Стремительный рост курса евро с момента его полного введения в обращение в 2002 году не должен удивлять. Европа является крупнейшим экспортным рынком для 80 стран и вторым по величине игроком в мировой торговле (после Китая, но выше Соединенных Штатов)[521]. Эта зона с единой валютой является мировым лидером по входящим и исходящим потокам иностранных инвестиций. Здесь расположены четыре из семи крупнейших мировых нефтяных компаний. Кроме того, блок располагает обширной и хорошо действующей банковской системой. Дополнительное преимущество для международных компаний состоит в том, что санкции ЕС не являются экстерриториальными: даже если компании, не базирующиеся в Евросоюзе, используют евро, они не обязаны соблюдать европейские санкции.
Эти факторы могут объяснить, почему доллар США и евро находятся наравне, когда речь идет о торговле — краткосрочной деятельности. Однако в сфере долговых обязательств и валютных резервов, которые обычно находятся во владении гораздо дольше, королем остается гринбек: в долларах США номинировано около 60 % мировых долговых обязательств и валютных резервов, в то время как в евро — примерно 20 %[522]. Это отражает проблему доверия: в течение последних двух десятилетий финансовые инвесторы часто полагали, что евро скоро исчезнет. Делать длительные ставки на достаточно новую валюту, которая иногда выглядела так, будто может потерпеть крах — слишком большой риск для многих инвесторов.
Новейшая история Европейского союза — это череда кризисов, включая греческую долговую эпопею, опасения по поводу устойчивости государственного долга Италии и совсем недавний Брексит. Кроме того, Евросоюзу не хватает бюджетного союза, что означает отсутствие солидарности между государствами-членами в финансовых вопросах. Учитывая высокий уровень задолженности многих южных стран ЕС, это может вызывать тревогу у осторожных инвесторов. Еще хуже то, что до недавнего времени не существовало общеевропейских государственных облигаций; управляющим фондами, желающим добавить европейские долговые обязательства в свои портфели, приходилось покупать отдельные облигации Франции, Италии, Германии, Испании или Португалии. Однако пандемия коронавируса означает, что все меняется.
Вспышка эпидемии поставила европейскую экономику на колени, высветив необходимость повышения сплоченности между более богатыми (северными) и более бедными (южными) странами-участницами. В 2020 году Европейский союз создал спасательный фонд в размере 900 млрд долларов, чтобы помочь слабым членам справиться с экономическим спадом этого года. Для финансирования фонда блок выпустит долговые обязательства со сроком погашения более чем через три десятилетия — в 2058 году. Помимо экономического эффекта, который влечет эта схема, она является мощным символом: государства — члены ЕС дают понять, что намерены держаться вместе в долгосрочной перспективе. Перед лицом столь сильных политических обязательств инвесторам все труднее утверждать, что евро может исчезнуть.
Этот спасательный фонд ЕС, вероятно, усилит глобальное влияние евро и в другом отношении: начнется объединение государственных долговых обязательств различных стран-членов. В октябре 2020 года появилась первая общеевропейская облигация на сумму 100 млрд евро [523]. Она имела огромный успех и привлекла самое большое количество заявок, когда-либо зарегистрированных на европейских финансовых рынках[524]. Это означает, что постепенно формируется европейский рынок облигаций, объем которого может сравняться с объемом долговых обязательств США[525]. Преобладание казначейских облигаций США в качестве мирового средства сбережения, вероятно, начнет уменьшаться.
Вызванные пандемией меры социальной дистанции также заставили Европейский центральный банк ускорить реализацию планов по созданию цифровой версии евро, следуя по стопам китайцев[526]. Кристин Лагард, председатель Европейского центрального банка (ECB), надеется, что цифровой евро удастся ввести к 2025 году[527]. Соблюсти такие амбициозные сроки, скорее всего, не получится. Однако направление движения Европы очевидно: блок хочет получить выгоду от того, что он стал первой западной державой, серьезно инвестировавшей в развитие цифровых валют. Со временем европейская цифровая валюта поможет союзу бросить вызов глобальной гегемонии доллара США[528].
Сегодняшнее господство доллара обусловлено несколькими факторами. Соединенные Штаты — это крупнейшая экономика мира. Американские компании играют ведущую роль в мировых цепочках поставок. Американские инвестиционные фонды обладают колоссальным международным влиянием. Нью-Йорк — главный финансовый центр планеты. Глубина и ликвидность американских финансовых рынков не имеют себе равных. Федеральная резервная система, Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) и Министерство финансов США устанавливают мировые финансовые правила. По всем этим причинам у доллара пока нет авторитетных конкурентов.
Американские политики давно уверились, что Соединенные Штаты всегда будут оставаться экономической сверхдержавой. Если исходить из этой предпосылки, практически нет шансов, что доллар может утратить свои позиции ведущей мировой валюты. В краткосрочной перспективе это вполне обоснованно: в ближайшее десятилетие угрозы господству доллара не предвидится, если только США не предпримут немыслимых на сегодняшний день действий — например, не вступят в прямой конфликт с Китаем. Однако долгосрочные перспективы доллара представляются не такими определенными.
Как сказал Марк Карни, бывший управляющий Банком Англии, «даже мимолетное знакомство с историей денежного обращения заставляет предположить, что этот {долларовый} центр не устоит»[529]. Карни знаком с поучительным примером того, как валюта может медленно терять свои позиции в мире — это британский фунт стерлингов. Медленное падение фунта началось в 1920-х годах, когда доминирование Британской империи в мире стало ослабевать; через 30 лет американский доллар заменил фунт стерлингов в качестве ведущей мировой валюты[530]. Нет никаких оснований полагать, что подобный сценарий не может повториться, причем в роли жертвы выступит гринбек. На деле многие факторы указывают именно на это.
Глобальное экономическое влияние Соединенных Штатов снижается. Американская экономика не сокращается, просто Китай и другие (в основном азиатские) развивающиеся страны двигаются гораздо быстрее. В 1950-х годах, когда доллар заменил британский фунт стерлингов в качестве ведущей мировой валюты, доля США в мировой экономике составляла около 30 %[531]. Сейчас доля Америки в мировой экономике вдвое меньше — около 15 %. К 2050 году в тройке крупнейших экономик мира окажутся Китай и Индия, при этом в рейтинге ВВП Соединенные Штаты, скорее всего, будут занимать второе место[532]. В середине века почти половина мировой продукции будет производиться в Азии. Доля Китая в мировой экономике составит почти 20 %, то есть на треть больше, чем сегодня у США[533].
Кроме того, Международный валютный фонд (МВФ) уже давно выступает с предупреждениями насчет долгосрочных перспектив развития американской экономики. Основная проблема заключается в том, что траектория роста государственного долга США выглядит неустойчивой[534]: обязательства Америки перед остальным миром составляют более двух третей от объема производства страны; такой уровень часто предвещает грядущий финансовый кризис[535]. Корпоративный сектор США также опасно перегружен заемными средствами. Неясно, как американским компаниям удастся выплатить горы набранных долгов. Помимо этого, МВФ обеспокоен значительным неравенством доходов в Америке, которое, судя по всему, в ближайшие годы еще больше усугубится.
Финансовых инвесторов беспокоят и другие, более насущные вопросы. Многие инвестиционные фонды сомневаются в степени независимости Федеральной резервной системы от политического вмешательства; эти сомнения подпитывались призывами администрации Трампа к ФРС стимулировать экономику. Инвестиционные фонды также считают отталкивающим фактором запутанную систему регулирования в Америке: и без того сложные федеральные законы и законы штатов могут противоречить друг другу, что затрудняет ориентацию в паутине финансовых директив. Ни одна из этих проблем сама по себе не может подорвать доверие к гринбеку. Однако в совокупности они снижают интерес к инвестициям в США.
Репутацию Америки подпортила и вспышка коронавируса. В конце весны 2020 года европейские страны обсуждали структуру фонда солидарности, а Китай занимался карантинными ограничениями. В то же время США стали глобальным очагом пандемии. Несмотря на быстрое развертывание вакцинации против коронавируса с конца 2020 года, именно в Соединенных Штатах от пандемии погибло больше всего людей[536]. Неудачная борьба с ковидом подорвала доверие к американским институтам и ослабила веру мира в способность Америки реагировать на кризисы. Крупнейшая экономическая держава мира хуже справилась с пандемией, чем многие другие страны, в том числе и гораздо более бедные.
То, как страна реагирует на какой-нибудь кризис, очень важно и практически всегда отражается на мировых финансовых рынках. После резкого роста доллара в начале пандемии он начал падать по отношению к евро — примерно с мая, когда стало ясно, что дела Америки плохи[537]. 2020 год оказался ужасным для доллара. Впервые в новейшей истории он утратил статус надежного средства сбережения: инвесторы отказались от него и перешли на золото. Прошлые предупреждения, что инвесторы однажды потеряют веру в гринбеки, похоже, становятся реальностью.
Дискуссия о долгосрочной роли доллара США как мировой резервной валюты часто ведется в черно-белых тонах. Предполагается, что в мире есть место только для одной резервной валюты. Если исходить из этого тезиса, то положение доллара США остается надежным — по крайней мере, на сегодняшний день. Однако в последние годы ситуация усложнилась. Мировой геополитический ландшафт фрагментируется. Китай, а также Россия все чаще бросают вызов сложившемуся после Второй мировой войны традиционному мировому порядку, в котором доминирует Запад.
Пандемия коронавируса ускорила тенденцию к фрагментации не только на геополитической, но и на экономической арене. На протяжении 2020–2021 годов вирус приводил к сбоям в мировых цепочках поставок, когда в целых регионах Китая и Европы вводились локдауны. В итоге все большее число транснациональных корпораций рассматривают возможность переноса своих производственных линий поближе к потребителям — чтобы повысить надежность поставок и устойчивость к будущим потрясениям; региональные цепочки поставок, обслуживающие Америку, Европу и Азию, вероятно, заменят кажущиеся ненадежными глобальные[538]. Это означает, что экономическая фрагментация будет усиливаться.
Валюты, вероятно, отразят такие геополитические и экономические тенденции, что приведет к появлению фрагментированного валютного ландшафта, в котором, возможно, найдется место нескольким мировым резервным валютам. При подобном сценарии доллар, евро и юань начнут функционировать параллельно друг другу, демонстрируя региональное присутствие: доллар США будет заправлять в Северной и Южной Америке, евро — в Европе и части Африки, а редбеку не найдется конкурентов в Азиатско-Тихоокеанском регионе и большей части Африки. В некотором смысле это будет возвращением к ситуации, сложившейся в XVIII и XIX веках, когда в качестве основных мировых валют сосуществовали британский фунт, голландский гульден и французский франк[539].
Изменения в составе валютных резервов по всему миру, как правило, являются первыми намеками на будущие тенденции. Для доллара все складывается не лучшим образом. В начале 2000-х годов центральные банки хранили в долларах более 70 % своих резервных активов, но в настоящее время эта доля снизилась до менее чем 60 %, что является минимальным значением за последние 25 лет[540]. Похоже, что центральные банки все больше стремятся диверсифицировать свои портфели резервов и заменить долларовые активы активами в евро и юанях. Этот сдвиг происходит медленно, тем не менее он идет[541]. Некоторые аналитики даже прогнозируют, что уже к 2030 году юань станет третьей по объему резервной валютой мира (после доллара США и евро)[542].
Здесь нет ничего фантастичного. В 2016 году МВФ включил юань в корзину ведущих резервных валют, наряду с долларом США, евро, иеной и британским фунтом стерлингов[543]. Уже более 70 центральных банков на планете держат часть своих валютных резервов в юанях. Есть все основания полагать, что в ближайшие десятилетия это количество будет расти. Зависимость от экспорта как основной движущей силы экономической активности Китая ослабевает — в частности, из-за вялого роста развитых рынков. Одновременно с этим население Китая стареет, а значит, меньше сберегает, что стимулирует рост потребления и импорта. В результате Китай вскоре станет чистым импортером капитала. Это должно повысить спрос на облигации в юанях со стороны мировых инвесторов и центральных банков.
Описанный сценарий вполне правдоподобен, однако до определенности здесь далеко. Одно дело — использовать валюту для торговли, то есть для краткосрочных операций. Другое дело — формировать стратегические валютные резервы: наиболее важным фактором является долгосрочное доверие к ценности выбранной резервной валюты. Пока многие инвесторы не до конца уверены в том, что стоимость юаня всегда останется стабильной. Возможно, инвестиционные фонды также опасаются вкладывать средства в китайские облигации из-за напряженности в отношениях между США и Китаем. Кроме того, либерализация китайских финансовых рынков может занять больше времени, чем ожидалось. Тем не менее тенденция очевидна: традиционно осторожные руководители центральных банков все больше ощущают необходимость диверсификации своих активов за счет доллара.
Глобальный охват американских санкций зависит от гегемонистской роли доллара. Если, скажем, Таджикистан введет санкции против стран и компаний, использующих таджикскую валюту, то эти меры не окажут существенного влияния на планету. Напротив, влияние санкций, распространяющихся на все компании, желающие использовать ведущую мировую валюту — доллар США, — колоссально. Однако нынешняя зависимость американских санкций от использования гринбека означает, что даже незначительного увеличения доли других валют на рынке окажется достаточно для ослабления эффективности американских мер.
Может возникнуть двойственный финансовый мир, в котором одни компании будут использовать доллар, а другие — нет. Это уже происходит. Одни китайские банки ведут бизнес в долларах и, соответственно, соблюдают американские директивы, другие не притрагиваются к американской валюте, чтобы оградить себя от требований Вашингтона. Европа идет по аналогичному пути. У большинства европейских банков нет иного выбора, кроме как сохранить доступ к американскому рынку. Но некоторые финансовые институты предпочитают отказаться от использования доллара. В то время как подавляющее большинство европейских банков держится подальше от Ирана, опасаясь попасть под санкции Вашингтона, существуют маленькие банки, которые скрытно обслуживают большую часть европейской торговли с Тегераном.
Возникновение такой фрагментированной мировой финансовой системы — в которой одни каналы контролируются Соединенными Штатами, а другие ускользают от пристального внимания Вашингтона — представляет собой серьезную угрозу для Америки. В ближайшие десятилетия такой сдвиг не произойдет (если произойдет вообще). Такой медленный темп перемен — не самая хорошая новость для США: подобную угрозу труднее осознать и ей сложнее противостоять. Последствия могут оказаться существенными. Иностранные компании начнут без проблем обходиться без доллара в своем бизнесе (в том числе и с врагами Америки). Возможно, еще сильнее тревожит тот факт, что если Северная Корея и другие государства-изгои получат доступ к развитым финансовым системам, за которыми Соединенные Штаты не имеют никакого надзора, то следить за распространением ядерного оружия станет еще сложнее.
На этом неприятности для Вашингтона не заканчиваются. Если американские компании будут вынуждены использовать другие валюты для ведения торговли за рубежом, то они окажутся уязвимыми перед введением экстерриториальных или вторичных санкций со стороны других крупных экономических сил, таких как Европейский союз или Китай. Учитывая экономическое влияние Европы и Китая, подобные санкции окажут большое отрицательное воздействие на американские фирмы, лишив их доступа к двум крупнейшим мировым рынкам. Возможно, многие иностранные компании, столкнувшись с выбором между ведением бизнеса с США с одной стороны и Европейским союзом и Китаем — с другой, предпочтут отказаться от американского рынка.
Европейские санкции, применяемые к американским фирмам, использующим евро или ведущим бизнес в Европе, будут иметь большое символическое значение. Евросоюз может счесть их привлекательными: они дадут рычаги влияния на Вашингтон. Как отреагируют Соединенные Штаты, если американским фирмам, не выполняющим требования Европы, будет закрыт доступ на европейский рынок? Да, на самом деле такой сценарий крайне маловероятен: Евросоюз выступает категорически против экстерриториального регулирования, которое, по его мнению, является незаконным с точки зрения международного права. Тем не менее история показывает, что в политике случаются развороты, даже если в краткосрочной перспективе они кажутся едва ли возможными.
Более вероятными выглядят санкции со стороны Пекина. Это новый тренд: еще два десятилетия назад коммунистическое руководство страны выступало против применения санкций, придерживаясь позиции невмешательства. Такая позиция объяснялась прагматическими соображениями. Когда Китай был незначительной экономической силой, ограничение входа на китайский рынок противоречило целям Пекина в области экономики и развития. Однако сегодня для многих международных компаний крайне важно иметь доступ к многочисленному среднему классу Китая. Это дает Пекину новую форму мощного рычага для достижения экономических, политических и внешнеполитических целей[544].
Коммунистическое руководство страны быстро продвигается в этом направлении. В 2011 году китайские официальные лица провели, казалось бы, безобидную встречу с представителями OFAC. Многие сотрудники американского ведомства до сих пор помнят ее: в течение нескольких часов китайцы подробно расспрашивали американцев о технических деталях американских санкций. Оказалось, что Китай разрабатывает собственное санкционное законодательство[545]. С тех пор китайские ученые и официальные лица опубликовали массу работ, в которых обсуждают, как могут функционировать китайские санкции и почему они представляют собой привлекательный инструмент. Вероятно, Китай со временем начнет применять эти новые законы, и основными целями санкций, скорее всего, станут американские компании.
Южная Корея является поучительным примером того, что может произойти, когда Китай решит наказать страну или ее бизнес. В 2016–2017 годах Пекин принял меры в ответ на размещение американских ракетных комплексов в Южной Корее. Южнокорейскому конгломерату Lotte они обошлись почти в 2 млрд долларов[546], а потери южнокорейской экономики в целом составили около 16 млрд долларов[547]. Эти меры, возможно, были для Китая лишь скромными пробными шагами. В будущем Пекин, вероятно, начнет использовать свое растущее глобальное экономическое влияние, чтобы китайские санкции оказывали воздействие не только на фирмы, работающие в Китае, но и на иностранные фирмы в других странах мира. Через несколько десятилетий размах китайских санкций может сравняться с масштабами американских.
В ближайшие годы Соединенным Штатам, вероятно, придется искать новые инструменты для замены недостаточно эффективных финансовых санкций. Американский аппарат принуждения может постепенно переключиться на меры, не опирающиеся на использование доллара. Очевидным претендентом здесь являются вторичные санкции: они направлены против транснациональных корпораций, которые не смогут выжить, не имея доступа к американскому рынку. Однако расширенное использование вторичных санкций приведет к дальнейшему ухудшению отношений с союзниками и подстегнет усилия иностранных государств по разработке механизмов обхода санкций. Это также может подтолкнуть Китай к разработке собственного режима вторичных санкций и применению таких санкций к американским (и, возможно, иностранным) компаниям.
Поскольку в нашем цифровом мире американские компании — например, Meta [548] (материнская компания Facebook, Instagram и WhatsApp), Google и Twitter — владеют огромными массивами конфиденциальных данных, можно ориентировать санкции на цифровые потоки. В этом случае последствия подобных мер будут одновременно и менее серьезными (здесь маловероятен дефицит товаров), и более опасными для противников США (сообщить сотням миллионов людей, что у них больше нет доступа к Facebook, — непростая политическая задача). Однако с учетом нынешнего доминирования американских технологических компаний в цифровой сфере реализация описанного варианта, скорее всего, навредит самому Вашингтону.
Последним вариантом замены финансовых санкций являются инвестиционные ограничения и экспортный контроль, особенно в отношении важнейших технологических товаров. В теории такое экономическое оружие выглядит привлекательно. Учитывая технологическое превосходство Америки, эти меры весьма эффективны. Кроме того, они опираются не на широкое использование доллара, а на экономическое влияние Америки, которое вряд ли сильно снизится даже в долгосрочной перспективе (если США удастся сохранить свое лидерство на технологическом фронтире). В последние годы Соединенные Штаты активно применяют в отношении Китая именно такие меры. Эта стратегия несет в себе значительные риски для китайской экономики, но еще более серьезные — для интересов США.
10
Технологичное будущее
Станет ли экспортный контроль санкциями завтрашнего дня?
Летом 2020 года в Калифорнии и Орегоне вспыхнули масштабные лесные пожары. Пожары в этом регионе — явление ежегодное, однако посреди разрушений и хаоса тысячи пожарных, сражавшихся с огнем, быстро уловили, что этот год отличается от прочих. Той весной не проводили контролируемые выжигания — важнейший инструмент предотвращения лесных пожаров. Имелась и еще одна проблема: отсутствовали беспилотные летательные аппараты (БПЛА), которые могли бы следить за тем, насколько быстро распространяется пламя. Если бы пожарные знали, почему не было контролируемых пожаров и почему не летали дроны, они бы, наверное, удивились. Причина не имела никакого отношения ни к лесам, ни к экологической политике, ни к многолетнему сокращению бюджета. Все упиралось в Китай.
Несколькими месяцами ранее администрация Трампа приказала американским государственным организациям прекратить использование эскадрильи дронов (насчитывавшей свыше 800 БПЛА), которые ранее помогали отслеживать пожары и проводить контролируемые выжигания по всей Америке[549]. Дроны работали прекрасно, но их изготовила китайская компания DJI[550]. Использование беспилотных летательных аппаратов компании DJI не является чем-то особенным: эта фирма выпускает более 70 % всех гражданских дронов в мире[551]. Однако администрация забеспокоилась, что БПЛА могут тайно передавать конфиденциальную информацию в Китай, позволяя Пекину видеть то, что наблюдают эти аппараты[552].
Компания DJI решительно опровергла эти заявления и приняла меры по переносу производства в США. Сотрудники Министерства внутренних дел предупреждали, что прекращение контролируемых выжиганий может привести к катастрофическим лесным пожарам. Однако администрация проигнорировала эти предупреждения и пошла еще дальше в реализации своей стратегии защиты от Китая: Вашингтон также приостановил закупку 17 высокотехнологичных систем под названием Ignis, которые помогают запускать контролируемые выжигания[553]. Сама технология была американской: тремя годами ранее правительство США включило систему Ignis в список лучших инноваций «Сделано в Америке»[554]. Однако имелась одна неприятность: системы Ignis включали компоненты китайского производства. Администрации сочла это слишком большим риском.
Решение о снятии с производства оборудования для отслеживания пожаров поставило под угрозу деятельность Управления по борьбе с природными пожарами: администрация не смогла найти альтернативных поставщиков систем контролируемого выжигания, не связанных с Китаем[555]. При нелетающих БПЛА и отсутствии систем Ignis Управление по борьбе с природными пожарами смогло осуществить лишь четверть запланированных на 2020 год операций по контролируемому выжиганию. Имелся запасной вариант — использовать самолеты, пилотируемые пожарными, но от него быстро отказались: он ставил под угрозу человеческие жизни при наличии безрисковой альтернативы.
Недоступность БПЛА наглядно проиллюстрировала далеко идущие последствия американо-китайского конфликта[556]. Она привела к катастрофическим результатам. Конечно, маловероятно, что использование дронов предотвратило бы пожары, возникавшие из-за редкого сочетания сильных ветров и экстремальной жары. Однако, возможно, это помогло бы снизить число погибших (около 40 человек) и уменьшить масштабы ущерба (составившего примерно 2 млрд долларов)[557]. Не слишком ли высока цена за снижение бездоказательных рисков, что Китай может использовать беспилотники для шпионажа над территорией США? Для Вашингтона ответ был однозначным: нет, не слишком.
Американские опасения по поводу технологического подъема Китая и связанных с ним промышленного шпионажа и киберворовства зародились в начале 2000-х годов. Они вышли на первый план в 2018 году, когда торговый представитель США опубликовал объемный доклад, в котором обобщил предполагаемые преступления Китая против Соединенных Штатов[558]. В документе подчеркивалось понимание Вашингтона, что китайской экономикой управляет не рынок, а государство[559]. По мнению американского правительства, экономическая стратегия Китая направлена на привлечение иностранных компаний, кражу их технологий и индигенизацию [560] с последующим выдавливанием этих компаний с китайского рынка. По мнению американских политиков, этот процесс включает в себя всего несколько хорошо документированных этапов.
Прежде всего китайское правительство заставляет мировые компании, желающие получить доступ на китайский рынок, создавать совместные предприятия с китайскими фирмами. Эти местные компании преследуют одну-единственную цель — выведать технологические секреты у зарубежных партнеров. Это хорошо известная проблема; по словам представителя Управления национальной контрразведки США, «представители Китая являются самыми активными и настойчивыми нарушителями в сфере экономического шпионажа»[561] (справедливости ради следует отметить, что США, вероятно, не особо отстают от них). В качестве альтернативы Китай может вынудить западные фирмы продавать ноу-хау своим китайским партнерам по смехотворно низким ценам.
Как только Пекин получает нужную ему технологию, китайские компании начинают ее воспроизводить. Это та самая анекдотичная ситуация, когда иностранные предприниматели обнаруживают, что рядом с ними открылась фабрика, как две капли воды похожая на их собственную. И, что странно, эта фабрика производит точные копии западной продукции. В Вашингтоне считают, что Пекин планирует в конечном счете вытеснить иностранные компании из Китая. Теоретически в этом есть смысл: как только китайские компании завладеют иностранными технологиями, Пекин, возможно, решит, что конкурирующим иностранным фирмам больше незачем оставаться на внутреннем китайском рынке [562].
Об этих недобросовестных действиях широко известно, но это лишь один из аспектов американской озабоченности по поводу Китая. В последние годы американское правительство также все больше беспокоится о том, что разрешение китайским технологическим компаниям работать на территории США или использование американскими государственными учреждениями технологий китайского производства ставит под угрозу национальную безопасность. Именно по этой причине на Западном побережье перестали летать БПЛА для контролируемого выжигания растительности. Однако проблема не ограничивается дронами. Утверждается, что все китайские высокотехнологические компании связаны с китайским государством, и их можно заставить тайно собирать данные о западных потребителях своей продукции.
На бумаге эти опасения выглядят обоснованными. Несмотря на отсутствие (публичных) сведений о подобных случаях, закон о национальной безопасности Китая может вменить китайским компаниям, работающим в США, сбор информации об американских гражданах или предприятиях и отправку ее в Пекин. У китайских компаний не остается другого выбора, кроме как сотрудничать с Пекином; согласно законодательству Китая, они не имеют права оспаривать такие запросы[563]. Многие американские компании уже всерьез задумываются об этих проблемах. Так, например, технологические поставки для Google и Facebook [564] обязаны быть не связанными с Китаем[565].
С этой точки зрения особенно явную угрозу представляют вышки сотовой связи китайского производства, установленные вблизи правительственных объектов — например, федеральных учреждений или военных баз. Именно в этом заключается суть дискуссии вокруг участия Пекина в глобальном развертывании телекоммуникационных сетей 5G. «Ястребы» считают, что Китай может использовать эту инфраструктуру для наблюдения за секретными объектами. Сторонники Китая не преминули заявить, что такие опасения носят теоретический и надуманный характер. Однако прецеденты имеются: в двух случаях[566] Китай обвиняли в шпионаже за штаб-квартирой Африканского союза в Эфиопии. Пекин и китайские компании, подозреваемые в причастности к этим событиям, отвергли обвинения, серьезность которых Африканский союз также (хотя и необъяснимо) преуменьшил[567].
Еще более тревожным выглядит в глазах американских спецслужб наихудший сценарий развития событий. Некоторые эксперты опасаются, что установка на территории США телекоммуникационного оборудования китайского производства даст возможность Пекину отключить американские телефонные сети или Интернет[568]. Большинство аналитиков считают, что в действительности это неосуществимо. В любом случае это кажется маловероятным: ведь при крахе американской экономики рост Китая прекратится. Если Китай пойдет на такой крайний шаг, то у него появятся долгосрочные проблемы с тем, чтобы убеждать другие страны в необходимости покупки китайского телекоммуникационного оборудования. Но если США и Китай окажутся втянутыми в прямой военный конфликт, например из-за Тайваня, Пекину будет нечего терять.
Проблемы, связанные с Китаем, выдвинулись на первый план при Дональде Трампе, однако с ними не справятся и при президентстве Джо Байдена (и после него). Трамп не вызвал никаких изменений в отношении Пекина; несмотря на его патетические заявления, он лишь выявил сдвиг консенсуса по отношению к Китаю внутри американского истеблишмента[569]. После многих лет дебатов и надежд на то, что китайское руководство выполнит свои обязательства перед Всемирной торговой организацией (ВТО), демократы и республиканцы сегодня соглашаются, что Китай и США являются конкурентами. В Вашингтоне сходятся во мнении, что шансы на улучшение отношений между двумя странами в ближайшие десятилетия невелики[570]. Для Соединенных Штатов Китай больше не является полезной и дешевой мировой фабрикой.
Обе партии в американских коридорах власти разделяют общую точку зрения: Китай разворачивает обновленную версию экономического империализма, подобно Великобритании в XIX веке или Японии после Второй мировой войны. Вашингтон считает, что он должен остановить Пекин на этом пути, чтобы сохранить за собой роль единственной мировой сверхдержавы[571]. Некоторые американцы доходят до того, что рассматривают американо-китайское столкновение как знаковое противостояние — наравне с борьбой с бывшим Советским Союзом или исламистским террором. Возможно, реальность не столь драматична. Противостояние между Америкой и Китаем — это борьба за экономическое доминирование между нынешней экономической сверхдержавой и ее развивающимся конкурентом.
Неудивительно, что в этой экономической войне Соединенные Штаты стремятся использовать все формы экономического давления. Администрация Трампа ввела тарифы на американский импорт из Китая (объемом 360 млрд долларов) [572]; Байден дал понять, что не собирается их отменять[573]. США также наложили санкции на китайских лиц, причастных к нарушениям прав человека как в отношении уйгурского меньшинства в Синьцзяне, так и в отношении участников продемократических протестов в Гонконге. В финансовой сфере американские законодатели подумывают об исключении акций китайских компаний из списков на американских фондовых биржах (их объем превосходит 1 трлн долларов)[574]. Конгресс также рассматривает вопрос, чтобы запретить фонду Thrift Savings Plan, управляющему пенсиями миллионов сотрудников федеральных органов власти, инвестировать в китайские компании[575].
Принятие столь жестких мер в отношении Китая имеет весьма большое значение. Соединенные Штаты уже привыкли применять экономические санкции, однако на этот раз они накладываются не на государство-изгой вроде Северной Кореи, Сирии или Венесуэлы. На этот раз американские санкции направлены против демографического гиганта, постоянного члена Совета Безопасности ООН и второй по величине экономики мира (в начале 2030-х годов Китай станет крупнейшей экономикой)[576]. Санкции США против Китая также оказывают непосредственное влияние на уровень жизни почти 2 млрд американских и китайских граждан; при введении тарифов счет почти всегда оплачивают потребители[577]. Однако в реальности в общей картине мира эти меры остаются скромными.
Тарифы наносят ущерб потребителям, но их можно отменить одним росчерком пера. Финансовые санкции в отношении китайских физических лиц не особо вредят, поскольку практически все они не имеют связей с США. Угрозы исключить китайские компании из списка Нью-Йоркской фондовой биржи являются всего лишь символическими: эти фирмы просто привлекут капитал в других местах, например, в Лондоне, Токио или Гонконге, что еще больше ослабит лидерство США в мировых финансовых центрах. Наконец, Пекин не станет нервничать из-за планов Конгресса запретить сотрудникам американских федеральных органов инвестировать средства своих пенсионных фондов в китайские компании: американские инвесторы владеют лишь малой долей китайских акций.
Сдержанность Америки указывает на то, что в случае с Китаем финансовые санкции остаются маловероятными. Введение санкций против крупнейших китайских банков и компаний или даже запрет на использование доллара США нанесли бы Пекину серьезный удар. Одновременно такие меры дестабилизировали бы мировую экономику. Это объясняет, почему американские политики никогда всерьез не рассматривали этот путь: они знают, что инициирование потенциального финансового кризиса причинит Вашингтону не меньший ущерб, чем Пекину[578].
Китай — это не Иран, не Венесуэла и даже не Россия. Экономика этой страны стала слишком крупной, чтобы Америка могла применять к ней санкции из своего обычного арсенала. Для отстаивания своих интересов в борьбе с Китаем Америке нужно нечто другое. Конфронтация между США и Китаем разворачивается в трех областях, от которых зависит экономическое влияние в наши дни: торговля, финансы и технологии. Соединенные Штаты, видимо, попробовали все возможные торговые инструменты (в основном тарифы), которые можно использовать против Китая; финансовые санкции представляются крайне маловероятными. Единственный оставшийся вариант для Вашингтона — сосредоточить усилия на технологическом секторе.
В 2016 году китайское руководство объявило, что в течение десяти лет планирует потратить 150 млрд долларов на развитие китайской полупроводниковой промышленности[579]. К тому моменту американо-китайский конфликт всерьез еще не разгорелся, однако заявление Пекина вызвало тревогу в американском оборонном ведомстве. Американские эксперты предупреждали, что планы Китая по расширению своего присутствия в полупроводниковом секторе ставят под угрозу национальную безопасность Америки: через несколько десятилетий китайские фирмы смогут производить более совершенные чипы, нежели микросхемы производства США. В итоге китайские ракеты, лазеры или системы ПВО могут стать самыми совершенными в мире.
Полупроводниковые устройства, которые также называют компьютерными чипами, микросхемами или интегральными микросхемами, являются «мозгом» всех современных высокотехнологичных устройств[580]. Эти компоненты в 2000 раз тоньше человеческого волоса, но в современной экономике, зависящей от высоких технологий, они так же важны, как нефть, газ или уголь. Без микросхем не могут работать практически все современные устройства, включая мобильные телефоны, компьютеры, самолеты, поезда, серверы, планшеты, кардиостимуляторы, автомобили, ветряные турбины и даже рисоварки. Без полупроводников не существовало бы Интернета, телекоммуникационных сетей и электростанций.
Полупроводники играют важнейшую роль и в военном секторе. Пусть на оборонную промышленность приходится лишь незначительная часть их мирового производства, однако истребители, подводные лодки и ракетные комплексы нашпигованы микросхемами[581]. Как сказал бывший заместитель министра обороны США по научным исследованиям и инжинирингу Майкл Гриффин, «превосходство в технологиях {микросхем}… является ключом к сдерживанию или победе в будущих конфликтах»[582]. Если китайские возможности в сфере полупроводников превзойдут американские, Соединенные Штаты могут потерять свое военное превосходство[583].
Широкое распространение товаров, основанных на полупроводниках, означает, что мировой сектор микросхем разросся до гигантских размеров: годовой объем продаж здесь составляет около 600 млрд долларов (это больше, чем ВВП Швеции, Ирландии или Израиля)[584]. Похоже, что в ближайшее десятилетие этот сектор продемонстрирует рост на двузначное число процентов; экономика завтрашнего дня будет опираться на Интернет вещей (IoT), сотовые телефоны и высокоскоростные телекоммуникации, и все эти области потребляют огромное количество компьютерных чипов. Страна, которая будет контролировать технологии и ноу-хау для производства новейших полупроводников, обретет огромное экономическое и политическое влияние.
Полупроводники — ахиллесова пята китайской экономики. Ежегодно Пекин закупает полупроводники иностранного производства на сумму более 300 млрд долларов США, что делает чипы крупнейшей статьей китайского импорта, намного превосходящей по стоимости нефть[585]. Это отражает тот факт, что китайские заводы импортируют 85 % микросхем, необходимых им для производства электронных товаров[586]. Большинство этих полупроводников производится по американским технологиям. Поэтому экспортный контроль оказывается для Вашингтона идеальным инструментом, чтобы лишить Пекин американских инноваций и ноу-хау в производстве полупроводников. Подобные ограничения действуют аналогично финансовым санкциям: они направлены на ограничение доступа противников Америки к основным товарам американского производства — доллару в случае финансовых санкций или технологии производства компьютерных микросхем в случае экспортного контроля, — которые стали настолько важными, что немногие страны могут обойтись без них.
Вашингтон знает, что в полупроводниковом секторе у него есть серьезный козырь: практически каждая микросхема в мире так или иначе связана с США — будь то разработка американского программного обеспечения, производство с помощью американского оборудования или проверка с применением американских инструментов[587]. Это неудивительно: Соединенные Штаты — место рождения полупроводниковой промышленности. Она возникла в 1950-х годах для удовлетворения растущих технологических потребностей американских вооруженных сил, когда началось противостояние с Советским Союзом. Спустя 70 лет стоимость американских фирм, производящих микрочипы, превысила 1 трлн долларов[588]. Проще говоря, Америка доминирует в этой области[589].
Американские фирмы производят всего лишь около 10 % компьютерных микросхем, продаваемых в мире. Главные мировые фабрики интегральных микросхем расположены в Азии — в основном на Тайване и в Южной Корее[590]. Однако горстка американских компаний контролирует начальные стадии цепочек поставок. Прежде чем произвести чип, необходимо пройти три этапа: создать программное обеспечение для проектирования микросхемы, разработать полупроводники с помощью этих компьютерных программ и изготовить оборудование для производства и тестирования микросхем[591].
Три американские компании — Cadence Design Systems, Synopsys и Mentor Graphics — контролируют 85 % рынка программного обеспечения для проектирования микросхем, являющегося первым шагом в создании полупроводниковых чипов[592]. По мнению представителей отрасли, эти компании незаменимы: практически все полупроводники в мире были разработаны с использованием программного обеспечения одной из этих американских компаний[593]. Только Cadence Design Systems и Synopsis способны предложить комплексные всеобъемлющие решения для сложных проектов. При этом поклонники Mentor Graphics гордятся ее лучшими инструментами для разработки в области цифровой схемотехники.
Компании, участвующие во втором этапе проектирования микросхем, тоже подчиняются американским правилам. На этом этапе инженеры, используя программное обеспечение компаний Cadence Design Systems, Synopsys и Mentor Graphics, составляют карту всех компонентов данной микросхемы, а также инструкции по производству для фабрик. Британская компания Arm, которую американская Nvidia безуспешно пыталась купить в 2020 году, обеспечивает такую документацию примерно для 90 % микросхем по всему миру[594]. Arm ощущала американский экспортный контроль задолго до того, как Nvidia объявила о своем намерении приобрести ее за 40 млрд долларов; эта британская компания всегда была широко представлена в США, а значит, ей требовалось соблюдать американские правила. Помимо Arm, лидерами в этом секторе являются американские компании Qualcomm и Broadcom.
После того как микросхема спроектирована, наступает последний этап перед ее изготовлением и тестированием — подбор сложных промышленных инструментов, которыми оснащены фабрики микросхем. И здесь лидерами рынка снова являются американцы: Applied Materials, Lam Research и KLA-Tencor контролируют почти половину рынка оборудования для производства полупроводников[595]. Еще две фирмы — нидерландская ASML и японская Tokyo Electron — занимают треть рынка на двоих[596]. На бумаге иностранные фирмы, такие как ASML или Tokyo Electron, не обязаны соблюдать правила американского экспортного контроля, поскольку он распространяется только на компании США[597]. Однако на практике эти международные компании знают, что Соединенные Штаты могут очень сильно давить на них, вынуждая подчиняться ограничениям Вашингтона.
Доминирование США в полупроводниковом секторе распространяется и на другие узкоспециализированные звенья производственной цепочки: американские поставщики контролируют около 80 % рынка малоизвестных, но необходимых технических процессов: травление, контроль кристаллических пластин для чипов, химическое осаждение паров, быстрая термическая обработка, химико-механическая планаризация [598] и метрология[599]. Та же картина и в сфере материалов и химикатов, используемых фабриками на своих производственных линиях: здесь тоже доминируют американские компании, такие как 3M, Corning, Cree, Honeywell и Rogers.
В процессе производства микрочипа обычно участвуют несколько специализированных компаний, что, в свою очередь, порождает сложные цепочки поставок[600]: в среднем американские полупроводниковые фирмы работают примерно с 16 000 поставщиков[601]. В то же время некоторые крупные технологические предприятия предпочитают разрабатывать, производить и тестировать полупроводники с использованием собственных программ, технологий и производственных линий. На рынке доминируют пять таких «интегрированных производителей» (IDM) — Samsung, Intel, TSMC, Qualcomm и Apple, и их годовая выручка превышает годовую выручку 249 конкурентов, вместе взятых. В секторе IDM тоже заправляют США: три гиганта из пяти — Intel, Qualcomm и Apple — являются американскими[602]. Два других — южнокорейская компания Samsung и тайваньская TSMC — базируются в странах, являющихся близкими союзниками США, что делает их чувствительными к американским законам, регулирующим экспорт.
Вашингтон осознает, что меры, ограничивающие доступ Китая к американским полупроводниковым технологиям, имеют все шансы нанести удар по технологическим амбициям Пекина, если учесть доминирующее положение Америки в секторе микросхем. В 2018 году Конгресс приступил к практической реализации этой стратегии, без лишнего шума приняв целый водопад нормативных актов, призванных отсечь Китай от американских ноу-хау[603]. Враждебные действия начались с того, что законодатели предписали Министерству торговли взять под контроль экспорт «перспективных и фундаментальных» технологий[604]. Это стало первым шагом к возрождению механизмов экспортного контроля времен холодной войны. Но если в случае с бывшим Советским Союзом эти меры в основном относились к экспорту оборонной продукции, то нынешние ограничения распространялись на гражданский высокотехнологичный сектор США. Китай в актах Конгресса не упоминался, но законодатели имели в виду исключительно его.
В этом законе было больше болтовни, чем реальных угроз [605]. Во-первых, Конгресс не смог определить, что такое «перспективная или фундаментальная» технология, предоставив Белому дому возможность поразмышлять над этим вопросом[606]. Полупроводниковые схемы были очевидными претендентами на это звание, однако законодательство оставляло возможность для интерпретации. Имелась и другая проблема. Согласно формулировке законодателей, меры по контролю за американским экспортом могли применяться только к технологиям, которые «имеют важное значение для национальной безопасности Соединенных Штатов». И снова это было проще сказать, чем определить, и, конечно же, определение дало повод для споров. Впрочем, установленный Конгрессом контроль над «перспективными и фундаментальными» технологиями — это только начало.
Спустя несколько недель Конгресс нанес новый удар, ужесточив законодательную базу для тщательной проверки иностранных инвестиций в США[607]. Законодатели решили расширить определение понятия «национальная безопасность»[608]. Они также включили миноритарные инвестиции в списки той иностранной собственности, которую Белый дом может контролировать или даже блокировать[609]. И снова в ходе обсуждения в Конгрессе Китай не упоминался. Однако очевидной (если не единственной) целью этих обновленных директив были китайские инвестиции в американские технологические компании Кремниевой долины.
Капитолий полагал, что лишение Китая возможности покупать американские технологические стартапы замедлит инновационное продвижение Пекина. Справедливости ради следует отметить, что китайские инвестиции в США и так обрушились из-за напряженности в торговых отношениях: в 2018 году они составили всего 5 млрд долларов, уменьшившись почти в шесть раз по сравнению с 2017 годом[610]. В результате принятые законы, вероятно, имели лишь ограниченное влияние[611]. Однако американские законодатели понимали, что посылают Пекину четкий сигнал: «Мы следим за тем, что вы делаете, и намерены предпринять шаги, чтобы сразу же остановить вас».
Меры Конгресса по тщательному изучению американо-китайских связей в технологическом секторе остались практически незамеченными. Но в мае 2019 года удар по китайским технологическим компаниям нанесла администрация Трампа, и эта атака оказалась гораздо более резонансной. Администрация обратила свой взор на китайского телекоммуникационного гиганта Huawei. Министерство торговли включило эту китайскую компанию и десятки ее дочерних предприятий в так называемый Entity List (Список юридических лиц) [612], заявив, что Huawei нарушила санкции США против Ирана (что китайская компания отрицает)[613]. На практике этот шаг был равносилен введению экспортного контроля в отношении Huawei: американским компаниям запретили продавать китайской корпорации высокотехнологичные продукты без лицензии, которую — как и большинство экспортных лицензий — получить непросто[614].
Решение о лишении компании Huawei доступа к американским инновациям стало шоком в мировом технологическом секторе. Этот шаг Соединенных Штатов вызвал удивление: все-таки Министерство торговли изначально составляло этот список, чтобы бороться с мутными распространителями оружия массового уничтожения, а компания Huawei явно принадлежала к другой лиге. Китайская корпорация с годовым доходом в 100 млрд долларов и штатом в 200 тысяч сотрудников является крупнейшим в мире производителем телекоммуникационного оборудования[615]. Как и практически все китайские технологические компании, Huawei почти полностью зависит от зарубежных поставок микросхем. Соединенные Штаты полагали, что если резко ограничить доступ к полупроводникам американского производства, то Huawei вскоре не сможет производить высокотехнологичную продукцию[616]. Однако здесь скрывалась одна загвоздка.
Компании, занимающиеся производством полупроводников, могли достаточно легко обойти меры экспортного контроля США в отношении китайской компании[617]. Включение Huawei в Entity List означало, что американские предприятия не могли продавать ей полупроводники напрямую. Тем не менее оставалась возможность продать микросхемы американского производства третьей стороне, которая, в свою очередь, продавала их еще одной фирме, а та, наконец, поставляла их Huawei[618]. Кроме того, китайская компания также могла покупать стандартные американские компьютерные микросхемы, не разработанные специально для ее нужд. Первая попытка Америки ввести меры экспортного контроля в отношении Huawei провалилась.
Чтобы санкции сработали, требовалось что-то еще. Администрация осознала, что меры против Huawei должны стать экстерриториальными и распространяться не только на американские, но и на зарубежные фирмы — аналогично финансовым санкциям. Вообразить себе формы такого регулирования несложно: ограничения должны применяться не только к продаже микросхем, но и к продаже всего программного обеспечения и оборудования американского производства, необходимого для их изготовления. Это был логичный шаг: Вашингтон знал, что многие инструменты, используемые производителями всего мира для разработки и создания микросхем, основаны на американских технологиях. Министерство торговли приступило к работе, чтобы понять, что здесь можно сделать.
В мае 2020 года администрация Трампа объявила, что запрещает всем производителям микросхем, использующим американские технологии, изготавливать чипы для компании Huawei вне зависимости от своего местонахождения[619]. Три месяца спустя Министерство торговли ужесточило правила, запретив продавать компании Huawei любые микросхемы[620]. До конца года администрация расширила ограничения на десятки других китайских компаний, в том числе SMIC, крупнейшего китайского производителя микросхем[621]. Эти меры очень похожи на финансовые санкции. Разница в том, что вместо того, чтобы воздействовать на иностранные компании, использующие доллар, Вашингтон применил принудительные меры к американским и иностранным фирмам, использующим американские технологии.
Как и в случае финансовых санкций, цель подобных правил экспорта — заставить государства и компании выбирать между США и подсанкционной страной — в данном случае Китаем. Соединенные Штаты делали ставку на то, что крупнейшие мировые производители микрочипов, такие как южнокорейская компания Samsung или тайваньские MediaTek и TSMC, встанут на сторону Америки и прекратят сотрудничество с китайцами. В качестве альтернативы эти иностранные фирмы могли сохранить связи с Китаем, но большой ценой: невозможностью использовать американские технологии для разработки или производства микрочипов для китайских компаний. Чтобы продолжать работу для китайского рынка, им пришлось перестроить целые производственные линии под китайских заказчиков. Новые линии, на которые американцы не могли влиять, обошлись в несколько миллиардов долларов.
Последствия введения американского экспортного контроля в отношении китайских технологических компаний — как в США, так и за рубежом — оказались колоссальными, возможно, даже более значительными, чем ожидало Министерство торговли. Компания Huawei вынужденно остановила некоторые производственные предприятия, поскольку многие из них использовали оборудование американского производства[622]. В условиях высокой неопределенности SMIC урезала свои расходы и инвестиционные планы[623]. За пределами Китая руководители фабрик, производящих интегральные микросхемы, стали лихорадочно проверять, не используются ли в их оборудовании американские технологии. В этом случае работа с десятками фирм из Китая, крупнейшего в мире импортера полупроводниковых схем, становилась незаконной.
В некоторых редких случаях производственные линии мировых компаний не опирались на американские технологии. Теоретически это ограждало такие компании от американских мер. Однако Вашингтон намеревался добиться того, чтобы все западные фирмы разорвали свои контракты с Пекином. Иностранные технологические компании помнили, что всего несколькими месяцами ранее болезненный опыт приобрела нидерландская ASML. Эта компания создает оборудование для выжигания микросхем с помощью мощного ультрафиолетового излучения. Администрация США оказала сильное давление на правительство Нидерландов, добиваясь, чтобы Амстердам запретил ASML работать с китайскими компаниями. В конце концов Нидерланды уступили давлению и отозвали у ASML лицензию на экспорт в Китай[624].
Для Пекина ситуация с ASML стала верным признаком грядущих проблем: нидерландская компания — монополист в области экстремальной ультрафиолетовой литографии, которая необходима SMIC для производства высокотехнологичных микросхем. Для нидерландского бизнеса это событие тоже оказалось плохой новостью[625]: стоимость разработки оборудования составила более 20 млрд долларов, а быстрорастущий китайский рынок представлялся одним из наиболее перспективных[626]. В телефонном разговоре с инвесторами, состоявшемся через несколько недель после этого, генеральный директор ASML намекнул, что компания рассматривает возможность создания цепочек поставок, полностью защищенных от действий США[627].
Предполагалось, что экспортный контроль в отношении компании Huawei не окажет влияния на Америку, однако его расширяющееся воздействие сказалось и на территории США. Провайдеры сотовой связи и Интернета в американской сельской местности уже давно обнаружили проблемы[628]. Дешевое оборудование Huawei, которое они приобрели для подключения к Интернету удаленных и малонаселенных пунктов, внезапно перестало получать от американских компаний важные обновления программного обеспечения и запасные части. Это был смертный приговор: без обновлений и запчастей вышки сотовой связи и интернет-сети с оборудованием Huawei со временем просто перестанут работать.
По другую сторону Тихого океана в Пекине отдают себе отчет, что новые экспортные меры Вашингтона создадут массу новых проблем, которые необходимо решать. Для руководства Китая полупроводниковые микросхемы особенно важны в двух областях: производство мобильных телефонов и развертывание сетей 5G на территории Китая. Соединенные Штаты, кажется, не намерены ограничивать возможности Китая по производству дешевых базовых мобильных телефонов, поскольку они не представляют угрозы безопасности Соединенных Штатов[629]: Белый дом продлил экспортные лицензии ряду американских и иностранных компаний, чтобы они могли продолжать работать с Huawei в сфере создания таких несложных продуктов[630]. Однако, когда речь идет о высокотехнологичных сверхмалых чипах, Вашингтон, похоже, намерен применять механизмы экспортного контроля в полном объеме.
В ближайшие годы это станет серьезной головной болью для Китая. Высокотехнологичные микросхемы — важнейший компонент широко разрекламированных телекоммуникационных сетей 5G. Готовность Америки ограничить доступ Пекина к передовым полупроводникам, скорее всего, затруднит развитие соответствующей инфраструктуры в Китае. Вероятно, руководству страны удастся развернуть 5G в первую очередь в нескольких значимых городах и регионах, таких как Пекин, дельта Янцзы в районе Шанхая или дельта Жемчужной реки около Шэньчжэня[631]. Однако остальной части страны, вероятно, придется ждать дольше, чем предполагалось, чтобы получить доступ к инновациям, которые невозможны без сетей пятого поколения — например, самоуправляемые автомобили или интеллектуальные энергосети.
Подобные эффекты, как в Китае, так и в США, скорее всего, будут лишь верхушкой айсберга. Последствия введения экспортного контроля, ограничивающего доступ Китая к американским технологиям, проявятся лишь через несколько десятилетий. Инновации, как правило, связаны с долгосрочными промышленными инвестициями, тщательно выстроенными цепочками поставок и производственными процессами. Экспортный контроль США внесет изменения в эти планы.
Ведущие мировые производители интегральных микросхем, в том числе тайваньская компания TSMC (контролирующая около половины мировых производственных мощностей) и южнокорейская Samsung (специализирующаяся на выпуске наиболее совершенных микросхем), уже перестраивают свои глобальные цепочки поставок с учетом экспортного контроля США[632]. К 2024 году TSMC планирует открыть в Аризоне гигантскую фабрику стоимостью 12 млрд долларов; построенная на американские деньги, она, видимо, займется обслуживанием исключительно американского рынка, в то время как другие заводы TSMC продолжат работать с китайскими фирмами[633]. Последние проекты Samsung также отражают эту новую реальность: южнокорейская компания планирует в ближайшие годы построить две фабрики: одну в Техасе стоимостью 17 млрд долларов, другую в Сиане (Центральный Китай) стоимостью 15 млрд долларов[634].
Даже если напряженность в отношениях между США и Китаем спадет, что представляется крайне маловероятным, долгосрочный характер таких масштабных инвестиционных программ означает, что последствия экспортного контроля будут сказываться очень долго, а вернуться к исходным условиям окажется крайне трудно. Еще большую путаницу вносит тот факт, что в американо-китайском конфликте США — не единственная страна, которая прибегает к экспортному контролю для борьбы с оппонентом[635].
В 2019 году, в разгар этой торговой войны, китайский лидер Си Цзиньпин побывал в провинции Цзянси на юго-востоке Китая и посетил шахту, где добывают редкоземельные металлы. Большинство китайских наблюдателей четко уловили посыл этого визита: Пекин хотел показать, что Китай обладает огромным рычагом влияния на Америку в виде редкоземельных элементов, таких как скандий, иттрий и гадолиний. На случай, если у кого-то еще оставались сомнения, один китайский правительственный рупор после этого визита недвусмысленно заявил: «Не говорите, что мы вас не предупреждали»[636]. Китай уже дважды использовал эту фразу: в 1962 году, когда предостерегал Индию от войны за спорную гималайскую границу, и в 1979 году перед началом конфликта с Вьетнамом.
Китай знает, что у него есть козырь в рукаве — редкоземельные элементы[637]. Страна контролирует 80 % мирового производства 17 металлов, которые технологические компании используют для создания полупроводниковых устройств и другой электронной продукции, включая смартфоны, телевизоры, электромобили, компьютерные мониторы и ветрогенераторы[638]. Эти металлы применяются и в военном секторе: например, для создания истребителя F‐35 требуется 417 кг редкоземельных элементов[639], а для подводной лодки класса Virginia их нужно в десять раз больше[640]. Возможно, в секторе полупроводников доминирует Америка, однако Китай контролирует доступ к сырью, необходимому для создания всей современной электронной техники.
Как заметил в 1992 году китайский лидер Дэн Сяопин, «у Ближнего Востока есть нефть, у Китая — редкоземельные металлы»[641]. Пекин владеет 40 % мировых запасов этих важнейших элементов. Для сравнения: Америке принадлежит лишь 1 % разведанных мировых запасов[642]. Добыча редкоземельных металлов — это только часть уравнения, поскольку Китай также контролирует 85 % мировых мощностей по их переработке[643]. При этом единственная американская шахта по добыче редкоземельных металлов отправляет свою продукцию на переработку в Китай (причем эта калифорнийская шахта частично принадлежит китайскому инвестору)[644].
Идея, что Китай может ограничить доступ Америки к редкоземельным металлам в качестве ответной меры на действия США, вовсе не выглядит нереальной[645]. В 2010 году Пекин запретил экспорт редкоземельных металлов в Токио на фоне конфликта вокруг спорных островов в Восточно-Китайском море[646]. С тех пор угрозы Пекина стали более явными. В 2019 году Пекин инициировал детальное инспектирование отечественного производства редкоземельных металлов, что выглядело первым шагом к введению экспортного контроля[647]. В 2020 году руководство страны приняло новые законы, ограничивающие экспорт важных товаров, главным из которых являются редкоземельные элементы[648].
США осознают эту угрозу. В начале 2022 года группа американских сенаторов внесла законопроект, который вынуждает оборонные компании Соединенных Штатов отказаться от закупок китайских редкоземельных элементов с 2026 года[649]. Пентагон уже давно настаивает на разработке редкоземельных рудников в Австралии, Бурунди или Мьянме, чтобы снизить зависимость от Китая[650]. Но для того чтобы сравняться с китайскими производственными мощностями, потребуется минимум десятилетие: около десяти лет требуется только для того, чтобы редкоземельная шахта вышла на хорошую производительность (если она вообще выйдет). Большинство экспертов также сходятся во мнении, что без масштабного федерального финансирования Америка не может даже помыслить о том, чтобы оспорить превосходство Китая. Однако государственное финансирование идет медленно.
Пакет федеральной помощи при пандемии включал дополнительные 800 млн долларов на диверсификацию американских источников важных минералов, в том числе руд редкоземельных элементов[651]. Это было начало, но, скорее всего, таких средств слишком мало: один проект по добыче редкоземельных металлов требует инвестиций на сумму не менее 1 млрд долларов[652]. При этом деньги — не единственная проблема. Отрасль наносит такой ущерб окружающей среде, что развитие производства и переработки в США, скорее всего, встретится с серьезным сопротивлением (редкоземельные металлы часто идут в смеси с опасными радиоактивными материалами). Еще одна проблема заключается в том, что ноу-хау по добыче и переработке редкоземельных металлов в данный момент в основном принадлежит китайцам.
Американским политикам остается только надеяться, что Китай не рискнет уничтожать свою редкоземельную промышленность путем ограничения экспорта. Пекин также понимает, что так называемые редкоземельные элементы не так уж и редки. Со временем Соединенные Штаты, вероятно, смогут заново создать цепочки поставок редкоземельных металлов; после разногласий 2010 года Япония на треть сократила свою зависимость от китайских поставок[653]. Эти факторы будут играть определенную роль в расчетах Пекина. Однако Китай также может решить, что временное ограничение доступа США к редкоземельным металлам — вполне разумная цена за удар по американскому технологическому сектору.
Китайско-американский конфликт в области технологий будет продолжаться несколько десятилетий и, возможно, перешагнет 2050 год. Похоже, что экспортный контроль станет основной частью арсенала Вашингтона по защите американских интересов, особенно в технологическом секторе. Эти меры иллюстрируют развивающийся переход к среде, в которой основным фактором политического влияния и экономической мощи, а также ключевым фактором, определяющим военную силу, является технологическое лидерство[654].
Со временем экспортный контроль в отношении китайских компаний, скорее всего, приведет к тому, что мировые технологические компании будут выстраивать два разных набора цепочек поставок: один — для Соединенных Штатов и других западных стран, другой — для Китая и стран с развивающейся экономикой. Такой процесс, получивший название «декаплинг» («размежевание, расцепление, рассоединение»), фактически приведет к разрыву связей между американской и китайской экономиками. В условиях «рассоединенного мира» эффективность экспортного контроля будет ограничена, и контролируемые Китаем цепочки поставок станут фактически недоступными для американских действий. Еще хуже то, что американо-китайский разрыв может оказаться выгоден Пекину.
11
Когда санкции работают слишком хорошо
Почему разрыв с Китаем приведет к обратному эффекту
В 2014 году Министерство торговли США опубликовало отчет, в котором оценивало полезность Правил международной торговли оружием (ITAR) — системы экспортного контроля, призванной защитить ноу-хау американских аэрокосмических компаний, таких как Boeing, Northrop Grumman или Lockheed Martin[655]. Выводы, сделанные в ходе исследования, оказались неожиданными. Большинство американских компаний полагают, что ITAR нанесли им ущерб; 35 % компаний даже сообщили, что из-за этих правил они потеряли контракты. В бесчисленных интервью руководители компаний объясняли, что такие меры лишь стимулируют разработку передовых космических технологий за пределами Соединенных Штатов, куда американский экспортный контроль не дотягивается. Один из респондентов отметил, что без ITAR «европейская космическая индустрия вряд ли развивалась бы так заметно, так быстро»[656].
К смущению Министерства торговли, фактические данные подтвердили жалобы американского бизнеса. В 1998 году, когда Вашингтон начал применять правила ITAR, доля США на мировом космическом рынке составляла 75 %. За десять лет доля США на мировом рынке космического оборудования (такого, как спутники) упала ниже 50 %. В рамках исследования одна из фирм прямо заявила, что эти правила «весьма успешно создали мировую сеть компаний, производящих конкурирующую продукцию, причем исключив из состязаний американские компании»[657]. Через три года после публикации отчета администрация отменила ITAR, пытаясь восстановить конкурентоспособность американской космической отрасли[658].
Спустя более чем два десятилетия американские технологические компании опасаются, что история может повториться. На этот раз под экспортный контроль Вашингтона попали полупроводники: США использовали ограничительные меры в качестве инструмента борьбы с технологическим подъемом Пекина, лишив Китай доступа к американским технологиям производства микросхем. По мере того как Министерство торговли США продолжает вводить все новые и новые меры экспортного контроля, в Вашингтоне вошло в моду слово «декаплинг» (decoupling) — «размежевание, расцепление, рассоединение, разрыв». У термина есть различные определения, но хорошим обобщением теоретических объяснений являются слова президента Дональда Трампа, который заметил: «Мы теряем миллиарды долларов, а если бы мы не вели дел с ними {с Китаем}, мы бы не теряли миллиарды долларов. Это и называется декаплинг»[659].
На практике разрыв-декаплинг приведет к обрезанию связей между американской и китайской экономиками, особенно в технологическом секторе. В основе этой концепции лежит простая идея: чем меньше связей с Китаем, тем лучше для экономики и безопасности Америки. В рамках размежевания американские компании будут возвращать производство на территорию США, а не использовать производственные линии на более дешевых китайских заводах. Например, компания Apple перенесет свои фабрики в США, а не продолжит производить айфоны в Китае. Если разрыв воплотится в жизнь, то американские поставки в Китай также будут ограничены — в соответствии с введенными Вашингтоном экспортными ограничениями на полупроводники.
Теоретически с помощью такого размежевания Америка убивает одним выстрелом двух зайцев: Вашингтон сократит доступ китайских высокотехнологичных компаний к американскому рынку (тем самым решив проблему национальной безопасности, связанную с использованием оборудования китайского производства в телекоммуникационной инфраструктуре США) и остановит развитие китайских технологических компаний (лишив их доступа к важнейшим американским ноу-хау). Америка также сократит свой серьезный торговый дефицит: многие американские фирмы, перенесшие свои производственные линии в Китай, вернут производство на американскую территорию, обеспечив работой десятки тысяч американцев.
Энтузиасты декаплинга отмечают, что нанесение удара по китайским компаниям — это лишь одна из многих веских причин для разрыва с Китаем. Среди компаний из списка Fortune 500 уже нет единого мнения, что потребителя можно привлечь принципом «дешевле — значит лучше»[660]. Американских граждан и бизнес все больше беспокоят плохие условия работы и небрежное отношение к окружающей среде в Китае и других развивающихся странах. Все более настойчивые призывы к сокращению выбросов углекислого газа также предполагают размещение производства поближе к потребителю. Последний аспект уравнения — растущий уровень автоматизации: если можно будет производить продукты в США с помощью роботов, то дешевая рабочая сила в развивающихся странах потеряет часть привлекательности.
Многие американские политики считают наиболее подходящей областью для разрыва как раз производство полупроводниковых микросхем. На их взгляд, ограничение доступа Китая к микрочипам — верный способ нанести удар по технологическому сектору этой страны. Если китайские компании останутся без полупроводников, они не смогут производить электронные товары. Контроль за экспортом микросхем означает, что у США имеется, казалось бы, дешевый и эффективный инструмент, позволяющий разорвать связи с Китаем в этой области. Такая аргументация выглядит привлекательно. Однако она не выдерживает тщательной проверки. На самом деле декаплинг — это и плохая идея, и слабая политика[661].
Разорвать связи между американскими и китайскими полупроводниковыми компаниями — дело и сложное, и дорогое. Кроме того, это нанесет ущерб американским технологическим компаниям, лишив их возможности участвовать в глобальных инновациях и формировать технологические стандарты. Потеря доступа на китайский рынок также повлечет за собой резкое падение доходов американских полупроводниковых компаний, которым придется сократить объемы научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР). В результате США могут потерять свое технологическое и, как следствие, военное превосходство. Вместо того чтобы уменьшить риски для национальной безопасности и ослабить китайский высокотехнологичный сектор, размежевание создаст новые проблемы и невольно будет способствовать возвышению Пекина.
Можно констатировать очевидное: если рассматривать ситуацию шире, нежели только индустрия интегральных микросхем, то разрыв с Китаем окажется крайне сложным делом. Соединенные Штаты разработали систему экспортного контроля для борьбы с Москвой в эпоху холодной войны, когда американская и советская экономики практически не имели связей. В то время Соединенные Штаты и Советский Союз уже были рассоединены; по сути, они никогда в реальности и не соединялись друг с другом. Во время холодной войны советские товары не продавались в американских супермаркетах; обмен технологиями между странами происходил крайне редко; Москва не покупала американские технологические фирмы в Кремниевой долине, которая еще даже не существовала. Однако Китай — гораздо более серьезный противник, нежели бывший Советский Союз.
Экономики США и Китая сильно переплетены[662]. Китай — крупнейший в мире производитель товаров, он выпускает столько же, сколько все американские, немецкие и японские фабрики, вместе взятые[663]. Он также является крупнейшим торговым партнером США с оборотом более половины триллиона долларов в год; Пекин — третий по величине рынок экспорта для американских компаний (после Канады и Мексики) и основной источник американского импорта[664]. Компании по обе стороны Тихого океана имеют обширные связи, и грузовые суда безостановочно снуют между портами Лос-Анджелеса или Лонг-Бич в Калифорнии и портами Шанхая, Шэньчжэня или Гуанчжоу.
Экономические связи между США и Китаем выходят далеко за рамки торговли: американские и китайские цепочки поставок интегрированы уже более двух десятилетий; производственные линии большинства американских технологических компаний расположены по обе стороны Тихого океана, что позволяет использовать преимущества Америки в области инноваций и конкурентные преимущества Китая в области (дешевого) производства. Возможно, айпод компании Apple и кажется американским продуктом, но на самом деле в его создании задействованы сотни различных фирм в десятках стран, включая Китай[665].
Декаплинг будет не только сложным, но и долгим делом. Судя по тому, сколько времени потребовалось японским, южнокорейским и тайваньским высокотехнологичным компаниям на перенос цепочек поставок в Китай в 1990-е годы, перемещение производственных линий американских технологических фирм на территорию США может занять более 20 лет[666]. Энтузиасты разрыва упирают на то, что это, возможно, не так и важно: многие события, сформировавшие мировую экономику, происходили в течение десятилетий — например, разработка личных автомобилей, появление Интернета или демократизация сотовых телефонов. Однако американский бизнес возражает, что размежевание не имеет ничего общего с инновационным прогрессом, приносящим прибыль.
Декаплинг не даст американским компаниям возможности развиваться и повышать свою прибыльность. Разрыв связей с Китаем обойдется американскому бизнесу очень дорого. Одна консервативная оценка определяет стоимость отдаления от Китая в 1 трлн долларов за пять лет[667]. Возможно, налоговые льготы и прочие финансовые стимулы помогут компаниям, производящим микросхемы, проглотить горькую пилюлю размежевания, однако многим фирмам для финансирования такой операции все равно придется прибегать к огромным долгам (а потом погашать их), что будет сказываться на их прибыли в течение многих лет — если только оплату счетов не возьмут на себя американские потребители.
В секторе интегральных микросхем декаплинг приведет к еще более серьезным проблемам. Разрыв связей с Китаем дорого обойдется американским полупроводниковым компаниям: они разрабатывают микросхемы в Америке, но производят их на азиатских фабриках, где выпускается три четверти всех компьютерных чипов в мире[668]. Строительство подобной фабрики — далеко не дешевое дело: примерно 10 млрд долларов[669]. Размежевание повлечет за собой перенос десятков таких производств из Китая в Соединенные Штаты. Есть и еще одно обстоятельство, которое приведет к сокращению прибыли американских полупроводниковых компаний в случае их ухода из Китая: в настоящее время производство микросхем нельзя полностью автоматизировать. Это означает, что потеря доступа к сравнительно дешевой китайской рабочей силе приведет к росту себестоимости продукции.
Перенос производственных линий в США обойдется недешево, однако у американских компаний, производящие микросхемы, таких как Intel, Texas Instruments или Qualcomm, имеется еще более серьезный повод для беспокойства: если Вашингтон разорвет отношения с Пекином, то американские компании, производящих чипы, постепенно потеряют китайский рынок. Для американских полупроводниковых компаний это станет смертным приговором: на Китай приходится одна треть мирового спроса на компьютерные микросхемы[670]. Без доступа к оживленному китайскому рынку многие американские предприятия, занимающиеся полупроводниками, могут разориться.
Масштабное присутствие американских микропроцессорных компаний в Китае отражает эту коммерческую реальность: американские полупроводниковые компании имеют на китайской территории активы на сумму 700 млрд долларов — в частности, заводы и исследовательские центры. Американский технологический гигант Intel наглядно демонстрирует, насколько важна эта страна для американских компаний, производящих микросхемы: в Китае, являющемся крупнейшим рынком сбыта для Intel, находятся заводы стоимостью 5 млрд долларов, а на страну приходится более четверти мировых доходов Intel[671]. Intel — лишь один из примеров: практически все американские компании имеют аналогичное присутствие в Китае. По словам одного источника, «идея, что мы можем размежеваться с Китаем, но при этом наша промышленность все равно останется успешной, не имеет под собой реальной основы»[672].
Утрата китайского рынка может привести к уменьшению доли рынка у американских полупроводниковых компаний и в других странах. Растущий арсенал вашингтонских средств экспортного контроля означает, что иностранные компании все больше опасаются вести дела с американскими. Со временем часть международного бизнеса может прийти к выводу, что безопаснее вообще отказаться от американских технологий изготовления микросхем. Это уже происходит: некоторые мировые производители микросхем рекламируют ряд своих полупроводниковых устройств как EAR‐free («свободные от EAR»): подразумевается, что в них не используются американские технологии и, следовательно, они нечувствительны к американским Правилам экспортного контроля (EAR)[673].
Потеря доступа к Китаю, крупнейшему рынку полупроводниковых микросхем, и непреднамеренное стимулирование развития иностранных полупроводниковых фирм — серьезная угроза для американских технологических компаний[674]. В долгосрочной перспективе разрыв с Китаем может привести к почти 40-процентному снижению доходов американских предприятий, производящих микросхемы[675]. Чтобы остаться на плаву, большинству американских производителей компьютерных чипов придется сократить некоторые, казалось бы, не самые необходимые расходы, такие как исследования и разработки. Однако подобный шаг чреват катастрофическими последствиями.
В настоящее время американские компании, производящие микросхемы, тратят на НИОКР около 20 % своей выручки. За предшествующее 2020 году десятилетие эти расходы составили свыше 300 млрд долларов[676]. Такие колоссальные инвестиции являются частью цикла положительной обратной связи. Чем больше американские компании вкладывают в НИОКР, тем больше они закрепляют свое мировое технологическое лидерство. Чем более передовыми являются технологии американских компаний, тем больше компьютерных чипов они продадут, что, в свою очередь, даст средства для дальнейших научно-исследовательских работ. Но если доходы от Китая и, возможно, других стран исчезнут, этот круг может превратиться в цикл отрицательной обратной связи[677].
Производство компьютерных микросхем — одно из самых наукоемких в мире, опережающее, к примеру, фармацевтическую или авиационную промышленность[678]. Это означает, что даже небольшое снижение расходов на НИОКР влечет серьезные последствия. Сократив бюджет НИОКР, американские компании не продолжат разработки все более инновационных технологий. В то же время их зарубежные конкуренты получат новые контракты на тех рынках, где не могут (или не хотят) работать с американскими компаниями. В результате эти конкуренты сумеют увеличить объемы расходов на НИОКР. Со временем американские полупроводниковые компании рискуют утратить свои позиции мировых лидеров в области производства сложных микросхем, уступив конкурентам.
Такой сценарий может показаться нереалистичным, но это лишь повторение хорошо известной истории[679]. В конце 1990-х годов в мировом секторе телекоммуникаций доминировали три американские компании — Lucent, Nortel и Motorola. Казалось, что такие гиганты не могут рухнуть, однако в начале 2000-х годов лопнул технологический пузырь [680], что привело к резкому падению их доходов. В результате американские телекоммуникационные левиафаны пришли к выводу: чтобы не пойти ко дну, им придется сократить расходы на НИОКР. Между тем китайские компании принялись наводнять мировой рынок дешевыми сотовыми телефонами, которые оказались очень популярными, особенно в развивающихся странах.
Всего за десять лет американский телекоммуникационный сектор стал тенью себя прежнего, отставая в инновациях от европейских и азиатских компаний. Через несколько лет европейские конкуренты приобрели Lucent, Nortel и Motorola лишь за долю их прежней стоимости. Сегодня нет ни одной американской телекоммуникационной компании мирового уровня. В результате при создании телекоммуникационной инфраструктуры, которая является основой современной экономики и безопасности, Соединенные Штаты зависят от иностранных компаний — таких, как шведская Ericsson, финская Nokia или южнокорейская Samsung.
Эта поучительная история вполне может повториться и в сфере микросхем. Она подчеркивает тот факт, что риск Америки при декаплинге на самом деле заключается не в том, что страна немедленно уступит Китаю технологическое превосходство. В любом случае это вряд ли произойдет: китайские полупроводниковые фирмы сейчас значительно уступают своим американским конкурентам. Опасность, которую представляет собой разрыв, связана со снижением доходов из-за невозможности обслуживать китайский рынок и потерь контрактов в других странах. В условиях резкого сокращения прибылей американским технологическим компаниям, вероятно, будет сложно оставаться мировыми лидерами в области полупроводниковых инноваций.
Через несколько десятилетий у Вашингтона не останется выбора, кроме как сотрудничать с иностранными компаниями для удовлетворения собственных потребностей в современных полупроводниках. Тайваньские и южнокорейские фирмы, являющиеся ведущими мировыми производителями чипов, с огромным удовольствием станут продавать американцам полупроводники для гражданских целей. Однако с военным снаряжением ситуация может оказаться иной. Согласятся ли иностранные государства продавать Соединенным Штатам свои новейшие микросхемы или предпочтут оставить лучшие технологии для своих собственных сил обороны? Может ли Пекин оказать давление на Тайбэй и Сеул, чтобы не допустить экспорта секретных технологий в США? Разрыв с Китаем в целях защиты национальной безопасности США может привести к прямо противоположному эффекту и усилить военную уязвимость страны.
Еще один упускаемый из виду аспект американо-китайского противостояния — гонка за разработкой технических стандартов для развивающихся технологий. Как сказал Вернер фон Сименс, основавший впоследствии империю Siemens, «кто владеет стандартами, тот владеет рынком»[681]. Сегодня существуют стандарты практически на все, включая ширину колеи железных дорог, рабочие частоты мобильных телефонов, форму и напряжение электрических разъемов. Без единых мировых норм сотовый телефон, работающий в Соединенных Штатах, не сможет принимать сигнал, скажем, в Бразилии. Раньше установление технических стандартов было скучным занятием. В условиях американо-китайских трений это дело стало весьма деликатным, и геополитика играет в нем все бо́льшую роль. В сценарии с декаплингом возможности Соединенных Штатов продвигать американские стандарты могут уменьшиться.
Долгое время разработкой мировых технических стандартов занимались только США, Япония и европейские страны. Китай же пришел на этот рынок с большим опозданием. До недавнего времени страна практически не принимала участия в работе международных органов по разработке стандартов, таких как Международная организация по стандартизации (ISO; отвечает за принятие единых стандартов во всем мире), Международный союз электросвязи (ITU; занимается вопросами телекоммуникационных норм), Международная электротехническая комиссия (IEC; устанавливает стандарты для всех электронных изделий).
Ситуация изменилась в 2015 году, когда китайское руководство взяло курс на превращение Китая из мелкой рыбешки в мирового лидера в области разработки технических стандартов. Пекин преследовал две цели: влияние на инновации во всем мире и продвижение китайских технологий. Для достижения этих целей Пекин усилил роль Министерства промышленности и информатизации КНР (MIIT), поручив ему сосредоточить работу различных китайских исследовательских институтов и компаний над стандартами. Как пояснил один из представителей отрасли, «мы участвуем в стандартизации, чтобы повлиять на то, как будет развиваться рынок»[682]. Со стороны Китая было бы глупо упустить такую блестящую возможность для продвижения своих интересов и интересов высокотехнологичных компаний страны.
Китайские усилия по увеличению влияния на разработку мировых технологических стандартов оказались плодотворными. Несмотря на первоначальные трудности Пекина с подбором квалифицированных кадров на руководящие должности в международных технических организациях, в последние годы присутствие Китая в основных органах, устанавливающих правила, резко расширилось[683]. В 2015 году Чжан Сяоган стал первым китайским президентом ISO. В том же году начался восьмилетний срок пребывания Чжао Хоулиня на посту генерального секретаря ITU. Президентом IEC с 2020 года является Шу Иньбяо.
Китай с успехом использует свое влияние в организациях, устанавливающих нормативы. Китайские специалисты усердно трудятся в различных рабочих группах: страна занимает третье место по активности в технических комитетах ISO (после Франции и Великобритании) и второе место в комиссиях IEC (после Германии). Во всех этих рабочих группах представители Китая стремятся продвигать китайские технические стандарты, которые могут идти вразрез с американскими. Например, Китай уже давно пытается поддержать развитие WAPI, конкурента WiFi. Тем самым Пекин намерен двигаться к своим собственным целям в области внутреннего надзора.
По мнению технических специалистов, с помощью WAPI государство имеет возможность в значительной степени контролировать действия пользователей в Интернете. Многие китайские правительственные учреждения и ключевые государственные подрядчики уже используют этот навязанный стандарт. Начиная с 2003 года Пекин пытался пойти дальше и добиться того, чтобы WAPI заменил WiFi в глобальном масштабе[684]. Пока эти попытки не увенчались успехом; по мнению ISO, не получится развернуть WAPI на международном уровне, поскольку WiFi уже широко доступен. Однако в будущем, вероятно, возникнут другие дилеммы вроде WiFi/WAPI. Кроме того, Китай знает, что у него есть козырь для продвижения китайских технологических стандартов.
Пекин внедряет китайские технологии в более чем 70 странах, участвующих в инфраструктурных проектах инициативы «Один пояс и один путь». Наряду с инвестициями в автострады, порты и железные дороги Китай запустил «цифровой шелковый путь», который продвигает китайские технологии в десятках так называемых «умных городов» в нескольких странах, включая Сербию, Пакистан и Египет[685]. Концепция «умных городов» заключается в видеонаблюдении: города-участники получают камеры наблюдения китайского производства, сети 5G, передающие данные с камер в режиме реального времени, и программное обеспечение для распознавания лиц[686]. На кону огромные суммы: Пекин уже вложил в эту схему около 80 млрд долларов[687]. В отдельные годы китайские инвестиции в цифровую инфраструктуру Африки превышали средства, предоставленные всеми агентствами и правительствами западных стран, вместе взятыми[688].
Пандемия коронавируса придала новый импульс этому процессу, поскольку многие правительства ограничили или отслеживали перемещения своего населения в попытке сдержать вспышку. Пекин, почувствовав благоприятную возможность, воскресил давние планы по созданию еще и «шелкового пути здравоохранения». В Эквадоре, например, в эту схему включены средства для диагностики Covid‐19 производства Huawei (эта технология отправляет снимки легких на китайские серверы, после чего алгоритм искусственного интеллекта оценивает степень тяжести заболевания)[689].
Все оборудование, используемое «умными городами» в рамках «цифрового шелкового пути», опирается на китайские технологии. Правительства могут даже не осознавать, что подписываются на китайский набор технологических стандартов. Многие страны — участницы инициативы, испытывающие нехватку средств, соблазняются низкими ценами на высокотехнологичное оборудование, которое может предложить Китай, особенно при развертывании сетей 5G. Кроме того, китайские технологии могут действительно быть лучше: в 165 странах спутниковая навигационная система «Бэйдоу» работает втрое точнее конкурирующей американской системы GPS (возможно, это не должно удивлять: в переводе с китайского слово «бэйдоу» означает «Северный Ковш» [690])[691].
После того как китайские сети начинают работать, правительствам стран инициативы «Один пояс и один путь» уже поздно (и слишком дорого) менять свое решение. В результате страны с развивающейся экономикой замыкаются на китайские технологии, что дает пекинским фирмам долгосрочное преимущество перед американскими. Китай также надеется, что его готовность создавать и финансировать исследовательские центры в странах инициативы приведет к тому, что ученые из этих стран будут работать в программах исследований и сотрудничества исключительно с китайскими коллегами, фактически исключив американские компании из такого обмена. В долгосрочной перспективе Пекин рассчитывает на то, что усиление влияния в развивающихся странах также поможет заручиться поддержкой этих государств в отношении китайских стандартов в организациях, устанавливающих нормативы.
В вашингтонских коридорах власти нет единого мнения о выгодах и рисках декаплинга. Одни политики полагают, что разрыв связей с Китаем необходим для защиты национальной безопасности Америки и сдерживания технологического подъема Китая. Другие официальные лица более осмотрительны. Они обычно ссылаются на негативные побочные эффекты такой политики и упоминают, что американские полупроводниковые компании активно лоббируют отказ от планов разрыва. Однако по другую сторону Тихого океана вопрос о размежевании стоит не в форме «если», а в форме «когда». В Пекине уверены, что декаплинг неизбежен. Коммунистическое руководство готовится к тому, что оно считает новой нормой.
Американские меры экспортного контроля сосредоточены на полупроводниковом секторе, который стал одним из многочисленных полей сражений в американо-китайском конфликте. Пекин считает, что ему необходимо предпринять решительные шаги в этой области, чтобы разобраться с жизненно важным вопросом. Потенциальная нехватка полупроводников может привести к краху китайских технологических компаний. В связи с этим руководство страны намерено покончить с зависимостью от американских микросхем[692]. Сделать это будет непросто. Пока Китай производит лишь 15 % необходимых ему чипов, и это делает страну второстепенным игроком на мировом рынке полупроводников[693]. Однако планы Америки по размежеванию усиливают актуальность китайских устремлений к самодостаточности в области компьютерных микросхем. Пекин называет этот процесс новым «Великим походом» [694]. Коммунистические СМИ идут дальше[695], именуя его «Большим полупроводниковым скачком» [696].
Путь Китая к независимости в области компьютерных чипов будет долгим. Инновации в области высоких технологий, как правило, носят характер сетевых взаимодействий: передовые технологии разрабатываются совместно частными фирмами, университетами и исследовательскими центрами[697]. Пока в Китае отсутствует подобная высокотехнологичная экосистема в области производства микросхем, и стране придется создавать полупроводниковую промышленность с нуля. Сейчас китайские производители микрочипов полагаются на американские технологии для производства даже не самых совершенных полупроводников. Инновации в области микросхем — это гонка за миниатюрностью: современные смартфоны имеют в 100 000 раз бо́льшую вычислительную мощность, нежели компьютер NASA, отправивший «Аполлон‐11» на Луну в 1969 году[698]. Но чем меньше микросхемы, тем труднее их производить.
В настоящее время китайские фирмы не могут производить без американских ноу-хау полупроводниковые схемы размером менее 40 нанометров (то есть меньше, чем средний рост ногтя за одну минуту)[699]. Такая величина может показаться крохотной, но по сегодняшним меркам это слишком много: наиболее совершенные микросхемы примерно в восемь раз меньше, и Китай не имеет представления, как производить их в больших объемах, не говоря уже о низком уровне погрешностей изготовления. Соединенные Штаты извлекают пользу из многолетних исследований и разработок в области микрочипов. Однако китайские фирмы твердо намерены догнать их.
Сейчас на рынке полупроводников доминируют американские фирмы, однако Пекин считает, что они не являются незаменимыми. Ассоциация полупроводниковой промышленности США, которой положено хвастаться лидерством Америки в производстве компьютерных микросхем, разделяет эту оптимистичную оценку. По мнению этой лоббистской группы, Китай может найти неамериканских поставщиков примерно для 70 % своих потребностей в микрочипах[700]. Подобная оценка — отличная новость для Пекина. Чтобы создать полупроводниковый сектор, который будет независим от действий США, Китаю достаточно сосредоточить свои усилия на приобретении технологий и организации производственных линий для оставшихся 30 %[701]. Эта задача выглядит вполне реальной для второй по величине экономики мира.
Китайские технологические компании знают, что на карте стоит их выживание. Поэтому они увеличивают расходы на НИОКР ради увеличения своих потенциальных возможностей. В 2020 году компания Huawei стала мировым лидером по количеству патентных заявок во Всемирной организации интеллектуальной собственности (одном из агентств ООН): китайская компания подала 5464 заявки на патенты — почти вдвое больше, чем южнокорейская компания Samsung, занявшая второе место по этому показателю. Лишь одна американская компания — Qualcomm — вошла в пятерку лидеров, где доминировали представители Азии[702]. К началу 2021 года Huawei имела около 100 тысяч технологических патентов, всего за год увеличив их количество почти на 20 %.
Этот инвестиционный толчок уже приносит свои плоды. Компании Huawei удалось добиться, чтобы ее производственные линии для 40-нанометровых микросхем совершенно не зависели от действий США[703]. Компания намерена к началу 2023 года разработать и создать 20-нанометровые полупроводники (которые достаточно малы для высокотехнологичного оборудования 5G) без использования каких-либо американских технологий[704]. Большинство специалистов считают, что таких амбициозных целей Пекин, возможно, не добьется в течение нескольких месяцев или даже лет. Однако в общем и целом направление развития Китая ясно: в долгосрочной перспективе коммунистическое руководство страны сделает все возможное, чтобы не полагаться на американские ноу-хау при разработке и производстве полупроводников.
В реализации своих планов по самообеспечению микрочипами Пекин обозначил два рубежа, установив первым ориентиром 2035 год[705]. К этому году Китай планирует достичь паритета с США в секторе микросхем и играть ведущую роль в установлении мировых стандартов для полупроводников. Коммунистическое руководство выбрало время не наугад: Южной Корее и Тайваню потребовалось 15–20 лет, чтобы стать мировыми лидерами в производстве компьютерных чипов[706]. Даже если Пекину понадобится больше времени для развития полупроводниковой промышленности, чем Сеулу и Тайбэю (из-за меньшей степени доступа к американским технологиям), Китай все равно должен в целом успеть к установленному им самим сроку. Однако планы Китая простираются гораздо дальше 2035 года.
К 2049 году — столетию со дня образования Народной Республики — Пекин намеревается сменить США в роли мирового лидера в полупроводниковой промышленности. Пока Соединенные Штаты с трудом мыслят дальше четырехлетнего президентского срока, Китай ведет долгосрочную игру. Пекин понимает, что достичь этой амбициозной цели будет нелегко: в краткосрочной перспективе китайские фирмы, производящие микрочипы, будут испытывать сложности вследствие нехватки ноу-хау[707]. Из-за нехватки квалифицированных кадров и необходимости создания экосистемы полупроводниковой промышленности с нуля китайское руководство объявило о начале масштабных инвестиций.
Наиболее заметным элементом этого плана является так называемая промышленная стратегия «двойной циркуляции»[708]. Ее суть заключается в самостоятельности, снижении зависимости Китая от экспорта как двигателя роста и превращении внутреннего потребления в главную опору китайской экономики. В рамках этой программы китайское руководство намеревается потратить 120 млрд долларов на повышение самодостаточности в энергетике, здравоохранении и высокотехнологичных отраслях — с упором на микрочипы[709]. Инвестиционный план предлагает производителям микросхем десятилетние налоговые льготы, дешевые кредиты и впечатляющий уровень государственных субсидий[710]. Пекин планирует предоставить китайским компаниям финансирование на сумму свыше 600 млрд долларов, используя 1800 «государственных фондов содействия»[711].
Сумма может показаться огромной, однако она меркнет по сравнению с запланированными инвестициями в полупроводниковую промышленность в размере 1,4 трлн долларов США, о которых президент Китая Си Цзиньпин заявил на следующий день после введения Соединенными Штатами мер экспортного контроля в отношении компании Huawei[712]. Даже если половина этой суммы окажется просто переименованием (то есть уже запланированные суммы выдаются за вновь выделенные средства), на карту поставлены колоссальные деньги. Этот план дополнят и другие инициативы: национальный фонд полупроводников, оцениваемый в 29 млрд долларов[713], и государственные инвестиционные фонды, призванные поддержать стартапы по производству микрочипов[714]. В целом эти суммы так значительны, что практически гарантируют долгосрочный прогресс[715].
По сравнению с этим американское государственное и частное финансирование НИОКР в полупроводниковой отрасли выглядит ничтожным. В секторе микросхем инвестиционные планы Китая далеко превосходят американские: соотношение здесь почти 50 к 1[716]. При самом оптимистичном сценарии федеральное финансирование американской индустрии полупроводников в ближайшие годы не превысит 50 млрд долларов[717]. Даже если добавить расходы на НИОКР американских фирм, производящих микрочипы, это не изменит общей картины. Суммарные американские расходы в полупроводниковом секторе составляют лишь малую часть китайских инвестиций. Тем не менее многие американские технологические эксперты по-прежнему выражают сомнения, что колоссальные инвестиции Пекина окупятся.
Скептики считают, что значительная часть средств, которые выкладывает Пекин, будет потрачена впустую. Вероятно, они правы. В 2020 году примерно 22 тысячи китайских компаний зарегистрировались как производители микрочипов — чтобы получить государственные субсидии[718]. Многие из них не имеют практически никакого опыта работы в этой сфере; данные китайского правительства показывают, что одни из них занимались продажей автозапчастей, а другие специализировались на морепродуктах или онлайн-играх[719]. Это означает, что многие псевдопроизводители, скорее всего, потерпят неудачу. Щедрые государственные субсидии приведут к тому, что какие-то компании останутся на плаву даже при отсутствии прибыли, что повышает риск «зомбирования» (так называют выживание неблагополучных компаний) отрасли.
Критики также ссылаются на недавние скандалы, утверждая, что стремление Китая инвестировать в компании, производящие компьютерные микросхемы, в лучшем случае является аферой, а в худшем — мошенничеством. Есть масса примеров неудачных проектов в области микрочипов. По всему Китаю возникли частично построенные заводы, которые должны были стать частью многомиллиардных полупроводниковых центров. Во многих случаях владельцам этих предприятий удавалось выторговать у китайского правительства многомиллиардные субсидии[720], однако спустя несколько месяцев на месте предполагаемых инновационных центров мирового уровня обнаруживалось лишь несколько неоконченных построек и пара подъемных кранов[721]. Однако коммунистическое руководство не волнуется по этому поводу.
В китайском языке есть старая поговорка: «Если построить гнездо, то птицы прилетят». В Пекине понимают, что если из десятков тысяч новых полупроводниковых предприятий преуспеет только 1 %, то этого будет достаточно для создания успешной экосистемы, объединяющей несколько сотен компаний, выпускающих микросхемы. Лу Лэй, генеральный секретарь одной из шанхайских промышленных групп, сказал в телевизионном интервью: «Мы не должны считать это бесполезными тратами. Мы должны смотреть на это как на цену, которую приходится платить за развитие отрасли. Это естественный процесс: количество переходит в качество»[722].
Конечная цель Китая — построить полную цепочку поставок для полупроводниковой отрасли, защищенную от действий Соединенных Штатов. Пока китайские фирмы значительно отстают от своих американских конкурентов, которые контролируют верхние стадии цепочки создания стоимости — разработку программного обеспечения для создания микросхем, использование этого программного обеспечения для проектирования полупроводников и производство оборудования для производства микросхем. Небольшое количество хорошо известных игроков (в основном американских) в этой нише затруднит китайским компаниям выход на рынок. Однако нет никаких оснований полагать, что за несколько десятилетий Китай не сможет догнать конкурентов. Для достижения этой цели Пекин делает ставку на то, что масштабные инвестиции взрастят национальных гигантов.
Китайская государственная компания Huada Empyrean и пекинская компания Cellixsoft стремятся занять место американских фирм Synopsys, Cadence Design Systems и Mentor Graphics в области разработки программного обеспечения микросхем (первого этапа на пути к созданию микросхем). HiSilicon, дочерняя компания Huawei, пытается конкурировать с американскими Qualcomm и Broadcom в области проектирования микросхем. Naura Technology Group и AMEC хотят потеснить калифорнийские Applied Materials и Lam Research в области оборудования для производства полупроводников[723]. Все эти китайские компании пока значительно мельче своих американских конкурентов, но быстро растут: за последнее десятилетие их совокупный доход увеличился вчетверо[724].
Китай не оставляет попыток перестроить всю цепочку поставок для сектора микрочипов. Помимо попытки вытеснить американских гигантов, Пекин также создает целую экосистему небольших узкоспециализированных компаний. Эти новые фирмы работают в таких малоизвестных областях, как осаждение из газовой фазы (Shenyang Piotech), литография (Shanghai Micro Electronics Equipment), быстрая термическая обработка (Mattson Technology), химико-механическая планаризация (Hwatsing и Sizone Technology), очистка базовых пластин (ACM Research) или метрология (Shanghai Precision Measurement Semiconductor Technology)[725].
На этом амбиции Китая не заканчиваются: коммунистическое руководство страны хочет через несколько десятилетий конкурировать с такими мировыми интегрированными производителями (IDM), как Intel, IBM или Samsung. Эти гиганты осуществляют бо́льшую часть производства полупроводников внутри компании, разрабатывая, производя и продавая микрочипы непосредственно производителям смартфонов или центрам обработки данных. У Пекина есть свой ответ — Yangtze Memory Technologies. Это предприятие, похоже, будет работать так же, как и другие IDM, объединив все процессы проектирования и производства.
Несмотря на опасения по поводу финансового положения материнской компании, Yangtze Memory Technologies, похоже, быстро двигается вперед[726]. В 2020 году компания из Уханя объявила, что ей удалось создать передовую микросхему, способную составить достойную конкуренцию первоклассным технологиям Samsung[727]. Аналитики по-прежнему настроены скептически: пока Yangtze Memory Technologies отстает от своих зарубежных конкурентов в стабильности и надежности. Однако эксперты согласны с тем, что она быстро нагоняет оппонентов. Компания нарастила мощности полупроводникового завода в Ухане стоимостью 24 млрд долларов, чтобы достичь своей цели — удвоить производство микрочипов[728].
За несколько десятилетий Пекин может стать практически самодостаточным в производстве полупроводников[729]. Китай, вероятно, сумеет победить свою зависимость от американских микросхем и занять одно из трех первых мест в мире в этой области — наряду с Тайванем и Южной Кореей. Вероятно, китайские фирмы будут по-прежнему испытывать трудности с созданием сверхмалых микросхем. Это не станет проблемой. На производстве самых современных полупроводников для сложных изделий, таких как смартфоны, скорее всего, продолжат специализироваться тайваньские и южнокорейские фирмы: обе страны уже располагают 100 % мировых производственных мощностей по выпуску полупроводников размером менее 10 нанометров[730]. Тем временем Китай наводнит мир более дешевыми, но достаточно качественными чипами для большей части электронного оборудования.
В условиях нарастающей нехватки средств и, соответственно, снижения уровня инноваций американские фирмы, производящие микрочипы, с большим отрывом отодвинутся на четвертое место в мировой лиге игроков полупроводниковой отрасли. Если оглянуться назад, можно сказать, что свержение Америки с трона в секторе микросхем — давняя цель китайского руководства, а инвестиционные планы для этой отрасли зародились еще в 1980-х годах. Предыдущие устремления коммунистического руководства потерпели неудачу, однако попытка США размежеваться с Китаем повышает вероятность того, что амбиции Пекина в секторе производства полупроводниковых микросхем наконец-то увенчаются успехом. Вашингтонские планы декаплинга, призванные задушить китайскую технологическую промышленность, имеют все шансы привести к обратному эффекту. Задохнутся именно американские компании — на пользу Китаю.
По словам Си Цзиньпина, мировая экономика претерпевает «невиданные за последние сто лет»[731] изменения. С его точки зрения, декаплинг неизбежен, и кажущийся неостановимым подъем Китая может инициировать падение Америки. Как и многие его сограждане, Си Цзиньпин надеется, что со временем Китаю удастся преодолеть нынешнюю технологическую зависимость от США. При этом лидер коммунистов понимает, что обратная ситуация маловероятна: колоссальная роль Китая как мировой производственной державы, производящей две трети бытовой электроники в мире, означает, что Соединенным Штатам будет трудно снизить свою зависимость от китайской продукции[732].
Последствия возможного разрыва затронут не только США и Китай. Если американская и китайская экономики разойдутся, то все страны мира в конечном счете будут вынуждены выбирать одну из сторон. В каком-то смысле это станет повторением того, что происходило во времена холодной войны, когда всем государствам пришлось выбирать между Вашингтоном и Москвой. Многие страны захотят воздержаться, но им не уйти от реальности: неприсоединившиеся государства не смогут, например, эксплуатировать телекоммуникационные сети 5G — ни основанную на американских стандартах, ни использующую китайские технологии. Для потребителей это окажется плохой новостью.
На примере 5G можно сказать, что такой сценарий не приведет к снижению стоимости услуг для пользователей в результате усиления конкуренции. Параллельное развитие технологических стандартов, которые не поддерживаются в разных странах или даже в пределах одной страны, фактически станет причиной увеличения затрат. Если какой-нибудь бизнес подписывается на определенный стандарт, например, телефонных линий, то его клиентам придется использовать совместимые технологии для связи. Возможно, цены упадут из-за роста конкуренции, но затраты, скорее всего, удвоятся, поскольку люди будут вынуждены использовать не один, а два технологических стандарта (и, соответственно, два телефона).
Трудно предсказать, какие страны встанут на сторону США, а какие — на сторону Китая, но можно наметить общие тенденции. Экономика многих азиатских стран слишком зависит от Китая, где сосредоточено более половины экономической продукции региона, и они не разорвут связи с Пекином. На самом деле 15 азиатских стран, включая таких близких американских союзников, как Япония, Австралия и Южная Корея, недавно подписали с Китаем региональное соглашение о свободной торговле[733]. Рост влияния Пекина в Азии обойдется США очень дорого: если азиатские страны почувствуют, что у них нет иного выбора, кроме как примкнуть к Китаю, военное присутствие США в регионе может исчезнуть (за исключением некоторых мест вроде Японии и Южной Кореи). Это развяжет руки Китаю для реализации своих территориальных амбиций в регионе.
Для оставшихся стран развивающегося мира, в том числе в Африке и Латинской Америке, расчет может оказаться проще: многолетняя отстраненность Соединенных Штатов вкупе с ростом экономических связей с Китаем означает, что наиболее естественным выглядит союз с Пекином. Представление о таком сценарии дает вакцинная дипломатия: так называется широкомасштабное использование Китаем прививок от коронавируса для продвижения своих геополитических интересов. С начала 2021 года Пекин отправил сотни миллионов доз вакцин китайского производства в десятки развивающихся стран, что сделало Китай крупнейшим в мире экспортером вакцин от Covid‐19. Многие развивающиеся страны искренне благодарны Китаю за эту помощь. Пекин может радоваться, ведь вакцинная дипломатия только усилит его мировое влияние.
Европа, в свою очередь, окажется зажатой между США и Китаем и постарается осторожно лавировать между двумя гигантами. Обида на американские экстерриториальные санкции и возросшая зависимость от Китая в торговле (китайская экономика является крупнейшим торговым партнером Европейского союза) могут временами склонять чашу весов в пользу Пекина. Напряженность в трансатлантических связях, созданная администрацией Трампа, несомненно, отразится на мышлении европейских лидеров: многие европейцы сегодня считают, что надежность Америки зависит от того, кто сидит в Белом доме. Однако в случае прямого конфликта между США и Китаем Европа почти наверняка встанет на сторону Вашингтона.
Для Европейского союза это будет кошмарным сценарием[734]. Если Вашингтон и Пекин вступят в войну, например, после какого-нибудь недопонимания в Южно-Китайском море, то США без колебаний введут жесткие финансовые санкции против китайских фирм и государственных банков. Скорее всего, они будут включать в себя вторичный компонент, в результате чего европейские компании окажутся в сложной ситуации: им придется выбирать между американским и китайским рынками, которые в совокупности составляют почти половину мировой экономики. В такой ситуации многие европейские бизнесы могут не выжить.
Даже при отсутствии военного конфликта декаплинг еще больше осложнит сотрудничество между США и Китаем. Это негативно скажется на глобальном управлении по важнейшим вопросам, где без США и Китая невозможно добиться прогресса за столом переговоров. К таким вопросам относятся изменение климата, распространение ядерного оружия или борьба с пандемиями завтрашнего дня. Разрыв связей с Пекином также приведет к тому, что у США в этих дискуссиях останется мало рычагов воздействия на Китай: уход американских компаний с китайского рынка или потеря доступа к американским технологиям уже не будут представлять для Пекина никакой угрозы.
В условиях фрагментированного мирового ландшафта [735] санкции США, направленные на экономические, финансовые и технологические обмены, теряют смысл. Пекин сможет просто игнорировать угрозы Вашингтона ввести подобные меры. В результате у Китая может оказаться гораздо больше пространства для маневра, чтобы продвигать свои интересы. Например, потенциальная цена военного вмешательства в Южно-Китайском море или на Тайване станет ниже. Это особенно опасно для Тайбэя, который является основным мировым центром по производству полупроводников.
До сих пор Китаю было необходимо поддерживать связи с Тайванем, чтобы сохранить доступ к полупроводникам, которые китайские фирмы не способны производить[736]. С этой точки зрения микросхемы являются сдерживающим фактором для военных амбиций Пекина в Тайваньском проливе; Китай регулярно отправляет истребители в зону ПВО Тайваня, и это заставляет американских военачальников предупреждать, что Китай может попытаться установить контроль над островом к 2027 году[737]. Размежевание делает эту угрозу еще более реальной.
Американские планы декаплинга убедили Китай в необходимости создания собственной индустрии микросхем. После этого у Пекина останется мало причин не вмешиваться в ситуацию на Тайване[738]. Вполне может статься, что Соединенные Штаты будут застигнуты врасплох: декаплинг также означает, что со временем у Вашингтона будет все меньше и меньше возможностей следить за действиями и намерениями Китая. В случае возникновения конфликта между Китаем и Тайванем Вашингтону придется вступить в войну с Пекином или столкнуться с риском потерять доверие к себе как к союзнику по обороне. Военный конфликт между США и Китаем стал бы мировой катастрофой. Вместо того чтобы защищать национальные интересы США, планы Вашингтона порвать с Китаем могут сделать мир менее безопасным местом.
Заключение
Я пишу эти строки в начале 2022 года, который знаменует собой третью годовщину этого книжного проекта. Авторы часто переживают, что их тема выйдет из моды, и мы с тревогой следим за новостями, чтобы убедиться, что СМИ не переключились на другую тему. Когда я вносила последние штрихи в рукопись, начало СВО России на Украине показало, что мои опасения, к сожалению, беспочвенны. Даже если не считать Россию, нет недостатка в санкционных новостях о Китае, Венесуэле и Иране. Несмотря на заголовки на первых полосах газет, настоящую историю санкций еще предстоит рассказать: дни односторонних американских мер сочтены.
Когда речь идет о санкциях, экономический размер имеет значение. Для Вашингтона это не очень хорошая новость. В начале 2030-х годов китайская экономика вытеснит американскую с первого места в мире. Экономическое доминирование Китая превратит угрозу американских мер против Пекина в пустую риторику: действия против крупнейшей экономики мира нанесут Соединенным Штатам не меньший ущерб, чем Китаю. Кроме того, в последние годы Пекин создал инфраструктуру, способную противостоять потенциальным санкциям США. Страна может похвастаться развивающимся технологическим сектором, цифровой валютой и финансовыми каналами, защищенными от влияния Соединенных Штатов. В американо-китайском конфликте Америке понадобятся не только санкции, но и другое оружие.
Последствия экономического превосходства Китая для эффективности американских действий выйдут за пределы Китая. Когда Америка управляла миром, ее санкции являлись мощным инструментом: никто не хотел вызывать гнев мирового полицейского. Однако времена изменились. Теперь, когда Китай превратился в экономическую сверхдержаву, у подсанкционных стран появился альтернативный партнер. Готовность Пекина помогать другим странам — в первую очередь России — в обходе американских санкций создает порочный круг, еще более ослабляя влияние США и подрывая эффект от американских санкций.
В перспективе Соединенные Штаты окажутся в проигрышной ситуации, если будут действовать в одиночку. В начале 2022 года, когда Москва заставила весь мир гадать о своих намерениях на Украине, в новостях постоянно звучала угроза введения новых санкций против России. Однако вскоре стало ясно, что угроза американских санкций утратила свою значимость и не остановила российского президента Владимира Путина. С тех пор как Америка впервые ввела санкции против России в 2014 году, Кремль предпринял шаги по изоляции экономики страны от США. Он создал финансовые каналы для обхода американского доллара. В структуре валютных резервов Москвы гринбек больше не занимает значительной доли. Торговые связи с США сведены практически к нулю.
Усилия Кремля, направленные на уменьшение влияния Америки на Россию, фактически обесценили опасность американских санкций, оставив Вашингтону мало рычагов влияния в переговорах с Москвой. Только угроза гарантированных совместных санкций США и ЕС могла бы заставить Россию хорошенько подумать, прежде чем начинать СВО на Украине. Однако давние санкционные трения и трансатлантическая напряженность подтолкнули российского лидера сделать ставку на то, что европейцы не захотят присоединиться к Вашингтону. Кремль ошибся: после начала СВО на Украине страны Запада стабильно сотрудничают в области санкций. Это хорошая новость для эффективности санкций: Россия не может себе позволить выступать одновременно против Америки и Европы.
Меры 2022 года против России свидетельствуют о том, что после десятилетий одиночных действий Америка нуждается в том, чтобы ее союзники также применяли санкции. Этот отход от односторонних действий потребует переосмысления американской дипломатии. Многосторонние санкции, поддерживаемые США, Европейским союзом, Японией и другими державами-единомышленниками, вероятно, станут единственным вариантом. Разработать такие меры сложнее, но они обладают большей легитимностью, и их труднее обойти. Кроме того, такие санкции позволят избежать антагонизма с партнерами, поскольку (почти) все будут действовать совместно.
Привлечение союзников принесет Соединенным Штатам дополнительную пользу, поскольку поможет сделать санкционную политику менее непредсказуемой. Когда США вводят санкции по своей прихоти, доверие к ним падает до такого низкого уровня, что у стран-мишеней нет стимула выполнять американские требования. Они просто не верят, что Америка выполнит свою часть сделки и снимет санкции, если они изменят поведение. Отсутствие доверия подрывает эффективность санкций, которые должны использоваться не как кнут для наказания стран-изгоев, а как пряник для поощрения тех противников, которые меняют свое поведение.
На ум приходит иранский пример. Крайне медленный темп идущих с 2021 года переговоров по возврату к ядерной сделке показывает, что руководители Исламской Республики не спешат с возобновлением соглашения. Они понимают, что страна мало что выиграет от снятия санкций. Их опыт подсказывает, что даже в случае снятия всех западных санкций транснациональные корпорации не придут на иранский рынок. Международные компании помнят, что в 2018 году США неожиданно вернули санкции против Ирана, несмотря на соблюдение страной ядерного соглашения. Когда санкционная политика настолько непредсказуема, у стран нет стимула выполнять требования Вашингтона, и это подрывает американскую дипломатию.
При оптимальном сценарии разработка многосторонних санкций будет способствовать созданию глобальной структуры, позволяющей повысить эффективность санкций и ограничить их побочные эффекты. Соединенные Штаты могут добиваться создания международного института, контролирующего санкции. Аналогичные организации занимаются вопросами, требующими всемирного сотрудничества, — такими как морское право, борьба с наркотиками, расселение беженцев. Почему бы не создать такую организацию и для санкций? Однако здесь есть загвоздка: появление санкционного альянса под руководством Запада приведет к дальнейшему углублению раскола между странами, поддерживающими США, и странами, примкнувшими к Китаю.
Время расцвета санкций США прошло. Американские дипломаты скоро лишатся своего излюбленного оружия для уговоров, угроз и наказаний противников. В ближайшие годы Вашингтону придется научиться сотрудничать с партнерами и вести переговоры с противниками, не имея в рукаве санкционного туза. Исчезновение односторонних санкций США отражает как их силу (страны-мишени всегда будут пытаться найти способы обойти столь мощные меры), так и ослабление позиций Америки как единственной мировой сверхдержавы. Невнимание Вашингтона к побочным эффектам своей односторонней политики также объединяет друзей и врагов Соединенных Штатов. Для политиков США утрата прежде всемогущего санкционного оружия окажется фундаментальной переменой.
Благодарности
В первую очередь я благодарю издательство Columbia University Press, где мне очень помогли энтузиазм и поддержка Джейсона Бордоффа, Моник Брионес и моего редактора Кэлин Кобб.
Мне посчастливилось работать с блестящей командой редакторов — Сьюзан Пенсак (редактор), Бен Колстад (координатор проекта) и Кристофер Куриоли (выпускающий редактор), — которые довели этот проект до финишной черты. Спасибо также команде дизайнеров за прекрасную обложку и Закари Фридману и Питеру Барретту за их работу по маркетингу книги. Наконец, большое спасибо моим анонимным рецензентам, чьи замечания помогли улучшить окончательный вариант рукописи.
Я обязана поблагодарить жителей подсанкционных стран, которые в течение последних лет соглашались побеседовать со мной о санкциях, даже когда я представляла сторону, их наложившую. Я также благодарна экспертам и специалистам в области санкций, которые щедро делились своими идеями; спасибо вам, Эсфандиар Батмангелидж, Элли Геранмайех, Найджел Гулд-Дэвис, Джонатан Хакенбройх, Кадри Лиик, Крис Миллер, Эрика Морет, Ричард Нефью, Мария Шагина, Хуан Зарате. Некоторые источники предпочли остаться неназванными вследствие деликатности темы; вы знаете, кто вы.
Работа над книгой заняла более трех лет. Она никогда не обрела бы форму без терпения и поддержки моих коллег, друзей и семьи, которые всегда были рядом и напоминали мне, что этот проект — как хотелось бы надеяться — достоин моего (и их) времени. Это была коллективная работа. Одни помогали выбрать обложку. Другие гарантировали, что внесенные в последнюю минуту дополнения имеют смысл. Один человек даже следил за тем, чтобы файлы моей книги всегда были в безопасности (и каждый день создавал резервные копии). Я особенно благодарна нескольким надежным друзьям и членам семьи, которые читали различные варианты всей рукописи (часто в срочном порядке), постоянно давая мне жесткие отзывы, полезную пищу для размышлений и очень нужные советы. Мерси.
Библиография
Aizhu, Chen. “CNPC Suspends Investment in Iran’s South Pars After U. S. Pressure: Sources”. Reuters, December 12, 2018. https://www. reuters. com/article/us-china-iran-gas-sanctions/cnpc-suspends-investment-in-irans-south-pars-after-u-s-pressure-sources-idUSKBN1OB0RU.
Akhtar, Tanzeel. “People’s Bank of China Official Says Fully Anonymous Digital Yuan ‘Not Feasible.’ ” Coindesk. March 22, 2021. https://www. coindesk. com/peoples-bank-of-china-official-says-fully-anonymous-digital-yuan-not-feasible.
Albert, Eleanor. “What to Know About Sanctions on North Korea”. Council on Foreign Relations. Last updated July 16, 2019. https://www. cfr. org/backgrounder/what-know-about-sanctions-north-korea.
Aliaj, Ortenca, and Nastassia Astrasheuskaya. “Russia’s Rosneft Switches All Export Contracts to Euros”. Financial Times, October 24, 2019. https://www. ft. com/content/f886658c-f65c‐11e9-a79c-bc9acae3b654.
AllSeas. “Allseas Suspends Nord Stream 2 Pipelay Activities”. December 21, 2019. https://allseas. com/wp-content/uploads/2019/12/2019–1221-Media-statement-Allseas-discontinues-Nord-Stream‐2-pipelay. pdf.
Alper, Alexandra, Toby Sterling, and Stephen Nellis. “Trump Administration Pressed Dutch Hard to Cancel China Chip-Equipment Sale: Sources”. Reuters, January 6, 2020. https://www. reuters. com/article/us-asml-holding-usa-china-insight-idUSKBN1Z50HN.
Amiti, Mary, Stephen J. Redding, and David Weinstein. “The Impact of the 2018 Trade War on U. S. Prices and Welfare”. Centre for Economic Performance. March 2019. http://cep. lse. ac. uk/pubs/download/dp1603. pdf.
Anderson, Lisa. “Rogue Libya’s Long Road”. Middle East Report, no. 241 (2006): 42–47. https://doi. org/10.2307/25164764.
Andrianova, Anna, and Andrey Biryukov. “U. S. ‘Shooting Itself ’ with Steps That Harm Dollar, Putin Says”. Bloomberg, November 28, 2018. https://www. bloomberg. com/news/articles/2018–11–28/u-s-shooting-itself-with-steps-that-harm-dollar-putin-says.
Arachnys. “Providing Frictionless AML for a Global Bank’s 3,000 Analysts”. September 15, 2019. https://www. arachnys. com/providing-frictionless-aml-for-a-global-banks‐3000-analysts.
Araud, Gerard. Passeport Diplomatique, Quarante Ans au Quai d’Orsay. Paris: Grasset, 2019.
Arcesati, Rebecca. “The Digital Silk Road Is a Development Issue”. Mercator Institute for China Studies. April 28, 2020. https://merics. org/en/analysis/digital-silk-road-development-issue.
Areddy, James. “China Creates Its Own Digital Currency, a First for Major Economy”. Wall Street Journal, April 5, 2021. https://www. wsj. com/articles/china-creates-its-own-digital-currency-a-first-for-major-economy‐11617634118.
Argus Media. “US Treasury Extends Block on Takeover of Citgo”. Accessed December 1, 2020. https://www. argusmedia. com/en/news/2123539-us-treasury-extends-block-on-takeover-of-citgo.
Associated Press. “China Passes New Law Restricting Sensitive Exports”. October 18, 2020. https://apnews. com/article/technology-beijing-global-trade-china-national-security‐396e42dbf147c9b55863fb90099303cb.
Astakhova, Olesya, Elena Fabrichnaya, and Andrey Ostroukh. “Rosneft Switches Contracts to Euros from Dollars Due to U. S. Sanctions”. Reuters, October 24, 2019. https://www. reuters. com/article/us-rosneft-contracts-euro/rosneft-switches-contracts-to-euros-from-dollars-due-to-u-s-sanctions-idUSKBN1X31JT.
Aubouin, Marc. “Use of Currencies in International Trade: Any Changes in the Picture?” World Trade Organization. May 2012. https://www. wto. org/english/res_e/reser_e/ersd201210_e. pdf.
Austrian Federal Ministry for European and International Affairs. “Foreign Ministry Ceases Investigations Against BAWAG Bank”. June 21, 2007. https://www. bmeia. gv. at/en/the-ministry/press/announcements/2007/foreign-ministry-ceases-investigations-against-bawag-bank.
Babones, Salvatore. “China’s Drive to Make Semiconductor Chips Is Failing”. Foreign Policy, December 14, 2020. https://foreignpolicy. com/2020/12/14/china-technology-sanctions-huawei-chips-semiconductors.
Bahar, Dany, Sebastian Bustos, Jose R. Morales, and Miguel A. Santos. “Impact of the 2017 Sanctions on Venezuela, Revisiting the Evidence”. Brookings. May 2019. https://www. brookings. edu/wp-content/uploads/2019/05/impact-of-the‐2017-sanctions-on-venezuela_final. pdf.
Bajak, Frank. “US Adds New Sanction on Chinese Tech Giant Huawei”. Associated Press, May 16, 2020. https://apnews. com/article/22e139b05c8f6b8a9c910eebea8c295e.
Baker, Stephanie. “U. S. Senator Asks Treasury for Sanctions Briefing on Deripaska”. Bloomberg, December 23, 2020. https://www. bloomberg. com/news/articles/2020–12–23/u-s-senator-asks-treasury-for-sanctions-briefing-on-deripaska.
Banco, Erin. “Treasury Department Chaos Leads to Exodus of Key Staffers”. Daily Beast, January 9, 2019. https://www. thedailybeast. com/treasury-department-chaos-leads-to-exodus-of-key-staffers.
Bank of America. “The Cost of Remaking Supply Chains: Significant but Not Prohibitive”. July 23, 2020. https://www. bofaml. com/content/dam/boamlis/documents/articles/ID20_0734/cost_of_remaking_supply_chains. pdf.
Bank of Finland Institute for Emerging Economies (BOFIT). “China Now Has the World’s Second Largest Bond Market After the US”. July 30, 2021. https://www. bofit. fi/en/monitoring/weekly/2021/vw202130_2.
Bartlett, Jason, and Megan Ophel. “Sanctions by the Numbers: U. S. Secondary Sanctions”. Center for a New American Security. August 26, 2021. https://www. cnas. org/publications/reports/sanctions-by-the-numbers-u-s-secondary-sanctions.
Batmanghelidj, Esfandyar. “Resistance Is Simple, Resilience Is Complex: Sanctions and the Composition of Iranian Trade”. Johns Hopkins University. Accessed December 10, 2020. https://static1. squarespace. com/static/5f0f5b1018e89f351b8b3ef8/t/5fd0e4a906d21916ed79ba75/1607525546925/IranUnderSanctions_Batmanghelidj. pdf.
Batmanghelidj, Esfandyar, and Abbas Kebriaeezadeh. “As Coronavirus Spreads, Iranian Doctors Fear the Worst”. Foreign Policy, March 3, 2020. https://foreignpolicy. com/2020/03/03/iran
