Читать онлайн Неизвестная Тэффи бесплатно
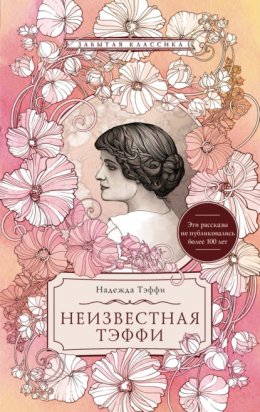
© В. Вербинина, составитель, 2024
© ООО «Издательство АСТ», 2024
Предисловие
Этот том открывает новую страницу творческого наследия Тэффи. Здесь собраны главным образом рассказы и фельетоны, которые автор впоследствии не перепечатывала в составе сборников и которые по этой причине выпали из поля зрения последующих поколений читателей. А между тем многие из них по своим достоинствам ничуть не хуже тех, которые читателям Тэффи хорошо знакомы.
Некоторые из текстов, уже известных поклонникам Тэффи по другим публикациям, в сборнике представлены в новых расширенных редакциях. Это связано с тем, что иногда она писала рассказ на какую-то тему, а через несколько дней в газете выходило как бы дополнение к нему, которое развивало главную мысль. Такая вторая часть не существует в отрыве от первой, это ее естественное продолжение (см., например, «Народный язык», «Система Тэйлора»). Также для удобства читателей я включила в сборник хорошо известный рассказ «Демоническая женщина», так как он в каком-то смысле образует пару с новонайденным «Демоническим мужчиной».
Надежда Александровна Лохвицкая (по мужу Бучинская) сотрудничала с множеством изданий, начиная с «Русского слова» и «Речи» в империи Российской и заканчивая «Возрождением» и «Последними новостями» в парижской эмиграции. Исследователи вычислили, что перу Тэффи принадлежит более 1500 произведений малой прозы – и это не считая стихотворений и пьес для театра. В основном издаются и переиздаются несколько сотен ее юмористических рассказов, которые она сама включила в свои сборники, неизменно пользовавшиеся огромной популярностью.
Настало время вернуть читателям те тексты Надежды Александровны, которые остались на страницах газет и журналов и не перепечатывались многие годы – в некоторых случаях больше века. Эти рассказы, фельетоны, путевые очерки, эссе отражают личность Тэффи, в них слышен ее голос, ощущаются ее теплый юмор, наблюдательность и человечность. Надежда Александровна принадлежит к авторам, которых никогда не устаешь читать. У нее был талант даже самые обыкновенные, казалось бы, темы подавать с выдумкой, озорством и изяществом. Есть прекрасные – и даже великие писатели – которых нравится читать, которыми искренне восхищаешься, но они все же подавляют. Невозможно представить, чтобы с ними захотелось бы подружиться. В противоположность им Тэффи – редкий тип автора-друга. Она остроумна и порой чрезвычайно язвительна, но вместе с тем добра и снисходительна. Иронизируя над другими, она не забывает посмеяться и над собой. У ее рассказов своя узнаваемая интонация, и среди юмористов своего века Тэффи стоит особняком.
Ее истории запечатлели две эпохи – последние годы Российской империи в ее многообразии и послереволюционную жизнь в эмиграции – трудную, но полную надежд на лучшее, на возвращение домой, вероятность которого с течением времени становилась все более и более призрачной. И хотя Тэффи после вынужденного переезда во Францию много печаталась и продолжала пользоваться известностью, жизнь на чужбине давалась писательнице так же нелегко, как и другим изгнанникам, бытие которых она изобразила в своих эмигрантских рассказах.
В сборник включены произведения Тэффи разных периодов. Даты проставлены в соответствии с печатными источниками. Иногда Надежда Александровна переиздавала свои тексты с некоторыми изменениями – так, рассказ «Свои люди» впервые был напечатан в 1918 году, однако в сборник вошла более поздняя версия из газеты «Возрождение».
За пределами данного сборника остались пьесы для театра, стихотворения, рецензии и те из прозаических вещей, которые в силу своей чрезмерной злободневности потребуют пространных объяснений, что именно имелось в виду и над чем иронизирует писательница. Рассказы, включенные в сборник, снабжены комментариями для удобства современного читателя.
Валерия Вербинина
Чуткая любовь
Тавина ждала Артемия Николаевича.
Это было в первый раз, это был первый вечер, который они должны были провести вдвоем.
Тавина волновалась.
Артемий Николаевич такой чуткий, такой тонкий, почти как она сама. Сидеть с ним под большим розовым абажуром, слушать, как он говорит, отвечать полусловами и полусловами спрашивать, и никогда не знать, что именно будет забыто, и о чем они будут вспоминать «потом», – так радостно и жутко. Как захватывающе интересно, что, в сущности, оба они знают, как сильно нравятся друг другу, и оба притворяются, что ничего не понимают. И все только для того, чтобы как можно дольше идти по дороге самых сладких первых настроений новой любви.
«Мы – виртуозы чувства!» – с гордостью думала Тавина, ставя на пол у дивана длинный узкий бокал с розами.
«Чай подадут сюда. В столовую переходить не следует. Ничто так не разбивает настроения и не уравновешивает душу, как переход с места на место. Иногда человек, пройдя всю стадию нарастания чувства, уже готов открыть рот, чтобы крикнуть: “Люблю тебя!”, а пересади его в эту минуту на другой стул – он сразу и уравновесится».
Тавина обдумала и приготовила все, и когда в десять часов раздался звонок, ей осталось только повернуться у дверей в профиль, чтобы «он» получил сразу самое лучшее эстетическое впечатление, какое может дать ее внешность.
И впечатление получил сполна – только не он, а кто-то другой.
– Боже мой, как вы сегодня эффектны!
Что за голос?
Тихо холодея, Тавина повернула голову.
В дверях в позе самого безмятежного восхищения стоял доктор Курц – рыжий, носатый, с руками, обросшими красной шерстью, «весь в кудрях», как поется в народной песне. Презренный доктор Курц!
– Как это мило, что вы зашли! – сказала Тавина тоном, говорящим: «Как ты сюда залез?»
– Боже ж мой! – ликовал доктор Курц. – Да я об этой минуте мечтал с девятого числа.
Тавиной было так безразлично докторское мечтанье, что она даже не полюбопытствовала узнать, почему именно с девятого. Она только вытерла потихоньку поцелованную Курцем руку.
И так как ей было противно, чтобы доктор смотрел на цветы, приготовленные «для него», то она посадила доктора спиной к ним.
Началась беседа.
Говорил Курц. Тавина отвечала на все молча, мысленно, томно улыбаясь. Ответ этот был: «Чтоб ты сдох!»
Через десять минут пришел Артемий Николаевич.
Он, видимо, был неприятно поражен, увидя Курца. Надулся, молчал. Потом неожиданно вступил с Курцем в самую оживленную беседу.
На Тавину он даже не смотрел, точно забыл о ее существовании.
Доктор был польщен таким исключительным вниманием и заливался соловьем.
Тавина глядела на Артемия Николаевича и старалась понять.
Мучилась, мучилась, наконец поняла. Ясное дело: это все нарочно. Он – виртуоз чувства.
Он нашел, что на сегодняшний вечер все равно все потеряно, и решил донять ее равнодушием. Это очень умно. Жаль, что она сама не успела опередить его и занять эту позицию. В ее руках к тому же был козырь: можно было пококетничать с Курцем.
Как хорошо, что она все понимает. Такая тонкая, такая чуткая…
Они ушли оба вместе – и Артемий Николаевич, и Курц.
Она все-таки надеялась, что Артемий Николаевич останется.
– Вы хотели мне прочесть какие-то стихи… – робко сказала она.
– К сожалению, теперь уже поздно.
И они ушли.
А когда ушли, она долго оставалась одна в передней, побледневшая и растерянная. Так жаль было загубленного вечера.
Медленно, опустив голову, вернулась она в гостиную, еще пахнувшую «его» папиросой, и вдруг увидела на ковре, около «его» кресла, носовой платок. Она подняла платок, нежно его разгладила и, смущенно засмеявшись, закрыла им свое лицо.
«Его» платок… его, его… Он, кажется, еще сохранил запах его рук, его лица…
Она долго смеялась и говорила его платку все те «пошлые» слова, которые никогда не решится сказать «ему» самому, потому что она виртуозка, тонкая, особенная.
– Милый… Я люблю тебя… Я так люблю тебя…
Потом легла спать и положила платок на подушку, и ночью, просыпаясь, говорила ему простые слова любви и целовала его.
Утром ждала звонка по телефону, но звонка, конечно, не было. Виртуозы не звонят.
Вспомнила о платке, улыбнулась.
– Тайное счастье мое!
Пошла гулять и встретила Курца. Оп ехал на извозчике и так обрадовался, увидя ее, что скатился с сиденья кубарем.
– Боже ж мой! Я так счастлив! Хе-хе! А я скоро у вас опять буду.
«Чтоб ты сдох!» – крикнула душа Тавиной, а губы прошептали:
– Очень рада.
– Скоро, скоро буду. Хе-хе! Я верю в приметы. Я у вас вчера забыл носовой платок, значит, по народной примете скоро опять приду.
– Что?.. Что?.. Вы…
– Боже ж мой! Да вам, кажется, дурно! Ох уж эти мне нервозные дамочки… Влюблена она в меня, что ли?
1914
Заступник
Перед обедом Сергунов спросил у жены:
– Студент Ваня придет?
– Придет. Я ему сказала, чтобы каждый день приходил обедать. Наврала, будто нам с тобой вдвоем скучно, что у тебя аппетит плохой, и все такое. Он обещал приходить.
– Несчастный молодой человек! – вздохнул Сергунов. – Один в целом свете, и денег ни гроша. Только бы он не догадался, что мы понимаем его положение.
– Нет-нет. Я уже тебе говорю, что сказала, будто нам вдвоем скучно. Пусть думает, что он же нам услугу оказывает.
– Пусть думает. Это хорошо. С ним нужно быть особенно деликатным. Для интеллигентного человека жить подачками страшно тяжело. Несчастный он, несчастный. Ведь если бы мы его не позвали, питался бы колбасой, и это теперь, в холерное время.
– Какое же теперь холерное время? Ни одного случая холеры не было.
– А ты непременно хочешь, чтобы был? Я не понимаю, Маруся, откуда в тебе такая жестокость! И во всем она у тебя проглядывает. Вчера, за обедом, вдруг говоришь студенту Ване: «Не хотите ли еще супу?» Он даже покраснел. Разве можно так говорить? Ведь ты этим ясно подчеркиваешь, что ты, мол, добрая женщина, а он, мол, приживальщик. Разве это красиво?
– Ну что за вздор! Уж нельзя ему супу предложить?
– Можно, но все это нужно делать деликатнее. Налила бы себе, мне вторую тарелку, вот все и произошло бы вполне естественно.
– Однако же он преспокойно съел.
– С голоду и не то сделаешь. Наверное, с большим бы удовольствием швырнул эту тарелку тебе в лицо. Чуткости в тебе нет, мать моя! Чуткости.
К обеду пришел студент Ваня. Длинный, патлатый, костистый.
Сергунов долго тряс ему руку обеими руками и говорил, неестественно захлебываясь от радости:
– Наконец-то, дорогой Иван Васильевич! Наконец-то мы вас снова увидели!
Студент удивился:
– А что? Разве я опоздал?
– Нет-нет, что вы! Ради бога, не подумайте! Да, наконец, если бы и опоздали, что же, мы не можем подождать вас, что ли? Да мы вам стольким обязаны!
Студент посмотрел подозрительно, ничего не сказал и сел за стол.
– Марусенька! Мне еще супу! – закричал Сергунов, не успев покончить с первой тарелкой. – Нам с Иваном Васильевичем еще. Бери и себе еще.
– Я больше не хочу.
– Очень деликатно, нечего сказать! – прошептал Сергунов.
Студент Ваня ел сосредоточенно, съел три тарелки и вытер лоб.
После четвертой котлеты сказал сам себе: «Славно».
– Скушайте еще! – предложила Сергунова.
– Мерси, достаточно.
– Вы ужасно мало кушаете, – сказала Сергунова и сама покраснела.
– Вы совсем, совсем ничего не едите! – с пафосом закричал Сергунов. – Ровно ничего.
Он выпучил глаза и выпятил грудь.
Бей, мол, меня, а я свидетельствую истину и от слов своих не отрекусь.
– Да-да… – лепетала жена. – Да… мы ужасно удивляемся…
– Чему же вы удивляетесь? – сконфузился студент.
– Да вот тому, что вы так все не едите…
– Ну, уж это, знаете ли, того… скорее насмешка.
– Как так насмешка! – вскочил Сергунов. – Вы действительно так мало кушаете, что я даже беспокоился. Пенял жене. У нас все как-то невкусно, оттого, – говорю, – и Иван Васильевич ничего не кушает.
Студент посмотрел подозрительно, надулся и отказался от сладкого.
После обеда Сергунова, чтобы развлечь студента, стала играть с ним в шашки.
Студент развеселился и хохотал, выпячивая кадык.
Сергунов сидел рядом, подсказывал студенту ходы и делал ему комплименты. Выигрывала все время, несмотря на подмигивания мужа, хозяйка дома.
Ей было тошно и тяжело от трех тарелок супа и пяти котлет, съеденных для ободрения студента, ей хотелось спать, но она самоотверженно делала вид, что ей очень весело, и хлопала в ладоши.
– Опять я выиграла! Выиграла! Выиграла!
Муж мигал, крутил глазами.
– Опять я выиграла. Вот увидите – снова выиграю.
Сергунов тяжело задышал.
– Перестанешь ли ты, наконец! – зашипел он.
Но Сергунова не слышала.
– Ха-ха-ха! Вот я и выиграла! Опять Иван Васильевич с носом! Уж где вам со мной состязаться! Ничего-то вы не умеете, а туда же, воображаете.
– А-а!
Сергунов вдруг вскочил и стукнул кулаком по доске.
– Молчать! Подлая! Довольно я терпел эти издевательства над бедным человеком! Ты думаешь, что за твой жалкий обед ты имеешь право глумиться над голодным! Имеешь право подчеркнуть его зависимое положение! Ты, мол, прихлебатель, ты нищий, выпросивший кусок хлеба, – так терпи, мол, всякие унижения. Терпи! Голод заставит!
– Что с вами? Что вы говорите? – вскочил студент.
– А то, что я не позволю! Да, вы нищий, да, вы прихлебатель, но что же из этого? Неужели это дает право безнаказанно оскорблять вас? Вы не сумели устроиться в жизни, вы неумны, вы…
– Молчать! – вдруг заревел студент и выпятил кадык. – Молчать! Низкий человек!
Он подскочил к Сергунову, словно хотел ударить его, потом приостановился и пошел в переднюю.
– Что? Добилась своего? – шипел Сергунов над горько плачущей женой. – Заела человека? Добила? Теперь радуйся. Он умрет под забором, а ты сиди и котлеты ешь. Загубила, добила и радуйся. Пляши теперь!
1915
Вразнос
В маленьком провинциальном городке редактора маленькой местной газетки разбудил рано утром голос разносчика, выкликавшего что-то длинное, оканчивающееся словом «править».
– Верно – бритвы править, – догадался редактор и тут же подумал, что мотив, на который выкликал разносчик, был не обычный, не общепринятый для точильщиков.
Те кричат на мотив известного немецкого романса: «Du bist wie eine Blu-u-ume!»[1] – «То-чить наж’-ножниц’-бритв править!»
Это каждый ребенок знает.
Тот же разносчик, которого услышал редактор, пел что-то очень длинное и только заканчивал словом «править».
Как человек, по положению своему живо интересующийся всяким жизненным явлением, хоть несколько выходящим из рамок обыденного, редактор высунулся в окно.
– Эй, ты! Что ты там кричишь?
Во дворе стоял молодой человек в пиджачке, с портфелем под мышкой.
Увидя редактора, он весь встрепенулся и завопил во весь голос:
– Темки свежие, темки! Передовые тянуть, фельетоны крутить, стишки высиживать, статьи править!
– Эт-та что? – удивился редактор. – Пожалте-ка сюда, пожалте-ка!
Молодой человек сейчас же юркнул в подъезд и через несколько секунд стучался у дверей редакторской комнаты.
– Что это вы такое продаете?
– Темки свежие, темки… – затянул было тот, но редактор остановил его.
– Объясняйте прямо, в чем дело.
– Вот товар продаем, самый лучший. Вам что угодно? Может, фельетончик поподжаристее? Или передовичку? У нас всякие есть: со штрафом, с отсидкой, с поставлением на вид, с первым предостережением, со вторым, с третьим. Статеечки с намеками, с оскорблением чести, обличительные, хвалебные… А то не угодно ли полный набор: вот передовичка с отсидкой, статейка с оскорблением, да к ним небольшой фельетончик сатирического свойства. Это для прихлопу, ежели у вас средства иссякли и хочется газету с треском закрыть.
– Ишь ты! – удивляется редактор.
– А можно и наоборот: о благоденствии жителей передовую, фельетон о процветании края и прочее. Полный гарнитур. Это ежели добиваетесь субсидии. Недорого бы уступил.
– Н-да, – сказал редактор. – Еще бы дорого. Товар лежалый, кому он нужен!
– Как кому нужен! С руками оторвут! Вы посмотрите, какая передовица-то!
– С душком.
– Это, должен вам сказать, на любителя так еще дороже ценится. И главное – что не партийное. Держите ее хоть десять лет, всегда при случае на нее спрос будет.
– Н-да, все вы это так говорите! – сделал редактор бывалый вид. – Возьмешь, да и наплачешься.
– Ну, как хотите. Я не навязываю. А только сами потом жалеть будете. Не нужно ли стишков сатирических? Очень едкие есть. С политической окраской, про трамвай. И припевчик такой веселенький:
- Каб не вывезла кривая,
- Не видать бы нам трамвая.
Само собою разумеется, что под трамваем надо понимать Думу.
– Ну, знаете ли, это уж натяжка!
– Что за натяжка! Невооруженным взглядом видно. Но есть и другие, если хотите для прихлопу…
– Нет, нет. Не нужно.
– Ну, возьмите гарнитурчик для праздника Вознесения. Здесь даже прилагается специальная статья одного очень известного приват-доцента. Очень интересно. Я вам советую остановиться на этом гарнитурчике. Лучшего нигде не найдете.
– На что он мне, ваш гарнитурчик? Мне теперь нужен материал злободневный.
– Злободневный? Отлично! Так бы и говорили. Вот есть у меня из злободневных про Пуришкевича[2], как он ругается. В осеннем настроении, в летнем, в весеннем и зимнем. Какой угодно – цена одинаковая. Я бы вам советовал взять весь набор, на все четыре сезона. Бойкий товар. Это не залежится. Всегда спрос. И заметьте, как вам будет удобно: он только что выругался, пока все ахают да ахают, а у вас уж и фельетон готов! Да ведь вашу газету нарасхват! Подумайте!
– Гм… оно, действительно… Только ведь не всегда же он одинаковыми словами ругается! Он скажет «дурак», а мы напечатаем «свинья». Вот и скажут, что мы искажаем факты.
– А на что в газете существует редактор? Вы впишите необходимое ругательное слово и сдавайте фельетон в набор. А то поставьте несколько точек в кавычках – вас же похвалят за скромность. Зато весь антураж как у вас будет описан! Одно описание Екатерининского зала, где гулко раздавались много веков тому назад шаги временщиков! Одно это описание потрясает до слез. А фигуры депутатов, их побледневшие лица и мгновенно поседевшие бороды! Нет, батенька мой, здесь работало перо такого мастера, которого вам и читать-то не доводилось, не то что печатать в своей захудалой газетке! Да-с!
– Почему же это не доводилось? – обиделся редактор. – У нас тоже очень почтенные лица писали. А читаю я кого угодно. Я все газеты читаю, почему ж бы я именно на такую прелесть натолкнуться не мог? Уж очень вы высокого мнения о вашем товаре!
Продавец слегка смутился и стал усердно навязывать еще какой-то гарнитурчик.
– А как вы подписываетесь? – спросил редактор, выбрав, наконец, два фельетончика по сходной цене.
– Мой псевдоним «Грез» – мужской род от Грезы. Но если не нравится и расходится, так сказать, с принципами вашей газеты, то я, конечно, не постою.
– Я как будто уже встречался с вашим псевдонимом…
– Очень может быть. В «Мармыжском Голосе» была моя статейка. «Синайские Отголоски» также меня печатали. Статью. Купили целый гарнитур для прихлопу, да потом раздобылись деньгами и раздумали. Теперь поеду в Саратов, может, что продам. Да вам не нужно ли что-нибудь починить, переделать? Перекроить старый фельетон на новый? Передовичку залатать после цензурного уреза? А? Я скоро еще наведаюсь. Будьте здоровы!
Он раскланялся и вышел.
Во дворе снова раздался его голос, звонко и уже вполне ясно выкликавший свой товар:
– Передовые тянуть! Фельетоны крутить, стишки высиживать, статьи править! Темки! Свежие темки!
1910
Проклятые вопросы
Вчера у меня спросили девять раз:
– Куда вы думаете на лето?
Третьего дня спросили семь раз.
По теории вероятности, сегодня спросят тринадцать раз, а завтра – пятнадцать.
Они каждый день прибавляют по два вопроса. Но больше шестидесяти четырех вопросов в день я вынести не могу. У меня слабый организм. Ведь это выйдет, если вычесть восемь часов на сон, по четыре вопроса в час.
Но вопросная болезнь заразительна, и я уже с ужасом уличила себя три раза в нападении на самых мирных и беззащитных людей.
– Куда вы думаете на лето?
И пока они тянули свою длинную мутную историю, как хотели ехать на Лахту, да там сыро, а потом хотели в Парголово, да там ветер, я мучилась угрызениями совести:
– И зачем я их растревожила? И им рассказывать скучно, и мне слушать не легче. Ни себе, ни другим. Собака на сене, или, как говорят у нас в Малом театре, «Собака садовника».
* * *
День начался.
Пришла родственница и, целуя меня в щеку, прямо в щеку, спросила:
– Куда ты… ч-чмок… думаешь на лето?
– Не знаю еще.
– А кто же должен за тебя знать? – обиделась родственница.
– Поеду в какой-нибудь курорт.
– Как это культурно – говорить «в какой-нибудь»! Ты должна ехать в Кисловодск, потому что у тебя нет кровяных шариков.
– Ты думаешь?
– Это тебе каждый дурак скажет.
Я хотела было ответить, что лучше уж подождать, что скажет доктор, но по лицу родственницы поняла, что она стоит за консультацию дураков, и покорно согласилась.
– Хорошо, я поеду в Кисловодск.
– Ну, вот и ладно. Вернешься толстая и красная. Ты непременно должна быть толстая и красная.
Сердце мое сжалось тоской. Я никогда не хотела быть толстой и красной! Но раз я должна…
Кода ушла родственница, пришла приятельница и сказала мне:
– Куда… ч-чмок… думаешь на лето?
– В Кисловодск.
– Это зачем?
– За кровяными шариками. Я должна быть толстая и красивая, – отвечала я с тоскливой покорностью.
– Да ты с ума сошла! Тебе, наоборот, похудеть нужно! С осени начнут юбки-панье носить, а она толстеть собирается. Тебе в Ессентуки нужно, вот куда. Подтянуться, потренироваться.
– Хорошо! – покорно согласилась я. – Я поеду в Ессентуки.
Приятельницу сменила просто знакомая дама.
– Куда думаете на лето?
– В Ессентуки.
– В Ессентуки? Зачем вам в Ессентуки?
– Мне нужно подтянуться и потренироваться.
– Это вам-то? С вашей неврастенией? Да вы и так – краше в гроб кладут. Вам нужно в деревню, в простую русскую деревню, где, как писал Толстой, «пахнет дымом и баранками». Только там, наедине с природой, сможете вы набраться свежих сил. Вы должны отдохнуть от людей. Это важнее всего.
Спорить было бесполезно. Она знала все, что мне нужно, лучше меня, и я согласилась.
Вышла на улицу, встретила старого полковника.
– Вы куда на дачу? – шамкнул он.
– Я в деревню, в простую русскую деревню, отдохнуть от людей.
– Это вы-то в деревню? – испугался полковник. – Да вы там трех дней не просидите! Тоска, простокваша, куры клохчут. Вы – человек нервный, вам этого не выдержать. Вам надо в Aix-les-Bains[3], вот куда вам надо. Туда, где кипит жизнь, где веселье, туалеты, музыка. Вот куда! А в деревне вы пропадете.
– Что ж, это идея. Поеду в Aix.
Вечером в театре ко мне вдруг повернулась какая-то давно забытая физиономия и многозначительно хрюкнула:
– А вы куда думаете на лето?
– В Aix-les-Bains!
Физиономия изобразила ужас.
– Вы? В Aix-les-Bains? С вашей-то печенью? Да кто вам позволит!
– У меня печень никогда в жизни не болела! – удивилась я.
– Голубчик мой, все так говорят! Не болит, не болит, да вдруг и заболит. Вы должны ехать в Карлсбад[4]; это единственное место, где еще могут справиться с вашей печенью. У меня была племянница, и представьте себе, как рукой сняло. То есть не племянницу сняло, а печень. Не слушайте никого, верьте мне и поезжайте в Карлсбад, и как можно скорее.
В следующем антракте забытую физиономию сменила физиономия уже совершенно незнакомая, которая, осведомившись о моих планах и узнав, что я думаю ехать в Карлсбад, чуть не упала в обморок.
– С вашим сердцем пить шпрудель![5] Да вы себя уморить хотите!
– У меня сердце здоровое! – успокаивала я физиономию.
– Ох, уж лучше молчите! Поверьте, что лучше меня никто не знает вашего организма. Вам нужен Наугейм[6]. Поезжайте вы прямо туда и там в вилле «Минна» спросите фрау Копф, если только она там. Девять лет тому назад она, по крайней мере, была там. Ну-с, так вот она вам все и устроит.
– Да что же она мне устроит?
– Как что? Да все! Уж поверьте, что фрау Копф лучше нас с вами знает, что для вас полезно.
Я кротко согласилась.
При выходе из театра какая-то голова в толпе закивала мне и что-то заговорила. Голова была далеко, и я не слышала слов, но по губам поняла, что она спрашивала:
– А вы куда думаете на лето?
* * *
Теперь я знаю, что такое так называемые «проклятые вопросы».
1912
Солнечная тайна
Кавурин опять проигрался в клубе, опять вернулся домой в восемь утра и опять долго и грубо кричал на жену, срывая на ней досаду.
– Ведь я же не виновата, – говорила жена. – Не я тебя в клуб гоню; я, наоборот, отговаривала.
– Я оттого и проигрался, что ты вечно каркаешь! Если бы я шел в приятном настроении, я бы никогда не проигрался. А все оттого, что ты – подлая. У тебя вся душа подлая…
Он кричал, хлопал дверьми, топал ногами и, если жена долго не подавала реплики, злился еще больше, потому что без реплик скоро иссякал.
– Ты чего молчишь? Ты это назло молчишь? Назло? Чтобы меня окончательно вывести из себя? Чтобы я пустил себе пулю в лоб? Отвечай, когда тебя спрашивают!
Жена не знала, что отвечать. Говорила:
– Успокойся!
Но это и было хуже всего. Ничто так не подзадоривает разбушевавшегося человека, как это тихое слово.
Кавурин захлебывался от бешенства, бил себя в грудь кулаками и вопил злорадно и дико:
– Ага! Теперь «успокойся»! Сначала довести человека до полного умоисступления, а потом «успокойся». Отчего ты мне раньше не говорила «успокойся», когда я себя хорошо чувствовал, был тих и весел? А? Скажи мне только одно… Я тебя спрашиваю: отчего раньше не говорила? Ага! Теперь молчишь! Чего же ты молчишь? Я тебя спрашиваю. Отвечай: чего ты молчишь? О любовниках думаешь? Бабе сорок лет, а она еще о любовниках думает!
Кавуриной было тридцать девять, и поэтому она не могла перенести, когда он говорил, что ей сорок. Она начинала тихо плакать и говорила через носовой платок:
– Низко! Низко так поступать… Вот дождешься… Сам виноват… Сам в бездну толкаешь!..
Бежала, спотыкаясь и всхлипывая, в свою комнату и запиралась на ключ.
Кавурин некоторое время размышлял, выбирал: бежать ли за ней и колотить в дверь ногами, пока не откроет, или ложиться спать?
– Бездна? Какая такая бездна? Почему она каждый раз про бездну?..
Но думать было трудно. В усталой голове рябили карты…
– Врет, подлая. Никакой бездны нет.
А бездна была.
Кавурина, наплакавшись и обвязав голову мокрым полотенцем, снимала с шеи висевший на цепочке ключик и открывала шкатулочку. Из шкатулочки вынимала футляр с эмалевыми часиками, поднимала часики и из углубления под ними доставала маленькую, туго свернутую бумажку.
Развертывала – и бумажка оказывалась старой истертой на сгибах телеграммой: «Почтамт востребование Кавуриной приедетели жду Андрей».
Кавурина читала, улыбалась и снова плакала.
«Милый! – думала она. – Вот уже девять лет… больше, в мае будет десять. Десять лет, как он ждет меня! Эта телеграмма была из Костромы. Может быть, он теперь уж и не в Костроме. Где-то он теперь? Где живет, где мучается, где ждет свою Вавочку?»
Он и не знал, что Вавочка давно решила бросить мужа и переехать к нему. Она не ответила на телеграмму потому, что тогда, десять лет назад, все чего-то боялась. Теперь нет. Теперь она ничего не боится и прямо, с открытыми глазами, бросится в бездну.
Она давно готова.
Уже два года назад она купила желтый чемоданчик на дорогу. И заказала костюм. Костюм, конечно, придется сшить новый, потому что этот вышел из моды. Сошьет синий с поясом – это очень элегантно. У хорошего портного. Она имеет на это право. Она столько лет терпела от этого зверя несправедливости, придирки, измывательства – как только сил хватило? Но потому их и хватило, что у нее был все время камень за пазухой. Нет, зачем так грубо? Не камень и не за пазухой, а тайна – светлая, солнечная тайна. Если бы не было этой мечты, этой возможности, разве могла бы она безропотно снести все, что сносит?
Только где он… тот? Ведь он после телеграммы не написал ни слова.
Может быть, следует сначала телеграфировать ему? «Кострома, Андрею Павленко». А как его отчество? Иваныч, что ли?.. Как странно – забыла отчество!..
Но, может быть, потом вспомнит…
Теперь нужно спрятать телеграмму, лечь в постель и думать, как они встретятся.
Костюм на ней будет синий с поясом. Или, может быть, пояс толстит?..
1914
Предпраздничное 1914 г
1
– Покажи-ка, покажи-ка материю-то. Глаза у меня старые; мне вглядеться нужно.
– Отличная материя-с. Высшей доброты.
– Что-то пестрит больно. Мне ведь для дочки, для девицы.
– Ничуть даже не пестрит. Лучшего качества. Очень хороша.
– Хороша-то хороша, да только как же я ее чучелой-то одену? Ведь дочка.
– Зачем же чучелой? Самая модная материя, танго.
– Как?
– Танго.
– Ишь! Ну, ладно. Отрежь шесть аршин. Да еще правда ли, что она… это-то, самое то. Совесть-то ведь у вас резиновая.
– Будьте покойны. С ручательством. Ежели окажется, что не танго, – переменим.
– Ну, ладно. Режь.
2
– Это у вас что там висит?
– Юбка бумазеевая[7]. Практичная вещь. Стирается, и температура в ней теплая.
– Покажите-ка. Почем?
– Три рубля.
– Три-и? Я осенью за такую же полтора заплатила.
– Так то осень. А теперь эта самая юбка меньше трех не идет. Потому что теперь она танго.
– Что?
– Танго.
– Ишь!
3
– Посмотри, посмотри, какая безобразная походка. Левая нога внутрь, живот выпятила… Вот смешно!
– Где? Ах, эта! Ну нет, это вовсе не смешно. Это танго.
– Да неужели? А по-моему, она калека.
– Ничего не калека. Это походка танго.
– Гм. Наверное?
– Ну, конечно. Кто же такими вещами шутит?
– А знаешь, если присмотреться, так это, пожалуй, даже красиво… Во всяком случае, оригинально… А что, очень трудно этому выучиться?
– Трудно. Нужно иметь врожденную склонность.
– Но зато как красиво! Только ты ручаешься, что это – танго?
– Ну, еще бы!
– Ах, какая прелесть. Я так сразу и поняла, что здесь кроется что-нибудь в этом роде. Прелесть!
4
– Слышали: Лиза Штокфиш готовит новую фигуру «танго». Будет на праздниках танцевать. Очень сложная.
– Это какая, сорок вторая фигура?
– Нет, пятьдесят третья, проклятая епископом нюрнбергским. Понимаешь: дама приседает, а кавалер стукает ее три раза коленом в лоб, потом перекидывает через руку…
– Колено?
– Нет, даму; она опять приседает, и он снова стукает ее в лоб. Потом опять перекидывает ее и…
– И стукает ее коленом в лоб?
– А ты откуда знаешь?
5
– Вам чего-с?
– Мне поздравительные открытки.
– Вот-с: шестьдесят различных «танго».
– Нет, мне для детей.
– Для детей? Вот, извольте: медведи танцуют «танго». А то вот курочки с цыплятами танго. Или вот зайчик танго, очень миленькая.
– Мне для мальчиков. Что-нибудь с аэропланом, что ли.
– Нет-с, аэропланов нету. Аэропланы это прошлогодние. Вот, не угодно ли для мальчиков – краснокожие танцуют танго. Или вот из естественной истории – носорог со слоном танцуют танго…
6
– Конфект? Есть новый сорт – танго. Мадмазель Амели, подайте сюда ленточку танго для обвязки.
– Печенье только один сорт – танго.
7
– Мне бы заплату на сапог, к Пасхе бы. Поспеете?
– Терентий! Вот им на сапог тангу нужно! Берешься, что ли?
8
– Сижков[8] не прикажете ли? Очень берут к разговенью. Этот вот будет рубль сорок. А ежели из тех выберете, можно по девяносто копеек.
– А что ж они, тухлые, что ли?
– Что вы, помилуйте! У нас тухлого товара не бывает. Так, немножко танго, это действительно… а только кушать можете вполне безопасно.
9
– Пошел скорее! Чего ты везешь – не везешь.
– Да как тут ехать-то, барин! Сами посмотрите, рази энто дорога! Грязища невпроворот. Одно слово – танго.
10
«…сего апреля профессор астрономии *** прочтет в зале народной аудитории доклад о социальном значении танго. На прения записались несколько видных представителей медицинского мира».
11
«В ночь на 3-е апреля застрелился на своем посту конный городовой, бляха № 4711, лошадь пегая. В оставленной им записке значится одно слово: «Танго».
Апрель 1914
Полиглот
Это, конечно, всякому известно, что теперь без знания языков положительно никуда нельзя пристроиться.
Недаром Виктор Андреевич Метиков распространяет слухи о своем полиглотстве.
– Мы, – говорит, – с женой владеем шестью языками. Я в совершенстве знаю русский. Она тоже. Вот вам два. Я знаю очень порядочно французский. Она тоже – вот вам еще два. Кроме того, я знаю недурно польский. Она тоже. Вот вам, значит, и еще два, итого шесть. Можем искать службу в какой-нибудь конторе вместе.
Вот как люди стараются.
Володя Ледоходов давно сознавал эту необходимость момента, но русскому человеку не так-то легко раскачаться на такой узко-эгоистический шаг, как забота о своих карьерных возможностях. У нас это вообще не только не одобряется, но даже как бы и презирается.
Но – влияние ли западной гнилой культуры или собственное очерствение сердца, но Володя Ледоходов преодолел все-таки свое врожденное отвращение к полезным поступкам и, решив стать полиглотом, посоветовался с приятелем, как бы ему для начала раздобыть недорогого хорошего учителя английского языка.
Остановил он свой выбор именно на английском, во-первых, потому что быстрое нарастание английских фильмов в кинематографе указывало на грозящую опасность полного исчезновения французских фильмов и – как тогда быть? Во-вторых, потому что в высшем французском обществе (где Володя никогда не бывал) английский язык настолько принят, что даже если кто и обмолвится французской фразой, то неукоснительно произнесет ее с английским акцентом.
Приятель посоветовал Володе прежде всего взять какой-нибудь английский роман, переведенный на русский язык, и читать два текста одновременно.
С этого Володя и начал.
К сожалению, русский переводчик оказался человеком очень своеобразным и переводил свободно и вольно не столь точно, сколько художественно.
В английском тексте, например, значилось: «А вот и ты, старый козел».
Русский перевод передавал эту добродушную фразу сухо и вежливо: «Добрый день, здравствуйте».
Володя запомнил эту фразу, так как в его общении с англичанами она могла ему понадобиться прежде всего.
Затем ему представилось полезным следующее выражение: «Замолчи, собака, и слушай, что я говорю». Фразу эту деликатный переводчик несколько смягчил, оставив ей основной смысл: «Я хотел бы сказать многое».
Заучил Володя еще фразу: «О, как мне хочется поплясать с вами», что звучало в переводе как «Я буду счастлив провести с вами время».
Больше ничего подходящего не нашел и систему эту решил бросить.
Тут как раз выяснилось, что существует в Париже профессор английского языка, с большим успехом преподающий по особой своей собственной системе. Уроки групповые и индивидуальные. Групповые дешевле.
Володя немедленно записался и узнал, что ближайший групповой урок назначен через два дня, в воскресенье утром. Для участия в групповом уроке он должен был прихватить с собой бутылку пива и десять бутербродов.
Володя немножко удивился, однако в воскресенье утром сделал пакет и пошел.
Группа была уже вся в сборе. Состояла она из четырех очень веселых и здоровых парней, трех простоватых девиц и одной старушонки. Все с пакетами.
Старушонка оказалась очень общительная и сразу объяснила Володе, что у профессора такая система, чтобы ученики изучали язык не по книжке, а в жизни. Он будет их водить по музеям, по ресторанам, по магазинам и говорить с ними по-английски, наглядно все объясняя. Результаты, наверное, будут великолепные. Он уже ходил с ними один раз в кинематограф, только там нельзя было разговаривать. Но все-таки по дороге им удалось узнать, что улица по-английски называется «стрит», а идти «ту го». И это уже запомнится твердо, потому что изучено по новой системе наглядно.
Так беседовал он со старушкой, пока не явился сам профессор, еще не старый мускулистый господин, больше похожий на жонглера, чем на жреца науки. Он был, по-видимому, в отличном настроении, пахло от него приятным аперитивчиком. Он подмигнул веселым молодым людям, пожал всем руку и сказал на скверном французском языке:
– Сегодня мы поедем в Булонский лес.
Пошли, сели в трамвай. Англичанин вынул газету и стал читать. Отыскали в парке укромный уголок, развернули пакеты. Начался урок. Англичанин высмотрел у старушонки бутерброд с сыром, объяснил, что бутерброд называется сэндвич, и съел его. Так же с объяснениями съел полдюжины бутербродов с ветчиной, выпил две бутылки пива, завалился на спину, закрыл лицо газетой и захрапел.
Ученики подождали, подождали, побродили по лесу и поехали по домам.
– Нет, – думал Володя, – что-то групповое изучение предмета мне не особенно нравится. Лучше заплатить дорого, но брать уроки отдельно. Так внимание профессора не будет разбиваться, и он всецело посвятит урок мне одному.
Сказано – сделано.
– Но имейте в виду, – заметил профессор, – что систему обучения я оставляю ту же и для уроков. Приходите завтра в восемь часов в кафе «Версай».
В восемь часов, как было условлено, Володя явился в кафе «Версай».
Профессор уже ждал его, сидя за шахматной доской.
– Отлично, – сказал он. – Вы ведь имеете понятие о шахматной игре?
– Очень слабое, – отвечал Володя.
– Это не имеет значения. Садитесь, не будем терять времени.
Профессор играл неважно, но очень сосредоточенно. Подолгу обдумывал ходы, и когда Володя робко спросил его, как по-английски пешка, он строго цыкнул на него.
– Тссс! Я не люблю, когда болтают за шахматами.
Проиграли молча часа полтора, закончили партию. Профессор встал, попрощался и буркнул:
– В среду – пария на биллиарде.
Володя впал в уныние.
Нет, очевидно, ни групповая, ни индивидуальная система этого профессора для него не подходят.
Призадумался, погрустил и решил пригласить к себе какого-нибудь опытного преподавателя прямо на дом. Выйдет, конечно, дороже, но зато будут несомненно хорошие результаты. Не отказываться же от изучения языка только потому, что попал на идиота. Ведь учатся же другие.
Поискал в газетах. Нашел. Написал. В указанный час явился приятный розовый старичок. Володя принялся объяснять по-французски, что именно ему нужно.
Старичок сначала сморщился, видимо, с трудом понимая французскую речь, и вдруг лицо его начало разглаживаться.
– Вы русский? – воскликнул он на чистейшем русском языке. – Господи! Какое счастье! Ну, мог ли я думать! Да говорите же скорее – ведь русский? Да? Да?
На лице его изобразился восторг, доходящий до боли.
– Русский, – с недоумением отвечал Володя. – А вы?
– Я? Я – увы. Я англичанин. Но я двадцать лет прожил в России, и теперь я знаю, что нет на свете другой такой страны. О-о-о! Я принужден давать уроки английского языка, но думаю я только по-русски. О, друг мой! Дайте мне вашу руку. Сядем рядом и поговорим на вашем прекрасном языке о вашей прекрасной родине. Помните вы Мустамяки? Помните станцию Любань? А Жмеринку? Какой там был буфет! В Ростове тоже чудный был буфет. Какие раки! Величиной с омара. Ботвинья… А Художественный театр! А какое отношение к иностранцам! Как к родным отцам. А расстегаи у Тестова! Вы ведь петербуржец? Где вы жили?
– На углу Бассейной и Литейной, – прошептал ошалевший Володя.
– Бассейной и Литейной! – восторженно продекламировал старичок. – Если бы вы знали, какой музыкой звучат для меня эти слова! Бассейной и Литейной. А помните Прачечный мост? Ведь был такой? Или я путаю? О, расскажите мне про Прачечный мост. Суслики! Нет, не суслики, а бублики… Я сейчас заплачу. Я ездил в Англию. И не мог. После России не мог. Уехал.
– Я бы хотел… – начал Володя.
Но старик не дал ему говорить.
– Вы помните рыбу налима? – спросил он.
Щеки его пылали, руки тряслись. С ним нельзя было говорить об уроках.
Он засиделся до глубокой ночи и, уходя, пригрозил, что скоро опять придет поболтать о России. Но зато порадовал, что за этот первый урок он возьмет только половинную цену, так как его ученик, по-видимому, немного успел усвоить.
На следующее утро Володя послал своему новому преподавателю отказ. Сослался на неожиданный отъезд.
Но как быть?
Хотел было снова вернуться к самообучению при помощи книги с переводом, но тут произошло некое событие, окончательно оттолкнувшее его от этого метода.
Тот самый приятель, который этот метод ему рекомендовал, как-то спросил:
– Ну что, мой метод пригодился?
– Пожалуй, он все-таки лучше, чем другие, – отвечал Володя. – Те несколько фраз, которые я заучил, запомнились мне твердо.
– Вот и отлично, – обрадовался приятель. – Теперь ты должен как можно скорее перейти к практике. Как увидишь англичанина, так и валяй. Главное, не смущайся. Иначе никогда не выучишься.
Володя совет одобрил и решил валять. Случай представился скоро. Как-то в обществе познакомили его с солидной английской четой.
Англичанин ткнул ему свою руку и что-то буркнул.
«Валяй!» – вспомнилось Володе.
Но что именно валять? Ну, конечно, «я буду счастлив провести с вами время».
И он, приветливо осклабившись, отчетливо сказал по-английски:
– О, как мне хочется поплясать с вами!
Англичанин изумленно поднял брови. Но Володя, осмелев, несся дальше. Почтительно склонившись перед важной англичанкой, он сказал:
– А вот и старый козел.
Его удивило негодующее выражение лица англичанки. Почему? Ведь он сказал ей «добрый день, здравствуйте».
И вдруг они оба, оба почтенных супруга, залопотали что-то непонятное, но явно недовольное. Володя слегка растерялся, но живо припомнил более или менее подходящую к случаю фразу: «я хотел бы сказать многое».
– Замолчи, собака, – вкрадчиво сказал он, изгибаясь перед разъяренной англичанкой. – Замолчи, собака, и слушай, что я говорю.
* * *
Я не знаю наверное, но кажется, что он решил теперь изучать испанский язык.
1934
Нищета
О, одиночество! О, нищета!
Мы живем в ужасное время!
Кризис, безработица, голодная смерть.
Госпожа Майкельсон все это учла и взяла себя в руки.
– Никаких лишних трат. Только самое необходимое. Экономия во всем.
Муж дал ей на этот раз для поездки в Европу немножко больше долларов, чем обычно, то есть, по правде говоря, даже переводя на франки (а госпожа Майкельсон напирала именно на то, что доллар упал), оказалось, что она вытянула больше обычного.
Экономия началась еще при отъезде: она не взяла с собой горничной. К чему? Кто-нибудь из приятельниц всегда сможет прислать свою камеристку, чтобы уложить платья, когда она будет уезжать.
В Париже она еще крепче взяла себя в руки и, приехав к «Ритцу», хотя и потребовала тот самый «аппартеман»[9], который всегда занимала, но попросила скидки.
– Время очень тяжелое, – сказала она. – Безработица, кризис. Я не могу больше платить шестьсот франков в день. Я могу платить только пятьсот пятьдесят. Это максимум. Имейте в виду, что я сижу без гроша.
Дирекция уступила.
Окрыленная успехом, госпожа Майкельсон заказала телефон в Нью-Йорк.
– Первые три минуты семьсот восемьдесят франков. Затем по двести. В общем, не так уж дорого.
К сожалению, у господина Майкельсона быль легкий грипп, он чихал, кашлял, сморкался и переспрашивал, так что разговор обошелся около двух тысяч.
Но зато она поразила его своей деловитостью и умением устраиваться.
К завтраку съехались милые приятельницы: Дороти, Джойс, Бекки и мадам Фук, рожденная Молочник, родственница русских царей.
Все дамы были не первой и даже не второй молодости, но еще, как говорится, позиции своей не сдавали, не в смысле каких-либо романических склонностей, а в смысле заботы о своей внешности. За исключением огромной, массивной Дороти, откровенно сизого цвета, с седоватыми волосами и пушистой бородавкой на подбородке, все были подмазаны, подкрашены, подперты со всех сторон. Тощая Бекки, несмотря на белую муаровую ленту, стягивающую индюшечью кожу ее шеи, щеголяла платиновыми кудрями и алым круглым ротиком, нарисованным как раз посредине вялых резиновых губ.
Толстенькая курносая Джойс трясла пухлыми дряблыми щечками, выкрашенными в нежно-абрикосовый цвет, и веки ее, намазанные голубой краской, блестели фосфорическим светом, когда она опускала глаза. Как у оперного Мефистофеля.
Сама госпожа Майкельсон, очевидно, только что выпущенная из рук опытного эстетического оператора[10], гордо показывала свою восстановленную юность: скошенные, как у китайца, глаза, оттянутые вверх углы рта, придающие свирепый оскал ее светской улыбке, и плотно обтянутые пористой кожей круглые скулы.
Самый достойный вид был у мадам Фук, родственницы русских царей. В меру подмазанная, элегантно, но скромно одетая, она даже принесла с собой нечто среднее между дамской сумкой и деловым портфелем.
Вся компания дружно и весело выпила по три аперитива. Говорили об ужасе, о кризисе и о платьях из парчи.
– Я сижу без гроша, – взволнованно призналась Джойс. – Донашиваю платья, которые сшила месяц тому назад.
– А я расстаюсь со своей «испано»! – вздохнула Дороти. – Оставила только «тальбо» и «делаж»[11]. Зачем мне три автомобиля? Все равно всех нас ждет голодная смерть.
– Вы не умеете жить, – назидательно сказала госпожа Майкельсон. – Надо экономить буквально на всем.
– Ах, дорогая, неужели вы думаете, что я не экономлю, – обиделась дама, продавшая «испано». – Мне сегодня утром почтальон принес заказное письмо, и я ему не дала ни гроша на чай. К чему эти пурбуары?[12] Один разврат. Они получают жалованье, и совершенно незачемразвращать их легкой наживой. Это пробуждает в них дурные инстинкты, и потом они очень легко идут на всякие преступления. Помните, какая была ужасная история? Вот такой почтальон или рассыльный пришел с деньгами к доктору, а доктор его убил и труп спрятал в шкап.
– Да-да, – сказала Майкельсон. – Только ведь убийца был не рассыльный.
– Но тем не менее из-за него доктору пришлось идти на каторгу, – строго сказала Дороти. – Нет, я больше никогда никому не буду давать на чай.
– Да, жизнь стала ужасна! – вступила в разговор мадам Фук, родственница русских царей. – Но тем не менее, раз вам нужны туалеты, вы должны будете их заказать. Я вам достану приглашения на самые изысканные балы, на дипломатические банкеты, всюду, где бывает избранное парижское общество, сливки сливок. Но все это требует туалетов. Пять-шесть бальных платьев, я думаю, будет достаточно?
– В крайнем случае, можно восемь, – вздохнула Майкельсон. – Что же делать, раз это необходимо. Конечно, я сижу без гроша, но я постараюсь сэкономить на чем-нибудь другом.
– Все мы без гроша, – строго сказала Дороти. – Уж если я решилась продать «испано» и остаться, как нищая, с двумя автомобилями…
– Ах, замолчи, Дороти! Не надо! Не надо! Мне больно за тебя! – томно воскликнула курносая Джойс и затрясла пухлыми щеками.
Тощая Бекки молча глотала суфле из курицы, и видно было, как куски проходят вдоль ее длинного индюшечьего горла, по которому двигалась белая муаровая лента.
– Дорогая моя, – сказала мадам Фук госпоже Майкельсон. – Но ведь вы, конечно, займетесь также приготовлениями к зимнему спорту. И с этим надо спешить.
Она медленно и деловито открыла свой портфель и вытащила оттуда что-то, завернутое в папиросную бумагу.
– Осторожно, – сказала она. – Отодвиньте тарелки, чтобы не запачкать. Вот.
Она медленно развернула бумагу, вынула шерстяной вязаный колпак мутно-зеленого цвета, расправила его, надела на кулак, повернула и прищелкнула языком.
Дамы молча выпучили глаза. Они, видимо, не знали, как отнестись к колпаку.
– От Нонпарель, – сказала Фук. Сказала таким тоном, что ясно стало: она спокойна, сдержанна и владеет собой, предоставляя другим ахать и сходить с ума от восторга.
И дамы поняли.
– А-а-ах!
Они поняли, что колпак потрясающе хорош. Что красота его и есть та сила, которая еще может спасти мир.
Три правые руки и одна левая жадно и трепетно протянулись к колпаку.
– Заметьте – какая форма! – тихо и с достоинством торжествовала Фук. – Совершенно гладко, а на темени шишка.
– Какая прелесть!
– Это сама грация!
– И вместе с тем величественно.
– Умоляю, уступите его мне!
– Ах, если бы он был желтым!
– Белым! Белым! К моему белому пальто!
– Я боюсь, что для меня он не подойдет, – простонала Дороти. – Я высокого роста, и шишку снизу не будет видно!
– А сколько же стоит эта прелесть? – робко спросила Джойс.
– Довольно дорого. Восемьсот франков. Но ведь это Нонпарель. Я, откровенно говоря, пробовала поторговаться, предложила семьсот, но директриса прямо мне сказала: «Не говорите глупостей, вы ведь не дура».
– Я вовсе не нахожу, что это дорого, – сказала Бекки.
– Неужели она сказала, что вы дура? – восторженно переспросила Майкельсон. – В таком случае я беру колпак себе.
– Почему же непременно вы? – холодно остановила ее Бекки. – Мне он тоже нравится.
– Дорогие мои, – прервала их Фук. – Эта шапочка, конечно, уника, и Нонпарель никогда ни за какие деньги своих моделей не повторяет. Но я могу предложить вам следующее: я знаю одну копировальщицу, которая сделает вам точно такую же шапочку и вдобавок любого цвета.
– Да, но это уже не будет модель.
– Но кто же узнает? Точь-в-точь такая.
– Но тогда она должна стоить дешевле, – сказала Майкельсон, вспомнившая об экономии.
– Ну, конечно, – поспешила согласиться Фук. – Я уверена, что она возьмет не больше шестисот.
– Пятьсот пятьдесят, – твердо сказала Майкельсон. – Я и так сижу без гроша.
– Я постараюсь, – кротко улыбнулась Фук. – Я знаю ваше положение.
– Значит, мне такую же, но желтую.
– А мне белую.
– Мне такого же цвета, как модель.
– А я оставляю модель за собой, – уцепилась Дороти.
– Может быть, мне оставить ее за собой?
Но Фук решительно встала с места.
– Если мы сейчас же не поедем к Шанель, то мы сегодня не закажем ни одного платья.
Все испуганно вскочили.
* * *
Открытка:
«Дорогой друг! Шлем вам привет из Шамоникса[13]. Мы с Дороти гуляем в ваших шапочках, которые всем очень нравятся. Деньги за мою я пришлю вам из Америки. Сейчас я сижу без гроша, а надо еще заказывать бальные платья. Дороти целует.
Ваша
Летти Майкельсон».
* * *
Письмо:
«Дорогая Фук.
Денег за шапочку я вам не посылаю, потому что она мне не идет и я, вероятно, скоро вам ее верну.
Привет.
Ваша Дороти».
* * *
– Алло! Это вы, Бекки? У телефона Фук. Дорогая, я жду деньги за шапочку, которую вы у меня купили.
– Ах, дорогая, это совершенно невозможно. У меня денег нет ни гроша.
– Так зачем же вы тогда заказывали этот колпак?
– Как – зачем? Какой детский вопрос! Заказывала потому, что он мне нужен. Не могу же я обойтись без спортивной шапочки. Не понимаю, почему вы нервничаете.
– Но ведь я же должна заплатить копировщице! – завопила Фук.
– Подождет ваша копировщица. Что? Бедная женщина? Почему непременно я должна содержать эту бедную женщину? Какая вы чудачка, Фук!
* * *
«Милочка Фук!
Ради Бога, верните мне скорее задаток, который я дала вам за шапочку. Все находят, что это дорого. Возвращаю вам шапочку. Масляное пятно было на ней раньше, это не я запачкала.
Передайте деньги посланному – это мой шофер.
Люблю, тоскую.
Ваша всегда
Джойс».
* * *
«Мадам Иванофф ше Петрофф[14]. Бийанкур.
Дорогая Серафима Тихоновна. За вязку шапочек сейчас уплатить не могу. И вообще, все находят, что пятнадцать франков цена совершенно безумная. За первую, за модель, еще понатужиться можно, но за копии больше десяти никто не дает.
Как только получу деньги, сейчас же вышлю по почте. Сижу без гроша. Клиентки тоже все без гроша. Кризис.
Ваша Фук».
1934
Оптимистка
Да-да. Уходит от нас беспечная светская жизнь.
А ведь, казалось бы, на первый взгляд все то же. Те же люди вокруг стола, то же печенье на столе.
Вот вспоминается, еще года два тому назад разве такие мы были! Разве такие у нас были мысли, сердца, нервы, разговоры?
Мы говорили о романе Бедокурова с Тижиной, об измене Рукоядова, о туалетах Вусовой, наконец, о квартире Лихиных. Иногда говорили и о сольдах[15], но мало, потому что это пошло. И как все это говорилось, как обсуждалось, с какой силой, с каким темпераментом! Как горели глаза, как бились сердца.
– Бедокуров подлец! – кричали одни.
– Нет! Тижина подлечиха, – перекрикивались другие.
– Как можно так говорить, – возмущались третьи. – Вы, верно, просто не читали Лоуренса.
Это было замечательно. Это была настоящая светская жизнь. И на столе перед нами стояли бутерброды с сыром на черном хлебе и с русской колбасой на белом, и розовое миндальное печенье, красиво уложенное винтом (красота – это страшная сила!).
Повторяю: теперь те же люди и то же печенье, но о чем мы говорим, о чем мы говорим!
– Слышали, Евгений Петрович при смерти. Можно нам еще чаю?
– Мерси. Ершов, говорят, уже оперирован.
– Тетка Ермолаева повесилась. Мне, пожалуйста, без сахару.
– Стукалов потерял место. С лимоном?
– Басоврины голодают.
– У Моловых описали обстановку. Мерси, я выпила уже две.
– Гушевы совершенно в безвыходном положении. Так не слишком крепко?
– Шугров долго не протянет. Можно вам варенья?
– Мякины оба больны, а дочь, говорят, сошла с ума. Нет, мерси, я варенья не хочу.
Вот они, наши журфиксы.
Как говорится: «Не стая воронов слеталась на груду тлеющих костей».
Сидеть дома тоже не поможет. Вам напишут последние новости, вам позвонят по телефону и расскажут.
Лучше обзавестись знакомым оптимистом и с ним и беседовать на текущие темы. У меня есть такая приятельница, Ольга Антоновна. Особа самая средняя. Средняя по возрасту, по умственному калибру, по достатку, по внешности. Но что у нее далеко не среднее, так это оптимизм по отношению к своему ближнему. Какие бы беды у ближнего ни стряслись, все считается «еще не так плохо, бывает и хуже».
– Вот, – скажут ей, – слышали, какое несчастье – Азанов ослеп.
– Да. Так ведь не на оба же глаза.
– Нет, говорят, что на оба.
– А ему сколько лет?
– Около шестидесяти.
– Ну так это еще не так плохо. Столько лет глядел, на все нагляделся. Вот если бы он был моложе, тогда было бы хуже. А так может еще сказать судьбе спасибо.
– А слышали – у Петровых ребенок умер.
– А сколько ж ему было лет?
– Лет пять.
– Ну что ж – бывает и хуже. Бываете, что совсем маленькие умирают. Ведь правда?
– Ну конечно. А бывают даже и прямо мертворожденные.
– Ну вот видите. Так что им еще жаловаться не на что.
Такая утешительная женщина.
Одно было в ней не совсем хорошо: никогда никому не помогала. Не потому, что была очень скупа, а вернее потому, что уж очень была рассудительна.
– Вы просите помочь этому молодому человеку. Но во-первых, другим приходится еще хуже, а во-вторых, это ведь не решает вопроса. Это временная мера, паллиатив. Через несколько месяцев он окажется в том же положении, и тогда что?
– Ну тогда, Бог даст, опять кто-нибудь поможет.
– А как не поможет, тогда что?
– Дорогая, – убеждают ее, – да все в нашей жизни паллиатив и временная мера. Вот вы пообедали, а смотришь – завтра изволь опять приниматься за то же дело.
– Ну, знаете ли, – неодобрительно говорит Ольга Антоновна. – Так можно все обратить в шутку. Помощь должна быть настоящая, радикальная, а не…
– Так давайте радикальную, – наивничает проситель. – Чего же лучше.
– Ах, все-то у вас шуточки. Ну как можно шутить такими вопросами.
На том и отъедет.
И вот некий упорный молодой человек, назовем его Рабикосовым, решил, что он сумеет в конце концов донять Ольгу Антоновну.
– Нужна система и нужно терпение, – говорил он. – Вот увидите, что я добьюсь своего, добьюсь того, что она признает человека действительно несчастным, что никому другому, пожалуй, хуже не бывает.
И вот для начала придумал он некоего профессора Гумабина, человека потрясающего ума, будто бы всему ученому миру известного, который где-то на чердаке в нетопленной конурке умирает с голоду. Жена его несколько месяцев тому назад уже умерла от истощения.
Рассказывая эту историю, Рабикосов сам чуть не расплакался. Однако Ольга Антоновна, сочувственно покачав головой, сказала:
– Вот и к лучшему, что жена умерла, по крайней мере он не видит ее страданий. Да и самому легче. Как говорится – одна голова не бедна.
– Как «одна голова не бедна»? – вдохновился Рабикосов. – А сын? Разве я вам не сказал, что у него сын умирает от чахотки?
– Правда? Ну что ж, у других и этого нет, – спокойно заявила Ольга Антоновна.
Через два дня Рабикосов явился снова.
– Умер сын у профессора, теперь он один, как перст. Сидит голодный. С потолка капает.
– Ну что ж, – вздохнула Ольга Антоновна. – У других и этого нет.
– То есть чего такого «этого»?
– Крыши. У других никакой крыши нет над головой, даже такой, с которой капает.
– Так эти «другие», может быть, давно уже повесились, – буркнул Рабикосов и пошел надумывать дальше судьбу своего профессора.
– Крыша ее утешает. Ладно, снимем с него крышу. Посмотрим, как эта крокодилица вывернется.
На этот раз пропустил несколько дней, чтобы дать назреть событиям. Наконец решил, что пора.
Для естественности заговорил не сразу, но был подчеркнуто задумчив, вызывая ее на вопрос о причинах этой меланхолии. Но так как она благоразумно ничего не замечала, то пришлось-таки ему – начать самому.
– Кстати, о бедном Гумабине. Как ужасно преследует его судьба. Ему отказали от комнаты, платить было нечем. И вот, говорят, этот несчастный старик уже несколько ночей провел на скамейке где-то на бульваре. Ужас.
– Да, это, конечно, ужасно, – спокойно сказала Ольга Антоновна. – Но какое, однако, железное здоровье у этого старика! Всю зиму прожил в нетопленной мансарде, где текло с крыши, пережил столько семейных неприятностей и ударов, голодает и ночует под открытым небом, и все ему нипочем. Ему прямо можно позавидовать. Какой все-таки богатырь наш русский народ! Разве француз мог бы все это вытерпеть? Да у него бы сейчас конжестьон[16] – и готово. А наш Микула Селянинович расправил богатырские плечи, и хоть бы что.
– Да что вы говорите! – завопил Рабикосов. – Какой он Селянинович! Он чуть жив. С ним каждую минуту делаются обмороки.
– Да, но потом он все-таки каждый раз приходит в себя, – с упреком сказала Ольга Антоновна.
Рабикосов растерялся и промолчал.
Несколько дней он не показывался к Ольге Антоновне. Он очень упал духом, но идеи своей не бросил.
– Неужели же я не сумею доконать своего профессора так, чтобы эта верблюдица почувствовала? Неужели же у меня не хватит воображения? Не надо только торопиться и не надо волноваться. Нужно все хорошо обдумать, так, чтобы припереть ее к стенке, чтобы ей податься было некуда, чтобы завопила она петушиным голосом: «профессор Гумабин действительно несчастный человек».
Он так настроил себя, что пришел к Ольге Антоновне искренно и глубоко потрясенный.
– Ольга Антоновна, – сказал он, – говорю вам прямо – нужно что-нибудь для несчастного Гумабина сделать. Ведь это такой ужас! Такой ужас! Представьте себе, у него воспаление обоих легких. Его подняли на улице в бессознательном состоянии и отвезли в больницу.
– Серьезно? – обрадовалась Ольга Антоновна. – Как ему, однако, повезло. В больнице накормят его, и уход за ним будет. Молодчина старик.
Рабикосов в ужасе смотрел на нее.
– Нет, вы слушайте дальше! – закричал он. – Вы послушайте только, какая трагедия: в больнице потребовали с него плату. А так как ему платать было нечем, то ему пришлось, больному, чуть держащемуся на ногах, идти опять на улицу.
– Это действительно ужасно, – сказала Ольга Антоновна. – Хорошо, что он такой закаленный. Другой бы на его месте давно пропал. Правду говорят, что судьба посылает испытания, но зато посылает и силы их перенести.
Тут Рабикосов вскочил и неожиданно для самого себя треснул кулаком по стулу. Он чувствовал, что не удержится, что прикончит профессора, а с ним вместе и всю свою прекрасную идею. И действительно не удержался.
– Нет! – завопил он. – Не послала судьба Гумабину силы перенести испытания. Он погиб, он умер, он повесился. Понимаете? От отчаяния по-ве-сил-ся!
Ольга Антоновна с укоризной покачала головой.
– Ай, ай, ай, как нехорошо, – сказала она мягко и грустно. – Конечно, для него это лучше всего. Для него это великолепно. По крайней мере, больше не страдает. А вот каково нам всем такое неприятное впечатление. Об этом он, конечно, и не подумал!
1934
Праздничное
Вчера моя приятельница Верочка отозвала меня в угол и сказала, что ей непременно нужно поговорить со мной по очень важному делу, и поэтому она заедет ко мне под вечер.
Вид у нее был какой-то подавленный, в глазах дикая решимость. Я испугалась и согласилась.
Что с ней?
Приятельницы мои вообще любят со мной советоваться. У меня очень практическая голова.
Недавно одна молодая вдова три дня ловила меня по всему городу, чтобы только справиться, выходить ли ей замуж за Николая Иваныча.
– Николай Иваныч? А кто же это такой? – спросила я, деловито хмуря брови.
– Он… вы его не знаете, такой маленький брюнет.
– Маленький брюнет? Ну, в таком случае, разумеется, выходите. Я, по крайней мере, совершенно не вижу причин, почему бы вам не быть женою маленького брюнета. Да что – а? Спросите у кого угодно, и всякий скажет вам, что на свете существует множество женатых брюнетов, семьи которых представляют образец счастливой жизни.
– Да… но вы понимаете, такой серьезный шаг, трудно сразу решиться!
– Ну, милая моя, муж не шляпа. Это шляпу – купил, так и таскай весь сезон. А не понравится муж, кто вам помешает развестись? Пора приучиться правильно рассуждать!
Она посмотрела на меня со страхом и уважением. Она будет женой маленького брюнета Николая Иваныча.
В другой раз пришла ко мне барышня тоже советоваться.
– Как быть? Нужно сегодня идти к Ивановым, а мне ужасно не хочется.
– Не хочется, так не ходите.
– Вот еще! Скажите пожалуйста. «Не ходите». Там всегда так весело бывает, единственный дом, где действительно можно развлечься, и вдруг «не ходите»! Какая вы, право!
Я сдвинула брови и помолчала сколько следует. Затем сказала вдумчиво:
– А знаете, что я вам посоветую? Непременно идите к Ивановым. Понимаете – непременно. Эго единственный выход из всей этой тонкой паутины, в которую запутала вас судьба. Верьте мне – я человек практичный и опытный.
Она долго удивлялась и благодарила меня. Такой тонкости проникновения в тайну чужих судеб она положительно никогда не встречала.
Третья пришла и спросила бледными губами: покупать ей белую шляпу с пятью страусовыми перьями или нет.
– Нравится, так купите, – посоветовала я.
– Да у меня денег нет.
Я подумала и сказала вдохновенно:
– А знаете что, – плюньте вы на эту шляпу и на все пять перьев. Ну ее к черту, со всеми пятью.
Дама вскинула руки мне на плечи, крепко меня поцеловала и ушла умиротворенная, с просветленным лицом. Даже губы ее порозовели – она, уходя, подмазала их перед зеркалом.
Итак, когда Верочка сказала, что должна поговорить со мной серьезно, я сразу подумала, что дело идет о каком-нибудь практическом совете.
Но вечером, когда мы увиделись, я после первых же ее слов поняла, что тут что-то поважнее.
– Какой у нас теперь месяц? – спросила она.
– Рождество, – ответила я честно.
– Не Рождество, а Новый год. Святки. Собственно говоря, я хотела сказать вам, что мы должны делать то, что должны, а не то, что не должны.
Я встревожилась:
– Ну, к чему эти предисловия, между своими? Говорите прямо.
Она вздохнула и сказала, понизив голос:
– Мы должны веселиться.
Сердце мое сжалось.
– Что ж, я ничего. Я готова. Что же вы для этого придумали?
– Да я ничего не придумала, я вот к вам пришла спросить.
– Нет, уж раз вы затеяли, так сами и придумывайте. Ишь, ловкая какая!
Она опустила голову, подумала.
– Ведь веселятся же другие – значит, ничего тут особенно трудного нет. Люди без высшего образования – и те как-то умеют. Штука нехитрая.
– Ну, давайте, я ведь согласна. С чего начнем?
– Гм… Вот театры все переполнены, – это показывает, что на праздниках люди стараются поехать в театр. Значит, поедем в театр.
– Хорошо. А в какой?
– Да куда хотите.
– Нет, уж вы начали, вы и придумывайте.
– Ну, едемте в оперетку.
– А в какую?
– А в какую хотите.
– Верочка, я вам что сказала? А?
– Ну, хорошо, на «Даму в красном».
Она сказала и сама испугалась. Но я была спокойна.
– Великолепно. А потом что?
– А потом, кажется, едут ужинать.
– А если не захочется есть?
– Все равно надо. Не заваливаться же спать, когда теперь святки.
– А если захочется спать?
– Ну, потерпите!
Мы замолчали и задумались, и каждая знала, о чем думает другая.
Потом я вздохнула и сказала:
– Хорошо! Это мне все очень нравится. Я так люблю эти бешеные удовольствия.
Она посмотрела на меня злобно.
– Конечно, это хорошо. Хотя за билетом ехать не очень-то весело, а по телефону в кассу не дозвонишься.
– Ну, пустяки! Зато как приятно будет прослушать веселую оперетку.
– Это «Дама-то в красном» веселая? Я к началу опоздала и то до конца не досидела.
– Экая вы, право, непоседа, – зевнула я. – Нужно взять себя в руки. Зато потом как приятно будет поужинать в большом красивом зале ресторана, послушать хороший румынский оркестр.
– У меня от ваших румын если и будет аппетит, так пропадет. Не могу я их завыванье выносить. Я сама готова, как собака, закинуть голову и завыть: ву-у-уау!
– Ну и характер, нечего сказать! Не нравятся румыны, так старайтесь не слушать. Кушайте себе что-нибудь повкуснее, а на музыку внимания не обращайте.
– Мерси за совет!.. Кушайте повкуснее!.. Сами прекрасно знаете, что я не выношу ресторанной кухни, что мне от нее на другой день всегда скверно делается! Это даже неделикатно с вашей стороны давать такие советы!
– Ах, боже мой, какие ужасы, подумаешь! Ну, попьете микстурку день, другой, только и всего.
Верочка вскочила и, подбежав к зеркалу, стала торопливо надевать шляпу.
– Очень вам благодарна за нежное и внимательное отношение к моему здоровью, но я вам в этих ваших глупых затеях не товарищ. Скучать в пошлой оперетке, тащиться в душный ресторан, когда хочется спать, слушать румынский вой и отравляться всякой дрянью! И чего ради, спрашивается? До свиданья. Проделывайте все это одна, если вам нравится, а я еще пока что с ума не спятила.
– Не понимаю! – крикнула я ей вслед. – Ведь веселятся же другие – значит, тут ничего особенно трудного нет! Лентяйка вы, сударыня, вот что!
1912
Июнь
Романс
- Пахнут розы и жасмины,
- Озаренные луной,
- И поет, поет о счастье
- Чей-то голос молодой…
Мы веселимся.
Дневная городская духота истомила нас. А теперь хорошо. Вечереет. В ресторане, у самой реки, все столики заняты. Это так понятно! Всем хочется подышать свежим воздухом и повеселиться.
Воздух – казенный, дается даром. А веселье – это уж от содержателя ресторана, и выражается это веселье четырьмя скрипками, двумя флейтами, контрабасом и барабаном.
И это тоже понятно. Ничто так властно не управляет усталыми нервами современного человека, как музыка.
Современный человек под музыку обедает, под музыку гуляет и под музыку пьет воду целебных источников.
На какой-нибудь выставке племенного скота – уж на что, кажется, предприятие деловое и прозаическое – приезжий помещик приценивается к голландской корове под звуки вальса «Лобзай меня». Без «Лобзай меня», пожалуй, и корову не купить.
Итак, мы веселимся.
Те из нас, которые уже отвеселились и уплатили по счету, уходят, уступая место другим.
Другие приходят оживленные, жадно заглядывают в тарелки соседей – не едят ли чего-нибудь особенно вкусного, что можно было бы тоже заказать. И в глазах их, и во всех жестах сквозит надежда на что-то приятное и веселое. А четыре скрипки, две флейты, контрабас и барабан делают свое дело.
Сначала они сыграют песнь умирающей Травиаты.
Потом – «Смейся, паяц, над разбитой любовью».
Потом – «Плачь, Маргарита».
Потом – «Не плачь, дитя».
И закончат все это исполненным со слезой и рыданием похоронным маршем.
Музыка овладевает сердцами, слушатели жуют вяло, вздыхают и думают: кто – о погибшей молодости, кто – о погубленной любви, кто – о потерянном кошельке и о проигрыше на скачках.
– Пла-ачь, Маргарита! Пла-ачь, дорогая! – надрывается флейта.
За соседним столиком томится пришедший повеселиться толстяк. Он лишен способности анализировать свои настроения и находить их причины. Поэтому всю душевную горечь, вызванную Гуно[17], он приписывает поданной ему порции раков.
– Эй, малый! – зовет он лакея. – Это у вас отборный рак называется?
– Отбирали-с, – оправдывается лакей.
– Отбирали-с! Которые отобрал, те сам и слопал, а мне пауков каких-то сунул и рад! И думаешь, не пойму?
– Виноват-с, самые лучшие-с!
– Виноват! А ты не будь виноват. Виноватых наказывают. Эт-то что, а? Где у этого рака лапа? Рак здесь, а лапа в речке осталась?
«Твоя слеза на труп безгла-ас-ный…» – рыдают флейты.
– А где у этого хвост?
– Да вы же сами изволили скушать.
– Хороши раки! – с тоской и упреком говорит гость. – Ни хвостов, ни копыт.
«Не оценит тоски твоей…»
Пахнет жареным луком, пережаренным мясом и недожаренной рыбой.
Но этого не надо замечать. Воют скрипки, и всей своей разбитой грудью вздыхает контрабас.
Но этого тоже не надо замечать. Зачем? Ведь мы пришли веселиться.
Самое лучшее – опереться локтями на стол, как будто глубоко задумавшись, заткнуть потихоньку уши пальцами, закрыть глаза и думать о другом и видеть другое…
* * *
Июнь.
Затихли темные липы, сплелись ветвями и, тихо сливаясь с вечернею мглою, засыпают.
Вот задрожал один листок, странно, тревожно, и снова затих.
Яркий и пряный аромат неколеблемых ветром жасминов наполняет ночь, охватывает ее всю могучей, широкой волной. И волну эту перерезывает другая, ниже и гуще, словно запавшая, зазвеневшая в аккорде струна виолончели. Это пахнут розы.
Вот засветилось окно большого белого дома, бросило яркий квадрат на сонно-побледневший кустарник, и голос молодой и счастливый запел о счастье…
* * *
– И почему у вас всегда подают смятые салфетки? Да как же не смятые, когда смятые! Что, я не вижу, что ли? Дайте карту! «Крем дасперж». Это что такое – «дасперж»?
– Обнаковенный, с пирожками.
– Только, пожалуйста, чтоб не на этом… как его… не на человечьем сале жарили. Скажи оркестру, чтоб «Парагвай» валяли.
– Виноват-с, объясняться с ними невозможно-с. Они глухонемые-с, которые слепые от рождения.
– Ну, и черт с ними. Рябиновую подашь.
«Как мать уби-или», – вывела скрипка.
– Тащи рябиновую. Лишнюю рюмку хватишь – она и перешибет.
– Это кто там в красном, а? Н-не-вредный бабец!
«Плачь! Плачь! Не таи р-рыданья!» – опомнились флейты.
– Ты чего приуныл?
– Да так!
– Чего же ты не ешь?
– Да вот, как подумаешь… И к чему мы живем, дасперж всякий едим?
– Гм… И отчего это от реки всегда тухлым яйцом пахнет?
* * *
Погас на сонно-побледневшем кустарнике яркий квадрат. Ветви сплелись теснее и ближе слились с вечернею мглою.
Замолк счастливый молодой голосе, певший о счастье.
Тихо все предлунным затишьем.
Мы ждем.
Вот шорох на ступенях.
Белеет зыбкая тень.
– Это ты, мой июнь? Ты, певший о счастье? Ты, самое яркое землецветение?
Это – июнь…
* * *
– Почему записано десять рюмок водки, когда я выпил только девять? Это с-свинство! Это знаете как называется? Это называется неделикатный грабеж. Вот как! Можете передать кому хотите!
– Изво-озчик! Изво-озчик! Спят, канальи! На Коломенскую, тридцать пять копеек. Что-о? А в участок хочешь?
«Плачь! Плачь! Не таи р-рыданья!» – шлют вдогонку скрипки.
И вдруг опечаленный вопль с реки:
- И догорай, моя лучина,
- И догорю с тобою я!..
И, не успев замереть, перебивается новым воплем, еще более резким, отчаянным и горьким:
- Мать свою зарезал,
- Отца свово убил!..
Но это ничего. Эго просто веселятся догуливающие свой отдых мастеровые.
Нужно же им повеселиться.
Ведь теперь июнь! Самое яркое землецветение!
Июнь!
1912
Революция в Монако
В Монако вспыхнула революция, подавленная французскими жандармами.
Из газет
Страшные дни пережило несчастное государство Монако. Там, где до сих пор лилось только золото, кровь лилась рекой.
Ну, положим, не рекой, да даже и не лилась вовсе. Но, конечно, не в этом дело.
Во всяком случае, Монте-Карло пережило страшные дни.
Революция приняла сразу грандиозные размеры.
Главный министр, он же главный крупье, вбежал к своему государю в шесть часов утра и огласил весь дворец диким воплем:
– Rien ne va plus!
И стены сотряслись.
Герцог Монте-Карлийский спокойно выслушал ужасное известие, только брови его слегка побледнели.
И сыновья его – наследный герцог Рулетский и князь Трант-э-Карантский[18] – стойко перенесли удар и выразили готовность сражаться за идею до последнего волоса.
Но и подданные Монако тоже выразили полную боевую готовность и выставили свои требования.
– Rien ne va plus! – сказал первый крупье государства. – Они требуют конституцию.
– Конституцию? – переспросил герцог. – Но ведь это очень абстрактно! Это – zéro[19]. А zéro всегда наше. Чего же вы волнуетесь?
Но первый крупье государства мрачно взмахнул лопаточкой и ответил:
– Они хотят особую конституцию. Они хотят разделить с нами не только хлопоты по управлению государством, но и доходы от игорного дома.
– Хотел бы я не понять! – воскликнул герцог и упал в обморок, поддерживаемый своими сыновьями – наследным герцогом Рулетским и князем Трант-э-Карантским.
– Они восстали, – продолжал первый крупье, привыкший к обморокам и самоубийствам. – Они восстали и делают революцию.
– Революцию? – спросил герцог из глубины своего обморока. – Это что же такое?
– Они все играют на «rouge»[20], – старался быть понятным крупье.
– О! – стонал герцог.
– О-о! – стонали его сыновья.
– И если вы не примете мер, – продолжал первый крупье, – они вас свергнут с престола.
– С престола? – удивился герцог. – Это что же такое – престол?
– Они вас сорвут! Поняли? Сорвут!
– Подлецы! – стонал герцог.
– И будут сами управлять всеми столами игорного зала, – жестоко отчеканил крупье.
И герцог очнулся.
– Я ставлю на «noir»![21] – мужественно воскликнул он и послал за французскими жандармами.
А на улицах Монте-Карло шла между тем революция.
Производить ее было очень трудно, так как приходилось все время держаться левой стороны улицы. Правая принадлежала Франции.
Демонстранты шли по монакской стороне и громко провозглашали свободу рулетки.
Только небольшая кучка почтенных людей стояла па правой, французской стороне. Люди эта считались эмигрантами. Они давали директивы и руководили движением.
Вход во дворец охраняли преданные наемные крупье.
С лопаточками наголо, суровые и мрачные, стояли эти гвардейцы, готовые умереть за своего герцога.
А толпа бушевала.
Иногда кто-нибудь, случайно оттиснутый в правую сторону, попадал па французскую территорию и оттуда, из-за границы, дразнил языком гордых крупье.
И вдруг, вызванные герцогом, игравшим на «noir» в эту страшную минуту, – врезались в толпу бравые французские жандармы.
Они два раза проехались по улицам и спели, подмигивая направо и налево:
– Nous arrivons toujours trop tard!
А лошади фыркали, точно им трудно было сдержать смех.
И революция была подавлена в корне.
На другой день, ровно в десять часов, раздался спокойный и властный голос первого крупье государства:
– Faites vos jeux, messieurs!
И шарик запрыгал.
1910
Демоническая женщина
Демоническая женщина отличается от женщины обыкновенной прежде всего манерой одеваться. Она носит черный бархатный подрясник, цепочку на лбу, браслет на ноге, кольцо с дыркой «для цианистого калия, который ей непременно пришлют в следующий вторник», стилет за воротником, четки на локте и портрет Оскара Уайльда на левой подвязке.
Носит она также и обыкновенные предметы дамского туалета, только не на том месте, где им быть полагается. Так, например, пояс демоническая женщина позволит себе надеть только на голову, серьгу на лоб или на шею, кольцо на большой палец, часы на ногу.
За столом демоническая женщина ничего не ест. Она вообще никогда ничего не ест.
– К чему?
Общественное положение демоническая женщина может занимать самое разнообразное, но большею частью она – актриса.
Иногда просто разведенная жена.
Но всегда у нее есть какая-то тайна, какой-то не то надрыв, не то разрыв, о которой нельзя говорить, которого никто не знает и не должен знать.
– К чему?
У нее подняты брови трагическими запятыми и полуопущены глаза.
Кавалеру, провожающему ее с бала и ведущему томную беседу об эстетической эротике с точки зрения эротического эстета, она вдруг говорит, вздрагивая всеми перьями на шляпе:
– Едем в церковь, дорогой мой, едем в церковь, скорее, скорее, скорее. Я хочу молиться и рыдать, пока еще не взошла заря.
Церковь ночью заперта.
Любезный кавалер предлагает рыдать прямо на паперти, но она уже угасла. Она знает, что она проклята, что спасенья нет, и покорно склоняет голову, уткнув нос в меховой шарф.
– К чему?
Демоническая женщина всегда чувствует стремление к литературе.
И часто втайне пишет новеллы и стихотворения в прозе.
Она никому не читает их.
– К чему?
Но вскользь говорит, что известный критик Александр Алексеевич, овладев с опасностью для жизни ее рукописью, прочел и потом рыдал всю ночь и даже, кажется, молился – последнее, впрочем, не наверное. А два писателя пророчат ей огромную будущность, если она наконец согласится опубликовать свои произведения. Но ведь публика никогда не сможет понять их, и она не покажет их толпе.
– К чему?
А ночью, оставшись одна, она отпирает письменный стол, достает тщательно переписанные на машинке листы и долго оттирает резинкой начерченные слова: «Возвр.», «К возвр.».
– Я видел в вашем окне свет часов в пять утра.
– Да, я работала.
– Вы губите себя! Дорогая! Берегите себя для нас!
– К чему?
За столом, уставленным вкусными штуками, она опускает глаза, влекомые неодолимой силой к заливному поросенку.
– Марья Николаевна, – говорит хозяйке ее соседка, простая, не демоническая женщина, с серьгами в ушах и браслетом на руке, а не на каком-либо ином месте, – Марья Николаевна, дайте мне, пожалуйста, вина.
Демоническая закроет глаза рукою и заговорит истерически:
– Вина! Вина! Дайте мне вина, я хочу пить! Я буду пить! Я вчера пила! Я третьего дня пила и завтра… да, и завтра я буду пить! Я хочу, хочу, хочу вина!
Собственно говоря, чего тут трагического, что дама три дня подряд понемножку выпивает? Но демоническая женщина сумеет так поставить дело, что у всех волосы на голове зашевелятся.
– Пьет.
– Какая загадочная!
– И завтра, говорит, пить буду…
Начнет закусывать простая женщина, скажет:
– Марья Николаевна, будьте добры, кусочек селедки. Люблю лук.
Демоническая широко раскроет глаза и, глядя в пространство, завопит:
– Селедка? Да, да, дайте мне селедки, я хочу есть селедку, я хочу, я хочу. Это лук? Да, да, дайте мне луку, дайте мне много всего, всего, селедки, луку, я хочу есть, я хочу пошлости, скорее… больше… больше, смотрите все… я ем селедку!
В сущности, что случилось?
Просто разыгрался аппетит и потянуло на солененькое! А какой эффект!
– Вы слышали? Вы слышали?
– Не надо оставлять ее одну сегодня ночью.
– ?
– А то, что она, наверное, застрелится этим самым цианистым кали, которое ей принесут во вторник…
Бывают неприятные и некрасивые минуты жизни, когда обыкновенная женщина, тупо уперев глаза в этажерку, мнет в руках носовой платок и говорит дрожащими губами:
– Мне, собственно говоря, ненадолго… всего только двадцать пять рублей. Я надеюсь, что на будущей неделе или в январе… я смогу…
Демоническая ляжет грудью на стол, подопрет двумя руками подбородок и посмотрит вам прямо в душу загадочными, полузакрытыми глазами:
– Отчего я смотрю на вас? Я вам скажу. Слушайте меня, смотрите на меня… Я хочу – вы слышите? – я хочу, чтобы вы дали мне сейчас же – вы слышите? – сейчас же двадцать пять рублей. Я этого хочу. Слышите? – хочу. Чтобы именно вы, именно мне, именно мне, именно двадцать пять рублей. Я хочу! Я тввварь!.. Теперь идите… идите… не оборачиваясь, уходите скорей, скорей… Ха-ха-ха!
Истерический смех должен потрясать все ее существо, даже оба существа – ее и его.
– Скорей… скорей, не оборачиваясь… уходите навсегда, на всю жизнь, на всю жизнь… Ха-ха-ха!
И он «потрясется» своим существом и даже не сообразит, что она просто перехватила у него четвертную без отдачи.
– Вы знаете, она сегодня была такая странная… загадочная. Сказала, чтобы я не оборачивался.
– Да. Здесь чувствуется тайна.
– Может быть… она полюбила меня…
– !
– Тайна!..
1914
Демонический мужчина
Якогда-то писала о демонической женщине. Было бы несправедливо обойти молчанием не менее яркий тип – демонического мужчины. Тип этот живет и не вымирает, несмотря на самые, казалось бы, неподходящие для его процветания условия современной жизни.
Тип этот мало известен в литературе (демоническая же женщина изучена и изображена бесконечно), потому что женщин-писательниц немного, а демонический мужчина проявляет демонические стороны своей души исключительно перед женщиной. В мужском обществе он скучен, вял, молчалив и глубоко прозаичен.
С женщинами он дерзок, загадочен, неожидан. Говорит резкости, старается быть неприятным.
– Все у ваших ног? Да, но кроме меня.
Он дает понять женщине, что считает ее пустой, легкомысленной, презренной и даже некрасивой. И когда бедняжка окончательно опускает голову, демонический мужчина неожиданно схватит ее в свои объятия и воскликнет:
– Да ведь я же люблю тебя, глупенькая! Неужели ты до сих пор не поняла этого! И за это я ненавижу и тебя и себя! Себя больше, чем тебя! За это я и мучаю себя и тебя. Тебя больше, чем себя, и себя и тебя, и тебя и нас! Прощай! Прощайте! Я ухожу. Можете гордиться, что сломили гордую душу.
И он уходит «быстро, не оборачиваясь».
А завтра снова окинет ошеломленную женщину презрительным взглядом.
Пусть думает, что это ей приснилось.
Не подумайте только, что демонический мужчина молодой, пламенный брюнет в красном галстуке. В том-то и диковина, что является он иногда в самом неожиданном облике. Демонический мужчина вполне может быть каким-нибудь захудалым учителем чистописания с протертыми локтями и мочальной бороденкой.
Двое самых ярких демонических мужчин, встреченных мною на моем жизненном пути, обладали тоже самой неподходящей для такого содержимого внешностью.
Один из них был почтенным пожилым врачом, известным общественным деятелем, с бородой, растущей из-под самых глаз, кривоносый, кривоногий, мухрастый. Губил женщин, словно орехи щелкал, и главным образом в Сибири, где жил до моего знакомства с ним. Самое потрясающее из его демонических приключений помню до сих пор.
– «Она» была знаменитая на всю Сибирь красавица. Жила с мужем архимиллионером у себя на приисках, верстах в двухстах от нашего города. Все, конечно, от нее без ума, один я не обращаю никакого внимания. Ну, она, конечно, злилась и бесилась:
– Кто этот гордый человек? Клянусь, что он будет у моих ног.
Все волнуются, удивляются, а я только саркастически улыбаюсь.
Довел ее до белого каления. Иногда говорю где-нибудь на земском собрании, знаю, что она в толпе, и нарочно откину голову и выпрямляю фигуру. Говорю я, между прочим, без лишней скромности, великолепно. В то время как раз пришлось неоднократно выступать по поводу пристройки флигеля к городской больнице. И нужно правду сказать, хорошо говорил. Владел словом, как рапирой. Все, конечно, вышло по-моему, увеличили ассигновку, городской голова при всех жал руку, ну, конечно, все это окончательно ее раскалило. А я только саркастически улыбаюсь.
И вот, можете себе представить, как-то поздно вечером я собирался на заседание, вдруг подкатывает великолепная тройка. А на дворе мороз, метель, вьюга. Что такое? Дверь распахивается, и входит «она».
– Не ожидали?
– Почему же… очень рад. Очевидно, хвораете, хе-хе!
– Давайте шампанского и коньяку.
Я совершенно спокойно приказываю прислуге подать требуемое.
Хлопнула залпом четыре бокала.
– Я прямо с приисков.
– Снимите, – говорю, – шубу.
– Снять? Извольте – ха-ха-ха!
Распахивает ротонду и, можете себе представить, оказывается совершенно обнаженной…
– Да что вы, – удивляюсь я. – Как же она в сибирский мороз двести верст голая проехала?
– Да! И заметьте – без кучера. Сама правила бешеной тройкой скакунов. Спустила с плеч ротонду и правила. Совсем безумная! Я слегка усмехнулся и закурил папиросу.
– Ага, говорит, побледнели, прекрасный Иосиф!
Я равнодушно закурил вторую папироску. Прищуриваю глаза.
– У вас, – говорю, – левый бицепс неправильно развит. Вы не пробовали делать упражнения с гирями? Можно взять для начала легкие…
Она как вскочит.
– Н-негодяй! Я вас ненавижу.
Вскочила на свою тройку и ударила по коням.
А я пошел на заседание.
Вхожу, оглядываю публику.
«Она»! Сидит в первом ряду, бледная как смерть и прекрасная как демон.
– Как? – в ужасе спрашиваю я. – Голая?
– Право, не обратил внимания. Может быть, где-нибудь по дороге достала платье. Я закурил папиросу и спокойно посмотрел ей прямо в лицо.
– А скажите, доктор, она вам все-таки нравилась?
– Как вам сказать… Она была дивно хороша, но меня тогда так захлестнула волна общественной деятельности…
– Это насчет флигеля?
– Н-да, и многое другое. Надо было разоблачить одного взяточника, и вообще… А «ей» я сказал: «Вы хотели покорить доктора Свистова, но вы его не покорили – ха-ха!» Закурил папироску и вышел. Она покушалась несколько раз на самоубийство. Муж архимиллионер обезумел, прислал за мной тройку роскошных лошадей – «умоляю на коленях: спасите Олю». А я в ответ: «Посылаю с моим фельдшером пургатив и инструкции». Ха-ха! Закурил и вышел.
– Доктор! Вы демон!
– Гм… гм… А вместе с тем держу себя так просто…
* * *
Вторая демоническая встреча – совсем старый, совсем лысый старичок, отставной профессор чего-то вполне прозаического, вроде патологической анатомии. Тот все скакал на неоседланной лошади.
– Профессор, милый, где же вы достаете в Петербурге таких неоседланных-то?
– Я летом уезжаю и вот там под Харьковом, прямо из табунов. Вскочу и так на одних шенкелях верст шестьдесят.
– А пенсне не валится?
– Пенсне не нужно, я дальнозорок. Неоседланная лошадь мчится так быстро, что то, что еле намечается вдали, через секунду уже со свистом пролетает мимо.
– И дома свистят?
Кроме неоседланных лошадей, рассказ о которых поражал неотразимо женское воображение, были в его обиходе еще графини. Не русские, а больше все испанские. Графини вели себя в стиле сибирской красавицы доктора Свистова. Пили шампанское, ходили голые, бросали к ногам профессора миллионы и титулы, одна даже умчала его в своей карете с гербами.
– Профессор, милый, ведь вас, наверное, растрясло, когда она вас мчала-то? Какая бессовестная. И чего им вообще от вас нужно?
– Их злит мое равнодушие. Они не могут допустить мысли, чтобы человек, который скачет на неоседланной лошади, лазает по горам, как альпийский штейгер, и боксирует, как негр, мог так равнодушно проходить мимо прелестных женщин. Причем мое эстетическое развитие им тоже известно. Многие видели, как я рыдал перед Сикстинской мадонной. Я для них загадка, которую им не суждено разгадать.
Маленький, лысенький, морщенный. Щурится, жмурится.
– До свиданья, профессор, заходите ко мне.
– Да вы, кажется, во втором этаже? Трудновато это. И как можно на такую высь забираться? Для меня, это, конечно, пустяки, но все-таки…
1927
Событие
«Толкни медный гонг. И ты услышишь звон. Толкни человека. И ты никогда не угадаешь, что за этим последует».
Так говорит изречение китайской мудрости.
Берем это изречение как эпиграф и приступим к рассказу о том, как из одного и того же зерна выросли одновременно два ростка: счастье и несчастье.
* * *
Произошло это событие самым обыкновенным образом, как происходят ежедневно десятки ему подобных.
День был обыкновенный, парижский. Рано утром шел дождик (об этом упоминаем, как о факте, имеющем некоторое отношение к событию). Потом вылезло солнышко, посветило, погрело, но мостовой не просушило (заметьте!).
И вот по этой сырой мостовой, в это обыкновенное утро катило вдоль бульвара среди прочих автомобилей ничем от них не отличающееся, самое обыкновенное такси, с самой обыкновенной (то есть выше дозволенного) скоростью. Докатило до поворота, повернуло, и случилось то, что случается на поворотах довольно часто: задние колеса занесло. Говоря языком техническим – дерапаж[22].
И получилось так, что как раз в минуту этого дерапажа два пешехода собирались перейти улицу и приостановились, чтобы пропустить это самое такси. Тут-то и произошло событие. Ударив боком, такси сшибло с ног обоих пешеходов. Оба повалились на мостовую.
Шофер затормозил, вылез, выпучил глаза, надул щеки и мрачно зашагал к своим жертвам. И лицом, и походкой он старался показать, что весьма недоволен поведением этих двух разгильдяев.
Разгильдяи, между прочим, поднялись на ноги.
Один из них, худой, длинный, в очень коротеньком пальто-непромокайке, отряхнулся, виновато улыбнулся, подобрал шляпу, втянул голову в плечи и зашагал прочь.
Другой, толстенький, плотненький, щеголевато одетый, выпучил глаза, надул щеки, совершенно как наступавший на него шофер, подбоченился и принял бой.
Быстро собралась толпа.
Парижская толпа очень любопытна, но любопытство у нее странное. Она никогда не интересуется и не старается узнать, что именно случилось. Какой-нибудь господин с портфелем, по-видимому, человек деловой, или баба с корзиной, с лицом озабоченным, очевидно, куда-то спешащая, будут стоять битый час около кучки народа. Им и не видно ничего, хоть и задирают нос и становятся на цыпочки. А спросите у них – что там случилось – смущенно отвечают:
– Не знаю.
И будут продолжать стоять.
Итак – собралась толпа. Пришел ажан[23]. Долго расспрашивал, долго мусолил карандаш и писал в своей книжке. Потом все пошли к преступному такси, и ажан деловито потискал пальцем шину. Толпа росла.
Из соседней улицы подкатил мальчишка на велосипеде. Мальчишка оказался боевой. Ни о чем расспрашивать не стал, а сам всем рассказал, что переехали даму, ужасно, вдоль и поперек. Увезли в больницу, а господин – это муж дамы и желает получить деньги. Рассказал и покатил дальше.
* * *
Пока шла вся эта кутерьма, другая жертва катастрофы, тот самый господин в непромокайке, завернул за угол и быстро прибавил ходу. Он все еще виновато улыбался, но мысли у него, по-видимому, были превеселые. Он покручивал головой, пожимал плечами и раз даже вслух воскликнул:
– Ведь бывает же эдакое! Ну-ну!
И все улыбался, и все прибавлял ходу. Один разок приостановился, нахмурился, похлопал себя по карманам, вытащил очки, осмотрел их внимательно и прямо захлебнулся счастливым смехом.
В таком восторженном настроении завернул он в подъезд маленького отельчика, одним духом взбежал на пятый этаж и забарабанил в дверь.
Дверь приоткрылась. В щелочке показалась подщипанная бровь, серый глаз, все недружелюбное, холодное, с упреком.
– Что за шум? – спросил сердитый голос. – Вы знаете, что я работаю. Вы могли бы, кажется…
Но он завопил в ответ таким торжествующим воплем, что двери сами распахнулись, обнаружив, кроме хозяйки комнаты, особы молодой и приятной, накрытый столик с чашками, сухарями и кофейником, а за столиком господина очень бравого, по несколько сконфуженного. Господин расправил пышные усы старинного русского образца, с подусниками.
– Вы знакомы? – светским тоном спросила хозяйка. – Мосье Бутылин, – указала она на вошедшего. – Мосье Крыжовников.
Вошедший, то есть Бутылин, бросил беглый взгляд на смущенного Крыжовникова.
