Читать онлайн История эмоций бесплатно
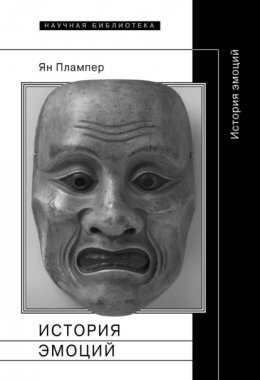
Ян Плампер
ИСТОРИЯ ЭМОЦИЙ
Новое литературное обозрение
Москва
2024
УДК 159.942
ББК 88.252.1
П37
НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
Научное приложение. Вып. CLXХIII
Перевод с английского К. Левинсона
Ян Плампер
История эмоций / Ян Плампер. – 2-е изд. – М.: Новое литературное обозрение, 2024.
Книга посвящена истории изучения эмоций – одной из наиболее быстро растущих областей в современной исторической науке. Она представляет собой первую монографию, знакомящую читателя как с прошлым и настоящим этой области, так и с предлагаемым направлением дальнейшего ее развития. Книга построена вокруг спора между социально-конструктивистскими и универсалистскими теориями эмоций – спора, который структурировал исследовательскую практику в различных областях изучения чувств на протяжении более ста лет: социальные конструктивисты полагают, что эмоции являются преимущественно результатом научения, культурно специфичны и подвержены историческим изменениям, тогда как универсалисты настаивают на том, что эмоции одинаковы во всех культурах и во все времена. Автор историзирует и проблематизирует эту бинарную оппозицию, указывая на возможности изучения эмоций за пределами конструктивизма и универсализма. Кроме того, в книге описывается история ученой рефлексии по поводу чувств в науках о жизни – от экспериментальной психологии XIX в. до новейшей аффективной нейронауки, а также в антропологии, философии, социологии, лингвистике, истории искусств, политической науке и истории с древних времен до наших дней.
В оформлении обложки использованы фотографии масок японского театра Но, Рейксмюсеум
ISBN 978-5-4448-2396-5
Original h2: Geschichte und Gefühl.
Grundlagen der Emotionsgeschichte by Jan Plamper
© 2012 by Siedler Verlag, a division of Verlagsgruppe Random House GmbH, München, Germany
© К. Левинсон, пер. с английского, 2018
© Е. Поликашин, дизайн обложки, 2018
© ООО «Новое литературное обозрение», 2018; 2024
ВВЕДЕНИЕ
Миндалина – всего лишь овальная тень размером с изюмину, плавно переходящая в более светлое окружающее мозговое вещество. Я сразу подумал: ее, наверное, и извлечь-то не получится – это не обычный орган вроде печени или селезенки, которые можно вынуть из пластиковой анатомической модели и потом вставить обратно. Мне миндалину показывали на сечении мозга, похожем на нарезанный тонкими ломтиками кочан цветной капусты. Эти ломтики аккуратно отделяла один от другого студентка, которая перед этим перебрала несколько мозгов, вынимая их из ведер с формалином, пока не нашла подходящий – тот, который был рассечен так, чтобы была видна миндалина.
Происходило это все ранним декабрьским утром 2009 года в кабинете имени Рудольфи Анатомического института при берлинской клинике «Шарите» – крупнейшей университетской клинике Европы. Я послал туда по электронной почте письмо, где сообщил, что работаю над исследованием по истории страха у русских солдат в годы Первой мировой войны и хотел бы посмотреть на человеческую миндалину, потому что она отвечает за страх и я много раз читал про нее в исследовательской литературе по нейронауке. Мне тут же ответили, что в понедельник я могу прийти на занятия по анатомии для студентов-медиков и там мне покажут миндалину. Я пришел раньше преподавателя и объяснил собравшимся второкурсникам в белых халатах, что мне нужно. Пока они доставали из пластиковых ведер один заформалиненный мозг за другим, выбирая тот, который был препарирован подходящим образом, я бросил взгляд на соседний стол. Две студентки только что положили на него тяжелый синий пластиковый мешок с трупом, расчехлили его, сняли марлевые повязки с головы, перевернули препарированное, со снятой кожей, тело на живот, подперли деревянным бруском подбородок, сняли уже отпиленную крышку черепной коробки и, вооружившись пинцетом и скальпелем, начали углубляться в недра мозга. Я внезапно подумал: а ведь то, как эти студентки добираются до областей, лежащих глубже коры, которая отвечает за когнитивные функции мозга, очень похоже на то, как продвигаюсь в своем историческом исследовании я сам. Они тоже рано или поздно наткнутся на миндалевидное тело – обитель страха, базальное логово самого основного из всех чувств.
«Миндалиной» назвал это образование из‐за его продолговатой формы немецкий анатом Карл Фридрих Бурдах (1776–1847), который открыл его в 1819 году1. В 1930‐е годы с помощью экспериментов на животных и наблюдений над пациентами установили, что миндалевидное тело – это та зона мозга, где протекают все нейрональные процессы, которые вызываются источниками угрозы (например, такими, как ядовитая змея), активируют вегетативную нервную систему (повышенный мышечный тонус, ускоренный пульс, короче говоря – все необходимое, чтобы убежать от ядовитой змеи) и которые обычно относят к эмоции под названием «страх» или «тревога». В 1980‐е годы это воззрение было подкреплено новыми технологиями визуализации, такими как компьютерная томография. Когда я спросил студентов-медиков, собравшихся под яркой неоновой лампой вокруг анатомического стола, чтó говорит наука о функции миндалины, они в один голос ответили: «Отрицательные эмоции, особенно страх».
Своей известностью миндалина в большой мере обязана нью-йоркскому нейрофизиологу Джозефу Леду, чья книга «Эмоциональный мозг: таинственные основы эмоциональной жизни» (1996) была переведена на многие языки и стала бестселлером. Леду, который вместе с сотрудниками своей лаборатории играет на электрогитаре музыку в стиле heavy mental (sic!) в группе Amygdaloids, говорит о двух путях к страху: первый, быстрый, путь ведет через миндалину, а второй, немного медленнее, через кору мозга2. Когда мы воспринимаем угрожающий стимул (змею), эта информация, как пишет Леду, за 12 миллисекунд передается в миндалину, а та активирует вегетативную нервную систему для обеспечения реакции типа «борись или беги», сформированную в ходе эволюции живых организмов. Эта быстрая реакция может решить вопрос о жизни и смерти, потому что готовит тело к тому, чтобы убежать от угрозы силой или остаться и сражаться с ней. В два раза дольше, 24 миллисекунды, та же информация идет в кору головного мозга, где она оценивается: змея ли это в самом деле или просто палка, похожая на змею? Если это змея, то мертвая она или живая? Если она живая, то ядовитая это змея или безвредная? Если на самом деле опасности нет, то кора посылает сигнал миндалине, которая успокаивает вегетативную нервную систему3. Иллюстрация, приведенная Леду (см. ил. 1), производила настолько убедительное впечатление, что с 1996 года ее воспроизводили в публикациях о страхе, наверное, чаще, чем какую-либо другую4.
С тех пор знание о миндалине стало достоянием широкой общественности, так что почти всякий раз, когда я рассказываю о своих исторических исследованиях, посвященных солдатскому страху, кто-нибудь обязательно меня о ней спросит. Вообще, кроме солдатского страха, мало есть других эмоций, в разговоре о которых с такой безотказностью рефлекса упоминали бы антропологические константы (сегодня – облекая это в нейробиологическую терминологию). Связано это с идеей, что существует некая нейробиологическая материальная основа всего и всякого страха, которая не зависит от времени и культуры, она одна и та же у всех животных – от лабораторных мышей до человека разумного. Тем самым мы обозначили один из полюсов, наблюдаемых во всех исследованиях эмоций с XIX века: это нечто жесткое, неизменное, универсальное, общее для всех видов, вневременное, биологическое, физиологическое, сущностное, базовое, «зашитое в систему». Тем фактом, что миндалина расположена так глубоко в мозгу (в тех недрах, до которых пытались добраться студентки у соседнего стола), как бы все сказано.
Ил. 1. Джозеф Леду и два пути к страху
Но что на самом деле представляет собой миндалина? Конгломерат нервных клеток, который активируется при некоторых функциях головного мозга, включая эмоции. В этом мнении большинство исследователей пока едино. Но споры начинаются, уже когда встает вопрос о том, какие нервные клетки (нейроны) относятся к миндалине, а какие нет. Дело в том, что в окружающих зонах тоже есть нервные клетки, и некоторые из них тоже считаются релевантными для эмоций5. Сразу бросившийся мне в глаза плавный переход между темным пятном на срезе мозга и более светлыми участками вокруг наглядно отражает трудность этого разграничения. Функции миндалины вызывают не меньше споров. Сегодня уже считается устаревшим мнение, что она отвечает только за отрицательные эмоции. Иногда утверждают, что она отвечает за обоняние, за зрительное восприятие, а также за способность джазовых музыкантов отличать импровизацию от заученных композиций6. К тому же распределение и связи нейронов в миндалевидном теле различаются у грызунов, на которых проводят большинство экспериментов, и у людей, о которых делают выводы на основе этих экспериментов7. И наконец, когда мы говорим о миндалине в единственном числе, это, строго говоря, лишь половина истории, потому что миндалевидных тел два – по одному в каждой половине мозга. Как они соединяются между собой, есть ли между ними разделение труда, и если да, то каковы функции каждого из них – все это предмет интенсивных дискуссий в нейробиологии8.
Вот что вертелось у меня голове, когда я вышел из анатомички под блеклое зимнее солнце Берлина.
Совершенно другие вещи узнал я, когда читал этнологические исследования о страхе. Этнологи не искали какого-то одного механизма функционирования страха, общего для всех и имеющего нейроанатомическую привязку: они обнаружили в различных культурах и эпохах разные способы обращения со страхом. Это касалось даже солдатского страха. Вот один пример: племена маори – коренных жителей нынешней Новой Зеландии – до их покорения британцами в середине XIX века часто воевали друг с другом. Если воин маори перед боем обнаруживал телесные проявления боязни, такие как дрожь, то считалось, что он одержим атуа – особым духом, который был разозлен нарушением тапу9 – канона социальных норм. Для освобождения от атуа применялся ритуал: воин должен был проползти между раздвинутыми ногами женщины, которая имела более высокий социальный статус, чем он. Половые органы женщины, особенно влагалище, обладали, как считали маори, способностью освобождать от атуа. Если воин, проползший между ног женщины, переставал дрожать, то он отправлялся в бой свободным от атуа, то есть без страха. Если же его все еще трясло, то считалось, что ритуальное очищение не удалось, и этот воин мог безнаказанно остаться дома. По всей видимости, возможность того, что атуа нападет на человека во время битвы, не предусматривалась; следовательно, мы можем полагать, что маори не чувствовали страха в бою. Таким образом, согласно существовавшей у этого народа модели солдатского страха боязнь локализуется вне тела воина. Зарождается страх не в его «душе» или «психике», и не в его «мозге», а в некоей трансцендентной сфере норм тапу и надмирных сил10.
Этот пример подрывает нашу концепцию универсализма солдатского страха. Тем самым затронут второй полюс всех исследований чувств: мягкий, антиэссенциалистский, антидетерминистский, социально-конструктивистский, культурно-релятивистский, ориентированный на культурную специфичность и культурную контингентность. Между этими двумя полюсами и бытует научный дискурс об эмоциях с середины XIX века, если не раньше. Понятия, которые сгруппированы вокруг этих полюсов, не совпадают. Пока неясно, как они соотносятся друг с другом, как, когда и почему возникли и чем друг от друга отличаются, то есть как их можно картировать. Исследования здесь только начинаются. Но всякий, кто в первой декаде третьего тысячелетия принимал участие в мультидисциплинарных (о междисциплинарности тут не может быть и речи) конференциях с участием неврологов и гуманитариев, знает, как вирулентны эти полюса и как быстро вокруг них могут формироваться ожесточенно враждующие друг с другом лагеря. Деление на универсалистов и социальных конструктивистов уже отмечалось многократно: Барбара Розенвайн пишет, что «некоторые ученые считают эмоции врожденными, другие же рассматривают их как „социальные конструкты“»11. Ингрид Кастен задается вопросом, «где и как провести границы между универсалиями и переменными»12. Питер и Кэрол Стернсы говорят о необходимости и трудности «отделять постоянное (животное) от изменчивого (культурно обусловленного)»13. Рюдигер Шнелль отмечает, что «мы сегодня в историческом изучении эмоций наблюдаем две противоположные базовые позиции: приверженцы одной считают, что чувства людей на протяжении тысячелетий остались теми же (изменились только способы выражения); приверженцы другой считают, что у каждой эмоции есть своя история, обусловленная общеисторическими изменениями». Шнелль также считает, что «универсалисты и эволюционисты противостоят […] конструктивистам»14. Армин Гюнтер задается вопросом: «Есть ли вообще у эмоций история или они суть антропологическая константа?»15 И наконец, Кэтрин Латц и Джеффри Уайт констатируют, что «литература об эмоциях характеризуется несколькими классическими эпистемологическими антагонизмами. В их числе – различие между […] универсализмом и релятивизмом»16. Даже там, где бинарная оппозиция «социальный конструктивизм vs. универсализм» не фигурирует, обычно считают необходимым специально упомянуть, что авторы не вписывают себя в нее, – например, в специальном выпуске одного журнала, посвященном эмоциям с точки зрения медицинской антропологии, подчеркнуто, что «статьи не сосредоточиваются на дебатах об универсальности или культурной специфичности тех или иных эмоций»17.
О том, что деление на универсалистский и социально-конструктивистский лагеря не очень-то способствует прогрессу познания, тоже уже много раз говорили18, и даже при беглом взгляде на историю XIX–ХХ веков ясно, что это разделение не есть нечто Богом данное, оно рукотворное. Возникло оно из другой дихотомической фигуры мысли: «природа vs. культура». На протяжении значительной части XVII века в истории европейской мысли «природа» еще представляла собой более открытую категорию: ее часто представляли аллегорически (в виде богини Дианы), ей часто поклонялись (возводя храмы природы), она была переменчива и легкой поступью двигалась в направлении некой цели, а не просто существовала, неизменная и твердая как скала. «Природа» означало «интенцию, никогда не претворенную полностью в реальность». Ее «всё еще рассматривали как массу поддающихся трансформации возможностей, а не как неумолимую, непоколебимую, жесткую реальность»19. Природа была чем-то пластичным.
Ситуация изменилась в эпоху Просвещения. В начале XVIII века выкристаллизовывается оппозиция «природа vs. культура». Природа перестала быть изменчивой и приобрела новые свойства. Во-первых, теоретики государства определили ее как то, что предшествовало государству («естественное состояние» у Томаса Гоббса), а потом как то, что предшествовало обществу («естественное состояние» у Джона Локка и Жан-Жака Руссо). Во-вторых, природа была определена как «первобытность» – это обозначало стадию развития чужих, неевропейских народов. В-третьих, философы Просвещения стали отождествлять природу с человеческим телом, особенно с его внутренними, мало изменяющимися аспектами, к которым причисляли (например, Жюльен Офре де Ламетри и другие философы-механицисты) и инстинкты. И наконец, в-четвертых, семантика природы слилась с понятием окружающей среды, так что флора и фауна стали «природой»20. Последние два значения – природа как тело и природа как окружающая среда – сначала превратились в легитимационную инстанцию, предшествующую религиозной, а потом, в ходе процесса, который здесь ради краткости обозначим понятием «секуляризация» (которое само отнюдь не беспроблемно), стала и вообще единственной, абсолютной легитимационной инстанцией. Природа была превращена в твердокаменный fundamentum absolutum, стала новой конечной определенностью.
Этот процесс в XIX веке шел рука об руку с распространением идей Фрэнсиса Гальтона и их вульгаризацией в форме евгеники, а также с профессионализацией и институционализацией современного естествознания21. В дискуссии о методах наук оппозиция «природа vs. культура» тоже фигурировала. Так, философ-неокантианец Вильгельм Виндельбанд в 1894 году, вступая в должность ректора Страсбургского университета, в своей инаугурационной речи указал на различие между номотетическими и идиографическими науками. Об этом противопоставлении любят говорить и сегодня: номотетические естественные науки, по словам Виндельбанда, нацелены на выведение универсальных законов и предпочитают метод редукционистского эксперимента. Идиографические же гуманитарные науки нацелены не на универсальное, а на специфику и уникальность предмета исследования22.
Антитезы «природа vs. культура» и «универсализм vs. социальный конструктивизм» настолько сильны, что для того, чтобы их преодолеть, представителям целых научных дисциплин в полном составе понадобилось бы пройти через групповую психотерапию, считает историк науки Лоррен Дастон. Только на пресловутой кушетке психотерапевта можно было бы «проработать» идейное наследие XIX века и как-то с ним справиться23. В этой книге я неоднократно предпринимал попытки как бы встать с кушетки, отворить окно и открыть вид на то, как будет выглядеть исследование эмоций после терапии, то есть после устранения дихотомии «универсализм vs. социальный конструктивизм».
Моя книга преследует две цели. Прежде всего, это введение в историю эмоций, и в таковом качестве она есть синтез имеющихся у нас знаний в данной области. Это не простая задача, потому что история эмоций в наши дни переживает прямо-таки взрывообразное развитие. Образно говоря, можно было бы сказать, что эта книга является попыткой фотографировать ракету в фазе ускорения после запуска. На мой взгляд, такая фотофиксация сейчас еще возможна только применительно к истории эмоций, то есть если не брать изучение эмоций в психологии, этнологии и философии; то, что уже опубликовано, еще можно, как кажется, свести воедино, хотя мы, вероятно, уже близки к точке невозврата, после которой знание достигнет таких масштабов, что освоить его уже станет не под силу одному человеку. Чтобы достичь поставленной цели – дать историографический обзор истории эмоций, – я буду резюмировать и классифицировать, развенчивать мифы об этой молодой области исследований, а также часто и много цитировать, дабы читатели, занимающиеся историографией, могли писать собственные работы по истории чувств, базируясь на надежном фундаменте. Как всегда, обзор с высоты птичьего полета есть лишь обзор с высоты птичьего полета, и я всех приглашаю познакомиться с литературой, цитируемой здесь, поближе, чтобы вместо общих планов увидеть нюансы и детали.
И все же эта книга – не только обзор быстро развивающейся области исследований, но и интервенция в нее. Это будет видно во всех главах: я старался быть нейтральным в изложении материала, но вместе с тем сделал собственное мнение как можно более прозрачным. Это относится в особенности к моей критической оценке тех легкомысленных заимствований из нейронауки, которые столь модны ныне в некоторых гуманитарных и социальных дисциплинах, особенно в литературоведении и искусствоведении, а также в политологии. Эти заимствования часто напоминают попойки, за которыми – я убежден – наступит ужасное похмелье. Подчеркну: я говорю о легкомысленных заимствованиях, потому что в принципе такие заимствования могут дать важные импульсы. Только надо сперва достичь определенной степени грамотности в области нейронаук, чтобы, заимствуя, знать, откуда заимствуешь. Такой ликбез в этой книге читатель тоже найдет – в главе III. Разумеется, две вышеназванные цели – обзор и интервенцию – разделить невозможно. Однако соблюсти баланс между непредвзятым описанием научной области во всей ее полноте и решительным вмешательством в эту область можно, – и даже можно сделать это элегантно, что доказали авторы других работ, послужившие мне примером, без которого я никогда не осмелился бы взяться за это исследование24.
Книга состоит из четырех глав. В главе I прослеживается история изучения чувств в хронологическом порядке, начиная с возникновения истории эмоций в конце XIX века, и ее развитие помещается в контекст социальных и политических событий, а также в контекст развития других научных дисциплин, которые оказывали на нее влияние. Таким образом демонстрируется, что и у истории эмоций есть история. В главе II речь пойдет о социально-конструктивистском полюсе в дискуссии об эмоциях, а также о науке, которая более, чем любая другая, способствовала осознанию того, что в разных культурах о чувствах говорят по-разному: это дисциплина, в одних научных культурах именуемая этнологией, в других – антропологией. В главе III мы направим наш объектив на другой полюс – эссенциалистский – и дадим обзор изучения эмоций в экспериментальной психологии с конца XIX века с особенным вниманием к новейшим нейрологическим исследованиям. Тут надо сделать одно замечание касательно терминологии: в качестве общего термина для психологии, физиологии, медицины, нейронауки и других подобных дисциплин я использую понятие «науки о жизни». Оно восходит к английскому выражению life sciences, которое вошло в оборот в 1980–1990‐е годы в качестве собирательного термина, объединяющего более узкое понятие «биология» с дисциплинами, которые тем или иным образом занимаются живыми организмами, – например (назову лишь некоторые), с когнитивной психологией, изучением мозга и нейроинформатикой. Понятие «науки о жизни» отражает зыбкость границ между этими дисциплинами. И наконец, в главе IV обрисованы перспективные ареалы исторического изучения эмоций. Посвящая главу II социальному конструктивизму, а главу III – универсализму, я, таким образом, тоже сохраняю в своей книге эту дихотомию. Ее структурирующая роль во всем, что было до сих пор написано, слишком велика, чтобы книга, задуманная хотя бы отчасти как синтез, могла это наследие полностью отбросить. Но если эта книга поможет осознать разделяющий два лагеря ров как проблему и в конце концов навести через него мосты, то это будет большим достижением.
Но прежде всего, во Введении, мы обратимся к тем фундаментальным вопросам, которые вновь и вновь задаются, когда речь заходит об истории эмоций: что такое эмоция? У кого бывают эмоции? Где их место? Есть ли у них история? Если у них есть история, то как ее изучать историкам? Намечая ответы на эти вопросы, я буду рассказывать о поисках, которые велись в нескольких областях знаний, и прежде всего речь пойдет о философии. Во-первых, потому что поиски, которые ведутся философами уже два с половиной тысячелетия, оказали особенно сильное влияние на другие области и, следовательно, образуют необходимый каркас для этой книги; во-вторых, потому что в следующих главах философия отойдет на второй план, уступив место этнологии, антропологии и наукам о жизни; и в-третьих, потому что в философии эти поиски шли зачастую не под знаком дихотомии «универсализм vs. социальный конструктивизм», а под знаком других тем и дихотомий, что позволяет нам увидеть, что этот важнейший для новейших исследований эмоций водораздел на самом деле есть явление очень недавнее – и преодолимое25.
Что такое эмоция?
«Что такое эмоция?» – так называлась знаменитая статья американского психолога Уильяма Джеймса (1842–1910), опубликованная в 1884 году26. Джеймс дал ответ на свой вопрос – мы к нему еще вернемся, – но уже то, что и вопрос, и ответ были предложены именно психологом, говорит о многом. Это подводит нас к первоочередному вопросу: а кто на самом деле определяет, что такое эмоции? Ведь в дискурсе об эмоциях не всегда господствующую роль играли одни и те же дисциплины, они сменяли друг друга, а некоторых – скажем, психологии – в прежние века и вовсе не существовало. Применительно к Западу можно в общих чертах сказать, что с античных времен до 1860‐х годов определяющую роль в рефлексии по поводу эмоций играли прежде всего философия и теология, а также риторика, медицина и художественная литература, а после 1860‐х годов – экспериментальная психология и, в частности, в последние двадцать лет – экспериментальная психология, особенно ее нейронаучное направление27.
Однако такая обобщенная формулировка, конечно, требует дифференциации. Во-первых, то, что можно было бы назвать метаисторией эмоций, – кто, когда и насколько авторитетно мог говорить о чувствах и в каких отношениях эти говорящие состояли друг с другом в тот или иной период, – пребывает в зачаточном состоянии и написано только для определенных периодов. Сколько-нибудь надежное знание у нас есть только по Древней Греции, по колониальной Америке XVIII века и по Великобритании XIX века28. От этой книги тоже не следует ждать «тотальной» историографии метаистории эмоций – такой, которая связала бы существующие несколько островков знания в один архипелаг и заполнила бы океаны между ними; тут могут быть даны только предложения по поводу того, на что следовало бы обратить внимание при написании такой histoire totale.
Во-вторых, такая схема – сначала 2500 лет западной философской и богословской мысли, а потом на смену им приходят 150 лет психологических исследований – проблематична, поскольку для многих людей в мире рефлексия незападных культур по поводу чувств имела и имеет не меньшее значение. Более того, процессы трансфера между «западной» рефлексией по поводу эмоций и «незападной» были – до того как психология около 150 лет назад сделалась основным поставщиком понятий, используемых в этой рефлексии, – настолько разнообразными и разнонаправленными, что на самом деле даже невозможно всерьез использовать слова «западный» и «незападный» как аналитические категории29.
Есть еще один первоочередной вопрос, который мы не сможем обойти. Имеем ли мы в виду одно и то же, когда говорим об «эмоции» в нейронауке образца 2001 года, представленной Герхардом Ротом, и об «эмоции» в экспериментальной эволюционной психологии образца 1979 года, представленной Клаусом Шерером? Об «эмоции» в исторической науке образца 2000 года, представленной Уте Фреверт, и об английской emotion в нейронауке образца 1998 года, представленной Яаком Панксеппом? Когда мы говорим о Gefühl у физиолога и психолога Вильгельма Вундта в 1863 году и о Gemüthsbewegung в немецкой энциклопедии Брокгауза 1928 года? О французских les affects у философов Жиля Делёза и Феликса Гваттари, писавших в 1980 году, об индонезийском perasaan hati в середине 1980‐х годов, английском affect у философа Брайана Массуми, писавшего в 2002 году, и об итальянских emozioni у криминолога Чезаре Ломброзо, писавшего в 1876 году?30 Одним словом: имеется ли достаточное единство значения всех этих слов, которое позволяло бы нам все эти очень разные обозначения, взятые из разных полей, эпох и культур, разбирать как одно понятие «эмоции»?
На первый взгляд это не так. Даже в одной ограниченной области, такой как англоязычная экспериментальная психология, было насчитано 92 различных определения эмоции за период 1872–1980 годов31. Трудность определения эмоции часто рассматривается в качестве ее основной характеристики: например, один американский кардиолог в 1931 году называет эмоции «чем-то текучим и летучим, что приходит и уходит, словно ветер, неизвестно как»; а полстолетия спустя два психолога констатируют: «Что такое эмоция, знает каждый – пока его не попросят дать определение»32.
Тем не менее есть три соображения в пользу того, чтобы все упомянутое рассматривать как одну и ту же «эмоцию». Во-первых, многие понятия этимологически связаны между собой. Если мы проследим происхождение слов emotion и Gemüthsbewegung (движение души), то придем к латинскому глаголу movere (двигать). Проследить и показать все эти этимологические линии во многих языках – задача для крупного проекта по созданию всеобщей истории понятий, описывающих чувства, и осуществить его можно было бы только при участии множества исследователей. Кстати, даже культуры, в которых понятия эмоции нет и в помине, часто заимствуют слово emotion – например, тибетская. Приезжающие в Тибет люди так часто спрашивали местных жителей, почему у них нет слова для эмоций, что те создали неологизм – tshor myong33.
Во-вторых, при сравнениях и попытках перевода можно обнаружить сходства и различия. На самом деле такие попытки в высшей степени продуктивны, из них в большой мере и состоит терминоведение.
И наконец, в-третьих, наука без метапонятий – номиналистическая наука – была бы царством полной контингентности. Это само по себе не страшно, но поскольку существует на рынке спрос на антиноминалистическую науку, в том числе историю эмоций, эта наука будет производиться.
Я решил использовать слово «эмоции» как метапонятие. В качестве его синонима я использую слово «чувство». Вместе с тем я не хочу уклоняться от выполнения задачи по историзации, поэтому стараюсь четко обозначать специфичное использование каждого из этих двух терминов всякий раз, когда они встречаются в языке источника. Иначе обстоит дело со словом «аффект»: в последнее время под влиянием нейронаук оно все больше принимает значение чисто телесного, довербального, бессознательного эмоционального переживания и в этой книге не будет применяться как метапонятие. Если бы я использовал слово «аффект» в таком качестве, мне во многих местах пришлось бы пускаться в многословную полемику против этого доминирующего сегодня словоупотребления и за учет элементов оценки, вербализации и сознания.
Но вернемся к нашему исходному вопросу: что такое эмоция? Сегодня психология в облике нейронауки в большой мере господствует над публичным и трансдисциплинарным научным дискурсом об эмоции. Но при этом она, как правило, страдает коллективной амнезией в том, что касается истории ее собственных, психологических идей (не говоря уже о философских), касающихся темы эмоций, хотя в последнее время в самой нейронауке стали все чаще раздаваться голоса, которые свидетельствуют, что философия «всей своей историей предвосхищала естественно-научные исследования»34. То, что ждет читателя ниже, – это написанный крупными мазками набросок истории философской рефлексии по поводу эмоций на протяжении двух с половиной тысячелетий. При этом часто будет идти речь и о рецепции этой рефлексии, в том числе и в современной психологии, включая «молчаливую» рецепцию, то есть такую, при которой философские связи не осознавались. Если в конце у читателя сложится хотя бы приблизительное представление о богатстве и сложности философии эмоций, значит эти страницы выполнят одну из своих задач.
Одно из первых дошедших до нас – и вместе с тем одно из самых живучих и влиятельных определений эмоций дал Аристотель (384–322 гг. до н. э.)35. Он описал греческое понятие pathos (во множественном числе – pathê) следующим образом:
Страсти – все то, под влиянием чего люди изменяют свои решения, с чем сопряжено чувство удовольствия или неудовольствия, как, например, гнев, сострадание, страх и все этим подобные и противоположные им [чувства]36.
Это цитата из «Риторики», из того пассажа в ней, где речь идет о том, как эмоции замутняют способность творящих правосудие людей к вынесению здравого суждения. Целевой группой данного текста были все те, кому по роду их деятельности в политике или в суде нужно было эмоционально влиять на других посредством ораторского искусства. Аристотель дал им своего рода инструкцию. Во второй части цитаты указывается на качество эмоций – они могут быть как приятными, так и неприятными, и это относится ко всем перечисленным далее эмоциям, равно как и ко всем прочим. То есть Аристотель делил эмоции не просто на положительные и отрицательные, как это часто делают сегодня: для него каждая эмоция обладала качеством в зависимости от того, как она воспринималась – положительно или отрицательно, – и у каждой эмоции в этом самом раннем из всех каталогов аффектов, за которым последовало множество других, была противоположность.
Этот пассаж интерпретируют по-разному: некоторые считают, что он нетипичен для Аристотеля и значение его ограничивается прагматическим контекстом ораторского искусства; другие считают, что он типичен не только для аристотелевских представлений об эмоциях, но и вообще для тех, что были распространены в полисах Древней Греции в классическую эпоху (ок. 500 – 336/323 до н. э.): согласно им, «эмоции понимались как реакции, но не на события, а на действия или на ситуации, которые были результатом действий и имели последствия для собственного относительного престижа человека или для относительного престижа других»37. Одни видели в Аристотелевом перечне страстей уже те самые базовые эмоции, о которых писал психолог Пол Экман в конце ХХ века, другие же считали, что изложенная Аристотелем концепция эмоций и сделанный им акцент на оценочной составляющей – это предшественники когнитивной экспериментальной психологии оценки (appraisal), существовавшей тогда же, когда концепция Экмана, но противоположной ей. Третьи же полагали, что перечень Стагирита отсылает нас к сегодняшней социальной психологии, подчеркивающей межличностные, коммуникативные функции эмоций38. Как видим, даже на очень древние рассуждения об эмоциях с удовольствием проецируются фундаментальные разногласия науки новейшего времени. Но мы остановимся на Аристотеле и одной эмоции – гневе (оrgē). В «Риторике» говорится:
Пусть гнев будет определен как соединенное с чувством неудовольствия стремление к тому, что представляется наказанием за то, что представляется пренебрежением или к нам самим, или к тому, что нам принадлежит, когда пренебрегать бы не следовало. Если таково понятие гнева, то человек гневающийся всегда гневается непременно на какого-нибудь определенного человека, например на Клеона, а не на человека [вообще], и [гневается] за то, что этот человек сделал или намеревался сделать что-нибудь самому [гневающемуся] или кому-нибудь из его близких; и с гневом всегда бывает связано некоторое удовольствие, вследствие надежды наказать, так как приятно думать, что достигнешь того, к чему стремишься. Никто не стремится к тому, что ему представляется невозможным, и гневающийся человек стремится к тому, что для него возможно. Поэтому хорошо сказано о гневе: «Он в зарождении сладостней тихо струящегося меда, / Скоро в груди человека, как пламенный дым, возрастает!» Некоторого рода удовольствие получается от этого и, кроме того, [оно является еще и] потому, что человек мысленно живет в мщении; являющееся в этом случае представление доставляет удовольствие, как и представления, являющиеся во сне39.
Соответственно, гнев невозможно отнести исключительно к положительным или исключительно к отрицательным эмоциям. Хотя он и несет боль, вместе с тем он заключает в себе и ожидание «сладкой» мести. Кроме того, концепция гнева у Аристотеля включала в себя также временнóе измерение: гнев проходит, тогда как ненависть бесконечна во времени. И наконец, определенную роль в гневе играет воображение: месть сладка, и сладостная месть – это месть воображаемая; здесь ожидание расцветает в царстве фантазии.
Вообще, Аристотель связал pathē с миром фантазии и тем самым подготовил почву для дальнейших размышлений об эстетике и чувствах: отличается ли мое сочувствие ближнему, который упал с велосипеда и к которому я спешу на помощь, от моего сочувствия литературному герою Оливеру Твисту, и если да, то как? Можно ли эмоциональные реакции на «настоящие» стимулы из окружающей среды приравнять к эмоциональным реакциям на культурные продукты, такие как романы, фильмы или компьютерные игры? И как обстоит дело с моей боязнью пауков, которая у меня в голове начинает функционировать самостоятельно и неконтролируемо, превращая меня в пленника в комнате без окон? Аристотель считал, что чувства, не связанные с действительностью, то есть чистые продукты фантазии – слабее, нежели чувства, имеющие отношение к реальному миру40.
Только в философии Платона (424/423–348/347 до н. э.) и его ученика Аристотеля чувства (pathē) стали рассматриваться как состояния, источник которых в самом человеке. Так было не всегда: «Литературные персонажи Гомера еще считали, что практически беззащитны и бессильны перед властью чувств», и досократики тоже определяли эмоции как нечто приходящее извне, а не порожденное внутри человека. Параллели с описанными выше воинами маори, чей страх приписывался атуа, здесь очевидны41. Возможно, именно в силу длинной тени, отбрасываемой древнегреческими теориями эмоций, многие метафоры, которые мы сегодня используем, говоря о наших чувствах, созвучны представлению об эмоциях как о чем-то внешнем: на нас «нападает ярость», нас «охватывает радость», а если мы влюбимся, то к нам «нагрянет любовь»42. Но это не значит, что древнегреческие философы одобрили бы схемы «стимул – реакция», подобные улицам с односторонним движением, не оставляя пространства для оценки и вынесения суждения. Напротив, Аристотель определял страх как «некоторого рода неприятное ощущение или смущение, возникающее из представления о предстоящем зле, которое может погубить нас или причинить нам неприятность», и рассматривал эту – иногда телесную – реакцию на воображаемые будущие невзгоды не как автоматическую: он считал, что убеждения, мнения и верования способны прервать протекание эмоции43. То есть мой страх перед увиденной в лесу ядовитой змеей Аристотель объяснил бы тем воображаемым злом, которое угрожает мне, если она меня укусит, но всегда признавал бы за мной возможность либо вовсе не запускать эмоциональную программу «страх» – потому, например, что я стал большим любителем змей с тех пор, как в шесть лет побывал в террариуме в Бостонском зоопарке, – либо эту программу остановить, потому что я в сорок лет, пройдя курс поведенческой терапии, научился справляться с боязнью змей.
Кроме того, эмоции, как их понимал Аристотель, благодаря присущей им оценочной составляющей можно изменять, причем не только у себя, но и у других людей, особенно младшего возраста. Молодежи, считал философ, необходима школа чувств, чтобы она могла заучить правильные суждения и превратить их в привычку44.
Стоики в своем определении эмоций шли за Аристотелем до той точки, где он говорил об оценке45. Но как только заходила речь о воспитании молодежи, пути их расходились: согласно пантеистическому воззрению стоиков, следовало видеть более широкий контекст и ничтожность эмоций. Цель, считали они, в том, чтобы достигнуть состояния отсутствия эмоций, или душевного покоя – апатии (apatheia), а затем и атараксии (аtaraxeia)46. Любовь и брак настолько незначительны в масштабах всей пантеистической конструкции, что их следует избегать. Эта форма контролирования эмоций вызвала долгое эхо: от римского императора Марка Аврелия (121–180 н. э.), который в «Посланиях к самому себе» тоже говорил об атарактическом идеале и особенно политикам рекомендовал покой, до американского философа Марты Нуссбаум, которая называет себя «неостоиком» и в своем понимании эмоций на первое место ставит собственное благополучие человека – и потому акцентирует стоическое спокойствие духа, – но при этом видит в эмоции всегда также и оценочное суждение (appraisal)47.
Во II веке н. э. один греческий врач, находившийся под влиянием Платона, высказал мысли об эмоциях, оказавшие влияние на многие поколения арабских и европейских врачей вплоть до итальянского Возрождения: Гален (ок. 130 – ок. 200) создал учение о темпераментах, в котором он связал каждую из четырех жидкостей – кровь, слизь, желтую желчь и черную желчь – с двумя типичными качествами48. Избыток какого-нибудь одного из этих соков, считал Гален, приводил к тому, что в темпераменте человека проявлялись те или иные свойства.
Терапевтический потенциал Гален усматривал не в химических веществах или воздействии на тело, а в нравственном воспитании и умеренности. Учение Галена о четырех соках и особенно связанная с ним гуморальная патология (деление людей на холериков, сангвиников, меланхоликов и флегматиков) – то есть описание экстремальных, излишних эмоций, – в модифицированной форме встречаются еще у Канта и у некоторых психологов конца XIX и начала ХХ века49.
Ил. 2. Учение Галена о четырех жидкостях и соответствующих им эмоциональных типах
Фундаментальное значение для большей части рефлексии по поводу чувств со времен Платона имела идея о трех составных частях души. У Платона душа состояла из разумной (logistikon), волевой (thymoeides) и вожделеющей (epithymetikon) частей. Это предположение было поколеблено уже Аристотелем и стоиками, но более всего – в поздней Античности Аврелием Августином (354–430), на которого оказали влияние трактаты об эмоциях, написанные раннехристианскими монахами50. Августин создал иерархическую, ступенчатую модель души, в которой низшая ступень была чисто вегетативной и телесной, а наивысшая, седьмая – ступень лицезрения Бога или божественного просветления51. Две верхние ступени были зарезервированы за мужчинами. Кроме того, аристотелианскую и стоическую модель деления эмоционального процесса на две части, в которой первое движение (primus motus) было скорее телесным шагом, а вторым шагом была когнитивно-моральная оценка, Августин заменил единой категорией эмоций (motus), подчиненной воле:
Разница состоит в том, какова воля человека: если она превратна, то будут превратны и эти движения; если же она добра, то и движения будут не только не предосудительны, но и похвальны. Ибо воля присуща всем им; более того, все они суть не что иное, как воля. Ведь что такое страстное желание и радость, как не воля, сочувствующая тому, чего мы хотим? И что такое страх и печаль, как не та же воля, не сочувствующая тому, чего мы не хотим?52
Однако вследствие первородного греха воля, как правило, ведет человека в неверном направлении. Только тот, кто принял Божью благодать и ориентирует свою волю по Богу как по фиксированной точке, может сделать свои чувства положительными. Идеи Августина коренным образом противоречили взглядам классических греческих философов, потому что, в отличие от стоиков, в чьей пантеистической концепции божественное присутствовало в Земле и в природе, у Августина божественное располагалось вне досягаемости, в сфере трансцендентности, а эмоции были направлены на жизнь после смерти; все земное, включая человеческое тело, рассматривалось как грязное и преходящее53. В отличие от Аристотеля, в чьей мысленной вселенной эмоциональные и когнитивные аспекты были неразрывны, у Августина уже намечалось деление на эмоции и разум, которое любят приписывать Декарту54. Кроме того, если у стоиков идеалом была эмоциональная невозмутимость в жизни, то Августин приветствовал эмоции в жизни – до тех пор, пока они были подчинены воле и направлены на Божественное55.
Средневековая рефлексия по поводу эмоций изучена хуже, чем античная, а кроме того, она почти не оказала влияния на последующие эпохи. Поэтому и схоластика, особенно Фома Аквинский (1225–1274), рассматривается обычно в качестве приложения к Аристотелю и Августину56. Что-то действительно новое, как всегда пишут, появляется только у Рене Декарта (1596–1650). Декарт считается не только самым влиятельным философом Нового времени, но и основателем всех дуализмов – в первую очередь, разумеется, дуализма души и тела, но и оппозиции «разум vs. чувство»57. В этом смысле часто истолковывали и его формулу «Я мыслю, следовательно, я существую». Так, например, нейробиолог Антонио Дамасио усматривает в этом высказывании «ошибку Декарта» (таково название его бестселлера 1994 года):
Если понимать это утверждение буквально, то оно прямо противоположно тому, как я понимаю (на мой взгляд, правильно) источники разума и отношение между разумом и телом: тут утверждается, что мышление и осознавание мышления суть истинные субстраты бытия. А так как мы знаем, что Декарт представлял себе мышление как деятельность совершенно отдельную от тела, то это утверждение провозглашает отделение разума, «думающей вещи» (res cogitans), от недумающего тела – того, у которого имеются размер и механические части (res extensa). […] Вот в чем ошибка Декарта: пропасть, отделяющая тело от разума, пропасть между поддающимся измерению, имеющим пространственные размеры, механически функционирующим, бесконечно делимым веществом тела, с одной стороны, и неподдающимся измерению, не имеющим пространственных размеров, неосязаемым, неделимым веществом разума; предположение, что и рассуждение, и моральное суждение, и страдания, которые происходят от физической боли или эмоционального потрясения, могут существовать отдельно от тела, а конкретно – отделение наиболее тонких и сложных операций разума от структуры и функционирования биологического организма58.
Недавно на это было выдвинуто возражение: Декарт – и в этом он принципиально отличался от христианских философов, таких как Августин и Фома Аквинский, – рационализировал Бога, то есть заявил, что Он есть высшее воплощение разума, а тем самым как бы вложил разум и в эмоции. Так, например, его концепция страха предполагала такую инстанцию, как воля, – например, когда контроль страха понимался не как подавление страсти, а как победа одной страсти над другой: «полезные мысли, нацеленные на то, чтобы разжечь одну страсть (например, мужество), которая противодействует другой (например, страху)»59.
Однако подобные ревизионистские концепции не должны заслонять от нашего взора то, что было у Декарта новым, неслыханным, – скажем, когда он в «Страстях души» заявил, что собирается исследовать эмоции «не как оратор и не как моральный философ, а как физик» (en physicien) и отделить их от души, чтобы изучить их, подобно всем живым организмам (за исключением человеческой души), как механизмы60. Он приводил такой пример: когда палец другого человека приближается к нашему глазу, даже если наш разум знает, что это палец друга, наше тело реагирует механизмами страха и защиты – мы моргаем. Наш разум оказывается в этой ситуации бесполезным, потому что «машина нашего тела устроена так, что движение этой руки к нашим глазам вызывает другое движение в нашем мозгу, который направляет духи в мышцы, заставляющие веки закрываться»61.
Именно на Декартову теорию опирался придворный живописец короля Людовика XIV Шарль Лебрён, создавший анатомические зарисовки эмоций и тем самым впервые связавший чувства с репрезентированными техническими средствами (то есть нарисованными, сфотографированными, сгенерированными на компьютере) лицами (и мозгами). Влияние созданной Лебрёном графической классификации выражений лица при различных эмоциях было огромным62 и сохранялось до XIX века, хотя уже при его жизни появились критики, отмечавшие, что идеальнотипические лица в своей статичности не отражали ни процессуального характера эмоций, ни их смешанности. О том, что эмоцию нельзя представлять себе в чистом виде, часто говорили, между прочим, противники теорий базовых эмоций в конце ХХ века63.
Как альтернативу Декарту, считающемуся дуалистом, часто представляют Баруха Спинозу (1632–1677). В последние годы наблюдается грандиозный спинозианский ренессанс в телесно-ориентированных общественных науках, литературоведении и искусствоведении (о них подробнее пойдет речь ниже и в главе III). Эта конъюнктура заметна даже по заглавиям научно-популярных книг Дамазио от критической работы «Ошибка Декарта: эмоции, разум и человеческий мозг» до апологетической «В поисках Спинозы: радость, печаль и чувствующий мозг»64. Можно было бы утверждать, что Спиноза сегодня так хорошо согласуется с нейронауками благодаря неаккуратности и многозначности своих мыслей, а можно объяснить возродившийся интерес к нему тем, что он отказался от дуализмов (его часто называют монистом, поскольку он верил в единую божественную субстанцию) и потому рассматривал чувства и душу как аспекты одной и той же единой реальности. Сочетание естественно-научной, геометрической рефлексии с рефлексией по поводу эмоций в его главном труде – «Этике, доказанной в геометрическом порядке» (1677) – делает его особенно привлекательным для литературоведов, интересующихся нейронаукой, и нейрологов, интересующихся литературой.
Спиноза считал, что разум, а значит и чувства, – часть природы. Следовательно, они подчиняются ее всеобщим законам и, как и все остальное, включая Бога, могут быть изображены «точно так же, как если бы вопрос шел о линиях, поверхностях и телах»65. Кроме того, он делил чувства на «действия» и «страсти»: причина первых – внутри нас самих, а причины вторых находятся вне нас, однако при этом внутренняя и внешняя сферы не различаются категориально: и та и другая суть природа. Спиноза считал, что существует только три основных чувства: радость, печаль и стоящее выше их чувство вожделения/желания (cupiditas). Из этих (и некоторых других) элементов своей рефлексии по поводу чувств он сложным путем выстраивал законы, имевшие вид афоризмов, например:
Теорема 38. Если кто начал любимый им предмет ненавидеть, так что любовь совершенно уничтожается, то вследствие одинаковой причины он будет питать к нему бóльшую ненависть, чем если бы никогда не любил его, и тем бóльшую, чем больше была его прежняя любовь66.
Подобные теоремы, столь похожие на физические законы, уже в XIX веке нравились физиологам, а потом экспериментальным психологам67. Нынешний бум спинозизма характеризуется прежде всего тем, что подчеркивается его монизм. Литературоведы и социологи ссылаются на него, когда хотят повысить ценность материального – будь то бытовые предметы, деревья или арктические льды. За материей в таких случаях признается наличие чувств и в конечном счете способности к сознательному действию, причем не меньше, чем у человека, а следовательно, материя оказывается в радиусе действия нашей эмпатии, становится достойной защиты, даже нуждающейся в защите, а это делает подобные идеи привлекательными для экологов и ряда других постмарксистских политических проектов68. Литературоведы и социологи ценят в монизме то, что он позволяет рассматривать мыслительные процессы как телесные69.
Кроме того, в нейронауках некоторые ссылаются на монизм Спинозы, потому что он предвосхитил выводы этих дисциплин – например, высказав мысль, что «разум и тело представляют собой параллельные и взаимосвязанные процессы, которые постоянно подражают один другому и подобны двум сторонам одной медали» и что «глубоко внутри этих параллельных феноменов существует механизм репрезентации телесных событий в разуме»70. Спиноза, как утверждают, совместим даже с теорией эволюции и идеей гомеостаза, согласно которой все живое стремится к самосохранению, и более того: его теория добродетели подтверждаетcя нейронаукой: «формирование и совершенствование способности человека к суждению – тяжелый труд, но до определенной степени само устройство нашего мозга предрасполагает нас к тому, чтобы сотрудничать с другими людьми ради обеспечения этой способности»71. В общем, Спиноза – «протобиолог»72.
Хотя Томас Гоббс (1588–1679) никогда не писал отдельных работ об эмоциях, он постоянно касался их в своем творчестве – и в «The Elements of Law, Natural and Politic», и в «Левиафане», и в «О человеке». Даже больше: «Ни один мыслитель его времени не придает им такое значение, как он»73. Естественное состояние людей Гоббс описывал как страшное изживание чувств (passions): «Нет […] ремесла, литературы, нет общества, а, что хуже всего, есть вечный страх и постоянная опасность насильственной смерти, и жизнь человека одинока, бедна, беспросветна, тупа и кратковременна»74. Но это состояние таит в себе надежду на то, что изживание чувств и страх ненадолго уравновесят друг друга и сделают возможными рациональные решения. Из этого равновесия, писал Гоббс, возникает общественный договор; только он может вывести человека из естественного состояния.
Гоббс считал все чувства движениями тела, связанными с волей и направленными на внешние объекты. Направлений их движения только два, а именно к объекту (желание/влечение, appetite) или от объекта (отвращение, aversion). Если мы некий объект ни желаем, ни отвергаем, значит мы его презираем и держим наше тело (наше сердце) в середине между двумя движениями. Из этих двух направлений образуется краткий каталог основных («простых», как выражается Гоббс) эмоций, таких как любовь, печаль и радость, а в сочетании с другими факторами – бесконечный каталог других эмоций75. Однако следует отметить, что Гоббса «интересовал главным образом […] не психологический анализ, а разработка такой концепции человеческой природы, которая объясняла бы поступки людей и обеспечивала бы внятную основу для гражданских институтов и политического правления»76.
На идеи теоретиков государства, таких как Гоббс и его оппонент Джон Локк (1632–1704), отреагировали шотландские моральные философы XVIII века, которые придумывали сложные системы чувств и ввели в оборот категорию эмпатии, в наши дни снова активно обсуждаемую. Энтони Эшли-Купер, граф Шефтсбери (1671–1713), который был тесно связан с шотландскими моральными философами, задался – с позиций утилитаризма – вопросом о пользе эмоций. Его концепция чувств была гораздо более реляционной, чем у Гоббса: по его мнению, одна часть эмоций – естественные страсти (natural affections) – направлена в основном на окружающих, в то время как неестественные страсти (unnatural affections) – антиобщественные, нацелены только на собственную выгоду77. Кроме того, Шефтсбери, в отличие от Гоббса, считал, что в человеческой природе «в конечном счете уживаются добродетель и корысть»78. Чувства, по его мнению, априори морально ценны, в том числе и стремление к счастью (pursuit of happiness). Различные чувства в человеке соотносятся друг с другом, «как струны музыкального инструмента», стремящиеся к естественной гармонии79.
Еще на один шаг дальше пошел Фрэнсис Хатчесон (1694–1746), тоже моральный философ, который считал, что эмоции «по природе своей уравновешивают друг друга, как антагонистические мышцы в теле»80. Дэвид Юм (1711–1776), который сам называл себя «языческим» философом, даже возвел страсти, или эмоции (passions), в ранг инстанции, контролирующей разум: «Разум есть и должен быть лишь рабом аффектов»81. Для Юма разум как таковой не обладал никаким «оценочно-репрезентационным содержанием», а потому вполне разумным может быть и убийство82. Безнравственным убийство становится только благодаря вовлечению чувств. Юм подчеркивал:
Я ни в коей мере не вступлю в противоречие с разумом, если предпочту, чтобы весь мир был разрушен, тому, чтобы я поцарапал палец. Я не вступлю в противоречие с разумом и в том случае, если решусь безвозвратно погибнуть, чтобы предотвратить малейшую неприятность для какого-нибудь индийца или вообще совершенно незнакомого мне лица. Столь же мало окажусь я в противоречии с разумом и тогда, когда предпочту несомненно меньшее благо большему и буду чувствовать к первому более горячую привязанность, чем ко второму83.
Помимо идеи о страсти как инстанции, управляющей разумом, есть в рефлексии Юма по поводу эмоций вторая линия, которой уделяется сегодня всё больше внимания, а именно – сопереживания (у Юма – sympathy). Согласно концепции Юма, сопереживание – это сложнейший процесс, лишь упрощенно описываемый медицинской метафорой «заражения»: когда мы наблюдаем внешние признаки чувств у кого-нибудь из окружающих (например, слезы, когда человек страдает), мы у себя в уме формируем представление о чувствах этого человека, которое может вступить в связь (association) с нашим представлением о собственных чувствах и за счет этого вызвать новые чувства, способные управлять нашими действиями (например, заставить нас обнять человека, чтобы утешить его)84. Эта область рефлексии Юма – и Адама Смита (1723–1790) – по поводу эмоций отбрасывает длинные тени, достигающие сегодняшнего дня: мы обнаруживаем их у философа Макса Шелера, писавшего в 1920 году о «заражении чувствами», у Джона Майера и Питера Сэловея с их концепцией эмоционального интеллекта (популяризована Дэниелом Гоулманом), в «теории сознания» (Theory of Mind) и в исследовании зеркальных нейронов в нейронауке85.
С наступлением Просвещения декорации на сцене рефлексии по поводу эмоций еще раз поменялись. На трон был возведен разум, и потребовались жертвы – одной из них стало более строгое разделение между разумом и чувством. Соответственно, чувство, определяемое теперь как «не-разумное», одни прославляли, а другие проклинали. Прославляли его прежде всего в так называемую эпоху сентиментализма (ок. 1720 – 1800), когда провозвестником культа эмоциональной аутентичности стал Жан-Жак Руссо (1712–1778). Он полагал, что люди в идеальном состоянии от природы равны и не испорчены дурным влиянием культуры. «Не тот человек больше всего жил, который может насчитать больше лет, а тот, кто больше всего чувствовал жизнь», – писал он в своем романе «Эмиль, или О воспитании» (1762)86. Соответственно, воспитание чувств означало, согласно Руссо, возвращение человека к его первоначальному состоянию, прочь от влияния культуры. Поэтому не удивительно, что Руссо агитировал против чувств в театре, говоря, что они наигранные, а значит – ненастоящие. Кроме того, эмоции, демонстрируемые актерами, опасным образом затрагивают эмоции зрителей: «Разве не известно, что все страсти – сестры, что довольно одной, чтобы пробудить тысячу других?» Обществу грозит перевозбуждение и, в конце концов, даже потеря контроля над собой87.
Из всех мыслителей Просвещения наиболее отчетливо разделение разума и эмоций заметно у Иммануила Канта (1724–1804) – причем, в отличие от Руссо, с однозначно отрицательным знаком. Хотя Кант не выработал цельной теории чувств, он часто касался эмоций в своих произведениях и к концу жизни стал отводить им важную роль «Другого» для разума. Сначала, продолжая линию Юма, Кант писал о моральных чувствах, но с 1790‐х годов встал на решительно антиэмоциональную точку зрения, которая отражает бинарную оппозицию «emotio vs. ratio», актуальную и по сей день. В «Антропологии с прагматической точки зрения» (1798) он разделил эмоции на аффекты и страсти и определил чувства как нечто неподвластное разуму, а потому и не имеющее никакого отношения к морали. Аффекты, согласно классификации Канта, – это нечто внезапное, «чувство […] удовольствия или неудовольствия в настоящем состоянии, не оставляющее в субъекте места для размышления (разумного представления о том, следует ли отдаться этому чувству или противиться ему)»88. Если аффекты могут стать по крайней мере «временным суррогатом разума», то страсти располагаются далеко за пределами области морали, руководствующейся разумом: «Склонность, которую разум субъекта может подавить только с трудом или совсем не может подавить, – это страсть»89. Это означало для Канта лишь одно: «Подчинение аффектам и страстям всегда есть болезнь души, так как и те и другие исключают господство разума»90. Основа внутренней свободы – самоконтроль, а для него нет ничего опаснее чувств91. Короче говоря, «ни один человек […] не желает себе страсти. В самом деле, кто захочет заковать себя в цепи, если он может остаться свободным?»92
Что такое эмоция? Прервем на этом месте обзор ответов выдающихся философов на данный вопрос. Начиная примерно с 1800 года рефлексия по поводу чувств стала осуществляться в нескольких различных дисциплинах – в том числе в двух таких, которые только что были изобретены, – и об этом пойдет речь в последующих главах: об исторической науке – в главе I, об этнологии/антропологии – в главе II, об экспериментальной психологии – в главе III. Разумеется, философия в XIX–ХХ веках не перестала замечать эмоции. Скорее наоборот: Артур Шопенгауэр (1788–1860), Сёрен Кьеркегор (1813–1855), Фридрих Ницше (1844–1900), Мартин Хайдеггер (1889–1976), Жан-Поль Сартр (1905–1980) и многие другие, не говоря уже о бурно развивающейся в последние два десятилетия аналитической философии эмоций, внесли значительный вклад в разработку темы чувств, и об этом неоднократно будет идти речь в следующих главах. Следует также еще раз подчеркнуть, что приведенный обзор носит эскизный характер и что многое в картине еще может измениться при более интенсивном изучении теорий эмоций прошлых веков. К тому же этот эскиз ничего не говорит о том, насколько актуальна была рефлексия по поводу чувств в повседневной жизни своей культуры и эпохи. Например, в антиковедении только начато исследование эмоциональных культур древних греков за пределами теорий Платона и Аристотеля, на основе иных источников – прежде всего надписей на камне и глине, а также папирусов93.
У кого бывают эмоции?
В приведенном выше ретроспективном обзоре философской рефлексии по поводу эмоций уже говорилось вскользь о том, что не за всеми людьми признавалась способность чувствовать в равной мере и одинаковым образом: например, Аристотель считал молодежь объектом для воспитания чувств – ей еще только предстоит выучить правильные суждения, чтобы они вошли у нее в привычку. О других существах, таких как животные, и об их (не)способности испытывать чувства речь еще не заходила94. Сегодня в обиходных представлениях чувства зачастую рассматриваются как нечто общечеловеческое, очень личное и интимное, как убежище автономии, как то место, где человеческая субъективность кристаллизуется в чистом виде. Чтобы создавать и поддерживать эту свою уникальность, человеку нужны разграничения, различения, несходства – короче говоря, необходимо создание Другого. Этот процесс оставил многочисленные текстуальные следы, которых так много, в частности, потому, что процесс создания Другого никогда не заканчивается, он нестабилен, различия постоянно приходится создавать заново. При поиске ответов на вопрос «Кто чувствует?» целесообразно обращать внимание на текстуальные следы этого процесса создания Другого. Мы здесь рассмотрим два таких следа: сначала – различение человека и животного, потом – человека и человекоподобной машины.
Существует давняя традиция: животных ассоциировать с телом и эмоциями, а людей – с разумом и рассудком. Историк Паскаль Айтлер на материале немецких энциклопедических и толковых словарей показал, как эту традицию с конца XVIII века поддерживали со все бóльшим трудом и как она все чаще нарушалась, – например, когда в словаре Цедлера, самом крупном подобном издании XVIII века, начиная с 1745 года стали проводить различие между «ощущениями» (Еmpfindungen), с одной стороны, и синонимически используемыми «чувствами» (Gefühle) и «аффектами» (Affekte), с другой, признавая способность к ощущениям за животными, а к чувствам/аффектам – только за людьми: «От [чувств] звери свободны. Они, конечно, ощущают то, что с ними и вокруг них происходит, но они не задумываются и не размышляют, поэтому аффекты не могут их особенно беспокоить»95. Полвека спустя, когда сентиментализм достиг апогея, понятие «ощущение» приобрело настолько более сильную положительную ценностную нагрузку, что граница между человеческими чувствами/аффектами и ощущениями животных стала, согласно тезису Айтлера, проницаемой96.
Во второй половине XIX века появились два новых процесса, которые стали расшатывать прежнее различение между человеком и животным с точки зрения способности чувствовать. Во-первых, теория эволюции, и особенно работа Дарвина «О выражении эмоций у человека и животных» (1872), поставила под вопрос существование разницы между человеком и животным, так как Дарвин продемонстрировал параллели между тем, как выражали чувства гости его дома и его домашние животные. Во-вторых, молодая и быстро развивавшаяся наука физиология, в том числе физиология эмоций, проводя лабораторные эксперименты на животных и исследуя их мозг и другие органы, формулировала далеко идущие теории эмоций; реакции, наблюдавшиеся у животных, оказались очень близки к человеческим. Разгорелся большой спор о вивисекции, то есть хирургическом вмешательстве в организм живых животных, и о том, страдают ли при этом их чувства. При этом всегда учитывались и человеческие чувства в отношении животных – особенно жалость или сострадание97. Разделительную линию, превращающую человека в человека чувствующего, приходилось проводить всякий раз заново, отграничивая людей от животных.
На примере человекоподобных машин – автоматов, роботов, андроидов – и их репрезентаций в культурных продуктах, таких как романы и художественные фильмы, можно наблюдать схожий процесс, в котором неопределенности не меньше, а потому и текстов создано очень много. Здесь тоже существует давняя традиция описания людей, у которых появляются чувства к этим машинам, и машин, которые начинают жить собственной эмоциональной жизнью. В литературе эта традиция прослеживается от сказки Э. Т. А. Гофмана «Песочный человек», в которой молодой человек влюбляется в механическую куклу, до «Франкенштейна» Мэри Шелли, где непреднамеренный и уродливый результат научного эксперимента – искусственный человек – обретает чувства. В истории кинематографа человекоподобным машинам несть числа – например, в «Звездном пути» андроид Дейта из‐за отсутствия эмоциональности постоянно принимает странные решения, а «Искусственный разум» Стивена Спилберга – это фильм о живущем в XXII веке одиннадцатилетнем мальчике-роботе, который неотличим от человека, обладает эмоциями и которого любят члены его человеческой семьи – по крайней мере до тех пор, пока не приходит в себя их собственный сын, находившийся в коме98. Тот, кто не способен испытывать чувства к человекоподобной машине, часто клеймится как эмоционально ущербное существо, не совсем человек. В экспериментальной психологии тоже изучали способность испытуемых к эмпатии, тестируя их сострадание к аватарам, которым причиняли боль ударами тока, как в эксперименте Милграма. Вывод исследователей был таков:
Хотя все участники [исследования] прекрасно знали, что и незнакомка, и удары током были ненастоящими, те участники, которые видели и слышали ее, обнаруживали тенденцию реагировать на эту ситуацию на субъективном, поведенческом и физиологическом уровнях так, как если бы она была реальной99.
Часто такие опыты основаны на идее зеркальности, согласно которой я могу испытывать сочувствие лишь тогда, когда могу представить себе другого человека как подобного мне, а это, в свою очередь, предполагает, что я имею некое представление о себе самом. С середины 1990‐х годов эта идея получила большую поддержку со стороны нейронаук, изучавших зеркальные нейроны (см. главу III). Следовательно, моя способность сочувствовать другим людям – а также неживым человекоподобным объектам – превращается в мерило того, насколько я вообще являюсь человеком.
Впрочем, был отмечен и такой интересный побочный эффект сочувствия человекоподобным машинам: если машина слишком похожа на человека, эмпатия пропадает и уступает место отвращению. Вопрос о том, как подобрать правильную степень антропоморфизма, то есть такой дизайн машины, чтобы она вызывала максимальное сочувствие, не переходящее в отвращение, – это вопрос, имеющий практическую значимость, причем не только для инженеров, проектирующих бытовых роботов – помощников по хозяйству для стареющих обществ, как в Японии и Германии. Важен этот вопрос и для создателей компьютерных мультипликационных фильмов. Так, например, при создании «Шрека» пришлось сделать принцессу Фиону менее антропоморфной, «потому что она стала выглядеть слишком настоящей, и эффект получался ощутимо неприятным»100. Впервые теоретически разобрал этот эффект специалист по робототехнике Масахиро Мори в 1970 году. Он дал ему название «Зловещая долина» (uncanny valley). Наилучшее представление об этой долине дает график (ил. 3)101.
Философ Катрин Миссельхорн объясняет феномен «Зловещей долины», обнаруженный Мори, используя аналогию с несовершенством визуального восприятия образов: чем больше типичных и заметных черт являются общими для человека и машины, тем сильнее идентификация объекта и представления об объекте. В то же время активируются усвоенные эмоциональные диспозиции по отношению к этому объекту. Знание о том, что перед нами ненастоящий объект, тоже играет свою роль в отключении эмпатии. По мнению Миссельхорн, происходит «очень быстрая осцилляция между четырьмя ситуациями»: сначала объект воспринимается и запускается процесс идентификации представления, подходящего к этому объекту; затем мы подходим к порогу совпадения объекта и представления; совпадения не происходит; процесс идентификации объекта и представления обрывается, но тут же начинается заново – ведь объект по-прежнему воспринимается. «Это напоминает радиоприемник, который при плохом качестве приема ищет некую станцию, а ее постоянно перекрывают другая станция и эфирный шум»102. Эмоционально эти помехи проявляются как отвращение.
Ил. 3. Зловещая долина Масахиро Мори
Так кто же обладает эмоциями? Как уже, наверное, стало ясно из изложенного выше, на этот принципиальный вопрос нет однозначного ответа. Люди в разные эпохи и в разных местах отвечают на него снова и снова, и эти ответы позволяют очень многое узнать о том, какие у людей представления о самих себе и о своих чувствах: это видно по тому, как отличают людей от животных и от антропоморфных машин. Как правило, ответы на этот вопрос связаны и с большими различиями, имеющими место в истории человечества, – социальными, гендерными, этническими. Коренные народы в колониях европейских империй, женщины и представители низших слоев в самой Европе – начиная с XIX века в Великобритании, Франции и Германии априори считалось, что все они чувствуют как-то по-иному. Поэтому, вместо того чтобы за отправную точку брать вопрос «Кто чувствует?» и искать на него неопровержимый ответ, историку эмоций предпочтительнее сделать предметом своего изучения исторически меняющиеся ответы на этот вопрос.
Где место эмоций?
Вопрос о том, как локализуются эмоции, – не тривиальный. Ведь если эмоции располагаются вне человека, в духах или богах, они могут внезапно нападать на людей и одолевать их, а потом столь же внезапно отпускать (если человек в принципе рассматривается как игрушка трансцендентных сил). С такой концепцией связана обычно вера в то, что возможностей влиять на чувства у людей очень мало. Так, в племени северных шайеннов вспыльчивый характер одной женщины объясняли тем, что она однажды ночью выглянула в окно, а на это у северных шайеннов наложено табу. Женщине тогда показалось, что ее сразила некая внешняя сила, она ненадолго упала в обморок, а когда пришла в сознание, стала другим уже человеком103.
Но если эмоции локализованы внутри человека, то это место в теле – скажем, орган – и приписываемые ему свойства влияют на соответствующую теорию эмоций, как мы могли это наблюдать на примере Галена, его гуморальной патологии и выведенных в ней основных эмоциональных типов (холерик, меланхолик, сангвиник, флегматик).
Локализация эмоций в теле часто имеет практические последствия: поскольку египтяне считали, что мозг отвечает за кровоснабжение, а за чувства – сердце, они при мумификации трупов без колебаний вводили через нос внутрь черепа крючок, размельчали им мозговые ткани и узкой лопаткой удаляли их через ноздри. Сердце же они хранили в специальной вазе104. А нейрофизиолог Джозеф Леду, в отличие от египтян, родился в такое время и в таком месте, где мозг был объявлен обителью эмоций, разума и много чего еще, поэтому, когда он был маленьким мальчиком в Луизиане и помогал своему отцу мяснику, ему очень трудно было заставить себя копаться рукой в мозгу забитой коровы, чтобы найти и достать оттуда пулю: покупателям «не очень понравился бы кусок свинца в паштете из телячьей зобной железы». Маленькому Джозефу трудно было «копаться пальцами в мозге. Нужно было отбросить представление, что в коровьем мозге некогда обитал разум этой коровы, и относиться к мозгу просто как к куску мяса»105.
Локализация эмоций в теле имеет значительные последствия и для их языкового оформления, особенно образного или метафорического. У племени австралийских аборигенов пинтупи, как и во многих других культурах, детство считается досоциальной стадией, для которой характерны необузданность эмоций, слабо выраженный волевой контроль, неумение представлять себе последствия своих действий и ярко выраженный индивидуализм вместо осознания своей встроенности в сети социальных связей. Детей называют «незнающими», «не помнящими себя» и, что интересно, «глухими» (patjarru, ramarama). Почему «глухими»? Потому что пинтупи считают способность думать ключом к взрослению и к выходу из дикой эмоциональности, а «думать», «понимать» и «слышать» – это один и тот же глагол kulininpa, который буквально значит именно «слышать», и потому что местом мышления считается ухо – в отличие от чувства, чье место в желудке106.
Показательно также то неодинаковое значение для эмоций, которое в культурах придается глазам. Во многих языках, включая английский и немецкий, свет выступает метонимией счастья и удовлетворенности, поэтому «блестящие» или «сияющие глаза» – это признак того, что человек счастлив. В китайском же говорят в этом случае о «вытянутых» или «расширенных бровях» (yang-shou shen-mei). Отточенные китайские описания бровей не имеют соответствий в большинстве других языков. Вот лишь несколько примеров: chou-mei bu-zhan означает «сдвинутые брови без расслабления», или «озабоченно нахмурить брови», chou-mei ku-lian значит «выглядеть озабоченным», yang-mei tu-qi – «чувствовать воодушевление после избавления от неприятности», mei-fei se-wu – «быть в восторге, с танцующими бровями и сияющим лицом»107. Таким образом, в Китае брови «служат наиболее очевидными показателями внутренних чувств», то есть там они – окно в душу человека108.
Вместе с тем отношения между представлениями об эмоциях, включая их локализацию, и их устными, письменными, звуковыми и визуальными репрезентациями никогда не бывают фиксированными, они весьма изменчивы. Так, в представлениях мусульман Северной Индии XVI–XVII веков о теле выражению лица придавалось большое значение, однако в придворной живописи лицо не выступало средоточием эмоций: для передачи чувств главными средствами были движение тела, цвет, мазок и композиция изображения109. Кроме того, семантика телесного выражения эмоций редко бывает однозначна: например, широко распространено значение улыбки как выражения радости и удовольствия, но помимо этого во многих культурах она может означать и стыд, и вежливое приглашение к вступлению в контакт, и даже реакцию на смерть или утрату110.
Кстати: не следует путать неевропейское с вневременным. Ни один из приведенных примеров не высечен в камне на вечные времена. Этнолог Роберт Леви, проводивший полевые исследования на Таити в 1960‐е годы, установил, что, по мнению большинства его собеседников, источником чувств является кишечник, но некоторые говорили, что сердце: Леви объясняет это влиянием христианских миссионеров и изучения Библии111. Переселение чувств из одной зоны в теле в другую – всегда явление историческое, в том числе и вопрос истории науки. И наконец, было бы фатальной ошибкой думать, что тело есть нечто вневременное и одинаковое во всех культурах. Вообще, вопрос о том, располагаются ли эмоции внутри тела или вне его, приобретает смысл лишь после того, как мы составим себе ясное представление о его статусе: рассматривается ли оно действительно как игрушка внешних и высших сил – или на самом деле духи и боги выходят в мир из тела? Какова та космология, частью которой оно является?
К тому же не обязательно покидать Европу, чтобы получить представление о том, насколько нестабильна локализация чувств в теле. Обратимся снова к философии Декарта, который написал в 1649 году, что «последней и самой ближайшей причиной страстей является то, что духи колеблют маленькую железу, находящуюся в середине мозга», – он имел в виду шишковидную железу, или эпифиз112. Британский философ и основатель ассоцианизма Дэвид Хартли (1705–1757), пытавшийся развивать идеи Джона Локка и Исаака Ньютона (1642–1727), был уверен, что эмоции обусловлены внешними раздражителями, которые вызывают вибрацию миелина в нервах, передающуюся затем через «эфир» в мозг, где затихающие колебания и отпечатываются в виде более слабых вибраций (vibratiuncula)113. Как видим, даже в канонической западной культуре бывали огромные сдвиги в локализации эмоций внутри тела человека. В связи с этим следовало бы задаться вопросом о взаимодействии между различными локализациями эмоций и движениями тела, причем в особенности такими якобы базальными движениями, как сердцебиение, пульс, секреции желудка. Могут ли концепции относительно локализации эмоций влиять на эти движения? Если я происхожу из культуры, в которой ускоренное сердцебиение рассматривается как признак ярости, то будет ли мой пульс становиться чаще, чем если бы я был воспитан в иной культуре, где это не так? Этот ключевой вопрос мы пока оставим открытым и будем к нему неоднократно возвращаться.
Есть ли у эмоций история?
Как мы видели на примере философской рефлексии по поводу эмоций, ответы на вопрос, что же такое чувства, в разное время давались разные. Можно было бы возразить, что эти ответы – всего лишь разные концепции и названия чего-то, что оставалось неизменным на протяжении всех эпох. Тогда у эмоций не было бы никакой истории; лишь концепции были бы исторически изменчивы. Многие теории, сгруппированные вокруг универсалистского полюса, именно это и утверждают: не отрицая, что эмоции всякий раз по-разному концептуально осмыслялись, они заявляют, что субстрат эмоций – постоянный, вневременной и общекультурный. В таком случае страх при виде противника у римского легионера, у средневекового алебардщика, у солдата под Верденом и у конголезского мальчишки с автоматом – всегда один и тот же, и сопровождается он одними и теми же соматическими проявлениями: учащенный пульс, расширение зрачков, сердцебиение, холодный пот. Пример новозеландского маори – воина, который шел в бой освобожденным от атуа, а значит бесстрашно, всему этому не противоречит, потому что выполняющаяся в теле программа страха всего лишь перемещается на момент перед боем, но сама по себе она такая же, как и во всех других культурах и эпохах.
Возможно. Но бесспорно и то, что в самовосприятии чувствующего субъекта – которое в психологии называется квалиа, – концепции эмоций влияют на их восприятие. У маорийского воина влияние концепции было настолько сильным, что он, вероятно, в самом деле бесстрашно реагировал на якобы универсальные стимулы – стоявших перед ним врагов, которые стремились его убить. Это свидетельствует о способности культурных моделей нейтрализовывать якобы врожденные, автоматические программы эмоций.
Мы только что обсуждали ключевой вопрос о влиянии концепций локализации чувств на базовые соматические процессы, такие как пульс. Забегая немного вперед (обстоятельно речь об этом будет идти в главе IV), приведу первый ответ, полученный новейшей нейронаукой и когнитивной психологией: они обнаружили цикл обратной связи между произнесением эмоционального слова и ощущением соответствующей эмоции. Когда я произношу фразу «Я счастлив», может быть запущен механизм самопроверки: чувствую ли я себя действительно в этот момент счастливым? Результат этой проверки не предопределен: она может показать, что я не чувствую себя счастливым, и тогда высказанное чувство будет зачеркнуто, или она может прийти к противоположному выводу и переписать другие, одновременно ощущаемые эмоции; на последнем постулате базируется значительная часть сегодняшней популярной психологии, например нейролингвистическое программирование (НЛП) или «советы психолога», гласящие, что мир можно изменить с помощью вербализации чувств114. Как пишет юрист и скандинавист Уильям Иан Миллер, специалист по эмоциям в исландских сагах, «факт заключается в том, что как только мы назвали эмоцию, она начинает жить собственной жизнью»115.
Предположим, что тело задает нам реальные, непреодолимые ограничения в том, что касается выражения эмоций, – например, что страх воина перед противником во время боя (или, у маори, перед боем) никогда не может сопровождаться замедлением пульса. Что это означает? Гуманитарные науки интересуются культурной изменчивостью, определение универсального им скучно, потому что эти универсалии всего-навсего «тривиально истинны» (trivially true)116. Кроме того, универсальное сжимается в маленькую кучку, если сравнить его с огромными горами данных о культурном разнообразии. Одна из характерных особенностей исторической науки в том и заключается, что она основное внимание уделяет этому разнообразию – в нашем случае разнообразию представлений об эмоциях и культурных паттернов. Такой – и пока только такой – ответ будет здесь дан на вопрос, есть ли у эмоций история. Это кардинальный вопрос, и вся эта книга задумана и как сборник ответов, данных другими, и как попытка сформулировать свои собственные ответы.
По каким источникам можно писать историю эмоций?
На первый взгляд может показаться, что историю эмоций можно писать только на основе источников, в которых люди говорят о своих чувствах. А поскольку со времен романтизма эмоции относятся к внутреннему миру, к глубоко личной сфере, такие источники изначально не предназначены для публикации. Они касаются человеческого Я и поэтому называются эго-документами. Это дневники, автобиографии и воспоминания. Далее можно предположить, что среди источников, относящихся к коммуникации, подходящими для написания истории эмоции будут только те, которые относятся к приватному общению между двумя людьми: письма (особенно любовные), электронная почта, SMS, телефонные переговоры (например, записанные секретными службами). В таком случае историю эмоций было бы невозможно писать применительно ко многим векам и культурам, в которых не было или нет таких источников, и к той огромной части человечества, которая не пользовалась письменностью вообще. Тем не менее это не так. Потому что уже сегодня история эмоций пользуется почти всеми видами источников, какие имеются в распоряжении историков, и если существуют ограничения, то они мало отличаются от тех, которые касаются источниковой базы других субдисциплин исторической науки.
Начинается все с археологии. Там письменных источников мало, однако археологи в последнее время стали много размышлять о том, как можно реконструировать эмоции людей «доисторической» и «первобытной» эпох. Точнее – как можно описать те общие условия, в которых люди тогда могли испытывать эмоции. Например, они стараются реконструировать организацию пространства какого-нибудь могильника, а затем выдвигают предположения о том, как это пространство могло воздействовать на чувства людей, приходивших туда для совершения ритуалов, связанных с умершими117. Конечно, такой подход основывается на нескольких допущениях: во-первых, предполагается, что кельты, римляне и монголы в принципе имели чувства, а во-вторых, что пространственное членение могилы неким образом воздействовало на этих кельтов, римлян или монголов. Но поскольку археология вообще часто работает с не менее серьезными допущениями, то эти, новые, сами по себе не так уже плохи.
То же самое касается и источников по истории дипломатии. Сегодня она уже не представляет собой просто историю внешней политики какого-то одного национального государства. После того как социальная история 1960–1970‐х годов объявила ее умершей, в последние два десятилетия она возродилась в виде «культурной истории дипломатии» – то есть такой истории, которая уделяет внимание символическому и ритуальному аспектам дипломатии, – и в виде «международной истории», в которой переплетаются истории лиц и учреждений разных стран118. При внимательном взгляде бросается в глаза, какое важное место занимают эмоции в документах высокой международной политики, в описаниях встреч императоров и канцлеров, генералов и генеральных секретарей, президентов и партийных лидеров. Например, когда королева Виктория родила в 1841 году наследника престола, ее муж – принц Альберт – предложил королю Пруссии Фридриху Вильгельму IV стать крестным отцом младенца. Тот согласился, что вызвало протесты со стороны различных родственников и Виктории, и Альберта, которые по возрасту и степени родства имели приоритет перед прусским королем, но были обойдены. Герцог Эрнст I Саксен-Кобург-Готский – отец принца Альберта – прислал письмо, в котором заявил сыну, что не понимает,
почему вы эту честь оказываете королю Пруссии; прости меня, если я открыто скажу, что я нахожу это совершенно неуместным […] Пруссия – кровный враг нашего дома […] поглотивший около половины наших родовых владений и каждый день готовый присвоить себе и все остальное тоже; и при этом нынешний король выказал себя по отношению к нам более чем нелюбезным, крайне дерзостным и несправедливым в том, что касается наших требований […]. Поэтому, если еще возможно, [я] прошу тебя отменить это дело, которое не сможет не произвести самого худшего впечатления в Германии, особенно во всей Саксонии. И вообще я с истинной печалью вынужден заметить, как мало тебя волнуют престиж, честь и интересы дома, к которому ты принадлежал и еще принадлежишь119.
«Крайне дерзостный» и «несправедливый», «печаль» и «честь»: перед нами пропитанный эмоциями язык переписки высшей европейской аристократии, чьи династические связи в середине XIX века еще во многом определяли политику. С точки зрения истории эмоций было бы полезно, например, исследовать употребление слов, обозначающих чувства, в различных жанрах документов – например, в посланиях глав государств главам государств, в письмах глав государств своим родственникам-аристократам, в дипломатических депешах, в протоколах церемоний и сообщениях прессы, но при этом следить не только за риторическим использованием отдельных эмоций, таких как печаль или честь, но и за тем, как они в каждом отдельном случае сконструированы. По дипломатическим источникам, которые обычно написаны на лингва франка – французском или английском, – но с частыми переходами на другие языки, можно как под микроскопом исследовать различия и разрывы, многозначности и недоразумения между эмоциональными культурами120.
Дипломатические ритуалы часто связаны с проблематикой чести, уважения и сохранения лица. В 1898 году близ Ниццы президент Франции Феликс Фор посетил королеву Викторию. Ей было уже почти 80 лет, и она была не совсем здорова. Неудачно прошедшая церемония приветствия двух глав государств многое говорит об эмоциональной кодировке конфликта между двумя формами правления – монархией и республикой. Дело в том, что королева, вместо того чтобы, как полагается, встретить президента на крыльце виллы, отправила туда своего сына – наследника престола. В своем дневнике Виктория записала:
В половине четвертого меня посетил г-н Фор, президент республики, который проводил несколько дней во дворце на Ривьере. Берти [то есть наследный принц Альберт Эдуард] встретил его внизу, проводил наверх, а три принцессы с [придворными] дамами были на верхней площадке лестницы. Я стояла у двери салона и попросила его сесть. Он был очень вежлив и любезен, с очаровательной манерой держаться, такой «вельможа», а вовсе не «парвеню». Он избегал всякого разговора о политике, но очень доброжелательно сказал, как меня «любит население», [и] что он надеется, что я удобно устроена121.
Дневник Виктории после ее смерти был переписан и «почищен», а оригинал уничтожен. На основании другого источника можно заключить, что британская королева принципиально считала всех президентов парвеню, а Фор прекрасно понял, что, не поприветствовав его у подножия лестницы, Виктория выразила ему свое презрение. Помощник личного секретаря королевы в своих мемуарах, опубликованных посмертно в 1952 году, описал прибытие президента на виллу следующим образом:
Он огляделся, чтобы увидеть, кто его встречает, и, не увидев ни королевы, ни принца Уэльского, не стал снимать шляпу, показывая, что визит еще не начался как положено. Он обменялся рукопожатиями с тремя дамами, все еще не снимая шляпы, и, конечно, с мужчинами точно так же. Подобный образ действий, конечно, не был предписан протоколом и всех нас удивил. Когда Париж впоследствии узнал об этом, мне рассказывали, что все сочли это неслыханным и очень дурной манерой поведения. Затем президента проводили наверх, и принц Уэльский спешно спустился, как если бы он опоздал. Тогда и только тогда президент снял шляпу122.
В ХХ веке общественность и СМИ стали пользоваться бóльшим влиянием, в том числе в межгосударственной коммуникации между деятелями различных уровней123. Так, например, демонстрация сильных чувств на публике – или за закрытыми дверями, но так, что это потом сделалось достоянием гласности, – вероятно, стала причиной отставки премьер-министра Великобритании Энтони Идена в 1957 году. Его преемник Гарольд Макмиллан демонстрировал самообладание и вообще показывал, что он полная противоположность Идену, и это больше соответствовало «культуре сдержанности», царившей в то время в британском обществе, где главенствовали мужские культурные коды124.
О том, насколько многослойна целевая аудитория дипломатии эмоций в век СМИ, говорит следующий пример. В январе 2007 года президент России Владимир Путин принимал канцлера Германии Ангелу Меркель на правительственной даче в Сочи для проведения двусторонних переговоров. Путину, как можно предполагать, было известно, что Меркель боится собак, с тех пор как в детстве ее укусила собака. Уже во время первой их встречи он подарил ей игрушечную собачку125. На этот раз, в Сочи, с первой минуты визита на высшем уровне собака Путина, крупная черная лабрадорша Конни, постоянно была рядом с ним – и с Меркель. Даже во время переговоров она лежала под овальным столом, что уже само по себе является нарушением дипломатической практики. Мало того, Путин насмешливо сказал Меркель: «Надеюсь, собака вас не пугает?»126 О том, что стратегия запугивания, примененная президентом, сработала, свидетельствует язык тела канцлера (ил. 4 и 5).
Ил. 4 и 5. Ангела Меркель, Владимир Путин и Конни в Сочи, 21 января 2007 г.
Послание, адресованное Путиным своим телезрителям, представляет его как человека семейного, любящего животных, принимающего высокую гостью в непринужденной, домашней обстановке. Послание, адресованное Ангеле Меркель, говорит языком внушающего страх бывшего «старшего брата» – Советского Союза: «Вот я какой, и я знаю твою страну как свои пять пальцев, не зря же я пять лет пробыл в дрезденской резидентуре КГБ. И сейчас я покажу тебе, диссидентке церковной, кто тут главный. И что я не только по-хорошему могу». Это, второе послание, судя по всему, достигло адресата. Говорят, Путин для канцлера Меркель является одним из немногих политиков на международной арене, которых она признаёт ровней себе, и что он как никто другой бросает вызов ее духу сопротивления127.
Конечно, историку трудно реконструировать, что «на самом деле» происходит между дипломатами в эмоциональном плане, какую роль играют при личных встречах органы чувств и что бывает, когда политики друг друга в буквальном смысле на дух не переносят. Но эта трудность не должна удерживать их от того, чтобы по крайней мере иметь в виду такой аспект межличностного общения, когда они анализируют политические последствия встреч и пытаются разгадать их причины. Эмоциональной историей дипломатии далеко не исчерпывается список потенциальных исследовательских полей, для которых имеются в изобилии источники. Недостатка в источниках у истории эмоций не будет.
Что из всего этого следует для тех, кто занимается историей «человека чувствующего»?128 По крайней мере одно уже ясно (и тут я опять позволю себе от синтеза перейти к интервенции и предвосхитить то, о чем будет речь в IV главе): недостаточно определить эмоции так, как их определяли исторические субъекты. Историческая наука, которой присущ диахронный анализ (здесь, предвосхищая следующий вывод, надо заметить, что в истории эмоций зачастую будут фигурировать более длинные периоды, чем в иных разделах исторической науки), для определения своего предмета изучения нуждается в некой вневременной категории, которая предполагает, что у разных культур есть довольно много общего в понятиях о чувствах. Если не существует ничего общего, объединяющего чувства (фр. sentiments), описанные на французском языке в любовных письмах Наполеона Бонапарта к Жозефине около 1800 года, и «прочувствованное» (англ. emotional) письмо Барака Обамы к своей дочери, то истории эмоций грозит скатывание в абсолютную контингентность129. Историописание оказывается возможно, только когда появляется некая метакатегория – даже если она иногда будет совпадать с терминами, используемыми в языке источников. Это – отказ от радикального социального конструктивизма.
Итак, историкам нужно рабочее определение эмоции. Формулировать его здесь было бы непродуктивно; вся эта книга задумана как навигационный прибор, помогающий в поисках такого рабочего определения. Требуется, однако, не естественно-научное определение, ограниченное узко очерченной областью и благодаря этому становящееся более точным. Тем не менее полезно скорее раньше, чем позже начать задумываться о некоторых ключевых аспектах, о которых размышляли и философы, и другие теоретики с античных времен.
Во-первых, необходимо иметь представление о том, является ли эмоция автоматизмом – таким, как в схеме «стимул – реакция», где на внешние раздражители следуют неизменные реакции, – или же для эмоций имеют значение такие аспекты, как фантазия и воображение. Как правило, в истории эмоций воображаемому уделяется большее место, нежели в науках о жизни и других дисциплинах.
Во-вторых, необходимо достичь ясности относительно того, как соотносятся друг с другом тело и эмоции. Здесь тоже важно для начала определить локальные, исторические представления о чувствах и телесности в контексте изучаемого предмета. И только после этого следует дефинировать телесность – например, сосредоточив внимание на описании невербальных телесных практик (таких, как раскачивание ортодоксальных иудеев во время молитвы) или на телесно осуществляемых речевых актах (таких, как писание друг другу писем отцами и сыновьями, живущими в одном доме: такое было принято в аристократических кругах Франции в раннее Новое время, поскольку изъявление добрых чувств в письменном виде имело более высокий статус по сравнению с высказанным устно)130.
В-третьих, стоит задуматься об эмоциональной составляющей оценки или суждения. Сколько агентскости мы признаем за людьми прошлого, то есть будем ли считать их действия скорее акциями или реакциями? Оценивали ли они объекты своих чувств по-разному в зависимости от культуры, групповой принадлежности и личных биографических особенностей? Все это вопросы, имеющие большое значение для истории эмоций.
И наконец, в-четвертых, имеет смысл выработать некую позицию относительно соотношения между эмоциями и моралью. Если исторические субъекты давали моральные обоснования своим поступкам и при этом верили в то, что чувство и мораль связаны друг с другом, это придает их эмоциям иной смысл, нежели в обществах, в которых не усматривалось никакой связи чувств с нравственностью.
Добившись ясности по этим четырем ключевым аспектам, мы сделаем важный шаг на пути к рабочему определению эмоции, то есть фундамент будет заложен, и можно будет приниматься за меблировку пространства истории эмоций.
ГЛАВА I
ИСТОРИЯ ИСТОРИИ ЭМОЦИЙ
1. Люсьен Февр и история эмоций
История эмоций началась с одного человека: это был Люсьен Февр (1878–1956). По крайней мере, так обычно утверждали те, кто пытался историзировать историю эмоций131. Февр вместе с Марком Блоком основал в 1929 году журнал Annales d’histoire économique et sociale, вокруг которого сложилась одна из важнейших школ в исторической науке ХХ века. Историки Школы «Анналов» перенесли историю из сферы высокой политики, королей и дипломатии вниз, в мир маленьких людей, крестьян и ремесленников. Они как бы заземлили историю, занявшись изучением окружающей среды, демографии, экономики, общества и ментальных установок. Неудивительно, что именно представитель «анналистов» одним из первых занялся чувствами.
Люсьен Февр, который сделал себе имя работами о Мартине Лютере и об истории Рейна, в июне 1938 года принял участие в организованной Анри Берром конференции, темой которой была «Чувствительность в человеке и в природе». Рукопись своего доклада Февр опубликовал в 1941 году под заглавием «Чувствительность и история: подходы к эмоциональной жизни прежних эпох» в виде статьи в «Анналах»132. В статье он обратился к своим коллегам с призывом поставить эмоции в центр исторического исследования и преодолеть застенчивую отстраненность от психологии при изучении чувств в прошлом. Как он себе это представлял? Февр писал:
Я говорил о Смерти. Возьмите же IX том «Литературной истории религиозного чувства во Франции» Анри Бремона – он называется «Христианская жизнь при старом режиме» (1932). Откройте его на главе «Искусство умирать». И трех столетий не прошло, а какая пропасть пролегла между нравами и чувствами людей той эпохи и нашими собственными!133
Отправной точкой для всей истории эмоций Февр считал осознание этой пропасти между «тогда» и «сейчас» и обретение языка, который позволил бы эту пропасть измерить.
Статья «Чувствительность и история» – это прежде всего призыв изучать историю эмоций невзирая на все возражения критиков. Всем, кто говорил, что такая история не имеет права на существование, Февр отвечал, что они свою историю все равно пишут с учетом эмоций, только делают это неосознанно и анахронистически, навязывая прошлым эпохам современные представления о чувствах и не задумываясь о том, что концепции эмоций могли за прошедшие века измениться134. Едким насмешкам подверг Февр психологизирующую популярную историографию своего времени:
Говоря об этой «психологии», представляешь себе Бувара и Пекюше, которые набираются опыта в общении с модистками и лавочниками своего квартала, а потом используют этот опыт, чтобы представить чувства Агнессы Сорель к Карлу VII или отношения между Людовиком XIV и мадам де Монтеспан таким образом, что родственники и друзья сочинителей поминутно восклицают при чтении: «Ах, как все это верно!»135
Февр спрашивал: «Не следует ли считать задачу историка выполненной, если он просто-напросто скажет нам: „Наполеоном овладел приступ ярости“ или: „Наполеон испытал чувство живейшего удовольствия“?»136. Конечно же нет, потому что этим еще вовсе не объяснено, что значило слово «ярость» в эпоху Наполеона и как выглядел прилюдный взрыв ярости.
Переходя к конкретным шагам, Февр говорил о необходимости анализировать письменные и изобразительные репрезентации чувств в продольном хронологическом разрезе. Для этого требовалось то, что мы сегодня называем «историей понятий», то есть описание эволюции значений слов, обозначающих эмоции, на протяжении десятилетий и столетий137. Февр первым очертил контуры тех областей исследования, разработка которых впоследствии составила значительную долю истории эмоций. Весьма актуально и то, что Февр обратил внимание на трудность разграничения чувств и подчеркнул их амбивалентность и многослойность: он считал, что часто возникают несколько эмоций в одно и то же время, иногда даже диаметрально противоположные чувства соседствуют в одном индивидууме138.
На карту, подчеркивал Февр, поставлено многое. «Подумать только – у нас нет истории Любви! Нет истории Смерти», а это фатально, потому что «до тех пор, пока они не осуществлены, не приходится говорить и о подлинной истории вообще»139. Но откуда взялась эта настоятельная необходимость, и почему история эмоций казалась Февру настолько важной?
Нет сомнения, что в принципе, в долгосрочной перспективе, неосознанно Февр находился под влиянием работ французских этнологов и психологов 1920–1930‐х годов, в частности «Первобытного мышления» (1922) Люсьена Леви-Брюля, «Введения в коллективную психологию» (1928) Шарля Блонделя и статьи об эмоциях Анри Валлона в издававшейся под редакцией Февра «Французской энциклопедии» (1938)140. Но много говорит в пользу того, что сделать доклад и написать статью Февра побудило в первую очередь распространение фашизма в Европе141. Во-первых, его концепция чувств глубоко интерсубъективна, в ней эмоции одних людей провоцируют эмоций у других и взаимно обуславливаются – или, как сказано у Февра, «эмоции заразительны»142. Отголоски идей теоретика толпы Гюстава Лебона, тогда еще влиятельного, здесь явно тоже слышны, но все же за этими цитатами нетрудно разглядеть экстатически-восторженные лица масс на партийных съездах в рейхе по ту сторону Рейна143.
Во-вторых, Февр увидел, что большой исторический нарратив, повествующий о линейном процессе «более или менее постепенного подавления эмоций активностью интеллекта», оказался поколеблен «самой актуальной из историй» – «историей первобытных чувств, проявляющихся сейчас, в данном месте, или искусственно пробуждаемых»144. С этим откатом от ratio к emotio было связано горькое осознание того, что «в каждом из нас» таится запас «эмоциональной энергии, вечно готовой взять верх над энергией интеллектуальной, и, завладев этим запасом, внезапным рывком повернуть вспять эволюцию, которой мы так гордились,– эволюцию от эмоции к мысли, от языка эмоционального к языку артикулированному»145.
В-третьих, те чувства, которые предлагал изучать Февр, – преимущественно отрицательные: он говорил об «истории ненависти и страха, истории жестокости» и с тревогой предполагал, что они грозят «не сегодня-завтра окончательно превратить наш мир в подобие смрадной бойни»146. Таким образом, одним из поводов, побудивших Февра обратиться к истории чувств, были угроза со стороны европейского фашизма и способность национал-социализма к эмоциональному совращению людей147. Если рассматривать дело так, то получается, что у истоков истории эмоций стоял не один, а по крайней мере три человека: Люсьен Февр, Бенито Муссолини и Адольф Гитлер.
2. История эмоций до Февра
Но действительно ли Февр, Муссолини и Гитлер стояли у истока? Героические рассказы о людях, положивших начало чему-нибудь, поиски нулевого часа – все это сегодня уже не многим кажется убедительным. Как в конце этой книги мы придем к тому, что является на сегодняшний день концом истории эмоций, так сейчас мы обратимся к тому, что на сегодняшний день является ее началом148. «На сегодняшний день» – потому что никто еще не предпринимал систематического прочесывания историографии, особенно до ХХ века, на предмет отражения в ней истории эмоций. Таким образом, нижеследующее описание неизбежно окажется выборочным, а прослеживание темы эмоций в исторических исследованиях до Февра будет ограничено несколькими пунктирными штрихами.
Начнем с Античности. С точки зрения историка Фукидида (454 – ок. 399 до н. э.), эмоции были одной из главных, если не главной движущей силой действий людей в прошлом. Гнев, страх и ряд других сильных эмоций заставили афинян и спартанцев делать то, что они делали друг с другом в 431–404 годах до нашей эры, во время Пелопоннесской войны. Так спартанцы решили «нарушить мир и начать войну […] из страха перед растущим могуществом афинян», а коринфяне действовали «из ненависти к керкирянам»149. Историк-антиковед Рамсей Макмуллен (*1928), написавший панораму истории эмоций в Древнем мире, считает, что у Фукидида именно «чувства [заставляют] людей вырваться из рутины, нарушить статус-кво. Но чувства не иррациональны»150. Они выступают в качестве основы «разумного поведения – „разумного“ в том смысле, что [Фукидид] и его читатели, или люди вообще, легко могут его понять»151.
Для других древних историков, которые пришли после Фукидида, эмоции были всего лишь риторическим инструментом, помогавшим увлечь или убедить читателя, пишет далее Макмуллен. И только у Полибия (ок. 200 – ок. 120 до н. э.) они снова стали фактором, определявшим принятие решений. Особенно много последствий имели чувства царей – «Личные чувства у царей превращаются в историю»; вместе с тем Полибий считал, что добраться до них тяжело, и неоднократно задавался вопросом о том, как, например, монархия могла скатиться к тирании152. Когда речь идет о коллективных субъектах, таких как «римский Сенат» или «карфагеняне», выясняется, что их действиями тоже управляли эмоции – например, надежда, отчаяние и отвага – и увидеть их историку легче, потому что они не зависели от одного индивидуального субъекта – царя, а могли скорее быть объяснены внешними обстоятельствами153. Таким образом, два античных историка рассматривали власть чувств в качестве главной движущей силы событий; по крайней мере, такую картину рисует первая имеющаяся на сегодняшний день история эмоций в Древнем мире154.
Помимо античной историографии бóльшая часть того, что мы знаем по истории эмоций до Февра, касается конца XIX века. В то время в исторической науке развернулась дискуссия о роли чувств. Ее следует рассматривать на фоне процесса дифференциации наук155, потому что европейский и североамериканский научный ландшафт во второй половине XIX века находился под определяющим воздействием подъема естествознания. Если раньше гуманитарные, естественные и социальные науки были объединены под общей крышей философского факультета, то с конца XIX столетия их пути разошлись. Философия вынуждена была уступить свой статус ведущей науки естествознанию. Его претензия на объективность, которая нас здесь особенно интересует, заставляла гуманитарные дисциплины разобраться с собственными методами. При этом объективность всегда означала рациональность ученого, понимаемую как нейтрализация эмоций.
В Германии историк и философ Вильгельм Дильтей (1833–1911) ответил на вызов, брошенный естественными науками, предложив в своем «Введении в науки о духе» (1883) теоретическую базу для последних. Дильтей оспорил верховенство естественно-научных дисциплин в деле объективного отображения мира и заявил, что гуманитарные обладают большей объективностью, так как они в состоянии постигать мир не только рационально, но и чувственно и эмоционально. Гуманитарии, писал Дильтей, ведут исследование, используя все, что содержит в себе их человеческая природа, и опираются при этом на «целостный, полный, неискаженный опыт»156. Специалисты же по естественным наукам никуда не могут уйти от «невозможности выведения фактов духовной жизни из фактов природно-механического порядка»157. Дильтей продолжал:
Сущность общественных явлений понятна нам изнутри; на основе наших собственных состояний мы, в известной мере, способны воспроизводить их в себе: любовь, ненависть, бурная радость, вся игра страстей сопутствуют нашему созерцанию исторического мира. […] Игра бездушных действующих причин сменяется здесь игрой представлений, чувств и побуждений158.
Решающий – герменевтический – шаг ведет к слиянию историка с историческим субъектом. Поскольку историк может мобилизовать все свои ресурсы восприятия, включая эмоциональные, он в состоянии понимать человека прошлого во всей его целостности:
И вот это-то и является решающим для всего изучения связи душевной структуры: переходы одного состояния в другое, воздействия, ведущие от одного ряда к другому, относятся к области внутреннего опыта. Структурная связь переживается. Потому что мы переживаем эти переходы, эти воздействия, потому что мы внутренне воспринимаем эту структурную связь, охватывающую все страсти, страдания и судьбы жизни человеческой, – потому мы и понимаем жизнь человеческую, историю, все глубины и все пучины человеческого159.
Согласно расхожей интерпретации творчества Дильтея, около 1900 года он бросил свои теоретические построения в области гуманитарных наук и полностью посвятил себя разработке исторической герменевтики. При этом эмоции, как считается, выпали из поля его зрения. В противоположность этому воззрению недавно было показано, что Дильтей много места уделял эмоциям и в своей герменевтике, создававшейся после 1900 года. Поэтому Даниэль Морат совершенно справедливо называет ее «методом чувства»160.
Современник Дильтея Карл Лампрехт (1856–1915) тоже занимался эмоциями. Он выступал за заимствования из психологии и этнологии. В своей статье «Что такое история культуры?» (1897) он призывал учитывать достижения «новейшей психологии как точной науки о законах психической жизни» и за счет этого обогащать историческое объяснение «внутренней мотивации личных поступков»161. Конкретно говоря, Лампрехту виделось своего рода разделение труда между науками, при котором этнология должна была поставлять базовые познания об «аффектах и волевых актах», о «чувствах и стремлениях», а их различные проявления в разные эпохи должна была изучать историческая наука162. На выходе у Лампрехта получалась национальная повесть о прогрессе с эмоциональной составляющей, отличавшаяся от телеологических историй нарастающего контролирования аффектов только в одном отношении: в развитых нациях, по мнению Лампрехта, аффекты не сдерживаются, а наоборот, там действует «принцип прогрессирующей психической интенсивности». Так, «живопись […] индивидуалистической эпохи, например Дюрера […] более интенсивна, чем [живопись] конвенционалистской эпохи, например миниатюры „Сада наслаждений“; а Адольф Менцель – представитель субъективистской эпохи – как живописец едва ли не интенсивнее, чем Дюрер»163.
И после Дильтея и Лампрехта Георг Штейнгаузен (1866–1933) и Курт Брейзиг (1866–1940) не сомневались в том, что единицей анализа и коллективным субъектом эмоций следует считать нацию. Штейнгаузен в книге «Эволюция немецкой эмоциональной жизни» (1895) утверждал, что выделил пять «фаз развития немецкого чувствования и ощущения» по параметрам «естественное vs. искусственное», «постоянное vs. неустойчивое», «немецкое vs. чужое» и «народ vs. элиты», причем первым членам этих диад был присвоен положительный знак164. Но как выглядела история эмоций по Штейнгаузену? В ходе второй фазы «в начале XIV века немец – трезвый, простой, почти бедный духом человек» с «мало развитой эмоциональной жизнью»165. А вот четвертая фаза – с конца XVIII до начала XIX века – была «эмоциональным периодом сентиментальности», временем «мягкости и растроганности», когда немцы тонули в «морях чувств» и «морях слез»166.
Похожую схему развития постулировал Курт Брейзиг в своей «Истории души в становлении человечества» (1931). Он исходил из предположения, «что в каждой из следующих друг за другом эпох развития человечества делами и духом народов управляла своя душевная сила»167. Как пишет Якоб Таннер, в творчестве Брейзига, который публиковался в годы нацизма, «тевтонская наглядность в союзе с национальным сужением взгляда достигла удручающего максимума»168. Но ни Брейзиг, ни Штейнгаузен, ни Дильтей, ни Лампрехт не упомянуты в тех работах прежних лет, в которых предпринимались попытки историзации истории эмоций. Из-за того, что они оставили в своих построениях мало места для исторической изменчивости чувств, их работы сегодня уже практически нерелевантны для истории эмоций.
Тем не менее от этих четверых авторов идут некоторые линии к тем ведущим мыслителям начала ХХ века, которые оказали влияние и на историю эмоций169. Например, историк искусства Аби Варбург (1866–1929) в 1880‐е годы слушал в Боннском университете лекции Лампрехта по истории культуры. В 1905 году он ввел в науку термин «формула пафоса», предложив тем самым концепцию для обозначения эмоционально нагруженных жестов или выражений лиц на картинах или в скульптуре170. Согласно концепции Варбурга, бурные эмоции заключались в формулы пафоса и потом вновь возникали в произведениях искусства, часто несколько столетий спустя, в виде жестов или мимики. Если угодно, формулы пафоса – это образно-эмоциональная интертекстуальность. Там, где итальянские живописцы эпохи Возрождения заимствовали у античных скульптур насыщенные эмоциями жесты, они, как писала в 1958 году искусствовед и сотрудница Варбурга Гертруда Бинг, «искали в них пафос глубочайших потрясений человеческого бытия, классические средства выражения которого они могли перенять»171.
Георг Зиммель (1858–1918), которого Хосе Ортега-и-Гассет однажды назвал «философской белкой, скачущей от одного ореха к другому», едва ли мог бы пройти мимо темы чувств172. Социальные отношения и процессы, конституирующие общности, считал Зиммель, всегда имеют эмоциональную окраску.
Какие бы внешние события мы ни называли общественными, они оставались бы театром марионеток, не более понятным и не более значимым, чем взаимное перетекание облаков или переплетение ветвей деревьев, если бы мы не признавали как нечто само собой разумеющееся психологические мотивы, чувства, мысли, потребности – не только в качестве носителей тех внешних событий, но в качестве того, что составляет их сущность, и того единственного, что на самом деле нас и интересует173.
Зиммель считал несомненным, что такие чувства, как доверие, честь и верность, а также враждебность, зависть, ревность, гнев, ненависть, презрение и жестокость, не только разобщают индивидов и группы, но и связывают их и что чувства, таким образом, производят эффект социации174. Поэтому неудивительно, что «взаимосвязь между политической историей и антропологией на примере такого фактора, как „эмоции“, обсуждалась уже на втором конгрессе германских социологов в 1912 году»175.
Далее, «Протестантскую этику и дух капитализма» (1904–1906) Макса Вебера (1864–1920) тоже можно читать как рассказ о чувствах. Вебер выстроил типологию разновидностей протестантизма как бы по шкале термометра эмоциональности: кальвинисты были в ледяной синей части шкалы: они считали себя «орудием […] божественной власти», были склонны к «аскетической деятельности» и «мирской аскезе», а в качестве знака, дающего уверенность в спасении, признавали только такие несентиментальные вещи, как успех в делах. Лютеран Вебер поместил где-то посередине ртутного столбика, потому что они считали себя «сосудом […] божественной власти» и тяготели скорее к «мистическо-эмоциональной культуре»: «Лютеранская вера не отвергала столь решительно проявлений непосредственной, инстинктивной жажды жизни и наивной эмоциональности». И наконец, пиетисты уже были ближе к ярко-красному католическому диапазону шкалы: «В специфически гернгутеровском благочестии на первый план выступал эмоциональный момент», и действовал принцип: «детская непосредственность религиозного чувства является залогом его истинности»176.
О детских эмоциях идет речь и в книге голландского историка Йохана Хёйзинги (1872–1945) «Осень Средневековья», которую он выпустил под впечатлением от ужасов Первой мировой войны в 1919 году177. В том Средневековье, которое изобразил Хёйзинга, люди не сдерживали ни слез, ни гнева, чувства отличались то «грубой необузданностью и зверской жестокостью, то […] душевной отзывчивостью», а «в описании мирного конгресса 1435 года в Аррасе Жаном Жерменом все, внимавшие проникновенным речам послов, в волнении пали на землю, словно онемев, тяжело вздыхая и плача»178. Эмоциональная сторона всех сфер общественной жизни характеризовалась впадениями в крайности и необузданностью. Например, о политике Хёйзинга пишет: «В XV в. внезапные аффекты вторгаются в политические события в таких масштабах, что польза и расчет то и дело отодвигаются в сторону»179. Право? Хёйзинга подчеркивает: «Чувство справедливости все еще на три четверти оставалось языческим. И оно требовало отмщения»180. А религия? По словам Хёйзинги, «трезвый, не отмеченный благоговением уют повседневного существования мог […] внезапно смениться взрывом глубокого и страстного благочестия», и такие пароксизмы религиозности охватывали народ периодически. А преследование ведьм Хёйзинга рассматривает как выражение «отвращения, страха и ненависти к неслыханным поступкам, даже если они лежали вне непосредственной области веры»181.
В книге Хёйзинги обильно использовались такие понятия, как «возбудимость», «слепая страсть» и «болезненно гипертрофированная чувствительность»182. Но влияние на историографию оказало скорее не то, как он писал о чувствах, а то, в каком периоде он отвел им место: в XIV–XV столетиях, на пороге между поздним Средневековьем и ранним Новым временем. В наступившую после этого эпоху гуманизм, Ренессанс и протестантизм раскрутили колесо контроля эмоций. Одним словом, Эразм Роттердамский и Мартин Лютер превратили гиперэмоциональных средневековых детей в умеющих владеть собой современных взрослых. Большой нарратив Хёйзинги о линейном прогрессе контролирования чувств оказался чрезвычайно живучим (хотя и лишился «возрастной» метафорики) и в конце 1930‐х годов был облечен в наиболее элегантную – и наиболее соблазнительную – форму.
3. История эмоций во времена Февра и после него
В 1939 году в Швейцарии вышла незамеченная Февром книга молодого и на тот момент малоизвестного специалиста по исторической социологии Норберта Элиаса (1897–1990) под названием «О процессе цивилизации: социогенетические и психогенетические исследования»183. Он начал писать ее в 1933 году, после эмиграции из Германии, сначала в Париже, а затем в Лондоне, но известность она получила только в 1960–1970‐е годы, после того как была переиздана на немецком, а главное – после того как вышла в переводе на английский184. Сегодня это классика социологии, мимо которой не проходит ни один историк или литературовед. Элиас разрабатывает теорию высокого уровня для описания эпохи европейского модерна, начинающейся около 1600 года и включающей в себя, помимо всего прочего, сложный, но в конечном счете линейный процесс нарастания контроля над аффектами185. Современный человек – это тот, кому противно, когда сосед по столу чавкает, кому стыдно за родственника, плюющего на пол в квартире, и кто испытывает неловкость, увидев на людях голого человека. В прежние эпохи было иначе: вилок практически не знали, «по правую сторону – кружка и чистый нож, по левую – хлеб. Таков столовый прибор»186. Люди Средневековья не считали зазорным сморкаться за столом в ладонь, брать еду рукой с общего блюда или бросать обглоданные кости на пол; осуждались только использование скатерти в качестве носового платка, прикосновение к ушам, носу или глазам во время приема пищи, а также складывание объедков в общую миску187. У людей домодерной эпохи отсутствовало супер-эго, не существовала та «незримая стена аффектов, что сегодня отделяет друг от друга тела людей», а эмоции проявлялись «более непосредственно, чем в любую последующую эпоху»188.
Центральная метафора Элиаса – «аффективная организация»189. Он исходил из того, что она всегда должна быть сбалансированной, то есть что некое чувство, пропадающее в одном месте, должно вновь появиться в другом. На эмоции, которые средневековый человек мог свободно выражать, в процессе перехода к современной эпохе были, как считал Элиас, наложены социальные табу. Эти табу были интериоризованы, и внешнее принуждение превратилось в самопринуждение. Это привело к психическим деформациям, которые в лучшем случае компенсировал спорт – предохранительный клапан, через который можно выражать эмоции в брутальной, нефильтрованной форме, – а в худшем случае результатом становились «навязчивые действия и прочие психические отклонения»190. В то время как сегодня профессиональные историки опасливо избегают заимствований из психоанализа, здесь влияние Фрейда очевидно191. Непреходящая заслуга Элиаса в том, что он терминологически застолбил будущее научное поле для истории эмоций: именно им введены понятия для описания эмоциональной действительности, расшатывавшие эссенциалистское представление о чувствах («состояние аффектов», «моделирование аффектов», «структура аффектов», «аффективная жизнь»)192, а также понятия, которые языковыми средствами отражают процессуальный характер и конструирование эмоций («строение общества и структура аффектов», «регулирование аффектов», «моделирование аффектов»)193.
Для того времени, когда писалась книга Элиаса, его концепция эмоций была необычайно открытой. Например, он писал:
[…] возникает общий вопрос о границах трансформируемости душевного аппарата. Несомненно, он наделен собственными законами, которые можно назвать «естественными». В рамках этих законов формируется исторический процесс, ими задаются пространство, его действия и границы194.
Или:
Образование чувств постыдного и неприятного, смещение порога чувствительности – в обоих случаях мы имеем дело и с природным, и с историческим феноменами одновременно. Эти формы ощущений представляют собой проявления человеческой природы, возникающие под воздействием определенных социальных форм и, в свою очередь, оказывающие обратное влияние на социоисторический процесс. […] Пока речь идет о психических функциях людей, природные и исторические процессы с необходимостью взаимодействуют, находясь в неразрывном единстве195.
Концепция эмоций у Элиаса включала в себя элементы эссенциализма и социального конструктивизма. Она предвосхитила синтетические концепции 1990‐х годов, такие как концепция Уильяма Редди, согласно которым формирование эмоций культурно и исторически обусловлено, но вместе с тем у них имеется универсальная телесная основа.
Параллели между Элиасом и Февром многочисленны: оба исходили из исторической изменчивости чувств; оба выступали за психологизацию истории; понятие эмоции у обоих интерсубъективно; оба полагали, что при изучении истории эмоций следует обращать внимание и на изображение чувств в живописи; и оба прекрасно ощущали, насколько тонок слой контроля над эмоциями и как быстро – в муссолиниевской и гитлеровской Европе – из-под слоя ratio могла вырваться emotio196.
Однако предложенная Элиасом прогрессивная, интерсубъективная концепция эмоций как продукта взаимодействия между неизменной природой человека и изменяемой окружающей средой не нашла подражателей и не произвела никакого эффекта, когда он представил ее общественности. Современники и потомки Элиаса пользовались внеисторическими, универсалистскими концепциями эмоций. Так, в конце 1970‐х годов Жан Делюмо (*1923) в своем многотомном труде о страхе в Средние века и в раннее Новое время перечислял те страхи, которые свирепствовали в Европе тогда, но по сути это были страх его собственной эпохи, потому что он в конечном счете не признавал эмоции переменными величинами, зависящими от времени и культуры197.
Иначе действовал историк Теодор Зелдин (*1933), британец российского происхождения. Его четырехтомная история Франции с 1848 по 1945 год вращается вокруг «шести страстей: честолюбия, любви, ярости, гордости, вкуса и страха»198. Давайте задержимся на первой эмоции и посмотрим, что Зелдин под ней понимал.
Изучение честолюбия – надежды и зависти, желания и разочарования, самоутверждения, жадности и подражания – позволяет нам как бы под микроскопом наблюдать классовую борьбу – то зло, на которое возлагают вину за столь многие социальные потрясения199.
Речь, таким образом, должна была идти об истории экономики и трудовых отношений – истории, написанной под совершенно новым углом зрения. Хотя Зелдин утверждал, что будет рассматривать через линзу истории эмоций не только приватную сферу (семью и т. п.), но и общественную жизнь (политику и т. п.), на самом деле первая в книге перевешивает. Бóльшая часть работы посвящена эмоциональным последствиям поисков человеком смысла в век индивидуализма, когда прежний фундамент общества – религия и социальные микроинституты, такие как семья и деревня, – утратили значительную долю своей интегративной силы. Точнее, речь идет об изобретении медицинского языка для описания – и создания – заболеваний индивидуализма, еще точнее – о психиатрии и психоанализе вообще и о страхе и истерии в частности200.
Зелдин, как и Элиас, опередил свое время201. То, что он стал заниматься эмоциями, объяснялось его недоверием к господствовавшей в 1970‐е годы социальной истории, которой нужны были закономерности, строгая причинность, количественный анализ и большие структуры. Если искать биографические причины такой дальновидности Зелдина, то они могут быть найдены в опыте катастроф, которыми богата история российских евреев в первой половине ХХ века. Этот опыт показал Зелдину (как Февру – опыт наблюдения фашизма и нацизма), что ratio сильнее, чем emotio. Поэтому методологическое кредо Зелдина гласило: человеческое «поведение запутано и непонятно». И это он провозгласил в 1973 году, за пятнадцать с лишним лет до того, как в тех антипозитивистских кругах историков, которые интересовались вопросами теории, стал утверждаться постструктуралистский взгляд на индивидуум как на многослойную, амбивалентную, эластичную сущность202. Кроме того, Зелдин говорил, что человеческая деятельность необычайно многообразна и «каждое действие двигалось по своей оси, было погружено в свои заботы и отграничено своими линиями». Этот подход напоминает подход социологов, таких как Пьер Бурдьё и Никлас Луман, а рецепция их идей в исторической науке в то время еще практически не началась203. В отличие от своих коллег-марксистов или сторонников теории модернизации, которые исходили из примата экономики, а все остальные сферы общественной жизни (религию, науку, спорт и т. д.) считали зависящими от нее, Бурдьё говорил, что каждое «поле» – или, выражаясь языком Лумана, каждая «система» и ее «подсистемы» – функционирует в соответствии с собственной логикой и в собственном темпе204. И наконец, Зелдин одним из первых стал рассматривать самих историков как субъектов, чья деятельность тоже определяется эмоциями и чье отношение к предмету исследования эмоционально нагружено; более того, они выбирают себе предмет на основе эмоциональных установок. Так, по мнению Зелдина, Жан Делюмо
принялся за свое исследование, потому что хотел понять тот ужас, который он ощутил в возрасте десяти лет после внезапной смерти своего друга; ужас такой интенсивности, что он три месяца не ходил в школу. […] Поэтому его историю страха вполне можно рассматривать в качестве рефлексии по поводу его собственного опыта, которая привела к масштабной рефлексии по поводу опыта других205.
Независимо от Зелдина, Февра или Элиаса в 1970‐е годы стала развиваться новая «психоистория», видными представителями которой были Питер Гэй (1923–2015), Ллойд Демоз (*1931) и Питер Лоуенберг (*1933). Их подходы к психологизирующему историописанию различны, но всех их объединил рано проявившийся интерес к эмоциям206. Уте Фреверт (*1954) пишет о пятитомном труде Гэя «Буржуазный опыт: от Виктории к Фрейду»:
Если Гэй пишет историю ХIХ века как историю влечений и форм их выражения, то он подводит под нее не только интимный шепот буржуазной пары в постели, но и страсть Теодора Рузвельта к охоте, и построенную на рассчитанном риске дипломатию предвоенной поры207.
Всеобщая критика в адрес психоистории касалась и того, как в ней толковались чувства: эмоции антиисторически втискивались в психоаналитические или психологические категории, которые на самом деле зависят и от времени, и от места. Так возникали концепции, подобные объяснению, данному Эриком Эриксоном лютеровскому учению об оправдании «одной верой»:
Представляется убедительной интерпретация, согласно которой Мартин рано был вырван из фазы доверия, «от материнской юбки», ревнивым и тщеславным отцом, который пытался слишком рано сделать его человеком независимым от женщин, здравомыслящим и надежным в работе. Гансу это удалось, но тем самым он породил в мальчике […] глубокую тоску по детскому доверию. Его богословское решение – духовный возврат к вере, существующей до всякого сомнения, в сочетании с подчинением в политической сфере тем, кто по необходимости держит в руках меч мирского закона, – как кажется, полностью отвечают его личной потребности в компромиссе208.
При таком взгляде «вполне логично», как писал Демоз, что Сталин «как руководитель страны […] вызвал гибель миллионов своих соотечественников» вследствие «страшных побоев», перенесенных в детстве от отца-алкоголика209, а «бархатные революции» конца 1980‐х в Восточной Европе оказываются результатом «возросшей ранее любви к детям»210. Таким образом, история эмоций, которую писали в рамках психоистории, была полна анахронизмов. Однако психоанализ вполне можно осмысленно использовать в истории чувств там, где сами исторические субъекты говорят на его языке. Так, например, о западногерманских левоальтернативных жилищных коммунах 1970–1980‐х годов просто нельзя было бы писать с позиций истории эмоций, не используя психоаналитический категориальный аппарат описания чувств211.
С конца 1980‐х годов историей семьи как историей эмоций занимались – без теоретических заимствований из психологии и психоанализа – германские и американские историки раннего Нового времени (Ханс Медик, Дэвид Уоррен Сэбиан, Луиза Тилли), британские специалисты по исторической демографии (кембриджская школа Джека Гуди) и французские этнологи. Институциональными базами этой мультидисциплинарной группы был гёттингенский Институт истории Общества им. Макса Планка и парижский Дом наук о человеке. В содержательном плане группа ставила себе задачу сломать разделявшееся многими в общественных науках дихотомичное представление, будто отношения между матерью и ребенком свободны от интересов, то есть чисто аффективны, а отношения между мужчинами в семье, наоборот, строятся на интересах, то есть свободны от аффектов. Цель была в том, чтобы снова концептуально объединить чувство и целерациональность212. Не существует «никакой простой связи между констелляцией семейных ролей и эмоциональным их наполнением», а это значит, писала Эстер Гуди, что отношения между матерью и ребенком, равно как и между отцом и ребенком, априори не являются ни свободными от интересов, ни эмоционально холодными213. Эта группа гёттингенских и парижских исследователей поставила под сомнение и нарратив Эдуарда Шортера и других авторов, полагавших, что в XVIII веке нарастала эмоциональность супружеских отношений: ведь и в предшествующие эпохи «если нам встречаются молодые мужчины, которые отказываются от изрядного приданого ради того, чтобы жениться на даме своего сердца, то мы знаем, что перед нами – романтическая любовь»214, то есть отношения в парах и в семьях до начала Нового времени никоим образом не были чисто целерациональными.
Примерно по той же траектории, что и эти дискуссии в Гёттингене и Париже, продвигалась разработка темы эмоций в гендерной истории, подъем которой начался в 1970‐е годы215. Ее тоже категорически не устраивал тезис Шортера, согласно которому рост числа внебрачных родов в период с 1750 по 1850 год указывал на то, что женщины вступали в связи, основывавшиеся не на прагматических соображениях, а на любви, и потому Новое время следует рассматривать как эпоху прогрессирующей романтизации отношений между мужчинами и женщинами216. Гизела Бок (*1942) и Барбара Дуден (*1942) возразили на это, что в рамках такой «романтизации» женская работа по дому была самым гнусным образом реинтерпретирована как не-работа, и тем самым было закреплено подчиненное положение женщин в современном браке:
В традиционном институте брака и семьи жена отдавала во власть мужа свою способность к физическому труду и свою сексуальность на всю жизнь или на все время их брака. Считалось, что она все делает из любви, и вознаграждалась ее деятельность тоже любовью, хотя факты говорят совершенно о другом: на брачном рынке не только любовь отдавалась в обмен на любовь, но и любовная работа в обмен на жизнеобеспечение217.
Как видим, в ранней гендерной истории (которая тогда была в первую очередь женской историей и так себя и называла) на первом плане стояла тема инструментализации чувств в целях поддержания старых и создания новых видов гендерного неравенства. Критиковалась в гендерной истории и эссенциалистская концепция «естественной» материнской любви как якобы биологически обусловленного чувства218.
Под влиянием лингвистического поворота в 1980–1990‐е годы категория «пола» была принципиально поставлена в гендерной истории под вопрос. Все больше и больше обнаруживалось свидетельств того, что якобы бесспорные телесные различия между мужчинами и женщинами на самом деле – исторические конструкты. Гендерная история разделилась на историю тела, историю сексуальности, историю мужчин и множество других областей. Но при этом эмоции никогда не оказывались в центре внимания как самостоятельный предмет исследования219. Как и в случае с историей семьи в раннее Новое время, изучавшейся в Гёттингене и Париже, чувства все время оставались на периферии, что заставило Эдит Заурер (1942–2011) в 1997 году заявить: «Пора, наконец, сделать историю любви отправной точкой для написания истории гендерных отношений»220. И тем не менее невозможно переоценить тот вклад, который женское движение 1970‐х годов внесло в повышение статуса эмоций, стереотипно считавшихся женскими, и превращение их, в частности, в объект исследования экспериментальной психологии.
В середине 1980‐х годов история эмоций совершила большой рывок вперед, связанный с именем Питера Стернса (*1936), основателя и редактора влиятельного Journal of Social History, и Кэрол Зисовиц Стернс (*1943), историка и психиатра. В привлекшей большое внимание статье в American Historical Review Стернсы предложили четко отделять индивидуальный эмоциональный опыт человека от эмоциональных норм и изучать в первую очередь именно их. Для этой области исследований они придумали название «эмоционология» (emotionology). Определяли они это понятие как
установки или стандарты, которые общество или поддающаяся определению группа в обществе поддерживает относительно базовых эмоций и подобающих способов их выражения; то, как институты отражают и поощряют эти установки в поведении людей221.
Итак, историкам следовало сосредоточить свое внимание на правилах, которыми регулировалось выражение чувств в обществе или в составляющих его социальных группах. Важное значение уделялось при этом таким институтам, как детский сад, школа и армия, а также брак и семья. В них воспитывали в юношестве почтение к старшим, солдат во время срочной службы учили скрывать страх, в семье родители своим примером демонстрировали детям идеал супружеских отношений, базирующихся на романтической любви. Конечно, эмоциональные стандарты не были жесткими и статичными – они подвержены историческим изменениям. Так, благодаря антиавторитарному воспитанию, распространившемуся в 1960‐е годы, почтение к старшим превратилось в любовь между равными; в ходе реформы армии США во время войны во Вьетнаме пропагандировалось более открытое признание солдатского страха (пусть даже с той целью, чтобы потом лучше с ним бороться); выяснилось, что романтическая любовь – исторически весьма недавний конструкт, возникший после Великой французской революции.
Стернсы рассматривали эмоции и эмоционологию как два раздельных аналитических комплекса, между которыми они устанавливали взаимосвязи. В эмоциональной экономике исторических субъектов отношения между эмоциями и эмоционологией являются предметом непрерывного заключения и перезаключения договоренностей. Если в один исторический момент вспышки ярости во время семейных скандалов были социально приемлемыми, а в более поздний уже нет, то люди продолжают испытывать чувство ярости, но в новой исторической констелляции это порождает у них чувство вины, доступное для изучения историками благодаря, например, дневникам222. Это подводит нас к проблеме источников – она перед историей эмоций стоит особенно остро, и Стернсы это подчеркивали. В своей первой статье 1985 года они упоминали эго-документы (дневники и автобиографии), произведения художественной литературы, а также классические для социальной истории источники – свидетельства акций протеста (забастовок, демонстраций, революций), – из которых, по мнению авторов, нужно, с должной осторожностью, пытаться извлечь информацию о чувствах. Позже Стернсы основное внимание сконцентрировали на сборниках советов по этикету223. С самого начала они, будучи социальными историками, отдавали себе отчет в том, что исследователю очень трудно получить доступ к эмоциям представителей низших слоев населения, особенно неграмотных224. Когда впоследствии они сосредоточились на сборниках советов, их часто стали обвинять в том, что они забыли об этой проблеме и переоценили социальный охват своих источников. Барбара Розенвейн отмечала, например, что почерпнутые из таких книг данные о нормах, касающихся гнева, зависти или страха, не репрезентативны для общества в целом, они относятся только к определенной части среднего слоя225.
Питер и Кэрол Стернсы рассматривали историю эмоций как расширение истории общества. Сегодня это может показаться удивительным, ведь в начале XXI века многие скорее отнесли бы ее к новой культурной истории или, может быть, сочли бы ее частью истории дискурсов, истории тела или гендерной истории. Но тогда, в конце 1970‐х и в 1980‐е годы, Стернсы ориентировались, с одной стороны, на исследования Хёйзинги, Февра, Элиаса, Делюмо и Зелдина, а с другой стороны – на то, как с 1960‐х годов англо-американская и французская социальная история разветвлялась на историю семьи, историю сексуальности, гендерную историю и т. д. Именно в этих отраслях – у историков раннего Нового времени, работавших в Гёттингене и Париже, у гендерных историков, – обсуждались в то время любовь, страх, гнев и зависть. К тому же Джон Демос (*1937) тогда именно с позиций истории общества описал отношения между ранними поселенцами в Новом Свете – пилигримами в Плимуте в XVII веке, – у которых поощрение любви между супругами представляло собой, на его взгляд, попытку снизить разрушительный для общества эффект семейных ссор, а Абрам де Сваан (*1942) показал, что количественный спад протестных акций трудящихся в западном мире во второй половине ХХ века мог быть связан со стратегической политикой в сфере управления персоналом: он утверждал, что на предприятиях стали назначать мастерами людей, которые были более покладистыми и позитивно настроенными по отношению к работодателям; за счет этого было «оптимизировано» управление эмоциями работников и протест подавлялся в зародыше226. Вместе с тем Стернсы дистанцировались от новых левых социальных историков 1960‐х годов, таких как Чарльз Тилли и Джордж Рюде, которые – дистанцируясь, в свою очередь, от Лебона – утверждали, что толпа во время бунтов и других коллективных форм социального протеста состоит из рациональных субъектов, которые действуют целенаправленно, руководствуясь собственными интересами, а не хаотично, непредсказуемо, временами даже вопреки своим интересам227. В отличие от этих авторов, заявленной целью Стернсов было вновь обратить внимание историков на бурные чувства, которые были задействованы в коллективных акциях протеста прошлого228.
После программной статьи 1985 года Стернсы за последующие два десятилетия опубликовали впечатляющую серию монографий, посвященных ярости и контролю над эмоциями в истории США, зависти, страху, а также «спокойствию» (coolness) как эмоциональному стилю американцев в ХХ веке229. По мнению этих исследователей, важнейшей цезурой в истории эмоциональных норм стало начало Нового времени (ок. 1600). В связи с этим медиевист Барбара Розенвейн впоследствии обвинила их в том, что они просто некритически переняли «большой нарратив» Элиаса: не разбирая его, они просто начали свои изыскания после того водораздела, который постулировали Хёйзинга, Февр и Элиас230.
Стернсы пользовались влиянием в академическом мире; с 1993 года Питер Стернс издавал вместе с Джэн Льюис книжную серию «The History of Emotions Series», что было уже зачатком институционализации, однако утвердиться в качестве самостоятельной дисциплины история эмоций тогда не смогла – во всяком случае, в той мере, в какой утвердились в конце 1980‐х и в 1990‐е годы гендерная история, история тела, постколониальная история и др.231
Литература по истории эмоций, которая выходила, отражала изменение теоретической парадигмы. Если в германской исторической науке в середине 1990‐х годов с запозданием начался лингвистический поворот, то в США наметилось изменение, которое имело гораздо более значительные последствия для всей науки в целом: на лидирующие позиции стали выходить науки о жизни. Ниже, особенно в главе III, мы более подробно рассмотрим этот тектонический сдвиг, пока же следует лишь сказать, что с эпистемологической точки зрения триумфальное шествие наук о жизни обещало реанимировать те сферы, которые понесли сокрушительный «побочный ущерб» в результате лингвистического поворота: объективность, эмпиризм, универсализм (то есть независимость от хода истории и от культурных границ), серьезноcть в изложении. Кончались времена, когда процветали плавающие знаки и меняющиеся значения, текучие идентичности и постмодернистское «все дозволено» (anything goes), языковые игры и ирония. В американской исторической науке – включая ту, которая занималась чувствами, – эта перемена стала заметна очень скоро. Историки все больше стали пользоваться формулами и выводами наук о жизни. Подкреплялась эта тенденция еще и тем, что эмоции – в отличие от, скажем, социального неравенства или политической культуры – являются одним из главных предметов исследования в этих науках.
В начале 1990‐х годов Уильям М. Редди (*1947), американский историк, антрополог и специалист по Франции, первым стал использовать данные, почерпнутые из наук о жизни – прежде всего из когнитивной психологии, – в своих исследованиях, посвященных эмоциям. В результате он выпустил ряд программных статей, таких как «Против конструктивизма: историческая этнография эмоций» (1997), и фундаментальный теоретический труд «Навигация чувств» (2001)232. В этой книге, которая подробно будет представлена в главе IV, Редди, сводя воедино социально-конструктивистские подходы из антропологии эмоций и универсалистские из когнитивной психологии, предложил синтетическую теорию истории эмоций, а затем приложил ее к истории Франции XVIII века и к истории террора во время Великой французской революции.
4. 11 сентября
Книга «Навигация чувств» вышла из печати 10 сентября 2001 года233. Следующий день вошел в историю как «9/11». Это было, конечно, совпадение, но все-таки невозможно отделаться от впечатления, что некая связь между этими двумя событиями была. С одной стороны, событиями 11 сентября громко и решительно заявила о своем возвращении реальность. С другой стороны, они стали катализатором, ускорившим течение долговременных процессов. И первый, и второй эффект способствовали тому, что в настоящее время историческое изучение эмоций переживает глобальный бум.
Сначала казалось, что теракт 11 сентября – это драматичное свидетельство того, какой силой являются негативные эмоции фанатиков. В первом после событий выпуске программы Дэвида Леттермана «Late Show», вышедшем в эфир 17 сентября, Дэн Разер, ветеран американских теленовостей, попытался описать мотивы террористов как «глубокую, непреходящую ненависть». Дважды слезы не давали ему говорить234. Сразу после теракта многие другие тоже говорили, что люди, совершившие его, были движимы ненавистью и завистью235. Поэтому, когда Сенат США 15 ноября 2001 года проводил слушания о «террористических организациях и мотивациях», оба приглашенных эксперта по терроризму – один психиатр, другой старший советник президента Буша – начали свои выступления именно с того, что оспорили этот тезис:
Первое, что нужно подчеркнуть: террористы не страдают серьезным расстройством психики. Они не сумасшедшие фанатики. На самом деле террористические группы изгоняют из своей среды эмоционально неуравновешенных лиц точно так же, как это сделало бы подразделение «зеленых беретов»236.
Одновременно теракт 11 сентября вызвал гигантский вал в высшей степени эмоциональной коммуникации, прежде всего в США, но и в других странах тоже. Поскольку эта коммуникация шла главным образом через электронные медиа – SMS, видеозаписи, снятые на мобильные телефоны, чаты, блоги, электронные письма, – историки заговорили о history in e-motion237. Главный вопрос, который при этом встает: привели ли эти коммуникативные последствия событий 11 сентября 2001 года к тому, что эмоционально насыщенная коммуникация стала больше цениться вообще и мужчинами в частности? Нет сомнений в том, что возведение таких мужчин, как пожарные Ground Zero, в ранг национальных героев, не исключало описания американскими СМИ их эмоционального мира, в том числе слез и горя238. Когда 2001 год подходил к концу, слово «завершение» (closure) – профессиональный термин, обозначающий окончание эмоциональной переработки травматического события, – стало широко использоваться в прессе и обсуждаться колумнистами; хотя чем больше разговоров было о «завершении», тем больше отдалялось реальное завершение на уровне чувств239. Подводя в конце декабря итоги года, пресса писала, что «мы, спотыкаясь, вступаем в 2002 год, а эти картины остаются с нами, и мы выучиваем слова для новых эмоций, чтобы удержаться на узкой грани между местью и стремлением к справедливости»240.
Что можно сказать о долговременных последствиях событий 11 сентября 2001 года? Одним из их побочных эффектов стало то, что отход от лингвистического поворота, и без того уже начавшийся в США, теперь ускорился. Отовсюду слышались вопросы: как средствами постструктурализма, столь модного с середины 1980‐х годов, можно объяснить такое «грубое» насилие, когда самолет с пассажирами направляют на небоскреб, полный людей? Что скажет анализ дискурса о таких явлениях, как религиозный экстаз и ненависть, – феноменах, которые после 11 сентября казались настолько неопосредованными, доязыковыми, что их то и дело сопровождали эпитетами «архаический» и «стихийный»? Теракты в Нью-Йорке, Вашингтоне и Пенсильвании поставили под сомнение аналитический инструментарий постструктуралистской исторической науки и способствовали дальнейшему подъему наук о жизни.
Это внезапное осознание неадекватности постструктурализма имело еще и эстетический эффект. Модные в культурной истории 1990‐х годов темы сразу показались тривиальными и даже этически сомнительными, а ироничный тон, которым писали о них, – неуместным. В историографии и во многих отраслях искусства началcя период «ироноборчества». Правда, длился он недолго241.
И наконец, события 11 сентября ускорили начавшуюся еще во второй половине 1990‐х годов биологическую революцию, в ходе которой биология окончательно оттеснила физику с позиции главной естественно-научной дисциплины, и разговор о «вечных» вопросах человечества – о свободе воли, о «я», а также о чувствах – стал теперь вестись не там, где прежде, в гуманитарных науках, а в новом поле биологически ориентированных естественных наук, объединенных теперь общим названием «науки о жизни». Теперь жгучие вопросы формулировались так: в какой мере мы можем говорить о вменяемости убийцы, который независимо от среды, как бы автоматически, выполняет то, на что он был генетически запрограммирован? Как он может сказать: «Я убил», если «Я» неотделимо от мозга и если, следовательно, утверждение «мой мозг убил» недопустимо, так как оно предполагает, что возможна позиция вне собственного мозга и можно говорить о своем мозге в третьем лице? Или: может ли способность к состраданию рассматриваться как положительная характеристика человека, если эта способность регулируется зеркальными нейронами? Для прояснения этих и других, зачастую сформулированных в упрощенной и заостренной форме, вопросов, с конца 1990‐х годов даже редакции газет стали охотнее предоставлять свои страницы нейробиологам, нежели специалистам по этике или философии права.
Вообще говоря, конец ХХ века был временем головокружительных событий: это было время взлета «новой экономики», казавшегося нескончаемым роста после крушения социалистической системы; время, когда интервью с Крейгом Вентером – владельцем фирмы, занимавшейся расшифровкой человеческого генома, и человеком, которого в естественных науках многие считали шарлатаном, – занимало больше места в газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, чем статья Юргена Хабермаса242. Это было время, когда Мишель Уэльбек в романе «Элементарные частицы» (1998) разбирал любовь на языке эволюционной биологии243. Значительная часть этого романа читается как учебник по основам биологии. Отношения между полами в нем сведены к борьбе за оптимизацию мужского генофонда. «Элементарные частицы» – это научная индульгенция для всех тех мужчин, которые, даже зная, что «строить отношения – это труд» и что представления о красоте «социально сконструированы», все равно чувствуют, что тянет их к более молодым и более привлекательным женщинам. Из-за этой книги распалась не одна гетеросексуальная пара между Парижем и Петербургом.
События 11 сентября, с одной стороны, положили конец этому буму новой экономики и биотехнологий, но, с другой стороны, привели к тому, что выводы и эпистемологические теории наук о жизни пришли в те области, которые традиционно считались территорией гуманитарных наук. Все эти линии сошлись в один узел под названием «9/11». Таким образом, если писать историю современной истории эмоций «с самого начала», от некой воображаемой нулевой отметки, то местом ее рождения надо признать Манхэттен, а временем – утро 11 сентября 2001 года.
Сегодня история эмоций переживает бум. Свидетельством тому – конференции, которые проводятся по всему миру, и исследовательские группы, работающие на трех континентах – в Америке, в Австралии и в Европе244. В повседневности тема эмоций тоже присутствует теперь повсюду. Например, современный болгарский художник Недко Солаков в Боннском музее искусств оборудовал выставку под названием «Эмоции»245. Германия участвует в международном конкурсе на проведение Кубка Райдера по гольфу 2018 года под лозунгом «Эмоции, сделанные в Германии»246. Рекламщики зазывают нас на футбольные матчи словами «эмоции в чистом виде»247. Существует глянцевый журнал по популярной психологии под названием Emotion. Автомобили покупаются за свою «добавленную эмоциональную стоимость». Если кто-то кажется нам симпатичным и чутким, мы говорим о его высоком «эмоциональном интеллекте», а когда наш сосед опять позволяет своему догу бегать без поводка, мы ругаемся, говоря, что у него низкий уровень EQ248. Неудивительно, что в науке все чаще заходят разговоры об «эмоциональном» или «аффективном повороте»249. Правда, пока никто не может сказать, появится ли и закрепится ли надолго в исторической науке соответствующая новая субдисциплина, институционально оформленная, со своими кафедрами, журналами, организациями и конгрессами. Возможен и такой сценарий: в отличие от, например, экономической истории, история эмоций может раствориться в других субдисциплинах: эмоции могут стать – наряду с гендером, сексуальностью, телом, окружающей средой и пространством – просто еще одним аспектом национальной, глобальной, социальной или экономической истории.
Что же можно сказать о плодах, которые принес этот бум истории эмоций? Какие результаты мы имеем? Что мы могли бы прибавить к тем подробным обзорам состояния исследований, которые представили в 2010 и 2011 годах Беттина Хитцер (*1971), Сьюзан Мэтт (*1967) и Нина Ферхайен (*1975)?250 Хотя трудно составлять карту области, которая расширяется и быстро меняется, я все же постараюсь очертить ее контуры и пределы по состоянию на 2012 год.
Первая граница видна сразу: история эмоций до сих пор есть история по преимуществу европейская и североамериканская, хотя существует уже несколько статей и монографий, посвященных другим регионам, – например, теориям эмоций, существовавшим в ранней китайской медицине и философии, или гневу в средневековой мусульманской арабской литературе251. Японские представления о чести тоже изучены с точки зрения истории эмоций, равно как и поднятая средствами массовой информации волна общественного сочувствия к женщине-убийце в Китае в 1930‐е годы252. Исследованы некоторые аспекты колониальной истории – например, голландская исламофобия и взаимосвязанные культуры страха у коренных жителей Калифорнии и их испанских колониальных владык253. По Индии в последние несколько лет вышел ряд важных работ, посвященных истории любви, языковому национализму и эмоциям, а также взаимосвязи истории тела и эмоций254. Наряду с ними следует назвать публикации Маргрит Пернау (*1962), в которых анализируются мусульманcкие индийские сборники советов по этикету – с одной стороны, гендерная специфика содержащихся в них рекомендаций, касающихся чувств и их выражения, с другой стороны, – переплетенный индийско-мусульманский дискурс о хороших манерах и его эмоциональные компоненты255.
Что мы наблюдаем в европейской истории, если начать с классической эпохи? Об эмоциях и археологии уже говорилось во введении256. В Древнем мире, как показал, в частности, Эгон Флайг (*1949), римские политики целенаправленно применяли эмоционально кодированные жесты257.
Один пример: в 133 году до н. э. народный трибун Тиберий Гракх внес проект нового закона о земле. Как это обычно бывало при попытках реформирования законов об аристократическом землевладении, один из девяти других трибунов выступил против него. Это фактически равнялось почти непреодолимому вето. В ответ Тиберий Гракх отказался выполнять свои должностные обязанности и тем самым парализовал работу Сената. Тогда два сенатора прервали одно из его публичных выступлений и попытались на глазах у тысяч римских граждан переубедить его, используя эмоциональные жесты. Греческий историк Плутарх описывал это так: «Манлий и Фульвий, оба бывшие консулы, бросились к Тиберию и, касаясь его рук, со слезами на глазах, молили остановиться»258. Поскольку правила публичной политической коммуникации, по всей видимости, предписывали, чтобы адресат таких жестов начинал действовать, Тиберий Гракх пошел в Сенат. Но там другие сенаторы по-прежнему противились его законопроекту, и тогда Тиберий пригрозил провести публичное голосование о политической судьбе своего главного противника Октавия: оставаться тому в должности народного трибуна или нет? Если человека лишали достоинства трибуна таким путем (чего в Риме еще ни разу не случалось), его ждала кара изгнанием – другими словами, социальная смерть. Поэтому перед голосованием Тиберий попытался словами и жестами убедить Октавия уступить и поддержать новый закон: «На глазах у всех он говорил с Октавием в самом ласковом и дружеском тоне и, касаясь его рук, умолял уступить народу»259. Однако эмоционально нагруженный жест Тиберия не оказал ожидаемого действия, и голосование состоялось. Когда уже почти все голоса были подсчитаны и всего одного голоса не хватало для отрешения Октавия от должности, Тиберий устроил перерыв и, как сообщает Плутарх,
снова умолял Октавия, обнимал и целовал его на виду у народа, заклиная и себя не подвергать бесчестию, и на него не навлекать укоров за такой суровый и мрачный образ действий. Как сообщают, Октавий не остался совершенно бесчувствен и глух к этим просьбам, но глаза его наполнились слезами, и он долго молчал. Затем, однако, он взглянул на богатых и имущих, тесною толпою стоявших в одном месте, и стыд перед ними, боязнь бесславия, которым они его покроют, перевесили, по-видимому, все сомнения – он решил мужественно вытерпеть любую беду и предложил Тиберию делать то, что он считает нужным260.
В конечном счете Октавий отказался изменить свою позицию по законопроекту, был лишен достоинства трибуна и едва избежал самосуда. После этого законопроект Тиберия был принят народным собранием.
Все цитаты, рассказывающие о телодвижениях Тиберия и его оппонентов, взяты из произведения одного историка – Плутарха. Но Флайг смог, опираясь на сохранившиеся произведения других античных авторов и на многочисленные иные источники той эпохи, реконструировать «характерный для данной культуры набор действенных жестов». При этом он подчеркивал, что «семантика жестов вытекает отнюдь не из инвариантных психических или поведенческих диспозиций, а из серийности событий, из их вариативности и их встроенности в конфронтации, которые всегда являют собой еще и споры о вмененных смыслах»261. Учитывая привычку римской элиты ориентироваться на консенсус в политике, писал Флайг, объятия и поцелуи Тиберия можно интерпретировать следующим образом:
Если верно то, что на римских сенаторов – и не только на них, но и на всех римлян, будь то в семейной или в общественной жизни, – оказывалось сильное социальное давление, понуждавшее их добиваться консенсуса или, по крайней мере, не препятствовать его достижению, то объятия и поцелуй Тиберия имели двойную семантическую нагрузку: с одной стороны, они облегчали противнику выход из непримиримой конфронтации, они строили для него мост, по которому он мог, сохранив лицо, оставить свою позицию, на которой нельзя было долее оставаться. […] С другой стороны, эти жесты сигнализировали народу, что Октавий был неумолим, что он был нравственно небезупречен, раз не мог уступить, хотя и знал, что дело его неправое, что он нарушал основные правила поведения римлянина, что он отступал от основных норм гармоничного общежития262.
Так с помощью сравнительно небольшого теоретического инструментария – комбинации праксиологии Пьера Бурдьё и семиотики – Флайгу удалось эпистемологически продуктивно истолковать невербальные знаки политической коммуникации, которые другие историки-антиковеды интерпретировали как личные особенности данного индивида или как результат процессов в его подсознании. Кроме того, Флайг сравнил этот материал с данными более ранней греческой истории, что позволило ему выявить новизну эмоционально кодированных практик в римской политике, то есть обнаружить следы исторических перемен.
5. Барбара Розенвейн и «эмоциональные сообщества»
Роль авангарда в истории эмоций играет медиевистика263. Это объясняется тем, что историки Средних веков в течение уже почти столетия работают с одним ключевым текстом, который имеет основополагающее значение и для истории эмоций: я имею в виду книгу Йохана Хёйзинги «Осень Средневековья» (1919). Среди тех, кто более всех других сделал в исследовании этой книги, следует назвать медиевиста Барбару Х. Розенвейн (*1945). Она в 1998 году опубликовала сборник статей, посвященных теме гнева, где был подвергнут основательной критике тезис Хёйзинги, согласно которому эмоции в Средневековье выражались с детской непосредственностью. Как Флайг применительно к Древнем Риму, Альтхофф показал применительно к меровингской эпохе, что вспышки ярости у королей не были проявлением незрелости или гиперэмоциональности: совсем наоборот, они представляли собой сознательно и расчетливо используемые знаки символической коммуникации. Публичная демонстрация гнева монарха была предназначена для его приближенных и врагов – она указывала на то, что он полон решимости начать войну264. Сама Розенвейн обнаружила у Хёйзинги и Элиаса концепцию эмоций, которую она назвала «пневматической», или «гидравлической моделью»265: эмоции, понимаемые универсально, находятся под поверхностью тела и «разрастаются», «вскипают», «прорываются наружу», «бьют через край» – короче говоря, становятся видимыми. Это происходит самыми разными способами: соматически, через вербальные и невербальные знаки, или в формах искусства (гидравлическая модель лежит, в частности, в основе теории Фрейда о сублимации влечений). Розенвейн проследила происхождение «гидравлического воображения» и обнаружила его истоки в средневековой гуморальной патологии, а также у Дарвина, писавшего о «нервной силе», скрытой в недрах организма и внешне проявляющейся в виде «интенсивных ощущений», к каковым относились и эмоции266.
В 2002 году Розенвейн опубликовала статью, представлявшую синтез исторического изучения эмоций267. Статья мгновенно стала классикой – вероятнее всего потому, что исследовательница страстно критиковала «большой нарратив», согласно которому «история Запада – это история нарастающего контроля чувств»268. По словам Розенвейн, это предположение было общим для всех существовавших на тот момент теорий, описывавших историю эмоций, от Хёйзинги, Элиаса и Февра до Делюмо и Стернсов, от «генезиса капитализма» по Веберу и «культуры» по Фрейду до «дисциплинарных режимов», которые, согласно Фуко, установились в Новое время269. Насколько всесокрушающим был успех «большого нарратива», выстроенного Хёйзингой и Элиасом, настолько ложна, по словам Розенвейн, была лежавшая в его основе презумпция – гидравлическая модель. Она была опровергнута, самое позднее, когнитивной психологией в 1960‐х годах и социальным конструктивизмом в антропологии в 1970‐х: представление о чувствах как о подобных жидкостям процессах, текущих внутри тела, психологи заменили картиной рациональных когнитивных процессов в мозгу, а предположение об универсальности эмоций было разгромлено антропологами.
Но что могло бы послужить альтернативой «большому нарративу» о нарастающем контролировании эмоций? Розенвейн предложила собственное понятие: «эмоциональные сообщества» (emotional communities). По ее словам, это
те же самые сообщества, что и социальные: семьи, кварталы, парламенты, цехи, монастыри, церковные приходы. Но исследователь, изучая их, ищет прежде всего системы чувств: чтó эти общины (и индивиды в них) определяют и расценивают как ценное или вредное для себя; оценки, которые они дают чувствам других; характер аффективных связей между людьми, которые они признают; а также модусы выражения эмоций, которые они ожидают, поощряют, терпят или осуждают270.
Используя это понятие, необходимо отказаться от неосознанного, неисторического перенесения современной категории нации на донациональные периоды. В Средние века, подчеркивает Розенвейн, человек принадлежал к нескольким, зачастую пересекавшимся, эмоциональным сообществам, нередко воплощавшим разные нормы чувствования, и свободно перемещался между ними271.
В последующие годы Барбара Розенвейн продолжала развивать свою концепцию эмоциональных сообществ и прилагала ее к историческим источникам. В книге «Эмоциональные сообщества раннего Средневековья» (2006) она пояснила, что эмоциональные сообщества – это группы лиц, которые разделяют одни и те же нормы в отношении выражения чувств и одинаково оценивают одни и те же чувства (или не признают за ними ценности)272. Графически эмоциональные общины выглядят как
большой круг, внутри которого находятся круги поменьше. […] Большой круг – это самое крупное эмоциональное сообщество, скрепляемое фундаментальными презумпциями, ценностями, целями, правилами чувствования и принятыми способами выражения эмоций. Меньшие круги представляют подчиненные эмоциональные сообщества, входящие в большее и демонстрирующие его возможности и ограничения. Они, в свою очередь, тоже могут делиться на более мелкие. В то же время могут существовать другие крупные круги, либо полностью изолированные от этого, либо пересекающиеся с ним в одной или нескольких точках273.
Эта модель была, как представляется, вполне сознательно сделана такой открытой, чтобы она могла претендовать на универсальную применимость ко всем эпохам и культурам, хотя Розенвейн нигде такой претензии открыто и не заявляла.
Как правило, эмоциональные сообщества, как их представляет Б. Розенвейн, – это социальные сообщества с близкими отношениями (то есть с личным контактом) между членами. Однако это могут быть и «текстовые сообщества», в которых люди, никогда не встречаясь, связаны друг с другом через средства коммуникации. Розенвейн обратила внимание на мнемонические техники Средневековья, посредством которых тексты не просто заучивались наизусть, а вписывались в тело и делались частью Я, с которым человек общался, словно с другом274. Поэтому в эмоциональных сообществах есть что-то от «дискурса» Фуко, «габитуса» Бурдьё и «эмотивов» Редди. Вокруг какой-то одной эмоции такое сообщество образоваться не может – только вокруг нескольких: их Б. Розенвейн называет «констелляциями»275.
Посмотрим теперь, как Розенвейн выявляла эмоциональные сообщества на практике276. Обычно она не формировала их по данным из источников, а начинала с какой-нибудь уже известной группы лиц, объединенных в общность, – например, с монастыря, цеха или деревни277. Она собирала широкий спектр источников, относящихся к данной группе, – поскольку речь шла о Средних веках, это были в первую очередь документы церковных соборов, актовый материал, жития, письма, исторические сочинения, хроники278. Из этих текстов она выписывала слова, обозначающие эмоции, обращая внимание на паттерны, нарративы и различия между мужчинами и женщинами. Похожие слова, обозначающие чувства, сводились в досье. Чтобы избежать анахронизма (то есть предположения, что названия для эмоций оставались неизменными и потому означали в прошлом то же самое, что и сегодня), Розенвейн изучала существовавшие в этом эмоциональном сообществе теории чувств (например, для многих средневековых сообществ это были томистские теории эмоций, для западных обществ ХХ века – психологические). Поскольку эмоции репрезентируются не только эксплицитными лексическими средствами, исследовательница уделяла внимание и словам, употребленным в переносном смысле, и образным выражениям (например, метафорам или фигурам речи, таким как «он взорвался» в значении вспышки ярости). При формировании досье Б. Розенвейн отслеживала частоту употребления слов, обозначающих чувства, и иногда проводила количественный анализ. По ее мнению, многие такие слова явно или неявно обладали нормативной функцией и их следует рассматривать как «эмоциональные сценарии». Эволюция таких сценариев, считает Б. Розенвейн, должна быть одним из главных предметов исторического исследования279.
Во введении к книге «Эмоциональные сообщества» Розенвейн попробовала оградить себя от возможной критики. Прежде всего она ответила на тот контраргумент, что тексты источников подчиняются жанровым конвенциям. Чтобы не перепутать характеристики жанра с характеристиками эмоционального сообщества, писала она, необходимо привлечь как можно большее число текстов различной жанровой принадлежности и выявить правила каждого жанра. Ведь жанровые конвенции сами являются историческими конструктами, и историки могут расшифровать принципы их построения.
Второй контраргумент, который критически проанализировала Розенвейн, гласит, что эмоционально насыщенные формулировки в источниках зачастую представляют собой лишь топосы, которые свидетельствуют вовсе не о чувствах, а лишь о языковых конвенциях. Например, обращение «Дорогая X» или фраза «Я рад, что представится возможность принять новые вызовы» – это просто клише, имеющие мало отношения к сердечной приязни или радости. Конечно, ответила Розенвейн, но эти клише сами по себе тоже подвержены историческим изменениям, которые указывают нам на меняющийся статус тех или иных эмоций. Поэтому, с ее точки зрения исторически релевантна информация о том, в какую эпоху и в каких контекстах люди приветствовали (или не приветствовали) друг друга словами «Мое почтение!», «Здравствуйте!» или «Добрый день!»280.
Концепция эмоциональных сообществ – один из наиболее привлекательных подходов, нацеленных на изучение способов формирования и воспроизводства устойчивых эмоциональных связей в группах. Она позволяет избежать ловушки индивидуальности каждого случая, из‐за которой психоистории никогда не удавалось сделать скачок от индивида к коллективу. Она, с другой стороны, позволяет избежать и чрезмерной агрегации в духе Элиаса, чей поиск эмоциональной интонации целой эпохи всегда давал в итоге лишь очень приблизительные картины. Она, в отличие от подхода Стернса, не ограничивается отдельными эмоциями и не грешит ошибочным отождествлением норм, отраженных в советах по этикету, с эмоциональными нормами вообще. Но вот вопрос о том, предпочтительнее ли она – как утверждает Барбара Розенвейн, – в сравнении с концепцией «эмоциональных режимов» Уильяма Редди (о которых подробнее будет идти речь в главе IV), мы обсуждать не будем281. Дело в том, что само это разграничение кажется немного натянутым; весь понятийно-категориальный аппарат истории эмоций еще слишком нов, чтобы сделать невозможным эклектичное комбинирование элементов из разных теоретических блоков. Поэтому многие исследователи, вероятно, используют понятия «эмоциональные сообщества» и «эмоциональные режимы» как синонимы282. Уж если говорить о критике концепции эмоциональных сообществ, то скорее можно было бы указать на то, что она страдает теми же недугами, что и любая теория образования общества, недостаточно открыта и постструктуралистски радикальна: не являются ли границы эмоционального сообщества настолько проницаемыми и недолговечными, что правильнее было бы вовсе перестать говорить о «границах» – и, следовательно, о «сообществах»?
Но в одном Барбара Розенвейн, несомненно, права: презумпция Элиаса, что до начала Нового времени эмоции были «детскими», освобождала исследователей, занимавшихся новой и новейшей историей, от обязанности выяснять, что было до 1600 года. Вместо того чтобы искать возможные линии преемственности, они исходили из этой цезуры, что было очень удобно. Со времен Элиаса никому, занимавшемуся историей эмоций, не было нужды рассматривать, например, период с 1500 по 2000 год.
Но даже в период с 1600 года по настоящее время эмоции то и дело изменялись – в последние годы опубликован целый ряд увлекательных работ об этих исторических переменах283. Сьюзан Карант-Нанн (*1941), например, исследовала эмоциональное отражение Реформации в католической, протестантской и кальвинистской проповеди и показала, как в XVI и XVII веках каждая из этих трех конфессий выработала свой собственный «эмоциональный сценарий». Католический сценарий ориентировался на физические страдания Иисуса Христа во время распятия, лютеране были сосредоточены на его душевных страданиях, а кальвинистский сценарий предполагал воспитание чувств с мыслью о строгом Боге, который видит каждую душу до дна и сразу отличает подлинное религиозное рвение от притворного284. Уте Фреверт проанализировала переход от абсолютизма к просвещенному абсолютизму на примере постепенного и едва приметного изменения в эмоциональной коммуникации между правителем и управляемыми на протяжении долгого царствования Фридриха II Великого: «подданные-дети» превратились, по словам поэтессы той эпохи Анны Луизы Карш, в «граждан, которые теперь с восторгом ощущают себя людьми»285. Эти граждане «узнали, что любовь подданных порождала притязания. Если любовь – это было нечто большее, чем покорность, которой обязаны своему строгому отцу дети, и если любовь эта должна была быть оказываема не „холодно“ и „механически“, а добровольно и из глубины сердца, то это открывало целое новое коммуникативное пространство»286.
Мартина Кессель (*1959) изучала скуку и показала, что еще в XVIII веке она имела «прежде всего темпоральное значение – в том смысле, что просто время тянулось долго» («скука» по-немецки – Langeweile, дословно «долгое время». – Примеч. пер.), а в эпоху промышленной революции стала ассоциироваться «с избытком свободного времени или недостатком работы» и расцениваться как нечто в эмоциональном отношении проблематичное287. Сьюзан Мэтт выяснила, как в Америке по-разному реагировали в разные периоды на ностальгию: если в XIX веке тоска по родине была еще легитимной эмоцией и взрослые широко ее обсуждали, то в ХХ веке она сделалась признаком недостаточной зрелости и право на нее признавали только за детьми, которые были надолго разлучены со своими родителями во время пребывания в летнем лагере288.
Еще один пример эволюционирования эмоций представлен в работе Алена Корбена (*1936). В ней рассказывается о том, почему, когда в августе 1870 года одного молодого дворянина в деревне на юго-западе Франции подвергли пыткам и сожгли на костре в присутствии нескольких сотен местных жителей, это повергло в ужас общественность всей страны, а очень похожее событие, произошедшее на сто с небольшим лет раньше (1760), мало кому показалось жестоким и посмотреть на него пришли на площадь даже женщины и дети: дело в том, что в XVIII веке «казни были еще и поводом для праздника. Люди играли, пили и дрались рядом с эшафотом. Пытка осужденного, рассчитанная до мелочей, умело возбуждала систему эмоций»289. И только под воздействием Просвещения произошла десакрализация, подорвавшая действие ритуала и святотатства, после чего подобные зрелища переместились «в сферу ужасного»; развитие анестезии в медицине понизило порог терпения телесной боли; а «появление чувствительной души» в искусстве сентиментализма довершило процесс290.
Джоанна Бурк (*1963) написала культурную историю страха, в которой показала постоянно менявшиеся объекты страха (чего боялись?)291; и наконец, Уте Фреверт рассмотрела проблему утраченных эмоций в целом: когда и как они пропадали. Например, один из смертных грехов – уныние (acedia) – в современную эпоху уже не играет никакой роли. Современные люди часто ощущают недостаток энергии и драйва, но они не страдают от тех симптомов, которые обнаруживались у средневекового монаха, если на него нападало уныние (жар, боль во всех членах и вялость в молитве), и не считают, что происходит эта напасть от бесов или от дьявола292.
Если одни работы посвящены поиску различий в диахронном разрезе, то другие – сравнению культур в синхронном сопоставлении293. Уильям Редди, например, был поражен тем, как мало гендерная история и история сексуальности проявляли интереса к любви как объекту исследования (по крайней мере, в сравнении с процветающим изучением похоти и сексуальности). Это заставило его отправиться на поиски той исторической развилки, где разошлись романтическая любовь и сексуальное вожделение. Он установил, что произошло это около 1200 года: в то время, с одной стороны, миннезингеры начали превозносить любовь, а с другой стороны, все громче раздавались поношения теологов – прежде всего Фомы Аквинского – в адрес бурного вожделения, похоти, concupiscentia. Насколько необычным было это разделение, произошедшее в Европе, становится ясно, если обратить взгляд на Японию или Индию, где никогда не было и нет этого дуализма «похоти» и «любви». Как считает Редди, на примере проституции можно видеть, что это разделение в Японии до сих пор не прижилось: доказано, что у японских проституток меньше сексуальных контактов в день, чем, например, у французских, потому что услуги, которые они оказывают, включают в себя разнообразные формы общения, тогда как «половой акт не обязательно входит в ту программу отдыха или утешения», которую рассчитывают получить во время визита к проститутке замученные стрессом японские бизнесмены294. Арпад фон Климо (*1964) и Мальте Рольф (*1970), сравнив экстатическое состояние (Rausch), охватывавшее людей при национал-социализме, и энтузиазм сталинской эпохи в СССР, установили, что первое рассматривалось как не имеющее объекта и было направлено на устранение личностных границ, в то время как второй всегда был обращен к некоей цели295.
Уже сейчас четко обозначились две новые темы, которые будут рассматриваться в последующих главах этой книги: во-первых, историю эмоций в Новое время придется в значительной степени писать как историю науки. Как только науки сделали эмоции своим объектом исследования, они стали не только производить знания о чувствах, но и оказывать значительное влияние на общество. Во-вторых, история эмоций в ХХ веке в большой мере будет представлять собой историю средств массовой информации и историю коммуникации. Уже Люсьен Февр в 1941 году призывал к тому, чтобы реконструировать представления прошлых эпох об эмоциях, опираясь на изобразительный материал Средневековья и Ренессанса. Он, правда, необоснованно считал, что визуальное представление эмоций на картине Ван Эйка позволяет нам непосредственно увидеть «аутентичное» переживание чувств фламандцами XV столетия, как если бы не существовало жанровой специфики и изобразительных конвенций. Но СМИ ХХ века – это нечто качественно новое, ведь в эту эпоху большинство вожделений в человеке именно средствами массовой информации и пробуждается. Едва ли существует хоть одно чувство, структура и рамки которого не были бы заданы ими296. Вернемся еще раз в 11 сентября 2001 года – в день, когда был дан старт новой истории эмоций. Огромное эмоциональное воздействие событий этого дня невозможно представить себе без телевидения; на самом деле террористы, наверное, и не стали бы осуществлять теракт в такой форме, если бы не были уверены, что он будет заснят, а потом эти кадры будут транслироваться по всему миру в течение нескольких дней. Следовательно, без СМИ это была бы совсем другая история эмоций, и писать ее нужно было бы совсем по-другому.
В середине ХХ века Люсьен Февр назвал «историю чувств» еще «почти девственной областью», обширной terra incognita297. Более пятидесяти лет спустя, в начале второго десятилетия XXI века, эта terra incognita активно межуется, на ней столбятся участки. История эмоций переживает подлинный бум. В этой главе ранние этапы исторического изучения чувств были привязаны к пространству и времени, к лицам и учреждениям. Было продемонстрировано, что история эмоций тоже имеет свою историю. При этом неоднократно указывалось на то, что важнейшую роль в ней играет различение между эссенциалистскими, культурно универсальными, надвременными концепциями эмоций, с одной стороны, и социально-конструктивистскими, культурно контингентными, релятивистскими, историческими их концепциями, с другой. Те, кто изучает чувства, опираются на эту бинарную оппозицию. На самом деле всю историю истории эмоций можно было бы структурировать с помощью диады «nature vs. nurture». Обратимся же теперь ко второму из этих двух полюсов, релятивистскому nurture, который представлен этнологией/антропологией.
ГЛАВА II
СОЦИАЛЬНЫЙ КОНСТРУКТИВИЗМ: АНТРОПОЛОГИЯ
1. Чувствовать можно по-разному
Согласно «Руководству по диагностике и статистике психических расстройств» (DSM) – классификатору Американской психиатрической ассоциации, – депрессия представляет собой эмоциональное расстройство, вызванное генетическими причинами или негативными внешними событиями и проявляющееся в виде таких симптомов, как апатия, отсутствие аппетита, отсутствие мотивации и мысли о самоубийстве. До появления «депрессии» существовало много других моделей – от Гиппократовой «черной желчи» (μελαγχολια) до «меланхолии» XIX века, но болезнью в медицинском смысле депрессию стали считать только с начала ХХ века. Вполне возможно, что точная формулировка симптомов «депрессии» была обусловлена тенденциями профессионализации в американской психиатрии и страстью составителей DSM к таксономиям. Как бы там ни было, медикализация в итоге была скорее полезна, ведь она объявляла, что люди, которые субъективно страдают от уныния и упадка сил, не одержимы дьяволом и не слабохарактерные дегенераты: у них теперь был медицинский диагноз, поставленный специалистами. Таким образом, гуманистические соображения требуют употреблять слово депрессия без кавычек. Так – или приблизительно так – рассуждал, должно быть, психоантрополог Гананатх Обейесекере (*1930), когда, после многих лет учебы и преподавания в США, он в 1980‐х годах занялся темой депрессии в Шри-Ланке, где родился и вырос.
Однако его взору открылась совершенно иная картина. Насколько сильно она отличалась от того, к чему привыкли в Америке, Обейесекере осознал, когда навещавший его во время полевых наблюдений американский приятель, клинический психолог, перед отлетом домой заметил по поводу одного его ланкийского друга: «Гананатх, у твоего друга – классическая депрессия»298. Ни Обейесекере, ни жена обсуждаемого человека, ни местные врачи никогда не считали того «депрессивным», а уж сам он и подавно. У него, конечно, был пессимистический взгляд на жизнь. Но о нем было также известно, что как практикующий буддист он часто удалялся в горы, чтобы медитировать. Благодаря медитации те страдания, которые доставлял ему далекий от совершенства мир, он переносил в надындивидуальную сферу и наделял метафизическим содержанием. После этого случая перед Обейесекере чем дальше тем отчетливее стали вырисовываться контуры культурной модели, в которой просто не существовало такого нарушения эмоционального равновесия, которое называется «депрессия».
В буддийской онтологии наше присутствие на Земле является лишь одним из нескольких предварительных этапов на пути к нирване. Поэтому мир людей, в котором мы обитаем, считается особенно мучительным, а человеческое тело особенно нечистым. Психолингвистическими средствами отделения тела человека от его «Я» служат метафоры гнили и экскрементов. Например, один 61-летний ланкиец высказался о собственном теле так:
Я стараюсь контролировать свое тело. Я думаю: мои волосы, зубы, ногти, нервы, кости и так далее – это всё не навсегда. Почему? Они не мои. Они бесполезны. Это всё не имеет смысла. Человек наслаждается жизнью и хорошо одевается, пока живет в [этом] мире, но для другого-то мира это всё ни к чему. […] Мое тело отвратительно – как труп, как фекалии299.
Другой человек, 85 лет от роду, подчеркивал:
Мое тело омерзительно. Я думаю: если мои кишки вытянуть, Боже, они же такие длинные! Я из человеческого тела ничего не хочу300.
Подобные метафоры как нельзя более далеки от той одержимости молодостью и красотой, которая типична для постиндустриальных западных обществ. Наряду с многочисленными буддийскими мифами и ритуалами Шри-Ланки, которые Обейесекере описал и в совокупности охарактеризовал как «работу культуры», эта метафорика привела его к выводу, что его якобы депрессивный друг «генерализировал свою собственную безнадежность как онтологическую проблему бытия, дефинируемую как „страдание“ в буддийском смысле»301. Называть его «депрессивным» было бы этноцентризмом. Для того чтобы пояснить этот тезис, Обейесекере предлагал читателю «пример обратного этноцентризма»:
Возьмем для примера мужчину (или женщину) из Южной Азии со следующими симптомами: резкое снижение веса, сексуальные фантазии, ночные поллюции и изменение цвета мочи. В Южной Азии такому пациенту может быть поставлен диагноз «потеря семени». Но на оперативном уровне я могу найти это сочетание симптомов в любом обществе от Китая до Перу. Однако если я скажу, что знаю много американцев, страдающих болезнью под названием «потеря семени», меня поднимут на смех, пусть даже я мог бы «доказать», что это заболевание является универсальным302.
Эмоциональная этнография в версии Обейесекере – лишь одна из многих. Можно назвать еще, например, исследование Маргарет Травик, посвященное концепции любви у тамилов (Южная Индия). Согласно этой концепции, высшая форма любви – материнская любовь (tāy pācam) – предусматривает запрет матери смотреть на своего ребенка с любовью, особенно когда он спит, так как исполненный чувства взгляд матери может нанести ребенку непоправимый вред. Если мать очень любит своего ребенка, она должна унижать его, давая ему, например, какое-нибудь отвратительное имя, вроде «Лысый» или «Носатый», или постоянно дразнить его, говоря что-нибудь вроде «Ну, скоро ты помрешь?»303. К похожим выводам приходит в своем исследовании и Джейн Фэдженс, изучавшая байнингов в Папуа – Новой Гвинее: одиночество они ощущают как голод. Для байнингов голод не является физическим желанием – это эмоциональный дефицит, ибо совместное времяпрепровождение с другими людьми считается необходимым для жизни, а совместные трапезы служат выражением этой совместности304. В том же ключе написана работа Грега Эрбана о путевых заметках европейцев, которые в XVI веке посещали племя тупинамба, обитающее в амазонских джунглях на территории нынешней Бразилии. У людей этого племени было принято приветствовать гостей – как чужаков, так и давно не появлявшихся знакомых – плачем и скорбными возгласами305. Наконец, особенно удивительные результаты дало исследование Унни Викан о смехе на Бали. Викан описывает, как молодая женщина по имени Суриати получила телеграмму с извещением о скоропостижной смерти своего жениха Ишама. Она вернулась домой с похорон, сохраняя полное спокойствие, и привезла две папки с цветными фотографиями умершего. Собрались ее друзья, стали рассматривать фотографии и смеяться:
Не о чем печалиться! Парень уже умер, так что какой смысл горевать? Где один сук отломан, вырастет другой! Или у него нет братьев? Есть – так, значит, и замена готова! В мире полно мужчин, что толку горевать об одном? Живи и будь счастлива, а что было – то прошло!306
Эти случаи из антропологической литературы подрывают представление об универсальности человеческих чувств. Они показывают, что существует такое межкультурное многообразие эмоций и способов их проявления, что приходится окончательно отбросить идею, будто все люди чувствуют одинаково и что именно это сходство на эмоциональном уровне объединяет всех людей.
Различия обнаруживаются и при перемещении вдоль меридианов и параллелей, и при движении по оси времени через десятилетия и века. Какими предстанут перед нами чувства, если мы включим в рассмотрение вектор времени?
Два примера. Исландские саги – это литературные произведения, в прозаической форме рассказывающие о подвигах и семейных усобицах. Они имеют статус произведений искусства, но тем не менее историки часто используют их для получения информации о повседневной жизни в Средние века. В сагах часто и подробно описываются эмоции – точнее, прежде всего их соматические проявления. Персонажи краснеют или белеют как мел, смеются, улыбаются, плачут и поднимают брови. Это все нам знакомо. Но практически так же часто, как герои краснеют, вспышки чувств выражаются у них в том, что их тела пухнут. Например, когда в «Саге о Ньяле» Торхаль Асгримссон узнает об убийстве своего опекуна, «его тело распухает, кровь течет у него из ушей, и он падает в обморок»307. А в «Саге о людях из Лососьей долины» двенадцатилетний мальчик «распухает от горя» каждый раз, когда думает о своем убитом отце308. «Распухание тела» как выражение эмоций? Нам, сегодняшним, такое трудно себе представить. А кто думает, что «саги об исландцах» слишком литературны и что распухание тела – это скорее метафора, нежели «подлинное» соматическое последствие чувства, тому достаточно заглянуть в «Le Dictionnaire des précieuses» (1660–1661) Антуана Бодо де Сомеза, современника Мольера, который показывает, сколько расчета и притворства могло быть в якобы подлинной любви прошлого. В этом французском компендиуме эпохи барокко описываются чувства и даются указания, как их следует испытывать. Например, мы находим там подробную «типологию вздохов», включающую двенадцать видов: вздох любви, вздох дружбы, вздох печали, вздох ревности, вздох сочувствия, вздох неуверенности и т. д., каждый со своими подвидами309.
Более того, даже если эмоции сами по себе оставались одними и теми же, с течением времени довольно значительно изменялись их объекты. Например, объекты страха – то, чего люди боялись, – претерпели огромные исторические перемены. Историк Джоанна Бурк замечательно показала, как в конце XIX – начале ХХ века со скоростью лесного пожара распространилась боязнь быть похороненным заживо. Согласно данным социологического опроса, опубликованным в Америке в 1897 году, этот страх стоял в самом верху списка310. Очень скоро и в США, и в Европе возникли гражданские движения против захоронения по ошибке. Активисты собрали сотни свидетельств очевидцев о том, как люди, находясь в гробу, сопротивлялись своему захоронению (или уже не могли ему помешать). Меж тем для этой массовой паники не было никаких статистических обоснований: в 1860–1870‐е годы на кладбищах Нью-Йорка были эксгумированы 1200 тел и только шесть из них обнаруживали признаки преждевременного погребения311. Но паника подогревалась известиями о таких случаях. Например, Элеонора Маркхэм из Спрейкерса, штат Нью-Йорк, жаловалась на проблемы с сердцем и «умерла» 8 июля 1894 года. Во время погребения сотрудники похоронного бюро и врач, несшие гроб к катафалку, заметили в нем какое-то движение. Они открыли крышку и обнаружили «несчастную Элеонору Маркхэм лежащей на спине, с побелевшим, искаженным лицом и широко распахнутыми глазами». Она закричала: «Боже мой! Вы хороните меня заживо!» Позже она рассказала:
Я была в сознании все время, пока вы готовились похоронить меня. […] Ужас моего положения не поддается никакому описанию. Я слышала все, что происходило. […] и хотя я собрала всю свою волю и изо всех сил пыталась закричать, я была бессильна312.
А некоторых спасать уже было поздно. Когда гробы открывали, тела обнаруживали в перевернутых позах, со сломанными ногтями и другими признаками безуспешных попыток высвободиться, которые оканчивались смертью. Поэтому вскоре были изобретены технические устройства, позволявшие избежать опасности быть похороненным заживо. Гробы с трубками для дыхания или с колокольчиками, с помощью которых погребенный «непокойник» мог привлечь к себе внимание, раскупались мгновенно (ил. 6).
Такая система сигнализации с помощью колокольчика фигурирует уже в рассказе Эдгара По «Заживо погребенные» (1844). Автор с наслаждением рассказывает своим читателям о том ужасе, который испытывает человек, обнаружив себя в гробу:
И тут, в бездне отчаянья, меня, словно ангел, посетила благая Надежда – я вспомнил о своих предосторожностях. Я извивался и корчился, силясь откинуть крышку: но она даже не шелохнулась. Я ощупывал свои запястья, пытаясь нашарить веревку, протянутую от колокола: но ее не было. И тут Ангел-Утешитель отлетел от меня навсегда, и Отчаянье, еще неумолимей прежнего, восторжествовало вновь; ведь теперь я знал наверняка, что нет мягкой обивки, которую я так заботливо приготовил, и к тому же в ноздри мне вдруг ударил резкий, характерный запах сырой земли313.
Ил. 6. Гроб с системами вентиляции и сигнализации
Как только началась Первая мировая война, эту эпидемию страха будто ветром сдуло. Откуда же взялась и почему так внезапно кончилась эта паника, свирепствовавшая более двух десятилетий? Одно из объяснений может быть связано с ожесточенной борьбой между экспертами из разных дисциплин за полномочие констатации смерти: в эти десятилетия соперничали за дискурсивную гегемонию владельцы похоронных бюро, врачи, ученые и представители институционализированных религий. В результате сначала возникла просто какофония, а потом, что более важно, стала размываться граница между жизнью и смертью. Это привело к исчезновению уверенности в том, что захоронение человека означало конец его жизни. И только поставленная на промышленную основу массовая смерть на полях сражений Первой мировой войны снова провела четкую границу – кстати, как это ни парадоксально, именно в тот момент, когда риск быть засыпанным землей при взрыве и таким образом оказаться заживо похороненным в окопе или в воронке стал представлять реальную проблему314. Впрочем, выяснение причин, в силу которых этот коллективный страх исчез, нас здесь не занимает, поскольку пример был призван лишь продемонстрировать, как переменчивы объекты некоторых эмоций.
Путешествие в прошлое можно сравнить с путешествием, которое этнологи предпринимают в пространстве: в обоих случаях обнаруживаются различия между «там и тогда» и «здесь и сейчас». Параллель между этнологией и историей проводится здесь не случайно: именно антропологи, изучавшие другие народы, начиная с 1970‐х годов обнаруживали иные способы выражения чувств, иные концепции эмоций, которые в конце концов заставили и историков предположить, что эмоции социально сконструированы по-разному. В следующих параграфах этой главы речь пойдет об открытиях этнологов (а также – в двух экскурсах – социологов и лингвистов) и о социальном конструировании чувств315.
2. Эмоции в записках путешественников и ранней этнологической литературе
Уже античные историки, такие как Геродот и Тацит, знали, что в европейском ареале жили народы, которые не только по-другому говорили, питались и оборудовали себе жилища, но и по-другому чувствовали316. Однако то обстоятельство, что вдали от Европы люди по-другому испытывали чувства или, по крайней мере, по-другому выражали их (о разнице между чувствами и их выражением еще будет идти речь ниже), первыми заметили европейские мореплаватели в ходе путешествий, приведших к тому, что в Европе назвали «Великими географическими открытиями». Так, например, в 1772–1775 годах Георг Форстер участвовал во втором кругосветном плавании Джеймса Кука и обнаружил на Таити «нацию с сердцами мягкими, сочувствующими и расположенными к дружбе»317. Даже то, как лица таитян выражали эмоции, казалось ему непохожим на то, что он видел в Европе. А Джозеф Бэнкс, который в качестве натуралиста принимал участие в первом кругосветном плавании Кука в 1768–1771 годах, писал: «Не много видывал я лиц, которые имели бы больше выражения, чем лица этих людей»318. Другим же выразительность лиц таитян показалась подозрительной: они предполагали, что за ней кроется обман. Так, сам капитан Кук, сообщая о своем отъезде с острова Хуахин во время второй экспедиции, писал: «Вождь, его жена и дочь, особенно две последние, плакали почти не переставая. Не берусь сказать, было ли горе, которое они выказывали по этому поводу, настоящим или притворным»319. Уильям Блай, командовавший кораблем Кука, тоже задавался вопросом о том, были ли демонстрируемые чувства подлинными. В своем дневнике он записал, как проходил мимо матери умершего ребенка, которая была «в жестоком горе», но, подойдя ближе, он был потрясен, увидев, что «скорбящая разразилась смехом, как только увидела меня. […] Несколько молодых женщин были с ней, но ко всем ним до некоторой степени вернулось веселье, и слезы их немедленно высохли». Блай объяснил своему спутнику, что
женщина не испытывала печали по своему ребенку, потому что ее горе не могло бы так легко пройти, если бы она в самом деле сожалела об утрате его. Тогда он [спутник Блая] с долей юмора сказал ей, чтобы она снова плакала; однако мы оставили ее без каких-либо видимых следов его [горя] возвращения320.
Но самое большое беспокойство эта проблема подлинности чувств внушала миссионерам, которые с начала XIX века стали прибывать на Таити и по выражениям лиц туземцев пытались понять, было ли их обращение в христианство успешным. Сначала им казалось, что сила выражения на лицах таитян свидетельствует о необычайно глубокой и прочной христианизации, однако потом они были разочарованы. В 1851 году миссионер Джон Дэвис опубликовал английско-таитянский словарь, в котором двадцать шесть статей были посвящены только разнице между чувством и выражением чувства, – например, «красивый и обманчивый, как речь лицемера», «величественный лишь внешне», «пустое сочувствие», «приятная внешность, которая является единственным хорошим качеством» или «изображать веру или покорность, чтобы добиться некой корыстной цели»321.
После Великих географических открытий в середине XIX века сначала в Англии, а потом в Германии, России, Франции, США и других странах начала развиваться новая научная дисциплина – этнология (мы здесь не будем рассматривать разницу в значениях ее названий на разных языках – «этнология», «народоведение», «антропология», «этнография», «социальная и культурная антропология» и т. д.). В 1980‐х она стала играть роль авангарда в мультидисциплинарном изучении эмоций и преодолении антропологических констант, а на ранних этапах существования этой новой дисциплины эмоции представляли для нее лишь маргинальный интерес. Этнологи интересовались прежде всего социальной организацией (включая родственные связи), а главное – вопросом о происхождении человека. То, что люди бывают разными по внешнему виду и обычаям, было очевидно, но как было объяснить это разнообразие? Произошел ли человек из какого-то одного места или из множества источников? Человечество одно или их много? Моногенизм или полигенизм?322 Универсализм или партикуляризм? Таковы были главные вопросы, занимавшие этнологию на начальном этапе.
Моногенизм, то есть подчеркивание происхождения всех людей «от одной крови» (ab uno sanguine) и акцент на универсальности психических структур – таков был прогрессивный ответ на эти вопросы, данный ранними британскими антропологами, которые еще до дарвинистской революции посвятили себя делу борьбы с рабством, как, например, Джеймс Причард (1786–1848), сын проповедника-квакера323. Этот подход обнаруживал некоторое сходство с идеями о «благородном дикаре», имевшими широкое распространение в XVII–XVIII веках, но отличался от них тем, что не предусматривал встраивания в христианское циклическое понимание времени. Философы, такие как Энтони Эшли-Купер и Жан-Жак Руссо, считали, что «благородный дикарь» был ближе к естественному состоянию творения до грехопадения и поэтому во многом превосходил «испорченного» европейца современной им эпохи. Парадигма «благородного дикаря», выработанная в противовес идеям Томаса Гоббса о «естественном состоянии» и «войне всех против всех», всегда имела также и эмоциональную составляющую: считалось, что люди чуждых культур одушевляемы более чистыми, более исконными чувствами324.
Публикация книги Чарльза Дарвина «Происхождение видов» (1859) сильно перетасовала карты в этой дискуссии. Эволюционная теория онаучила и подкрепила линейную динамику, постулировавшуюся моногенистами. Дарвин окончательно отбросил идею божественного творения, а принцип естественного и полового отбора означал появление открытого будущего: ныне живущие люди были низведены до статуса одной из ступеней эволюции, за которой последует еще много других. Вульгаризированные версии эволюционной теории, как известно, «онаучивали» и расистские взгляды, что вместе с новыми технологиями уничтожения привело в ХХ веке к самым страшным геноцидам в истории человечества. Сам Дарвин дистанцировался от представлений о дикарях, будь то благородных или каких-то еще: вместо этого он как бы всех нас сделал «дикарями». Это прекрасно видно в его книге «О выражении чувств у человека и животных» (1872): там он подчеркивал, что «уже с крайне отдаленных времен страх выражался почти в той же самой форме, как и теперь у человека»325. Дарвин считал, что эмоции универсальны, так как они явно давали преимущества в борьбе за выживание всем животным, от приматов до homo sapiens. Эта универсализация и эта связь с борьбой за выживание (с естественными реакциями «борись или беги») были важными предпосылками для возникновения экспериментальной психологии, ведь она возможна только на основе презумпции сопоставимости изучаемых субъектов.
Связь между собственными путешествиями Дарвина на корабле «Бигль» и его книгой о выражении эмоций у человека и животных пока столь же мало исследована, как и влияние данного труда на этнологию той эпохи. Не изучено и то воздействие, которое психолог Вильгельм Вундт (1832–1920), основатель современной экспериментальной психологии эмоций, оказал на мышление Адольфа Бастиана (1826–1905), первым получившего в 1869 году право читать учебный курс «народоведения» (Völkerkunde)326. Свет этой двойной звезды – Вундта и Бастиана – светил в двух направлениях: в сторону Франции, где он оказал влияние на Эмиля Дюркгейма (1858–1942), и в сторону США, где эмигрировавший туда в 1887 году ученик Бастиана Франц Боас (1858–1942) стал создателем американской антропологии, из которой около ста лет спустя выросла новая самостоятельная область исследований – антропология эмоций.
3. Чувства в трудах классиков антропологии
Дюркгейм писал о далеких народах, хотя сам не предпринимал больших путешествий. Он основывал свою работу на данных, собранных этнографами. Его интересовало прежде всего то, что скрепляет общество и конституирует группы: «коллективные представления», в том числе ритуалы и их функции. Он по-новому взглянул на отношения между эмоциями и их выражением (это тот самый вопрос об искренности, который так беспокоил миссионеров). В 1912 году Дюркгейм писал:
Траур не есть спонтанное выражение чувств индивидов. Когда родственники покойного плачут, сетуют и расцарапывают свои тела, они делают это не потому, что они чувствуют себя лично тронутыми его смертью. Без сомнения, в отдельных случаях может быть так, что выражаемая скорбь кем-то действительно ощущается. Но в целом нет никакой связи между испытываемыми чувствами и жестами, которые совершают участники обряда. Если в тот момент, когда плакальщики, как кажется, сильнее всего страдают от боли, вы заговорите с ними о каком-нибудь пустяке, часто бывает, что их лицо и тон изменяют свое выражение и они начинают весело болтать. Траур не является естественным движением личной чувствительности, вызванным жестокой утратой: это обязанность, налагаемая группой. Люди плачут не потому, что печалятся, а потому, что они обязаны плакать. Это ритуальное действие, которое в значительной мере независимо от эмоционального состояния индивида. Кроме того, это обязательство обставлено мифическими или социальными санкциями. Например, считается, что душа умершего родственника следует по пятам за человеком и убивает его, если он не предается оплакиванию так, как того требует обычай327.
Позволим себе сделать скачок вперед: введенное социологом Ирвингом Гоффманом (1922–1982) различение между социальной маской и «истинным лицом» или индивидуальностью человека несет на себе отпечаток не только Марксовой теории отчуждения, но и дюркгеймовского понимания обряда328. В то же время распространенный ныне в этнологии социально-конструктивистский подход к эмоциям трудно помыслить без предварительной стадии, в роли которой выступили идеи Дюркгейма и, в частности, его истолкование эмоций как ритуализаций.
Но вернемся к самому Дюркгейму и его работам, посвященным религии. Для него религия представляла собой не только что-то функциональное, не только движение социальных субъектов в границах жестко установленных социальных правил, конституирующих сообщество. В его понимании религия означала также «кипение» (effervescence) в ритуале, то есть коллективный эмоциональный всплеск, и в этом трудно не увидеть след, ведущий к Гюставу Лебону, правому теоретику толпы, чьи идеи были инструментализированы теми, кто был еще правее его, – например, Муссолини. Мы уже сталкивались с Лебоном в первой главе: он сформулировал некоторые из важнейших категорий, использованных Люсьеном Февром329.
Фигурой номер один французской антропологии ХХ века был, бесспорно, Клод Леви-Стросс (1908–2009). С одной стороны он, через Марселя Мосса (1872–1950), испытал воздействие идей Дюркгейма, с другой стороны, во время своего пребывания в США с 1941 по 1948 год он через посредство Франца Боаса воспринял импульсы немецкой традиции, а кроме того, находился под влиянием Маркса и, особенно сильно, структурной лингвистики. Леви-Стросс тесно сотрудничал в Нью-Йорке с Романом Якобсоном и читал в те же годы Соссюра, «отца-основателя» структурализма.
Вернувшись во Францию, в конце 1950‐х годов Леви-Стросс занялся изучением тотемизма и, в связи с этим, – взаимосвязью религии и эмоций. Социологи и антропологи разработали несколько теорий религии, основанных на отношении «первобытных» людей к тотему – знаку, обычно имевшему вид животного. Так, по мнению Дюркгейма, тотем австралийских аборигенов свидетельствовал о том, что религиозная жизнь всегда связана с сообществом, то есть что ей присущ интегративный, гомогенизирующий элемент330. Леви-Стросс же считал, что использование тотемов не указывает на «иное» мышление, а представляет собой всего лишь выдающееся когнитивное достижение в среде, бедной абстракциями. Все важные авторы, писавшие о тотемизме, – Эмиль Дюркгейм, Бронислав Малиновский, Эдвард Эванс-Причард, Альфред Рэдклифф-Браун и Альфред Крёбер – по словам Леви-Стросса, возводили тотем не к когнитивным, а, наоборот, к эмоциональным истокам и тем самым капитулировали перед задачей научного его объяснения:
Поскольку аффективность – это наименее ясная сторона человека, к ней постоянно пытались прибегнуть как к объяснению, забывая при этом, что нельзя ничего объяснить явлением, которое само не поддается объяснению. Данность не является первичной, оттого что она непостижима331.
В отличие от Дюркгейма, который утверждал, что люди рисовали анималистические тотемы под влиянием чувства, то есть чтобы инстинктивно соединиться с сообществом мертвых – своих предков332, Леви-Стросс, выступая против этой «аффективной теории сакрального», заявлял:
Действительно, импульсы и эмоции ничего не объясняют, они всегда проистекают: или из мощи тела, или из немощности духа. В обоих случаях это следствие; они никогда не являются причиной333.
Таким образом, в том, что касалось эмоций, Леви-Стросс был материалистом и в таком качестве продолжал долгую традицию экспериментальной психологии. В рамках данной традиции наиболее внятную теорию разработали, как будет показано в третьей главе, Карл Ланге (1834–1900) и Уильям Джеймс (1842–1910), которые утверждали, что эмоции не являются чем-то, существующим внутри тела: телесное выражение само по себе и есть эмоция. Впоследствии приверженцы социального конструктивизма по-разному интерпретировали процитированный выше пассаж об «импульсах и эмоциях» как следствиях, а не причинах. Одни сочли Леви-Стросса аристотелианцем, создавшим пространство для оценки или интенционализма334; другие, решив, что он сводит эмоцию к телесным движениям, сочли его сторонником Сильвана Томкинса (1911–1991) – психолога, ненавидимого всеми социал-конструктивистами, духовного отца Пола Экмана335.
В Великобритании влияние леви-строссовского структурализма в антропологии стало заметно лишь в 1960–1970‐е годы, прежде всего в работах Виктора Тёрнера (1920–1983). А до этого, в начале ХХ века, на родине социальной и культурной антропологии важнейшей фигурой был Бронислав Малиновский (1884–1942), который, проведя несколько лет (1914–1918) в Новой Гвинее, заложил основы современной полевой работы, в том числе – метода «включенного наблюдения», предусматривавшего непременное овладение языками изучаемых народов. Хотя сам Малиновский считал, что его занимали только отношения родства, его дневник красноречиво свидетельствует о том, какие чувства испытывают антропологи во время полевой работы336. Уже в Австралии он чувствовал
сильный страх перед тропиками; ужас перед жарой и духотой – своего рода паническую боязнь испытать жару, такую же ужасную, как в прошлом июне и июле. […] Я был довольно подавлен, боялся, что стоящая передо мной задача мне не по плечу. […] В субботу, 12 сентября [1914 г.], прибытие в Новую Гвинею. […] Я чувствовал себя очень усталым и опустошенным, так что мое первое впечатление было довольно расплывчатым. […] 31 октября [1914 г.]. […] Потом, поскольку не было ни танца, ни собрания, я по пляжу пошел в Орубо. Восхитительно. Я впервые увидел растительность в лунном свете. Так чуждо и экзотично. Экзотика внезапно прорывается сквозь пелену привычного. […] Пошел в буш. На мгновение я испугался. Пришлось взять себя в руки. Пробовал заглянуть в свое сердце. «Как выглядит моя внутренняя жизнь?» Нет причин быть довольным собой337.
Дневник Малиновского – еще и основополагающий документ саморефлексии исследователей антропологии эмоций. Впоследствии антропологи даже стали считать, что наблюдение за своими собственными чувствами – важнейший элемент сбора «данных», заключающегося в провоцировании тех или иных эмоций у информантов, потому что чувства наблюдаемых и наблюдающих постоянно пребывают в диалоге друг с другом (об этом см. ниже, где пойдет речь о Джин Бриггс).
Еще один пионер британской социальной антропологии – Уильям Х. Риверс (1864–1922), который путешествовал и занимался этнографическими исследованиями до Первой мировой войны, а после ее начала расширил свои медицинские интересы и, став психиатром, работал с солдатами, страдавшими тем, что в Англии тогда называли «shell shock», в Германии – «военной трясучей», а сегодня назвали бы посттравматическим стрессовым расстройством. История Риверса в 1991–1995 годах была увековечена в трилогии Пэт Баркер «Регенерация». Переписка Риверса с Зигфридом Сассуном и другими знаменитыми пациентами-литераторами, которую он вел, работая в психиатрическом военном госпитале Крейглокэрт в Шотландии, стала одним из ключевых свидетельств о Первой мировой войне. В какой мере полевые исследования Риверса в Папуа – Новой Гвинее повлияли на его концепцию травмы и ее лечения, а главное – на лежащую в ее основе концепцию страха, еще только предстоит установить338.
В Великобритании работал и ученик Риверса Рэдклифф-Браун (1881–1955), который позже определил «чувство» (sentiment) как «организованную систему эмоциональных тенденций, сосредоточенных на каком-либо объекте». Он тоже считал, что «существование общества зависит от наличия в сознании его членов определенных чувств (sentiments), которыми поведение индивида регулируется в соответствии с потребностями общества» и что «указанные чувства (sentiments) у индивида […] не являются врожденными, а развиваются в нем под воздействием общества»339. Рэдклифф-Браун, который был дюркгеймианцем, преподавал в США в 1931–1937 годах. Таким образом, в то время как сама германская этнология утратила свою значимость, влияние идей Бастиана на американскую антропологию – через Боаса, Рэдклифф-Брауна и Дюркгейма – было весьма значительным.
Через научного «сына» Бастиана – Франца Боаса – линию этого влияния можно проследить и до его «внучки» Рут Бенедикт (1887–1948), которая открыла целую эпоху, опубликовав сразу после разгрома Японии в 1945 году книгу «Хризантема и меч», представлявшую этнопсихологический групповой портрет целой нации340. Бенедикт не только популяризировала различение между «культурами стыда», такими как японская, и «культурами вины», такими как американская: прежде всего она анализировала японские представления о чувствах, управлявшие социальной жизнью, и сравнивала их с аналогичными представлениями в США. Например, в Японии надо всем царит «он» – это смесь «любви» и «уважения», подразумевающая всегда также обязанность и пребывание «в долгу перед кем-то»: новорожденный ребенок на всю жизнь в долгу перед своими родителями; последняя сигарета, которую пилот-камикадзе перед вылетом получает от офицера, напоминает ему о том, что он в неоплатном долгу перед императором. «Любовь, доброта, милосердие, которые мы ценим ровно настолько, насколько они свободны, в Японии непременно должны иметь свои путы»341, – писала американка Бенедикт. В главе «Круг человеческих чувств» исследовательница дала описание японских представлений о пяти телесных ощущениях и практик, связанных с ними342.
Маргарет Мид (1901–1978), которая училась у Рут Бенедикт в Колумбийском университете, стала, так сказать, «правнучкой» Адольфа Бастиана343. Значение Мид для американской антропологии и вообще для истории культуры ХХ века в США едва ли можно переоценить344. После своей полевой работы на Самоа в 1925 и 1926 годах она стала сторонницей радикального культурного релятивизма, который впоследствии способствовал революции в американском образовании и в межрасовых отношениях. А то, как она изображала в своих работах полинезийцев, особенно женщин, подготовило почву для сексуальной революции. Важную роль всегда играла в этом и эмоциональная составляющая. Как отмечала Мид, для полинезийцев было характерно
необычное отношение к выражению эмоций. Выражения эмоций делятся на «имеющие причину» и «беспричинные». Про человека эмоционального, легко расстраивающегося, подверженного перепадам настроения, говорят, что он смеется без причины, плачет без причины, гневается и задирается без причины. При этом выражение «сильно злиться без причины» не подразумевает вспыльчивости – на нее указывает выражение «быстро злиться»; не подразумевает оно и несоразмерности реакции на легитимный стимул. Оно буквально означает злиться без причины, или свободно – это эмоциональное состояние без какого бы то ни было видимого стимула345.
И вообще, подчеркивала исследовательница, «самоанцы предпочитают золотую середину, умеренную дозу чувства»346. Более открыто, чем прочие антропологи, Мид, описывая другие культуры, тем самым всегда еще и предлагала американскому обществу взглянуть на само себя. Например, она указывала на то, что за «специализацию любви», характерную для американской нуклеарной семьи, приходится платить высокую цену, потому что «в более крупном семейном сообществе, в котором есть несколько взрослых мужчин и женщин, ребенок, как представляется, застрахован от возникновения таких уродующих установок, которые получили название „эдипова комплекса“, „комплекса Электры“ и так далее»347. Впоследствии многие антропологи пошли по стопам Мид – и это стало одной из причин, по которым такое множество работ по антропологии эмоций основано на материале, собранном в культурах южных морей, а не, например, в Африке, Южной Америке или среди североамериканских индейцев. В разработке концепций такого специалиста по психологии эмоций, как Пол Экман, о котором будет идти речь в третьей главе, исследования Мид тоже сыграли важную роль.
Начиная с 1960‐х годов в американской антропологии возникло новое, герменевтическое течение, связанное с именами Хилдред Гирц (*1929) и Клиффорда Гирца (1926–2006). В нашем распоряжении есть всего несколько фраз из наследия Клиффорда Гирца, посвященных эмоциям, как, например: «Культурными артефактами в человеке являются не только идеи, но и эмоции». Или: «Чтобы принимать решения, мы должны знать, что мы чувствуем по поводу тех или иных вещей, а для того чтобы знать, что мы чувствуем по их поводу, нам нужны публичные образы чувствования, которые нам могут дать только ритуал, миф и искусство»348. Хотя – особенно при описании ритуализованного характера выражения чувств – очень часто апеллируют к Клиффорду Гирцу349, более активно занималась эмоциями Хилдред, его первая жена. В 1950‐е годы она предполагала, что эмоции культурно универсальны и заложены в каждом человеке, однако в ходе социализации детей, протекающей по-разному в разных культурах, чувства подвергаются различным влияниям и формирующим воздействиям: одни в тех или иных культурах особенно культивируются, другие – скорее подавляются. Некоторые чрезмерно обобщающие утверждения Хилдред Гирц о «яванцах» (the Javanese) выглядят старомодными генерализациями даже на фоне того, что было принято в этнографических работах 1970‐х годов. Так, например, она утверждает, что «они не любят никакого сильного проявления эмоций, у них мало отношений настоящей дружбы или любви. Яванские женщины не такие тихие и сдержанные, как мужчины, они гораздо более экспрессивны»350. Об эдиповом комплексе она говорит как о части взросления любого молодого человека351. Но вместе с тем в работах Хилдред Гирц мы находим и проведенный на высоком уровне анализ представлений аборигенов об эмоциях. Все эти представления, прививаемые яванским детям в ходе воспитания, тем или иным образом связаны с уважением. Гирц пришла к выводу, что неотъемлемой составляющей эмоциональной социализации являются не только «практики воспитания детей как таковые», но и «представления (assumptions) общества о внутренней эмоциональной жизни»352.
Другие исследователи, которые сегодня считаются в антропологии классиками, усматривали еще меньше связи между чувствами и культурой. Эрнест Биглхоул (1906–1965) утверждал в 1937 году, что ритуалы жителей атолла Ифалик, расположенного в западной части Тихого океана, представляют собой предохранительный клапан для выхода эмоций, которые им обычно приходится подавлять в силу того, что эти люди живут очень тесно и приватная сфера у них отсутствует. По его мнению, «если бы не существовало определенных социально приемлемых средств выражения подавляемых эмоций, то общество рухнуло бы под бременем собственных неврозов»353. Мелфорд Спиро в 1952 году высказывал убеждение, что за страхом жителей Ифалика перед духами скрывалась их подавляемая агрессия, прямое выражение которой не допускалось их культурой, одержимой ценностью гармонии354. Позже появились более сложные психоаналитические объяснения – например, в работе Джорджа Морриса Карстерса 1967 года355. Как считают Латц и Уайт, все эти построения сводились к «теории двух слоев», согласно которой
универсальные эмоции залегают в глубинном слое аффекта. Примерно как во фрейдистской модели первичного и вторичного процесса, единообразные или универсальные аспекты эмоций по-разному «формируются», «фильтруются», «канализуются», «искажаются» или «маскируются» культурными «матрицами», «фильтрами», «линзами», «правилами демонстрации» или «защитными механизмами»356.
В 1970‐х годах культурные антропологи Рой Д’Андраде и Майкл Иган, проведя сравнительное исследование, пришли к выводу, что во всем мире у людей светлые и насыщенные цвета ассоциируются скорее с положительными эмоциями, а темные и блеклые цвета – скорее с отрицательными. Это явление, известное под названием «синестезия цвета и эмоции», свидетельствовало, по мнению исследователей, о существовании «врожденных реакций»357. И еще в 1978 году Родни Нидхэм (1923–2006) полагал, что «сравнительное изучение эмоций показывает, что в природе они не так дискретны и не так многочисленны, как те различные названия, которыми они обозначаются в разных языках»358.
4. Ранняя антропология эмоций – 1970‐е годы
Чувства инуитов
Итак, мы закончили обзор классиков этнологии и их – сравнительно немногочисленных – высказываний о чувствах. Гораздо больше внимания обращала на эмоции Джин Л. Бриггс (1929–2016). Сегодня эту американскую исследовательницу принято считать основоположницей современной антропологии эмоций359.
Летом 1963 года Бриггс приехала к небольшой группе канадских инуитов, называющих себя «Utkuhikhalingmiut» (сокращенно «утку»), чтобы несколько лет прожить с ними и исследовать шаманистскую религию их племени. В те времена утку, которых насчитывалось всего два-три десятка человек, жили на территории, охватывавшей около 90 000 кв. км, примерно в 240 км от ближайшего населенного пункта, питаясь рыбой и мясом карибу – американских северных оленей. Восемь домохозяйств – три большие семьи – вели сезонно-кочевой образ жизни, летом живя в палатках, а в остальные месяцы года – в иглу. Бриггс была определена в семью предводителя группы Инуттиака и его жены Аллак, у которых были дочери Камик, Раигили и Саарак (четвертая дочь, Каяк, родилась в апреле 1964 года), а американская исследовательница, получившая имя Йиини, выступала в роли их приемной дочери, хотя на момент прибытия к утку ей было 34 года, то есть она была почти ровесницей Аллак и совсем немного уступала годами Инуттиаку, которому было около 40 лет.
Очень быстро выяснилось, что первоначальный проект – изучение шаманизма – реализовать не удастся, так как утку в 1930‐е годы перешли в англиканство и теперь считали, что их шаманы были «либо в аду, либо в бегах»360. Вместо прежней темы напрашивалась сама собой другая: эмоции. Вопрос об эмоциях вставал в двух плоскостях: во-первых, в плоскости этнографического наблюдения, а во-вторых – в плоскости непреднамеренного нарушения исследовательницей тех норм, которыми регулировались чувства у утку: Бриггс постепенно сместилась на маргинальные позиции в их обществе, время от времени превращалась в изгоя и в конце концов, решив раньше времени закончить свою полевую работу, уже с нетерпением ждала, когда за ней прилетит зафрахтованный канадским правительством самолет.
Со временем Бриггс поняла, что все поведение утку подчинялось одному правилу: никогда не следует злиться. Так и была озаглавлена написанная ею книга о жизни в семье Инуттиака: «Never in Anger» (1970). В понимании утку, стать взрослым значит обрести ihuma: это понятие можно приблизительно перевести как «разум». Выражается ihuma прежде всего в контроле эмоций. Только «ребенок, идиот, очень больной или сумасшедший человек» не обладает ihuma361. Маленькой Саарак родичи дозволяли проявлять гораздо больше эгоизма и ярости, чем позволено было бы в те годы американскому ребенку того же возраста. Именно потому, что маленькая девочка еще не обладала ihuma, семья и не ожидала от Саарак ничего другого, кроме как того, что она будет быстро приходить в ярость, легко пугаться и много кричать; при этом почти любое ее желание выполнялось. «Последовательность» как идеал воспитательной стратегии для родителей была утку неведома362.
В жизни Саарак фаза, предшествующая обретению ihuma, закончилась, когда ей было около трех лет и у нее появилась младшая сестра. При этом внимание ее матери перераспределилось не в одночасье, а медленнее, более щадяще и с большей терпимостью к «рецидивам», чем этого можно было бы в те годы ожидать в американской или европейской семье. Нагляднее всего это проявилось в конкуренции за материнское молоко, развернувшейся между Саарак, еще не отлученной от груди, и новорожденной Каяк. Бриггс, жившая в одном иглу со своей приемной семьей, описала, как Саарак впервые заметила, что у нее есть сестра:
[Саарак] давали выспаться, и когда она через некоторое время зашевелилась, Инуттиак ритмично потер ей спину, чтобы она снова заснула. Но его усилия были тщетны, и когда он увидел, что она по-настоящему проснулась, он указал ей на младенца. Я затаила дыхание. Но в первую минуту взрыва не последовало. Саарак щебетала и ворковала, глядя на младенца дружелюбно и с интересом. И только когда она увидела, что мать прикладывает ребенка к груди, разразилась буря – буря воплей и шлепков. Аллак, прикрыв меньшую дочь рукой, проговорила нежным голосом: «Не делай ей больно». И тут Саарак потребовала того, что было ее правом, а теперь оказалось под угрозой: чтобы ее покормили грудью. Я знала, что утку очень тактичны, но никогда не думала, что кризис может быть разрешен так мягко, как это произошло теперь. Аллак заговорила тоном, который я потом часто слышала в последующие несколько дней, – лживым, но сочувственным тоном отвращения. «Оно такое невкусное», – сказала она. И этот тон облек слова в ласковую защитную оболочку. Но Саарак продолжала кричать и колотить ладонью мать и ребенка. Тогда Аллак уступила, взяла встревоженную дочь в привычное убежище своей парки и покормила ее, хотя и недолго, одной грудью, в то время как другой кормила новорожденную. Я забыла проследить, оторвалась ли Саарак от груди добровольно или ее уговорили это сделать; в любом случае, чуть позже она снова завопила. На этот раз вмешался Инуттиак. «Тебя очень любят (naklik)», – успокаивал он дочь, но Саарак была слишком расстроена, чтобы прислушаться к его словам. Тогда Инуттиак сказал – громче и более грубо: «Иди спать! Ты совсем сонная!» И в конце концов она действительно докричалась до того, что уснула. Инуттиак смотрел на личико на подушке рядом с собой: на щеках еще видны были следы слез, маленькие темные косы были спутаны. «Бедняжка (naklik), – сказал он, – она все понимает и беспокоится (ujjiq)»363.
Свои попытки отучить Саарак от груди родители прерывали потом еще многократно, обнаруживая при этом больше терпения, чем можно было бы счесть приемлемым в том культурном круге, к которому принадлежала наблюдавшая это антрополог Бриггс. Почему? Потому что ihuma, как полагают утку, приходит к человеку самостоятельно, без участия родителей. То, что у маленькой Саарак еще не появилось ihuma, принималось с невозмутимостью.
Но наиболее доходчиво – и болезненно – значение контроля над эмоциями было преподано Бриггс не в наблюдениях за другими, а через ее собственные непреднамеренные нарушения эмоциональных норм. То, что произошло, не случилось внезапно и открыто, это был процесс постепенный, протекавший под влиянием тех трудностей, которые она испытывала в адаптации к арктическому холоду, под влиянием языкового барьера, затруднявшего коммуникацию, под влиянием ее ошибок в интерпретации поведения утку. «Оглядываясь назад, – писала впоследствии Бриггс, – мои отношения с утку можно разделить примерно на три фазы: сначала я была, с точки зрения утку, чужаком и диковинкой, потом – трудновоспитуемым ребенком, и наконец стала хроническим раздражающим фактором»364.
Во время первой фазы исследовательница еще жила в собственной палатке, которая очень быстро стала центром интереса всех утку. С утра до вечера они приходили к ней в гости, и Бриггс больше всего на свете мечтала хоть немного побыть в уединении, тогда как у инуитов, живущих в ледовой пустыне, одиночество считалось самым страшным наказанием. Кроме того, Бриггс столкнулась с такими языковыми и адаптационными проблемами, которые оказались ей не по плечу. Ей приходилось переспрашивать собеседников гораздо чаще, чем было принято среди утку, и еще до прихода зимы она очень страшилась холода, от которого у нее возникли обморожения на руках и на пальцах ног. Когда же Бриггс заметила, что утку не отрываются от своих обычных занятий с приходом гостей, она тоже перестала обращать внимание на постоянно приходивших в ее палатку посетителей; ей казалось, что утку восприняли это благосклонно, а на самом деле они увидели в этом нарушение норм, что способствовало впоследствии маргинализации «белой» (kapluna). Кроме того, Бриггс то и дело сердилась или плакала, и ей только казалось, что утку реагировали на эти ее эмоциональные всплески невозмутимо:
Как я позже обнаружила, я слишком легко успокоилась относительно последствий моей несдержанности. Когда мне удавалось взять себя в руки (иногда это бывало после того, как первый агрессивный импульс иссякал), если я рассказывала потом о случившемся весело и слышала, что другие смеются вместе со мной, или если мне казалось, что люди принимали те щедрые жесты, с помощью которых я пыталась рассеять холод, возникавший после моих неправильных поступков, я была убеждена, что никакого урона нанесено не было. Как неправа я была, я узнала только через год, когда, по возвращении в Йоа-Хейвен [ближайший населенный пункт. – Я. П.], Икаюктук рассказала мне, что утку обо мне сообщали в ту первую зиму365.
Ситуация обострилась зимой, когда температура опускалась до –50°С и Бриггс переселилась в иглу, где жила семья Инуттиака. Американке лишь частично удавалось вести себя как послушная приемная дочь. Ее возмущало поведение Инуттиака, которое казалось ей высокомерным, эгоистичным и патриархальным. Позже она писала: «Когда Инуттиак уезжал, я радовалась возможности отдохнуть от того, что представлялось мне его „властным эгоцентризмом“»366. То и дело ее интересы сталкивались с интересами Инуттиака – «например, когда он нарушал с трудом достигнутую температуру в иглу, при которой я могла печатать»367. Но и то, как он обращался с женой и детьми, ей тоже казалось невыносимым:
Он, казалось, безо всяких угрызений совести прерывал их занятия, а иногда даже и сон Аллак, чтобы приказать им сделать что-нибудь для него: заварить чай, приготовить еду, принести его трубку, помочь накормить собак, сбить сосульки со стен. Если в стене образовывалась дыра и снег начинал сыпаться на постель или если собака срывалась с цепи ночью, то выходить и исправлять повреждения всегда приходилось именно крепко спавшей Аллак, а не ее бодрствовавшему мужу368.
Постепенно Бриггс стало ясно, что умение держать свои чувства в узде – одна из первостепенных добродетелей в мире утку, но ей все труднее было соответствовать этому идеалу по мере того, как и ее отношения с Инуттиаком, и погода на улице ухудшались и ей некуда было отступать, кроме как в свой угол иглу. В таких условиях контролировать свои эмоции было слишком трудно, внешние стрессогенные факторы оказались слишком сильны. Позже Бриггс писала: «Прилагая стандарты утку к моему поведению, я чувствовала, что каждый из этих инцидентов был мне личным упреком; но слишком часто моя решимость действовать таким образом, чтобы утку сочли мое поведение образцовым, оказывалась недостаточна для конкретной ситуации»369. Ее подавленные чувства «должны были найти выход», и Бриггс не могла не «взорваться», как вулкан:
Требовался гораздо больший контроль, нежели тот, которого я привыкла достигать, дисциплинируя себя. В то же время я испытывала значительно больший стресс, чем было мне привычно, и в результате возникали напряжения, которые требовали выхода наружу. Хотя я делала все возможное, чтобы выражать их через смех, как поступают утку, смех не получался естественным. Обескураживающе часто случалось так, что после многих часов или даже дней спокойствия, когда я уже поздравляла себя с тем, что наконец достигла некоего подобия правильной невозмутимости, внезапность или интенсивность чувства выдавала меня. Была холодность в моем голосе, которая скрывала желание заплакать от усталости или разочарования, когда я вынуждена была в тысячный раз говорить «Я не понимаю». Был момент, когда, спеша выйти из иглу, я, не подумав, отстранила Раигили рукой, вместо того чтобы тихо попросить ее отодвинуться. Были критические замечания, которые я пробормотала по-английски, когда прищуренные глаза и злобный шепот Аллак и ее сестры, погруженных в обмен сплетнями, взбесили меня сверх всякой меры. Был взрыв ругани (в том числе на английском), которым я разразилась, когда комок слякоти с перегретого купола иглу в третий раз за три дня упал мне на пишущую машинку, положив конец моей работе в тот день370.
Открытый разрыв произошел только после определенного инцидента. Летом к утку приехали порыбачить несколько белых американцев и канадцев, и Бриггс было стыдно за то, как высокомерно они держались. Когда рыбаки взяли напрокат два жизненно важных для инуитов каноэ на условиях, которые Бриггс сочла несправедливыми, она, выступавшая переводчицей, выразила им неудовольствие – свое и, как она думала, хозяев тоже. Реакцией утку было резкое осуждение: они расценили ее поведение как нарушение норм эмоционального контроля, вежливости и щедрости, а также, не в последнюю очередь, как посягательство на роль Инуттиака как главного в группе. После этого утку продолжали кормить ее, но практически перестали обращать на нее внимание, а это, в свою очередь, привело к тому, что у Бриггс началась многомесячная «депрессия» и она стала менее уверенно говорить на языке утку. Депрессия прошла лишь тогда, когда возникла перспектива досрочного отъезда. К тому же, когда инуиты поняли, что «отсебятиной» при переводе она пыталась отстоять их интересы, она была снова принята в семью. «Я снова считаю Йиини членом моей семьи» – такими словами Инуттиак положил конец конфликту371.
Инуттиак стал для Джин Бриггс наглядным примером того, что означает для утку контролирование эмоций. Со временем она стала считать его «не типичным утку», а «необычно порывистым человеком. Он тоже держал свои чувства под строгим контролем, но в его случае было видно, что там было что контролировать»372. Верховное положение Инуттиака среди утку легитимировалось, помимо всего прочего, повышенной импульсивностью его темперамента, благодаря которой его сдержанность выглядела еще более титанической373. Вместе с тем он внушал остальным и страх, потому что «говорили, что человек, который никогда не терял самообладания, может убить, если когда-нибудь действительно разозлится»374. Со временем Бриггс поняла, что избегание крайностей при выражении чувств, прежде всего ярости, занимает центральное место в самости утку. Как она выяснила, они верили, что «тяжелые мысли» (ihumaquqtuuq) способны убить человека или вызвать болезнь. Как рассказал исследовательнице один инуит в Йоа-Хейвен, одна из женщин утку сказала о ней: «Когда Йиини сердится, оставьте ее в покое. Если эскимос рассердится, это не так-то быстро забудется, а kapluna может утром сердиться, а к вечеру уже все позабыть»375.
Примечательна в этом первом крупном исследовании по этнографии эмоций степень авторской саморефлексии. Бриггс прямо пишет, что в корпус «данных о поведении», который она собирала для описания «эмоциональных паттернов утку», она включила не только свои наблюдения за эмоциями инуитов и их высказывания об эмоциях, но и собственные выражения чувств, поскольку утку на них реагировали376. Вот один пример антропологического самоанализа Бриггс:
Во время двух своих предыдущих полевых сезонов в эскимосских деревнях Аляски я сильно идентифицировала себя с местными жителями-эскимосами, а не с теми представителями белого населения (kapluna), с которыми мне там доводилось встретиться. У меня не возникало проблем со взаимопониманием, и я ожидала, что и теперь будет так же. Вообще, я по мировоззрению никогда не чувствовала себя такой уж американкой – скорее я надеялась, что, может быть, выяснится, что я эскимоска в душе. Вслух я, правда, таких романтичных надежд не высказывала. Мне было довольно стыдно, что у меня такое «непрофессиональное» отношение к работе; были и некоторые сомнения насчет того, мудро ли будет стать приемной дочерью, потому что это означало бы и потерю «объективной» позиции в сообществе, и расход моих припасов, поскольку пришлось бы вкладываться в поддержание семейного хозяйства; и потерю приватного пространства, что привело бы к трудностям в работе. Поэтому идею усыновления я – как мне казалось – не рассматривала всерьез. И тем не менее, когда в один прекрасный день в Йоа-Хейвене Икаюктук спросила меня, почему я хочу целый год прожить на Бэк-Ривер, я спонтанно сказала ей, что хотела бы быть принятой в эскимосскую семью, дабы научиться жить, как эскимосы. Я так выразилась отчасти из‐за желания – ошибочного, как я сейчас думаю, – скрыть от нее, что я собиралась «изучать» эскимосов. Я стеснялась научно-аналитического аспекта своего предприятия, думая, что Икаюктук оно покажется подглядыванием за людьми377.
Итогом пребывания Джин Бриггс в семье Инуттиака стала первая антропологическая монография об эмоциях, содержавшая неопровержимые доказательства культурной контингентности выражения чувств – именно выражения, а не самих чувств, потому что книга «Никогда не злиться» еще не была социально-конструктивистским исследованием. Название вводит в заблуждение, поскольку в книге Бриггс неоднократно подчеркивает, что в действительности утку злились, просто они умели подавлять злость. Например, Раигили на самом деле терпеть не могла свою деспотичную младшую сестру Саарак, но показывать это было нельзя, и потому негативные чувства регулярно давали о себе знать ночными кошмарами378. Тему своей книги сама Бриггс лаконично резюмировала следующим образом: в монографии идет речь о том, «как чувства – и добрые, и злые – канализируются и демонстрируются, и о том, как люди пытаются направлять и контролировать неподобающее выражение таких чувств в себе и в других»379.
Эмоции «hypercognized» и «hypocognized»
Роберт Леви (1924–2003), еще один пионер антропологии эмоций, так же как и Бриггс, не считал, что чувства являются продуктом культуры. Объединяет его с Бриггс и тот факт, что эмоцией, стоявшей в центре его интереса, тоже была ярость. Правда, его полевые исследования проходили в более теплых краях – на Таити, острове, известном нам сегодня по многочисленным запискам путешественников XVIII века (см. выше). Для восприятия таитян на Западе было с самого начала типично убеждение, что они не скрывают «естественных чувств», особенно любви, и на этом был основан миф о сексуальной свободе, царящей на острове. Миф этот поддерживали «первооткрыватели», такие как Луи-Антуан де Бугенвиль (1729–1811), который посетил Таити в 1767 году, и художники, такие как Поль Гоген (1848–1903), который жил на острове с 1890‐х годов до своей смерти. Кульминационной точкой в карьере этого мифа были работы Маргарет Мид, написанные в 1960‐е годы, во время сексуальной революции380.
Леви проводил исследования на Таити в начале 1960‐х годов. Он поделил эмоции на социально значимые (hypercognized) и социально незначимые (hypocognized). Это не означает, что вторых никто не чувствовал; Леви считал, что чувства универсальны, просто различается важность тех или иных чувств от коллектива к коллективу. Вопрос о том, какой вес придается каждой конкретной эмоции в разных социальных группах – от семьи до общества, – имеет важнейшее значение для исторической науки. Можно пойти еще дальше и утверждать, что даже вопрос о том, подчеркивались ли как-то особо эмоции в тот или иной исторический период, является важным историческим вопросом. Возможно, когда-нибудь в будущем историки констатируют, что в наше время слова «эмоции» и «эмоциональный» весьма распространены в западноевропейских и североамериканских обществах и почти вытеснили в языке повседневности, рекламы, политики и спорта такие близкие по значению слова, как «психология», «психологический» или «моральный», широко употреблявшиеся в 1980‐х. Сегодня, когда кто-то открывает стрельбу в школе, родственникам погибших приходится «эмоционально» – а не «морально» или «психологически», как сказали бы еще двадцать лет назад, – справляться с утратой близких. О команде, выигравшей баскетбольный турнир, говорят, что она «эмоционально» правильно настроилась, а не была «морально на высоте» или «психологически собранной». Сегодня даже пылесос продается под названием «Emotion»381. C чем связан этот сдвиг от «морального» и «психологического» к «эмоциональному»? Какие эмоции в ту или иную историческую эпоху и в тех или иных обстоятельствах могут считаться «hypercognized»? Этот вопрос требует исторического анализа.
Бриггс, наверное, применительно к утку назвала бы злость «hypercognized». Во всяком случае, к этой категории Леви отнес «riri» – злость в понимании таитян. Правда, у них правила поведения предписывали не контролировать эмоции, а, наоборот, как можно скорее «вывести» злость из тела человека (вербальными средствами), если она вообще возникала, а это было большой редкостью в силу того, что Леви описывает как «всеобщую и ценимую в культуре боязливость»382. Как рассказал ему его информант Тавана, «таитяне говорят, что разгневанный человек – как бутылка: когда он переполняется, [злость] начинает выливаться наружу». Подавленная злость «приносит вред телу, от нее что-нибудь нехорошее сделается с головой или с сердцем. Бывало, что люди от злости умирали»383. В том же духе ответил таитянин Оро на вопрос, как надо себя вести, когда чувствуешь злость: «Если ты на человека злишься, не откладывай, пойди к нему и поговори с ним и покончи с этим, тогда все между вами снова будет хорошо»384. Таитянка Флора добавила, что от подавленной злости седеют волосы. И наконец, таитянка Веве описала санкции, которые напоминают социальный контроль в традиционных сельских сообществах Запада: «Если кто-то на меня злится, а мне не скажет, он пойдет и расскажет об этом кому-нибудь еще. Он будет обо мне сплетничать и наговорит лишнего, и тогда беда будет во всей деревне»385.
Вместе с тем Леви обнаружил на Таити и такое обращение с чувствами, которое очень сильно отличалось от европейского. Одним примером могут служить печаль и якобы общечеловеческий телесный ее признак – слезы. Уже в первых сообщениях путешественников о Таити говорилось о том, как таитяне во время похорон молниеносно переходили от скорби и плача к радости и смеху. Мера демонстрируемой печали, то есть дозировка изъявлений скорби посредством количества проливаемых слез и громкости стенаний, тоже по-иному соотносилась с причиной скорби, нежели это было принято в Европе. И наконец, в одном сообщении путешественника от 1909 года отмечалось: «Странно, что радость от свидания после долгой разлуки […] выражается таким же плачем и такими же слезами, какие бывают при похоронах»386. Самого Леви во время полевой работы в 1960‐х годах до глубины души поразила реакция на смерть жены Таваны: когда антрополог впервые подошел к дому умирающей, он услыхал «громкие, оживленные голоса, шутки и смех». Когда он вошел, ему показалось, что он попал на «семейный праздник», на котором умирающей женщине в углу уделялось мало внимания387. Сама она «не стонала, не кричала, не жаловалась. Она умирала сдержанно, тихо, деловито»388. Незадолго до ее кончины в доме еще смеялись, сразу после было пролито немного слез, но вскоре опять был слышен смех. «Через несколько дней после похорон внуки Таваны начали играть на могиле [бабушки], сидя на бетонной могильной плите, болтая и смеясь, и перекладывали цветы, возложенные на могилу»389. Когда Леви попросил объяснить ему это веселье во время столь печальных событий, как болезнь и смерть любимого человека, он услышал в ответ, что таким образом люди заботились о Таване: благодаря тому, что они – а в идеале и его жена – смеялись, он на мгновение мог подумать, что ее смертельная болезнь отступила.
Огромные различия между таитянами и европейцами Леви обнаружил как в выражении чувств, так и в локализации их в человеческом теле. Это подводит нас к ключевой проблеме, о которой уже заходила речь во введении и к которой мы еще неоднократно будем возвращаться. Собеседники антрополога сообщали ему, что злость, желание и страх – или их таитянские эквиваленты – имеют место в ā’au, то есть в кишках. Некоторые утверждали, что эти эмоции «входят в сердце». Леви объяснил это «отчасти тем, что такое расположение эмоций указано в Библии, но, возможно, и тем, что так воспринимаются непосредственные эмоциональные реакции в груди и в животе»390.
Леви заметил, кроме этого, что в таитянском языке нет эквивалентов для некоторых слов западных языков, обозначающих чувства, и вообще нет обобщающего понятия для «аффекта», «страсти», «чувства» или «эмоции»391. Об этом отсутствии метаязыка для эмоций мы тоже еще будем говорить. Пока же отметим, что в случае Роберта Леви мы имеем дело с антропологией эмоций до социального конструктивизма. Если у Джин Бриггс уже отмечались его элементы avant la lettre, то у Леви еще ничего подобного нет. Вместо этого мы встречаем порой высказывания, которые сегодня вызвали бы обвинения в этноцентризме: так, по словам Леви, индивидуальные психические расстройства – «депрессии» – знакомы таитянам точно так же, как и нам, только «они скрывают их за сверхъестественными объяснениями», призывая на помощь знахарей. Что же касается пресловутых ранних и беспорядочных сексуальных контактов таитян, их «медленного и зачастую длительного привыкания к браку», то, по мнению Леви, в этом отражались «страх быть привязанным к домохозяйству, страх перед близкими отношениями, страх расстаться со свободой»; и наконец, он считал, что «люди […] часто говорят, что опасаются возможных телесных повреждений со стороны других людей в таких ситуациях, где эти опасения не кажутся объективно обоснованными»392.
5. Лингвистический поворот и социальный конструктивизм
Основной вывод антропологии эмоций 1970‐х годов можно сформулировать в одной фразе: эмоции в основе своей одинаковы, но выражаются по-разному в разных культурах. Между тем именно тогда в гуманитарных и социальных науках началась смена теоретической парадигмы, приведшая к тому, что в 1980‐е годы появились варианты антропологии эмоций, которые постулировали не только различие в выражении чувств, но и вообще радикальную разницу в эмоциональном аппарате у людей разных культур.
Эта смена парадигмы была не что иное, как «лингвистический поворот» – «linguistic turn», он же «cultural turn», победа постструктурализма, вступление в «состояние постмодерна», как выразился в 1979 году Жан-Франсуа Лиотар (1924–1998); как бы его ни называть, это связанный с именами теоретиков культуры Мишеля Фуко и Жака Деррида процесс, в ходе которого были поставлены под вопрос Просвещение, научная истина и объективность, главные повествования о прогрессе, незыблемые взаимоотношения между знаком и значением, фундаментальные категории, такие как пол и этническая принадлежность, четкие различия между высокой и народной культурой; это была новая эстетика цитат в архитектуре, языковых игр в науке и в художественной литературе393. «Телосы» в гегельянском или марксистском смысле, романы, фильмы или исторические книги с линейно выстроенным повествованием, строгость архитектурного модернизма в стиле Баухауса, утопические проекты переустройства общества – все это на протяжении десятилетия подвергалось игривому, веселому, беззаботному, ироничному разрушению и расковыриванию, а потом объявлено ржавым старьем и отправлено на свалку истории. Применительно к эмоциям антрополог Кэтрин А. Латц в 1988 году сформулировала новую позицию так: «Эмоциональный опыт является не докультурным, а прежде всего культурным»394. Тот факт, что данное утверждение принадлежит антропологу, а не какому-нибудь теоретику постструктурализма, сам по себе знаменателен: ведь показать радикальную контингентность было удобнее всего именно на примере эмоций, которые в то время принято было считать чем-то в высшей степени доязыковым, телесным и культурно универсальным. Возможно, давняя вера в природность эмоций связана с тем, что атаки постструктуралистов были направлены преимущественно против просвещенческой концепции ratio, а другая половина этой (влиятельной и по сей день) бинарной оппозиции, emotio, оставалась в тени.
Охота за головами ради «облегчения души»
Десятилетие социального конструктивизма в антропологии эмоций началось с публикации книги «Знание и страсть: илонготские понятия о самости и о социальной жизни» (1980) Мишели З. Розалдо (1944–1981). Вместе с мужем, антропологом Ренато Розалдо (*1941), Мишель в конце 1960‐х и начале 1970‐х годов проводила полевые исследования среди илонготов – народности, насчитывавшей тогда примерно 3500 человек и жившей в лесах на севере Филиппин на территории примерно 1500 кв. км. Илонготы – земледельцы и охотники – обитали в больших домах, внутри каждого из которых единое пространство делили между собой от одной до трех нуклеарных семей, состоявших из мужа, жены и их детей. На протяжении ХХ века этот народ подвергся неоднократным воздействиям извне; в числе наиболее значительных были японская оккупация во время Второй мировой войны, обращение в фундаменталистское христианство, осуществленное в 1960–1970‐х годах американскими миссионерами, а начиная с 1972 года – попытки военной диктатуры Фердинанда Маркоса распространить свое влияние и на коренные народы филиппинских островов.
Супруги Розалдо ехали к илонготам с намерением наблюдать, как те «по вечерам рассказывают мифы, строят подробные планы ритуальных праздников или в повседневной жизни интересуются подробностями древних мудростей», – так, во всяком случае, описывала это впоследствии Мишель Розалдо, демонстрируя изрядную долю самоиронии395. Вместо мифов, обрядов и древней мудрости Розалдо обнаружили культуру, в которой эмоции занимали особое место, и прежде всего – в связи с одной практикой, известной из записок путешественников былых эпох и даже упоминавшейся в дневнике одного антрополога начала ХХ века, но, как считалось, вымершей: это была охота за человеческими головами. О ней интервьюируемые рассказали исследователям лишь после того, как получше с ними познакомились, и то было видно, что при рассказе они очень волновались. О том, что происходило на самом деле во время охоты за головами, Мишель З. Розалдо написала так:
Человек (это всегда мужчина) решает идти убивать, разговаривает с родичами и планирует набег потому, что сердце его «тяжелое». Хотя он может надеяться, что убитые им люди будут принадлежать к определенным родственным группам или населенным пунктам, на самом деле ему безразлична личность жертв, и он не ограничивает насилие лицами своего возраста или пола. Им движет скорбь об утраченных родственниках, зависть по поводу былых обезглавливаний, злость на оскорбление, намерение отомстить; он и его товарищи стремятся, в первую очередь, реализовать свое liget. Все ощущают тяжесть, которая «сосредоточена» и усиливается по мере того, как они идут, медленно и тихо, бессонными ночами, скудно питаясь, через неизведанные участки леса, к засаде, место которой в общих чертах определяют заранее. Они идут, тщательно соблюдая осторожность и тишину, говорят только шепотом и играя на тростниковых флейтах, чтобы распалить свои сердца. Приблизившись к месту засады, они бьют себя по голове, чтобы усилить liget; их зрение затуманивается и сосредоточивается на будущей жертве; их глаза наливаются кровью. После выстрелов участники похода поспешат к своим раненым и убитым жертвам, дико размахивая ножами. Мужчинам, на чей счет будет записано обезглавливание, нет нужды самим убивать жертв или даже отрезать им головы: достаточно просто держать голову в то время, как ее отделяют от тела, и «бросить» ее на землю: так каждый убийца избавится от тяжести. Совершив это, они испускают победоносный крик, и другие тоже бросают головы и кричат. Если до этого момента они были напряжены, целеустремленны и осторожны, то теперь радостные победители бросят как отрубленные головы, так и тела. Очистившись от насилия, они будут искать цветущие камыши, чтобы воткнуть их себе, как перья, обозначающие легкость, и душистые листья, чей аромат напоминает о жизнях, украденных ими. Найдя их, они поспешат домой396.
Во время первой поездки Розалдо к илонготам охота за головами случалась, очевидно, крайне редко: ей препятствовали и христианизация, и контроль со стороны военных властей. Однако проведенный антропологами в 1968 году опрос показал, что 65 из 70 мужчин старше двадцати лет в какой-то момент своей жизни убили кого-нибудь и отрезали ему голову397. Скоро Розалдо заподозрила, что ключ к этой практике был – в противоположность тому, что гласили расхожие антропологические теории, – не в символическом, мифологическом или ритуальном ее оформлении как «ритуала перехода»: важнее было то объяснение, которое давали ей сами охотники, говорившие, что, когда они отрезают голову, их «тяжелое сердце становится легче». Дело, таким образом, было в чувствах, как их понимали илонготы. Розалдо пишет:
Илонготы говорили, что мужчины ходили на охоту за головами из‐за своих эмоций. Не боги, а «тяжелые» чувства вызывали в мужчинах желание убивать; добывая головы, они надеялись «сбросить» ту «злость», что «висела грузом» и сдавливала их опечаленные «сердца»398.
Итак, Розалдо выдвинули на первый план взгляд изнутри, а не извне, эмический, а не этический, и спрашивали не о том, какую космологию выражал этот «язык» (langue du coeur), а о том, какой смысл его понятия имели для культуры илонготов:
В то время как другие антропологи склонны были двигаться в работе «снаружи внутрь», сначала описывая паттерны социального мира, а затем спрашивая, каким образом индивиды «социализируются» так, чтобы работать и жить в нем, я решил, что мы больше узнаем, если начнем с другого полюса аналитической диалектики и зададимся вопросом о том, как личная и аффективная жизнь, которая сама по себе «социально сконструирована», актуализируется в социальном действии и определяет его формы на протяжении долгого времени. Для этого понадобилось провести исследование илонготских слов, касающихся сердца и мотиваций – особенно слов, обозначающих «энергию/злость/страсть» и благовоспитанность, или «знание», – и вместе с тем выяснить, что аборигены думают о лицах, отношениях и событиях, к которым такие слова в типичных случаях применяются399.
Что происходило в «сердцах» (rinawa) илонготов? Вскоре стало ясно, что «страсть», или «энергия» (liget), и «знание» (bēya) – это ключевые понятия, находившиеся в диалектическом отношении друг с другом. Liget было выражением мужской автономии, которую до первого полового акта и вступления в моногамные отношения нужно было и реализовать на практике, и усмирить400. Охота за головами была ритуальной практикой, а возможно и средством, позволявшим это сделать. После того как мужчина вступал в отношения, подобные брачным, он переставал ходить за головами, и bēya в его сердце держала liget в узде. Таким образом, перед нами эмоционально-ритуальное описание – и одновременно поддержка – социальных институтов (брака) и иерархий (молодой/старый, мужчина/женщина).
Когда во время второй поездки к илонготам в 1970‐х годах Розалдо давал им послушать магнитофонные записи песен, связанных с охотой за головами, они грустнели и даже раздражались и не желали слушать дальше. Дело в том, что большинство из них к тому времени перешли в христианство и полностью отказались от обычая резать головы. Песни же вызывали у них «ностальгию» по этой практике – точнее, они трогали их сердца и порождали дурную энергию liget, которую теперь уже нельзя было канализировать и направить на некую цель с помощью охоты за головами401. Подобного же рода liget возникала, когда молодой неженатый человек, который никогда не ходил за головами, видел у другого молодого человека серьги, относящиеся к такой охоте. От этого тоже сердце становилось «тяжелым», «смущенным», «больным», «натужным» и «зажатым». В идеале же сердце человека «невесомо» и «трепещет» на ветру, как стебли высоких растений. Охота за головами «облегчала» сердце того, кто в ней участвовал:
[…] для охотника за головами есть радость в том, чтобы «сбросить» свое бремя; не убийство или месть, а потеря тяжести, которую он ощущает, отрезая человеческую голову и бросая ее на землю, разгоняет облака и дает новую жизнь его сердцу402.
Мишель Розалдо показала, что эмоции имели центральное значение для конструкции «Я» у илонготов. По их представлениям, эмоциональные категории, особенно liget и bēya, напрямую зависят от внешних событий, таких как замеченное во время охоты животное, увиденные серьги охотника за головами, услышанная песня, связанная с охотой за головами. У илонготов не было никакой контрольной инстанции, рассматриваемой как внутренне-психическая, будь то «совесть» или «разум»; эмоции как бы сами себя обусловливали: можно сказать, liget и bēya были включены в сердце в саморегулирующуюся экосистему. Это были не «эмоции», как мы их понимаем, а скорее «движения сердца» (motions of the heart)403. Соответственно, они не были привязаны к объекту, а обладали собственной языковой дееспособностью:
В историях [которые илонготы рассказывают друг другу] сердце не желает, не размышляет и никаким иным образом не противопоставляет себя внешним событиям. Рассказчик комментирует: «Мое сердце сказало „стреляй в него“, и я выстрелил в него»; «Мое сердце сказало „он идет“, и он пришел»404.
Это необычное конструирование «Я» из взаимодействия liget и bēya – прекрасный пример, показывающий, что «Я» и его отношение к обществу не есть данность, а есть нечто создаваемое. Категория «Я», или субъектности, то есть того, что значит быть личностью, как известно, есть одна из главных, если не самая главная категория всей постструктуралистской теории. Демонстрация историчности и пластичности «Я» была основной целью Фуко и иже с ним. Если бы надо было назвать одну-единственную категорию высшего уровня, которой озабочена социально-конструктивистская антропология эмоций, то это была бы категория «Я».
Кроме того, пример илонготов опровергает западные представления, будто особенно сильны эмоции у женщин. Поскольку мужчины этого народа были подчинены диалектике liget и bēya, они обнаруживали принципиально более интенсивные, сильные, бурные чувства, нежели женщины405. На Западе же, напротив, «эмоциональны» женщины, они отвечают за сильные чувства.
Стихи вместо слез как способ выражения подлинных чувств
О том, в какой мере социально-конструктивистская антропология эмоций учитывает гендерный аспект, можно судить, в частности, по исследованиям Лилы Абу-Луход (*1952). Она – вероятно, единственный занимающийся чувствами антрополог и вообще одна из немногих женщин в этой профессии, кого ввел в изучаемую группу ее собственный отец. Лила Абу-Луход – выросшая в Америке и преподающая там дочь Ибрагима Абу-Лухода (1929–2001), который, наряду с Эдвардом Саидом, был одним из самых известных палестино-американских интеллектуалов. В октябре 1978 года Лила прибыла в Каир, чтобы оттуда отправиться к авлад’али – бедуинскому племени, живущему в пустыне на западе Египта, недалеко от ливийской границы. Ее отец настоял на том, чтобы лично представить бедуинам свою дочь, потому что прекрасно знал, что в традиционном мусульманском арабском сообществе протекция отца имеет жизненно важное значение для социального (а в данном случае и научного) успеха незамужней дочери. В тот момент Лила чувствовала себя «немного неловко» из‐за того, что договоренности, касавшиеся ее, заключал кто-то другой. Однако позже, оглядываясь назад, она была благодарна отцу за эту инициативу, потому что если бы она приехала без него,
такие консервативные люди, как бедуины, для которых принадлежность к племени и семье имеет первостепенное значение, а образование для девочек – это что-то новое, подумали бы, что женщина, путешествующая в одиночку, наверное, заставила свою семью, особенно родственников-мужчин, отвернуться от себя, так что они больше и не заботились о ней406.
Подобное восприятие, однако, было возможно только потому, что эту женщину рассматривали как «местную», как бедуинку. Как это было возможно? Дело в том, что авлад’али считали «своими» всех неегиптян, если только они были мусульманами и арабами. Благодаря этому Лила Абу-Луход, у которой мать была американка – социолог Дженет Липпман Абу-Луход (1928–2013) – и которая была воспитана в светском духе, едва говорила по-арабски, только ребенком прожила четыре года в Египте, а потом летние каникулы проводила у родни в Иордании, имела больше шансов быть принятой бедуинами как «своя», чем какой-нибудь египтянин из Каира. Это сочетание близости и дистанции продолжает занимать Лилу Абу-Луход, и она написала влиятельную статью, посвященную полевой работе «полукровок» (halfie), то есть антропологов, которые, как она сама, являются для информантов в поле одновременно и «своими», и «другими»407.
В Александрии Ибрагим Абу-Луход договорился о встрече с жившими в пустыне бедуинами и рассказал им о намерениях своей дочери, а именно: усовершенствовать свои познания в арабском языке и познакомиться с жизнью бедуинов; для этой цели, сказал отец, девушка ищет семью, в которой она могла бы жить. Услышав это, старейшина племени предложил, чтобы она жила в его собственной семье. Подобно Джин Бриггс (чью книгу о жизни у утку она читала), Лила переехала в роли «удочеренной» в дом старейшины. Это позволило ей многое увидеть «изнутри», но вместе с тем значительно ограничило ее свободу передвижения. Бедуины жили патрилинейными семьями, в которых первоочередное право на вступление в брак с девушкой имел ее двоюродный брат (точнее, старший сын дяди). При разводе детей оставляли с родственниками-мужчинами, и Абу-Луход рассказывала впоследствии о пятилетнем мальчике, который, после того как его родители развелись, сначала рос у матери, а потом дед по отцовской линии забрал его обратно в ту семью, где ему полагалось жить по закону, то есть в семью отца:
Несмотря на то что мальчик никогда не видел его раньше, он сбегал за своей одеждой, после чего взял деда за руку и ушел с ним, едва оглянувшись. Его мать была убита горем. Мужчины, которые слышали эту историю, кивали головами и, казалось, ничуть не были удивлены408.
После Второй мировой войны авлад’али отошли от кочевого образа жизни, стали жить не в палатках, а в простых домах. Вместо натурального овцеводческого хозяйства, служившего лишь поддержанию жизни, они все больше занимались контрабандой, которая процветала в западной части Египта, поблизости от ливийской границы и вдалеке от столицы и каких бы то ни было органов государственной власти. Переход к оседлому образу жизни сопровождался еще большей сегрегацией между мужчинами и женщинами: раньше, в кочевой период, женщины еще могли хотя бы относительно свободно перемещаться между палатками своих семей, а теперь возрос риск того, что они по пути от одного дома к другому повстречают мужчину, не приходящегося им родственником или даже вообще незнакомого. Это привело к тому, что их свободу передвижения стали еще сильнее ограничивать, а лица – еще плотнее закрывать. Вместе с тем мужчины, которые стали богаче, могли теперь позволить себе иметь больше жен, и это тоже сказывалось на эмоциональной экономике семей409.
Исследовательский интерес Лилы Абу-Луход изначально не был связан с эмоциями, но эта тема приобрела для нее центральное значение после того, как она очутилась в изолированном женском мире своей новой семьи410. Там пели ghinnāwas – арабские «песенки», по большей части импровизированные, иногда исполнявшиеся в виде быстрого, как пинг-понг, диалога. По форме они напоминали японские хайку, но по эмоциональному содержанию – скорее американские блюзы. Важнейшее значение для успешности их исполнения имели голос и интонация: хорошие ghinnāwas должны были, помимо всего прочего, заставлять других присутствующих женщин почувствовать то же, что и исполнительница. Несмотря на жесткие каноны жанра и конвенциональный характер, устная литература ghinnāwas была фактически тем жанром, в котором женщины племени авлад’али могли выражать свои чувства. Эмоционально окрашенные словесные высказывания обычно вызывали у бедуинов подозрение в неаутентичности; поэтому от них и не ожидалось, что они будут логичными и согласованными, они могли быть абсолютно противоречивы. Ghinnāwas же представляли собой «поэзию личной жизни»; в них речь шла о грусти, о любовных терзаниях, о симпатии, о ревности ко второй жене мужа, о тоске по мужу, полностью увлеченному третьей женой, о любви не к тому, кому женщина суждена по сговору родителей, а к другому мужчине. Одним словом, ghinnāwas служили окном в ’agl: этим словом бедуины называют свое «Я», сердце, сознание, дух или душу (без религиозных коннотаций)411.
В этом контексте наиболее странным для глаз – а лучше сказать для «ушей» – западного человека является то, что идеальным, «правдивым» языком чувств служили не телесные признаки (считающиеся однозначными) и не формализованный язык, а литературный жанр, в котором даже при господстве импровизационного «вольного стиля» продолжали действовать железные правила. Ghinnāwas были главной гарантией подлинности чувств – это Абу-Луход поняла, когда услышала стихи женщины, то ли питавшей антипатию к своему мужу, за которого ее насильно отдали замуж, то ли нет. Когда заподозрившая неладное семья мужа пристала с расспросами к Лиле Абу-Луход, она нарушила свое обещание никогда не передавать мужчинам услышанные «песенки» и рассказала деверю той женщины о ее ghinnāwas. Тот раньше думал, что она просто водит его брата за нос и изображает неприязнь только ради того, чтобы заставить мужа дарить ей подарки и тем самым поправить ее материальное положение. Однако, услышав о стихах, он изменил свое мнение. А сама женщина призналась Лиле, что любит другого мужчину – из враждебной семьи и даже из другого племени, – лишь после того, как антрополог напомнила ей о ее ghinnāwas412.
Социальный контекст, в котором пели ghinnāwas, имел решающее значение. Он позволял делать обобщающие утверждения об отношениях между полами, о социальной иерархии и об эмоциях авлад’али. Дело в том, что для мужчин публичная сфера регулировалась жестким кодексом чести: гордые, непобедимые, независимые мужчины-бедуины, обладавшие высокой степенью эмоционального и телесного самоконтроля, в основном держались отдельно от женщин, а когда им доводилось встретиться, поведение бедуинок регулировалось не менее жестким кодексом стыда, hasham. Это слово, буквально значащее приблизительно «стыдливость», «застенчивость», обозначает честь слабых. Hasham теснейшим образом связан с закрыванием лица. В конечном счете hasham означал боязнь подпасть под власть кого-то вышестоящего, тем самым подрывая идеал автономии и свободы413. Кодекс hasham не позволял женщинам публично, а уж тем более в присутствии мужчин, говорить об истинной, идеальной любви (вместо любви в браке по сговору) и о ревности к другим женам супруга.
Вот один пример: когда Мабрука, которая уже 16 лет была женой Рашида и матерью его шестерых детей, узнала, что он собирается взять вторую жену, она не подала виду, что это ее волнует, и сказала лишь: «Пускай женится, мне все равно. Но пусть покупает мне красивые вещи. От него никогда не было никакого проку. Настоящий мужчина заботится о своей семье, следит за тем, чтобы у нее было всё, что нужно»414. Даже когда ее муж провел с новой женой более положенных традицией семи дней после свадьбы, Мабрука отреагировала со стоическим спокойствием и даже безразличием. На десятый день после второй свадьбы Рашид наконец снова заявился к ней и принес с базара продукты. Мабрука только посетовала, что кое-что он забыл купить. Тогда Рашид взял ружье и пошел на охоту, а Мабрука сказала Лиле, которая как раз была у нее в гостях: «Мы уже сто лет его не видали». Абу-Луход сочувственно спросила ее, скучает ли она по мужу, и получила резкий ответ: «Да нисколько. Думаешь, он для меня что-нибудь значит? Я о нем и не спрашиваю. Он может приходить и уходить, как ему заблагорассудится»415. Вскоре после этого она стала читать исполненные чувств стихи, в которых говорилось о печали и разочаровании:
- Всегда меня бросали,
- Кормили пустыми обещаниями…
- dīmā khallō l-‘agl
- ‘āmrāt bimwā‘īdhum416.
Означает ли это, что Мабрука лгала своей семье и Лиле Абу-Луход, или обманывала их, а в стихах сказала правду о своих чувствах? Вовсе нет, утверждала антрополог. Такая циничная интерпретация была бы равнозначна концепции Ирвинга Гоффмана, согласно которой люди в общении друг с другом, на публичной сцене, носят маски и только за кулисами, в приватной сфере могут показать свои истинные лица, свое подлинное «Я»417. Необходимо, считала Лила Абу-Луход, отбросить западную химеру «подлинного „Я“» и признать равную степень аутентичности за обоими дискурсами (здесь Абу-Луход ссылалась на Фуко) – женским публичным и женским сокровенным, выраженным в стихах, произнесенных за закрытыми дверями418. В свете этого, она отвергла бы и приведенное выше утверждение, что эмоционально окрашенные словесные высказывания обычно вызывали у бедуинов подозрение в неаутентичности.
Абу-Луход признавала, что поэзия ghinnāwas формально-эстетически особенно подходит для артикуляции чувств, которые не могут быть вербально выражены в рамках кодекса hasham: эти стихи сочетают в себе формализацию и импровизацию, что создает многозначность и пространство для выражения эмоций. Всегда можно спрятаться за поэтической формой и утверждать, что пришлось втискиваться в прокрустово ложе жанра, просто поддерживая традицию. Ведь ghinnāwas – это древняя художественная форма, она в коллективной памяти авлад’али ассоциируется cо славными временами, которые были до того, как египетское государство начало протягивать щупальца в Западную пустыню и осуществлять там догоняющую модернизацию419.
Апогей социального конструктивизма
Когда говорят о социально-конструктивистской антропологии эмоций, наряду с именем Лилы Абу-Луход, а чаще даже до него, упоминается имя Кэтрин А. Латц (*1952)420. В 1977 году Латц отправилась проводить полевые исследования на атолл Ифалик в юго-западной части Тихого океана. Атолл этот, состоящий из двух островов, общая площадь которых всего 1,3 кв. км, был «открыт» британцами в 1797 году и до конца Второй мировой войны принадлежал Японии. В 1945 году он был превращен в «территорию под стратегической опекой» США. В то время, когда там проводила свои исследования Латц, 430 жителей Ифалика обитали в общих хижинах с соломенными крышами, в среднем по 13 человек в каждой421. Как и другие рассмотренные нами книги по этнологии эмоций, монография Латц отличается высоким уровнем саморефлексии и не скрывает зависимости взгляда автора от собственной культурной принадлежности: Латц ставит читателя в известность, что она искала такую культуру, где чувства не ассоциировались бы автоматически с женственностью. Подобная ассоциация представляла собой западный стереотип, с которым исследовательница неоднократно сталкивались в 1970‐х годах, несмотря на то что в американских университетах появлялось все больше женщин на профессорских и руководящих должностях. В то же время Латц подчеркивала, что от практиковавшейся на Ифалике матрилокальной системы, при которой семьи живут в доме родителей жены или в непосредственной близости от него, она ожидала большего гендерного равенства и, соответственно, меньшей гендерной специфичности эмоций. Кроме того, она не скрывала, что ее романтическое представление о южной части Тихого океана как о месте, где существует «лучшее», более мирное общество, сформировалось под влиянием Поля Гогена422.
В книге Кэтрин Латц содержится манифест социально-конструктивистского подхода, более яркий, чем все, что было до и после нее. Вот ее первые фразы:
На первый взгляд может показаться, что нет ничего более природного и, следовательно, менее культурного, чем эмоции; ничего более приватного и, следовательно, менее открытого для взора социума; ничего более зачаточного и менее совместимого с логосом общественных наук. Однако подобные представления можно рассматривать как элементы культурного дискурса, чьи традиционные предположения о человеческой природе и чьи дуализмы – тела и сознания, публичного и приватного, сущности и внешности, иррациональности и мысли – конституируют то, что мы принимаем за самоочевидную природу эмоций.
Соответственно, одной из целей Латц было
деконструировать эмоции, показать, что использование этого термина в нашем бытовом и социологическом речевом обиходе опирается на сеть зачастую неявных ассоциаций, которые придают силу тем высказываниям, в которых используется данное понятие423.
Но помимо этого, Латц стремилась добиться еще и того, чтобы в западных культурах больше внимания уделялось эмоциям и женщинам:
Такие слова, как «зависть», «любовь» и «страх», использует всякий, кто заговорит о «Я», о приватной сфере, о том, что наполнено ярким смыслом, или о невыразимом; они используются и для того, чтобы говорить об обесцененных аспектах этого мира – об иррациональном, о неконтролируемом, об уязвимом и о женском424.
В конечном счете целью Латц было «рассмотреть эмоции как идеологическую практику, а не как вещи, которые надо обнаружить, или как сущность, которую надо вычленить»425.
Деконструкция и деэссенциализация, по мнению Латц, позволяют увидеть в неискаженной форме местные эмоциональные конструкции. У жителей атолла Ифалик, по ее словам, они были скорее интерсубъективными (а не индивидуальными, как на Западе); скорее внешними (а не внутрителесными, порой с соматическими симптомами); и они демонстрировали социальный статус человека, а не его внутренние состояния. Латц выдвинула тезис:
[…] эмоциональный опыт является не докультурным, а прежде всего культурным. Господствующее предположение, что эмоции одинаковы в разных культурах, заменяется здесь вопросом о том, как один культурный дискурс об эмоциях можно переводить в другой426.
Это фокусирование внимания на переводе отличает ее проект от герменевтического подхода Клиффорда Гирца, который, как писала Латц, в конечном счете все же задавался вопросом «что они чувствуют?»427. Однако «перевод» она понимала не семантически и не референциально, а прагматически и перформативно: ей важно было не сравнивать друг с другом значения слов, обозначающих чувства, а изучать встроенные в человеческую деятельность знаки эмоций, причем как вербальные, так и невербальные (жесты, мимика, телодвижения и т. д.).
Возьмем пример: если рассматривать перевод с точки зрения референций и семантики, то ифаликское слово song означает что-то вроде «оправданного гнева». Но что это говорит нам о людях атолла Ифалик? Почти ничего, потому что практика song не предполагает, например, выхода эмоции наружу, потери контроля, вспышки гнева, – того, что имплицитно заложено в западном понятии «гнев». На Ифалике, где все жили лицом к лицу и обходились без письменного закона, song представлял собой всеобъемлющий культурный регулятив. Тот, кто объявлял, что чувствует song, указывал тем самым и на нарушение моральных норм, допущенное соплеменником, и на свое собственное социальное положение, так как доступ к ресурсам, необходимым для объявления song, был ограниченным и асимметричным: более могущественные члены общества чаще демонстрировали такой гнев, нежели менее могущественные. Но общество Ифалика было кооперативным, поэтому целью являлось не повышение собственного социального статуса и не борьба за распределением социальных ресурсов: вожди, которые выказывали song, по словам Латц, заботились скорее о благе коллектива: они по принципу «части в роли целого» выражали волю всех. В пользу такой интерпретации говорит тот факт, что вожди, как считалось, в максимальной степени обладали и той эмоцией, которая на Ифалике ценилась выше всех: fago – это смесь сочувствия, любви и меланхолии. Короче говоря, вождю подобало быть таким же, как все истинные представители племени, и лишь в несколько большей мере обладать эмоциями, прежде всего fago и только потом song, – когда кто-то другой нарушал табу428.
Находясь на атолле Ифалик, Латц то и дело обнаруживала, что концепции чувств, существовавшие в ее собственной культуре, не универсальны: это проявлялось при встрече с Другим. Как-то раз одна островитянка спросила ее, видала ли она когда-нибудь человека без пальцев ног. Латц рассказала ей о бездомном, которого она видела в Нью-Йорке: у него не было не только пальцев, но и вообще ног, он передвигался на доске с колесиками. «Я бы пожалела (fago) его, если б я его увидела», – сказала женщина; она была в недоумении, даже в ужасе. А другие спросили, где же семья того человека и почему она не заботится о нем429. Примерно так же реагировали жители Ифалика и на голливудские фильмы, которые иногда привозили на атолл американские морские пехотинцы: одна женщина рассказывала, что отворачивалась во время сцен насилия, «потому что очень уж жалко (fago) тех, кого убивают»430.
Кэтрин Латц отправилась в поле, имея в голове «один из вариантов тех обыденных и имплицитных теорий эмоций, которые характерны для моей культуры, класса и гендера, и желая знать, например, как островитяне „на самом деле чувствуют“, в предположении, что их эмоциональная жизнь – по существу дело приватное, что страх и гнев – это чувства, которые надо „превозмогать“, а в любви – публично признаваться»; вернулась же она с двумя моделями эмоций: своей собственной «буржуазной евро-американской» и «этнопсихологической ифаликской»431. В первой из них эмоции амбивалентны: они считаются одновременно и чем-то квазипатологическим, и «местом истинного и восславляемого Я» человека, и чем-то хорошим, и чем-то плохим432. Если чувства рассматривают как нечто плохое, то они называются импульсами (в противоположность интенциям), оценочными суждениями (в противоположность фактам), чем-то детским (а не взрослым), субъективным (а не объективным), идущим от сердца (а не от головы), иррациональным (в противоположность рациональному), хаотическим (в противоположность упорядоченному), связанному с природой (а не с культурой), и ассоциируются с женщинами, с беднотой и с чернокожими. Но среди таковых всегда находится кто-нибудь, кто перевернет знак и использует эмоциональность в позитивном ключе, – например, Партия черных пантер, которая использовала гнев для освободительных политических проектов433. Если же, напротив, чувства считаются чем-то хорошим, то о них говорят, что они полны жизни (в противоположность стерильности и бескровности), индивидуальны и автономны – настолько, что становятся последним прибежищем подлинного, нетронутого «Я»: это проявляется в обиходных выражениях типа «вы себе и представить не можете, что я чувствую»434.
У жителей атолла Ифалик – если верить этнопсихологическому описанию Кэтрин Латц – даже метапонятия были более холистическими: словом nunuwan обозначались ментальные чувства, которые не порождались tip (волей, желанием), не определяли его, а были с ним одно. Nunuwan были реляциональными и интерсубъективными: о них говорили в первом лице множественного (а не единственного) числа, и одна эмоция обусловливала другую. Так, например, song одного человека вызывал metagu (страх) у другого. Nunuwan вызывались социальными интеракциями, а также внешними событиями, причем последние действовали напрямую, минуя глубокую интернализацию. Они были встроены в такое понимание «Я», которое предполагало существование трех сущностей: людей (yaremat), духов (yalus) и католического Бога (тоже yalus или got). Умершие люди, согласно ифаликским представлениям, становятся духами и могут наводить болезни и кошмары435.
Как объясняла Кэтрин Латц эти культурные различия? Как и во всех постструктуралистских работах, акцент у нее – не на причинности, но все же происхождение здоровых, холистических эмоций жителей атолла Ифалик объяснено в книге каузально: такой эмоциональный космос возник, по мнению исследовательницы, благодаря обществу, где все знают друг друга (face-to-face society) и где нет капитализма с его негативными эффектами отчуждения436. Об этом, естественно, можно спорить, равно как и о том, оправданно ли вычленение двух монолитных культурных моделей эмоций – «буржуазной евро-американской» и «этнопсихологической ифаликской». Ведь еще вопрос, насколько эти две эмоциональные культуры нетронуты: как быть с трансферами и взаимными влияниями, которые проявляются уже хотя бы в концепции католического Бога, введенной в ифаликскую культуру? И насколько вневременными являются эти две эмоциональные модели?437 Здесь необходима хронологическая и пространственная дифференциация, которую должна осуществлять историческая наука.
6. Социальный конструктивизм: не только Розалдо, Абу-Луход и Латц
Розалдо, Абу-Луход и Латц в 1980‐е не были одиноки – наоборот, они были представительницами широкого социально-конструктивистского течения в антропологии. В центре его внимания были Океания и Южная Азия – не в последнюю очередь потому, что в Индии еще до нашей эры возникла сложная эстетическая теория, регулировавшая выражение чувств: rasa438. Слово rasa буквально означает «сок», производное от этого значение – «вкус», но точно определить данное понятие чрезвычайно трудно, поэтому в словарях санскрита более тридцати статей на это слово439. Теория rasa относится прежде всего к танцу и театру. C каждым rasa в театре танца связывается определенное выражение лица, но кроме этого есть у него и свой цвет, и свое божество, и лежащая в его основе эмоция (bhava). Самая известная кодификация различных rasa содержится в «Натьяшастре» – произведении, созданном, как полагают, между II веком до н. э. и IV веком н. э.440 Сьюзан Шварц в своем исследовании свела классификацию из Шестой книги «Натьяшастры» в таблицу, представленную на ил. 7.
Ил. 7. Древнеиндийские эмоции согласно теории rasa
Отношение между rasa и bhava обычно описывалось через метафоры еды: rasa «относится к bhava так же, как вино к винограду, сахару и травам, из которых оно состоит и которые растворяются и смешиваются в совершенно новый хмельной напиток»441. Помимо основных bhava (в разных кодификациях их число составляло восемь или больше), существовало более тридцати промежуточных состояний (vjabhitschari bhavа), которые в течение коротких отрезков времени могли сопровождать bhavas и влиять на них. Если посмотреть на фотографии театрального представления и выражений лица, которые связаны с тем или иным rasa (ил. 8 и 9), становится понятно, что мы имеем здесь дело с представлением об эмоциях, в корне отличным от западного. Одно из изображенных на этих иллюстрациях выражений означает страх или панику (bhajanaka), другое – гнев (raudra).
Ил. 8. Выражение лица, соответствующее гневу (raudra-rasa)
Ил. 9. Выражение лица, соответствующее страху или панике (bhajanaka-rasa)
Вероятно, лишь немногие догадаются, что человек на ил. 8 делает гневное лицо, а человек на ил. 9 – испуганное или паническое. Конечно, теперь трудно выяснить, насколько распространенной и влиятельной была теория rasa и какое воздействие она оказывала на повседневную эмоциональную жизнь людей в Индии, однако представляется невероятным, чтобы эти эстетические эмоции возникли безо всякой связи с обыденной реальностью. Меж тем – скажем, забегая несколько вперед, – выражения лица на обеих фотографиях фундаментально отличаются от якобы универсальных и надысторичных базовых эмоций, как они описаны у Сильвана Томкинса или Пола Экмана (см. след. главу)442
