Читать онлайн Родом из детства бесплатно
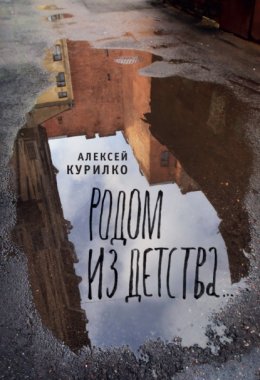
© А. Л. Курилко, 2016
© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2016
* * *
Ниже падать некуда
1
(Ноябрь. Среда. Ресторан «Бульвар»)
Представьте себе такую картину: свора кровожадных гиен пирует и беснуется вокруг здоровенной туши, а неподалёку дрожит их раненый товарищ (если, конечно, у гиен существует товарищество). Так вот, я чувствовал себя этой самой раненой, забытой, брошенной своими гиеной.
Я сидел в дорогом кабаке. Вокруг веселилась шумная компания. Мне было тошно. Тихий и униженный, я искоса поглядывал на гулявшую компанию, что витийствовала на полную катушку.
Пел шансонье (ну или как там сейчас называют этих людей, поющих в ресторанах). Женщины плясали, пьяно подпевая певцу. Мужчины разделились на две группы: одни о чём-то горячо спорили за столом, другие неумело принимали участие в танце.
Весело им. А тут хоть в петлю лезь. Гниль какая-то на душе, а в горле ком. И плакать хочется, но стыдно плакать в моём возрасте, люди кругом…
Прошла неделя с того дня, как я спрыгнул с третьего этажа для того, чтобы купить бутылку водки… Она манила меня, она меня звала… Я задыхался от жажды… А сердце то билось как припадочное, то вдруг на несколько мгновений замирало… И тревога переходила в панику. В общем, другого выхода, как сигануть с балкона вниз, у меня не было.
Слава Богу, ничего не сломал. Ногу вывихнул и бедро ушиб. И только.
Интересно, что вспоминать о падении мне куда страшнее, чем было в момент самого прыжка.
Ладно, всё это в прошлом.
Сейчас передо мной на столике стоял мой нехитрый заказ: сто грамм водки и чашка чёрного чая. Моя сегодняшняя доза.
Позавчера я решил остановиться. В тот день я выпил всего четыреста грамм. Вчера – двести грамм: сто утром, сто вечером. Сегодня я мучился целый день и наконец ближе к вечеру явился сюда, чтобы выпить вот эту самую соточку.
Не осуждайте меня, люди. Я бесспорно болен. («Я болен – вот беда-то какая! Я болен – вот какая беда».) Да, болен. И не отрицаю этого. Но разве я один такой? Болезнь древняя и общенациональная.
Помните, Карамзин (а может, Герцен?) приехал на Запад, за границу, и его спросили о России, какая, мол, ситуация, опишите, мол, нынешнюю обстановку, буквально в двух словах. Но тому для ответа хватило всего одного слова:
– Воруют.
А я бы всё-таки ещё добавил:
– И пьют.
Годы проходят. Столетия. Ничего не меняется в отечестве моём. Воруют и пьют. Пьют и воруют.
А почему пьют? Да чёрт его знает! По-разному. И в горе пьют, и в радости…
Я опрокинул в себя пятьдесят грамм обжигающего всё израненное нутро пойла. Запил остывшим чаем и закурил. Уже через минуту-две стало чуть полегче.
Взял одну из бумажных салфеток, разгладил её, вытянул из кармана ручку с золотым пером – мою гордость – и задумался…
Шли минуты. Точнее, не шли, а тянулись… Ползли… Перо мелко дрожало над салфеткой… Мысли трусливо и хаотично разбегались в разные стороны…
Чувства, переполнявшие мою душу, я хотел излить (я бы даже сказал – выхаркнуть) на салфетку… через ручку с золотым пером… Раньше мне это помогало… Но теперь я не находил нужных слов, не знал, с чего начать…
Вот оно – творческое бессилие! Его я всегда страшился в десятки раз сильнее, чем реальной физической импотенции. Я думаю, что без женщин я бы смог прожить, а вот без литературы – вряд ли.
К столику шагнуло подвыпившее создание в сиреневом платье и улыбнулось – широко и счастливо:
– Пригласить вас?
– Смотря куда.
– Потанцевать. Куда же ещё?
Я с трудом улыбнулся в ответ:
– Мне, к сожалению, не до танцев.
– Жаль-жаль-жаль…
И она грациозно, хоть и слегка пошатываясь, отплыла в сторону.
Я допил свою порцию, снова закурил и относительно ровным почерком аккуратно вывел на салфетке: «Запой никогда не случается вдруг»…
Ну, вроде пошло дело…
Я быстро набросал строк десять. Перечитал. Ничего так. Сойдёт для начала.
Сложил салфетку вдвое и спрятал в карман.
Решил, что пора идти домой. Может, удастся уснуть. В прошлую ночь я почти не спал. Всё ворочался под тихое бормотание работающего телевизора. Только под утро вздремнул на полтора часика.
Мне вспомнилась фраза одного хохмача: сон алкоголика тревожен и короток. Верно сказано, верно…
Я уже собрался было подозвать официантку, чтобы она меня рассчитала, но тут зазвонил телефон…
В жизни, наверное, каждого человека наступают такие моменты, когда он ничего хорошего не ждёт от поздних телефонных звонков. Да и от ранних телефонных звонков ничего хорошего ждать не приходится.
Самое правильное в такие моменты телефон вовсе отключить. На пару дней. Пока в норму не придёшь; пока в душе не установится равновесие; пока духовная и физическая стороны не обретут привычную силу и здоровье…
Надо было отключить его к чертям собачьим! Почему я этого не сделал?
Будь проклята мобильная связь и прочие блага цивилизации!
Как там в песне поётся? «Лечь бы на дно, как подводная лодка, чтоб не смогли бы запеленговать…»
– Слушаю!
2
(Около месяца назад)
Запой никогда не случается вдруг.
Как летом, перед сильным дождём: сначала тускнеет солнце, становится душно, медленно сгущаются серые тучи, затем они чернеют и набухают над землёй, грохочет гром – всё яростней и громче, то и дело сверкает зигзагообразная молния…
И только потом как жахнет ливнем! Спасайся кто может!
Я не пил одиннадцать месяцев. Почти год абсолютно здорового образа жизни (даже курить бросил на семнадцать дней). Малый это срок или большой – не важно. Срок роли не играет. Бывших алкоголиков, как и наркоманов, не бывает. Мысль не новая и многими избитая. Но верная и точная. Так оно и есть. Я знаю, о чём говорю. Пусть хоть десять лет пройдёт со дня «завязки». Срыв всё равно может произойти в любую минуту. По любому поводу.
Такие люди, как я, всегда находятся в зоне риска. Кто много пил или злоупотреблял наркотиками, тому уже никогда не стать снова до конца полноценным человеком. Он навсегда останется инвалидом и ветераном той ужасной войны: беспощадной войны с самим собой. (Вы уж простите меня за непроизвольный пафос.)
Самое интересное, что у меня не было никаких предпосылок для срыва. Ни одной видимой и достаточно веской причины для пьянства. Напротив. Меня уже ласкали лучи разгорающейся славы. Одна за другой вышли три моих книги. Последняя имела оглушительный успех. Я получил две престижные премии. Мой литературный агент – милая и хрупкая с виду девушка с железной хваткой бультерьера – стала хлопотать о принятии моей нескромной персоны в члены Союза писателей.
Творческие встречи, интервью…
Одна московская киностудия купила мой сценарий за восемь тысяч долларов.
И на актёрском поприще я преуспел.
Жирная роль в популярном сериале, участие в нескольких юмористических шоу…
Я не был богат. Но материальное положение укрепилось настолько, что я даже стал подумывать о приобретении автомобиля.
Словом, всё было в полном порядке. Сияло солнце Аустерлица! Ветер радужных надежд и беспечного позитива раздувал паруса моей флотилии! Я мчался на всех парах вперёд, навстречу будущим победам, богатству и славе.
Сами собой, почти экспромтом, сочинялись стихи:
- Кто-то покой мой украл и забычил.
- Мне тридцать пять, я не стар и не слаб.
- С волчьим упорством бегу за добычей
- В виде успеха, денег и баб.
Да, я был в меру молод, здоров и полон сил и энергии!
Но!
Что-то мелкое, страшное, необъяснимое точило меня изнутри. Какой-то мерзкий червь, паразит какой-то выгрыз в моём сердце маленькую норку и поселился в ней, распуская по сердцу отраву. Время от времени меня охватывала беспричинная тревога. Я игнорировал её, пытался её не замечать. Но по ночам просыпался в холодном поту, с бешено бьющимся сердцем, с дрожью в руках… Меня преследовали кошмары, которые, проснувшись, я вспомнить не мог.
Это нервное, успокаивали меня знакомые. Обыкновенное переутомление. Тебе просто нужно сбавить темп, отдохнуть чуток. Ведь в остальном у тебя сейчас всё в ажуре.
Нет, были, конечно, всякие незначительные неприятности. Я старался не придавать им значения. А они – неприятности – копились, вероятно, и росли. В подсознании моём копошились, как пауки в закрытой банке.
Жена подала на алименты и запретила видеться с детьми. Школьный товарищ взял на неделю в долг три тысячи баксов, а через два дня разбился по пьяни в автокатастрофе; говорят, был в совершенно невменяемом состоянии. Появилась сумасшедшая поклонница, которая звонила по десять раз на день и умоляла сделать ей ребёнка. Любовница поставила ультиматум: либо расписываемся, либо расходимся…
И ко всему этому меня угораздило… влюбиться. Ей-богу, втюрился по самое не хочу, как мальчишка.
Кто мог предположить, что это может случиться с тридцатипятилетним мужиком? Кто мог предположить, что это вообще когда-нибудь может со мной случиться? Кто? Только не я!
Нет никакой любви, думал я раньше. Любовь – это гремучая смесь из полового влечения, самообмана и желания быть любимым.
Любовь – гласит древняя народная мудрость – придумали мужчины, чтобы денег не платить.
Любовь – это игра. Выигрывает всегда тот, кто любит меньше, кто не теряет над собой контроля и не поддаётся азарту.
Любовь – для малолетних неврастеников и романтических натур со слабо выраженным эго.
Любовь – неиссякаемая тема для всевозможных поэтов и писателей.
Короче, выдумка, сказка, бред…
Таково было моё мнение об этой ерунде.
Но вот я встретил её…
3
Она работала официанткой в ресторане «Нептун» на улице Воровского. Название «Нептун» никаким образом не отразилось на интерьере ресторана, а равно и на меню, в котором было лишь одно рыбное блюдо – точнее, рыбное наполовину – блины с красной икрой.
Дешёвенький такой ресторанчик в мрачном полуподвальном помещении. На стенах висели фотографии знаменитостей, которые якобы бывали в «Нептуне». Но я слабо верю в то, что там когда-нибудь ужинал Пол Маккартни или хотя бы полузабытый Иосиф Кобзон.
Мы спустились туда под вечер, часов в шесть, чтобы тихо-мирно поесть-попить да поболтать о том о сём. Нас было трое – я, Вася Солованов и Слава Миконороф. Мы вместе снимались в «пилотной» серии нового ситкома. После съёмок решили продлить общение.
Все столики в зале были заняты. Но когда мы вошли, одна компания из четырёх студентов уже расплачивалась и собиралась уходить. Мы чуть-чуть подождали и заняли их места.
На столике – крошки, грязная посуда, переполненная окурками пепельница…
Я спросил проходящую мимо официантку с крохотной родинкой над верхней губой:
– Девушка, можно со стола убрать?
Та на ходу ответила:
– Да, конечно, убирайте.
Солованов удивлённо приподнял брови, Миконороф нахмурился, а я рассмеялся, настолько мне это показалось забавным.
Через некоторое время Родинка всё-таки убрала со стола и раздала кожаные папки с меню.
Не мудрствуя лукаво, мы заказали по чашке чая и шесть горячих сэндвичей, хотя Слава уверял, что кушать не будет.
– Как вас зовут? – поинтересовался я у официантки.
– Я вас умоляю, – скривила она своё симпатичное личико и удалилась.
– Однако, – протянул Солованов.
Пока ожидали заказ, Вася переписывался смсками с молодой и взбалмошной женой, а Слава Миконороф пел мне дифирамбы.
– Вот ты, – говорил он, – ты – другое дело. Ты молодец! Ты просто красавчик: за словом в карман не лезешь, тем более в чужой. Ты остроумен, находчив… А у меня – повторяю – синдром лестничной площадки.
– Это как? – спрашиваю.
– Ну, это когда… когда над тобой обидно и зло пошутили, а ты промолчал и лишь спустя час, выйдя на лестничную площадку, придумываешь… тебе приходит в голову… находчивый и подходящий ответ.
Миконороф погрозил мне пальцем и продолжил решительно и громко:
– Но всё-таки я расту: раньше у меня был синдром эскалатора, а то и синдром домашнего дивана… Так что!.. Прогресс налицо.
Я глядел на безбровое лицо Миконорофа, но почти не слышал голоса Славы, я думал об официантке.
Она понравилась мне. При своей вполне обыкновенной внешности она показалась мне необыкновенной. Что-то магическое таилось в её скучающем взоре тёмно-карих глаз.
Когда она принесла заказ, я нахально уставился на неё, рассматривал её, пытаясь понять, что именно так привлекло меня в ней.
Стройная. Хотя и несколько полновата по нынешним меркам. Среднего роста. Третий размер груди – если бюстгальтер без пушапа. Каштановые волосы аккуратно собраны в «ракушку». Длинные пушистые ресницы. Тонкий нос, алые губы, слегка пухлый подбородок…
Мне нравилось в ней абсолютно всё.
Её нельзя было назвать совершенной красавицей, но она обладала каким-то своеобразным обаянием, под чары которого я и подпал.
– Как вам эта девица? – спросил я ребят.
– Какая? – нахмурился Миконороф и принялся вертеть головой в разные стороны.
– Ужасное обслуживание, – проворчал Вася.
– Ты со своей переписывался? – спросил я его.
Он кивнул:
– Полинка сдаёт сегодня экзамен по истории. Просила кратко охарактеризовать гетмана Мазепу.
Мы тут же с Миконорофым одновременно кратко охарактеризовали Мазепу, но по-разному. Один сказал: «Герой Украины», другой сказал: «Подлый предатель».
– Я не был столь категоричен, – признался Солованов. – Не люблю крайностей.
Доедая четвёртый сэндвич, Слава заявил с набитым ртом:
– Всё-таки хорошо здесь!
4
Спустя неделю я был вынужден признать, что забыть её не в силах. Она не выходила у меня из головы. Просто какое-то наваждение.
Днём полегче – работа, заботы, встречи… А вот по вечерам, когда я возвращался домой, становилось невыносимо.
Я стал грустным и рассеянным. Плюс бессонница и отсутствие аппетита.
Стыдно признаться, я даже принялся сочинять слащавые стихи. Что-то вроде «Проник мне в душу образ твой…» На вторую строчку так и просилось: «наверно, что-то с головой».
Каждый вечер я боролся с желанием отправиться к ней в ресторан. Воображение продуцировало всевозможные варианты развития нашей встречи. Я мысленно вступал с ней в диалог, но в результате буквально через пару фраз заканчивалось всё тем, что она меня отшивала.
Наконец в один из пасмурных и мерзких осенних вечеров я не выдержал и явился в «Нептун».
Я не знал, как её зовут. Про себя я продолжал называть её Родинкой.
Она меня узнала, и я посчитал это хорошим знаком.
– Вы сегодня один?
Я сказал:
– Я уже давно один. Если вы имеете в виду моё семейное положение.
– О, я очарована, – сказала она бесстрастным тоном.
– Давайте познакомимся. Меня зовут Лёня. По гороскопу Весы. Мне тридцать пять лет. Вы мне нравитесь. Давайте куда-нибудь сходим.
Она на мгновение задумалась и ответила:
– Ева Гершенгорн. Двадцать один год. В гороскопы не верю. Вы не в моем вкусе. Куда?
– Что – куда? – не сообразил я.
– Куда, спрашиваю, сходим?
– Не знаю даже… – я осмотрелся по сторонам, словно ответ мог прятаться где-то здесь, неподалёку. – Может, в кино?
– Так я и думала. – Она чуть выпятила нижнюю губу, как это делают маленькие девочки, когда обижаются. – Хорошо, можно и в кино… Только завтра. У меня выходной.
– Договорились.
– А на «ты» когда перейдём? Сейчас или после секса?
Я опешил. И не мог понять – шутит она или серьёзно.
Это провокация, решил я и осторожно ответил:
– Лучше сейчас.
– Тогда записывай телефон.
Я записал продиктованный ею номер.
Она сказала:
– Всё, я пошла, а то на меня будут рычать. Ты заказывать-то чего-нибудь собираешься?
Я неуверенно кивнул.
– А что заказать – не соображу. Кушать вроде не хочу… Может, кофе?
– С коньяком?
– Зачем? Без.
– Почему?
Я взглянул на неё – Евино удивление казалось искренним.
– Потому что я не пью.
– Совсем?
– Совсем.
– Ой, ты начинаешь меня пугать.
– Почему?
– Сам знаешь.
И она оставила меня, направившись к барной стойке.
Впервые со времён рефлектирующей юности я остался недоволен общением с девушкой. Вернее, своим поведением. Следует признать, что во время нашей недолгой беседы я пару раз заметно терялся, не зная, что сказать. Это было необычно.
Когда она принесла кофе, я спросил:
– Ты какие фильмы предпочитаешь?
– Советские.
– Я имею в виду – жанр?
– Зависит от настроения.
– Ясно, – сказал я.
Мне действительно всё было ясно…
А вот на улице, наоборот, было пасмурно…
Я приподнял воротник куртки. Кепку надвинул на глаза, руки засунул в карманы…
Ненавижу осень… Хотя, будучи несостоявшимся поэтом, я должен был бы любить эту пору года…
5
Мы встретились у входа в кинотеатр «Киев».
Она была без головного убора, в кожаном плаще цвета какао и в сапогах того же цвета.
– Есть мультфильм о какой-то обезьяне, три дэ, и два триллера: «В погоне за смертью» и «Приговорённый». На что пойдем?
Она выпятила нижнюю губу:
– От одних названий уже жить не хочется. Может, лучше пройдёмся, поболтаем?
Я утвердительно кивнул. И мы двинулись в сторону Майдана…
Она взяла меня под руку.
– Чтобы избежать неловкого молчания, – сказала Ева, – ты сначала расскажешь о себе – всё, что пожелаешь нужным рассказать, а потом я – о себе.
Она явно привыкла брать инициативу в свои руки, отметил я. Можно предположить, что у неё свиданий было куда больше, чем у меня, несмотря на то, что я намного старше.
Я поведал о себе следующее:
– Родился в Киеве. В неполной и, как говорится, неблагополучной семье. Рос без отца. О чём нисколько не жалею. Да… Мать всю жизнь болела бронхиальной астмой и ничего в этой самой жизни, кроме больниц и грёбаной мебельной фабрики, на которой проишачила двадцать с лишним лет, не видела. Она умерла, когда мне едва исполнилось шестнадцать. За пару лет до смерти пристрастилась к спиртному.
Скоро моя квартира, по словам участкового, превратилась в притон. Любой, кто приходил с едой и выпивкой, мог рассчитывать на моё гостеприимство. Почти каждую ночь квартира наполнялась звуками дребезжащей гитары, весёлыми голосами и звоном посуды.
Ну, в двадцать я неожиданно женился. Я был вынужден это сделать, как честный человек. Появились дети. Пришлось идти работать. Сменил целую кучу разных профессий, но – веришь – ни об одной из них не сохранил в себе тёплых воспоминаний. К двадцати четырём я возненавидел физический труд настолько, что теперь я без особой надобности палец о палец не ударю. Я поступил в театральную студию и начал писать прозу, чем обрёк семью на нищенское существование. Жена пыталась меня образумить. Но тщетно. В результате я попросту ушёл из дому. И теперь у меня ни семьи, ни прописки. Я кочую по съёмным квартирам и мечтаю о домике у моря. В общем, ничего интересного.
Шагов двадцать прошли, храня молчание.
– Твоя очередь, – напомнил я.
– Моя история, – начала она, – ещё скучнее твоей. До пятнадцати лет я была послушной дочкой и отличницей. Ходила в музыкальную школу по классу фортепиано. Потом мне всё это осточертело, и я сбежала из дому с профессиональным каталой по кличке Ворон. Знаешь, кто такой катала?
– Картёжник?
– М-гу… Через год в Сочи он проиграл меня армянам, но отдавать не захотел. Их было трое, он один. Началась драка. Одному Витя проломил череп, второго пырнул ножом, третий, слава Богу, убежал… Вите дали пять лет за превышение самообороны. Я вернулась в Киев. Предки мои надумали эмигрировать на историческую родину, но я уезжать не захотела. Вот вроде и всё.
– А почему ты не уехала с родителями?
– А что мне там делать среди евреев?
– Мне нравятся евреи, – заметил я.
– Спасибо, я поняла.
Заморосило.
– А как же твой Витя… Ворон этот… мог на тебя играть?
– Ему не везло в тот день… Денег уже не было… А армяне аж облизывались, глядя на меня…
– Ты его не осуждаешь?
В ответ она сказала:
– Я замёрзла. Давай зайдем в кафе.
– Конечно.
6
– Я буду мартини, – сказала Ева. – Закажи себе коньяк.
– Так я ж не пью.
Моё возражение снова вызвало на её лице уже знакомую мне гримасу обиженной девочки.
– Ты же не хочешь, чтобы я пила одна. Это не по-мужски.
Да Бога ради, думаю. От ста грамм коньяка ничего страшного не случится. Могут же люди выпивать в меру… без продолжения… без ухода в глубокий штопор… Ведь всё хорошо… С чего мне напиваться?
Я заказал напитки, включая апельсиновый фреш. И горячие бутерброды – закусить.
Около часа я потчевал Еву байками из жизни. Она смеялась. Этого мне было вполне достаточно, чтобы почувствовать себя уверенней.
Всё-таки мужчины – примитивный вид.
Что нужно делать женщине, чтобы приручить мужчину? Всё просто. Если он бугай – восхищаться его силой; если интеллектуал – слушать его с открытым ртом и удивляться каждой новой информации; если он остроумен – безудержно смеяться…
Мы повторили заказ…
Играла музыка, и я пригласил Еву на танец.
Она замахала руками:
– Упаси меня Бог!
Потом я вызвал такси…
– Куда тебя отвезти?
– Дурацкий вопрос, – ответила Ева. – К себе, конечно.
– Даже так?
– Ты против?
– Напротив, я – за.
Был момент, когда я хотел сказать, будто мне кажется, что мы слишком торопим события, но на самом деле меня всё устраивало, поэтому я не стал говорить эту чушь.
– Тогда вперёд, – сказала она. – Только надо заехать в магазин и купить бутылку шампанского.
Алкоголь двухсот капель коньяка уже разогнал мою кровь. Я больше не опасался нежелательных последствий. Я был готов к подвигам и веселью.
– Надо – значит, купим.
И уже у меня дома, откупоривая третью бутылку шампанского, я поинтересовался:
– Ты всегда так легко заводишь… э… отношения?
– Не всегда, – ответила Ева. – И не так легко.
Её щёки горели, а глаза сияли температурным блеском. Язык слегка заплетался.
– А «план» ты куришь? – спросила Ева.
– В смысле – марихуану?
– Её.
– Пробовал пару раз. Не понравилось.
– Покурим?
– У тебя есть?
– Немного.
– Давай.
Она довольно ловко и быстро выпотрошила из сигареты табак и забила «косяк».
Наблюдая за её действиями, я тянул из бутылки шампусик и поражался тому, как при такой ангельской внешности – а она мне в те минуты казалась ангелом – можно иметь такую сильную тягу ко всему порочному.
– А более тяжёлые наркотики ты пробовала?
– Героин – лишь однажды. А кокаин – раз десять. А ты?
– И я.
– Если есть деньги – могу достать.
– Хорошо, посмотрим.
Она прикурила, глубоко затянулась, передала «косячок» мне… Сознание затуманилось…
…Утро было невесёлым. Язык наждаком царапал нёбо. Голова раскалывалась от малейшего движения…
Я лежал в постели, рядом валялась обнажённая Ева. Я засунул руку под одеяло, чтобы удостовериться и в собственной наготе.
Я приподнялся, опершись на локти. Наша одежда была разбросана по всей комнате.
Неужели у нас всё было?..
Последнее, что я помнил, – как мы целовались на кухне. А потом она шепнула мне в ухо:
– Отнеси меня на диван.
Я поднял её на руки, сделал три шага, споткнулся, и мы полетели навстречу линолеуму, покрывавшему твёрдый пол.
Ева спала, лёжа на животе. Я притронулся к её плечу. Она застонала.
– Ева, что вчера было?
– Не парься, – ответила она, не открывая глаз, – ты был на высоте… Два раза…
Но я ничего не помнил. А ведь не так уж много я выпил. Двести грамм коньяка да полторы бутылки шампанского, может, две – не больше. Или мы ещё выходили за добавкой?
Не помню. Белый лист.
Я повернулся на правый бок, прижал Еву к себе и закрыл глаза.
Когда я снова проснулся – её уже не было.
7
Она позвонила мне днём и попросила приехать вечером к ней.
– И никаких отказов, – предупредила она, – у меня сегодня день рождения.
– Ладно.
Это, конечно, свинство – сообщать о таком важном событии за несколько часов до встречи.
И тут меня вдруг осенило – мы с ней похожи!
О том, что противоположности притягиваются, знают все без исключения, но ведь и похожих людей тянет друг к другу. Не правда ли?
Со своими друзьями, с родными и близкими я веду себя, как ведёт себя Ева со мной, а порой ещё хуже.
Мы с ней похожи. Безусловно. Наше отличие только в том, что я её люблю, а она меня – нет. Стало быть, она в гораздо более выигрышном положении.
Я заварил крепкий кофе и принял – с риском для сердца – контрастный душ. Всё это взбодрило меня: я если и не почувствовал себя совершенно здоровым, то, во всяком случае, уже мог здоровым выглядеть.
Перед самым выходом мне позвонила Лиза – мой литературный агент.
– Книга, – сообщила она голосом сытой Багиры, – выйдет через две недели.
– За эту книгу я получу хоть какой-нибудь гонорар?
– Ты же говорил, что деньги тебя не волнуют.
– Деньги меня и сейчас не волнуют, меня волнует их отсутствие.
– Могу выдать тебе семь тысяч хоть сейчас.
– Сейчас не время. Пока они пусть лежат у тебя.
– Что-то я не слышу энтузиазма в голосе.
– Просто я скуп на эмоции.
– Предположим, что так. – Она выдержала паузу. – Нужно будет обязательно устроить презентацию.
– Когда?
– Я тебе сообщу.
– Буду ждать. Только загодя. Не за два дня.
– Само собой.
– Договорились.
– Оревуар.
– Аналогично.
Сперва я отправился в цветочный магазин. Там я долгим выбором себя не мучил. Купил великолепный букет из двадцати пяти роз.
С основным подарком было сложней. Что купить? Кольцо? Но ведь это своего рода символ предложения. А мы едва знакомы (что не помешало нам переспать). Может, серьги? Так я не имею понятия, что она предпочитает – золото или серебро… Книга – банально. В косметике не разбираюсь. Что делать?
Короче, купил… мягкую игрушку. Зайца размером со взрослого ротвейлера. Синего цвета.
Мягкая игрушка – подарок тоже не оригинальный, но хотя бы не дешёвый.
Выйдя из магазина, с синим зайцем наперевес, направился к проезжей части. Поднял правую руку, в которой держал осточертевший букет; остановил такси.
Сел в машину, назвал адрес.
Таксист, сорокалетний мужчина с веснушками на лице и на лысине, всю дорогу косился на мягкую игрушку.
Наконец, не выдержав, задал тревожащий его вопрос:
– А почему заяц синий?
– Потому что он не за рулём. Может себе позволить.
– Счастливчик!
Невероятно, что в такое время, в самый час пик, нам удалось избежать пробок, и очень скоро, минут через пятнадцать, такси подъехало к дому Евы.
– А ты знаешь, – спросил таксист, когда я расплачивался, – сколько живут зайцы?
– Что?
– Сколько живут зайцы?
– Откуда мне знать?
– Ну, мало ли…
Я покинул автомобиль, и он незамедлительно умчался, резко завернув за дом.
На лавочке у подъезда сидели два небритых грустных мужика.
– Эй, с цветами! – прохрипел один из них. – Хочешь выпить?
Я не хотел, но профессиональное любопытство взяло верх.
– А что?
– Добавь пятёрку ради Христа, купим пол-литра.
То есть меня приглашали «сообразить на троих». Вот такой анахронизм.
Я дал им десятку и двинулся к дверям парадного входа.
За спиной отчётливо услышал:
– Побрезговал, значит.
А я действительно полагал, будто между нами нет ничего общего. Потому как они люди второго, а то и третьего сорта. Я выше их. Я не такой и никогда таким не буду…
И не подозревал, что уже вступил на скользкую тропу, ведущую к очередной пропасти.
8
Вся обстановка Евиной квартиры говорила о том, что здесь жили очень зажиточные люди, но это было давно. Мебель вышла из моды, ковры протёрлись, бытовая техника устарела…
В гостиной сидели трое: костлявая девица с побитым оспой лицом, жгучий брюнет лет под сорок и рыжий паренёк в очках.
Ева любезно представила собравшихся:
– Моя подруга Лариса. Её брат Толик. А это – она указала на жгучего брюнета – мой двоюродный брат Лёва.
– Очень приятно, – сказал я. – Леонид.
– Мой ухажёр, – добавила Ева, слегка улыбнувшись.
Она взяла у меня зайца.
– Что означает этот подарок?
Я растерялся:
– Не нравится?
– Нравится. Просто я решила, что он что-то олицетворяет.
– Только моё к тебе расположение, – сказал я. – Как и цветы.
Ева приняла букет и равнодушно передала его Ларисе.
– Ларочка, поставь это в вазу.
Затем Ева отвела меня в сторону и шёпотом спросила:
– У тебя есть деньги?
– А сколько надо?
– Сто долларов. Только не спрашивай, зачем. Это сюрприз.
– Ладно. Держи.
Она взяла стодолларовую купюру, кивнула Лёве, и они оба вышли из комнаты.
Я остался с Ларисой и Толиком.
Мы помолчали. Я делал вид, будто с интересом рассматриваю корешки книг, стоящих за стеклом серванта.
Неожиданно Лариса сказала:
– Ева хотела послушать, как Толик поёт.
– Что?
– Я рассказывала Еве о том, что Толик пишет песни, и она захотела их послушать.
– Интересно, – буркнул я, не найдя, что ещё я могу сказать.
– Правда интересно? – спросила Лариса и обратилась к брату. – Толя, возьми гитару и спой.
– Это не обязательно, – возразил я, но тихий Толик уже расчехлял гитару.
– Все его песни, – щебетала Лариса, пока Толик настраивал инструмент, – мы выкладываем в ютубе. Возможно – кто знает – его заметят продюсеры. С возникновением интернета шанс прославиться появился у каждого. Пути Господни неисповедимы. Ведь были же случаи…
Настроив гитару, Толик откашлялся и начал самовыражаться.
Он запел высоким тонким голосом:
- «Однажды рано поутру
- Я обнаружу рядом труп:
- Умрёт красавица моя…
- А я?»
Невесёлая была песня.
На моё спасение, ко второму куплету вернулась Ева и замахала на Толика руками:
– Нет-нет, не сейчас. Я же просила! Сначала поедим, выпьем… Лёня, выйди со мной на кухню.
Я с готовностью поднялся и пошёл за ней.
На кухне она протянула мне зеркальце и коротенькую трубочку. На зеркальце приютились две ровные тонкие дорожки белого порошка.
– Сюрприз? – спросил я, взглянув в её блестящие стеклянные глаза.
Мягко улыбнувшись и медленно прикрыв веки, она кивнула.
– А где этот? Лёва?
– Ушёл.
– И часто ты устраиваешь себе такие сюрпризы?
– Какая разница?
– Любопытно.
– Ты не хочешь?
Я всунул в ноздрю трубочку и втянул в себя первую дорожку кокаина.
В голове пульсировала всего одна тревожная мысль: «Всё это плохо кончится…»
9
Мы пили вонючий виски, поедая горячую пиццу, заказанную Евой по телефону.
Толик пел. Все его песни были на одну тему – мертвецы, могилы, черепа… Лишь последняя песня была о живом человеке. О водителе-дальнобойщике, но и тому оставалось недолго – у него был рак.
Когда Лариса с Толиком ушли, мы с Евой занялись любовью. От кокса и выпитого я минут сорок не мог финишировать.
Потом я упал рядом с ней, мокрый и обессиленный, стараясь привести дыхание в норму.
Мы закурили.
Она спросила:
– Ты часто думаешь о смерти?
– Часто, – ответил я, – и это была чистая правда.
Впервые я задумался о смерти в семилетнем возрасте. Помню, я даже спросил маму:
– Я когда-нибудь умру… и всё? И больше ничего никогда не будет?
– Да, – спокойно и просто ответила мать.
Эта мысль ужаснула меня.
С тех пор я почти каждый день, более четверти века, думаю о смерти. О том, как и когда лучше умереть; есть ли жизнь после смерти; стоит ли жить до старости или лучше уйти самому в расцвете сил; какая смерть предпочтительней; сколько мне ещё осталось…
Все люди живут так, будто у каждого из них впереди целая вечность. Я удивляюсь этим людям, но и сам живу точно так же.
Множество людей не готово к смерти. Хуже того. Множество не готово к жизни.
Всё время чего-то ждём. Вот, мол, окончу школу и начну жить. Затем – вот женюсь… Вот найду престижную работу… Вот разведусь – и уж тогда поживу по-человечески…
Часто думая о смерти, я тем не менее её не страшусь… Так мне кажется… Ведь все умрём – рано или поздно.
– Я боюсь, что скоро умру, – сказала Ева.
– Для таких страхов есть основания?
– Вроде нет… Я молода, здорова… Но ведь что-то может случиться…
– Например?
– Да что угодно… Собьет машина или у меня обнаружат лейкемию… Или меня укусит какая-нибудь чёрная мамба…
– К сожалению, эта тварь у нас не водится.
– Какая тварь?
– Чёрная мамба.
– При чём здесь мамба! Может случиться что угодно. Вот о чём я говорю. И что страшно. Ты живёшь себе, никого не трогаешь, строишь планы на будущее, вдруг – откуда ни возьмись – приползает грёбаная чёрная мамба, которая даже не водится у нас, кусает тебя, и ты умираешь. Бац – и тебя нет! Понимаешь?
Я не ответил. Потому что где-то на этих словах я бац – и уснул. А лучше сказать: бац – и отключился.
10
Когда я снова «включился» – за окном уже было светло.
В комнате я находился один.
Второй раз я не просыпаюсь, когда Ева встаёт и уходит, хотя обычно сплю очень чутко.
Поднялся, натянул джинсы. Потрусил башкой, но туман в голове не рассеялся. Лишь слегка заныл затылок.
Отворилась дверь – вошла Ева. С двумя банками пива. Одну протянула мне.
Я открыл банку и вылил в себя за раз половину её содержимого. И только затем сказал: «Доброе утро».
Ева уселась в кресло. На ней был махровый халат. А на ногах мохнатые тапочки.
– Отлично выглядишь.
– Спасибо, – кивнула она и отпила глоток из своей банки. – Я опять проспала на работу.
– Опять?
– Да, вчера и сегодня. Всё идёт к тому, что меня уволят.
– Но ведь вчера у тебя был день рождения.
– Это не повод для прогула, – сказала она.
– А что ж тогда повод? День смерти?
– О, это серьёзный повод.
– Тебе нравится работать официанткой?
– Зарплата маленькая. Спасают только чаевые. Но половину из них забирает бар. А вообще – тяжело. Целый день на ногах.
Пиво слегка горчило. Зато в голове постепенно прояснялось.
– Думаю, тебе нужно сменить профессию.
– Легко сказать.
– У меня есть кое-какие связи на телевидении…
– Ой, я тебя умоляю.
Я допил пиво. Скомкал банку.
– А ещё есть?
– В холодильнике три банки.
– Прекрасно.
Когда допили всё пиво, я неожиданно предложил:
– Давай съездим в «Нептун» и всё объясним.
Эту идею Ева поддержала с энтузиазмом.
– Заодно и пообедаем, – сказала она.
Мы вызвали такси и уже через полчаса были в ресторане.
Вместо официантки к нам подошёл импозантный мужчина с внешностью стареющего Джеймса Бонда. Он шагнул к нашему столику и склонил голову набок.
– Ева, что происходит?
– Я проспала, Эдуард Родионович.
– А вчера, – вклинился я, – у Евы был день рождения.
– Насколько я помню, – сказал Эдуард Родионович Еве, – вы родились в марте.
Ева вспыхнула:
– Откуда вам знать?! Вы что, присутствовали при родах?
– Допустим, вчера был день рождения… а сегодня?
– А сегодня день смерти, – вдруг сообщила Ева.
– Что?
– Ничего, – говорю. – Что не ясно? Человек желает отметить день своей будущей смерти.
Эдуард Родионович улыбнулся одними губами, натянуто и фальшиво, и язвительно проговорил:
– Поздравляю вас, Ева… Вы уволены.
– Спасибо, это мы тоже отметим, – я приосанился. – Меню, будьте любезны…
Эдуард Родионович с подчёркнутым достоинством закинул голову вверх и, глядя куда-то в потолок, высокомерно бросил:
– Я пришлю официантку.
И с запрокинутой головой Эдуард Родионович унёс себя прочь от нашего столика.
– Какой самовлюблённый индюк, – восхитился я, глядя ему вслед.
– Скорее петух, – возразила Ева. – К тому же он светло-синий.
– Что это значит?
– Ну, голубой… Гомосексуалист.
– Да ну?
– Ну да.
Я закурил и, сощурившись, посмотрел на Еву сквозь дым:
– Ты вчера обманула меня.
– Я тебя умоляю, – отмахнулась она. – Нужна была веская причина для приглашения. Но смерть мою мы отпразднуем по-настоящему. По-взрослому. Ты это отлично придумал.
– Да, придумщик из меня – что надо!
– Ты не сердишься?
– Сердиться на людей – себе дороже. Я стараюсь принимать человека таким, каков он есть. Каким бы он ни был.
– Это удобно.
Подошла бывшая в недавнем прошлом коллега Евы.
11
Мы быстро наелись и напились.
Денег я не жалел. Сделанный нами заказ намного превышал наши чревоугоднические возможности.
Мы были сыты и пьяны, но выпивку и еду всё подносили и подносили. К десерту мы даже не притронулись.
Тосты провозглашал я, и мы выпивали не чокаясь.
Я говорил:
– Друзья, о покойниках либо хорошее, либо ничего. Я с лёгкостью следую этой неписаной традиции. Ибо я, как и многие из нас, любил покойную. Правда, я не знал её так близко, как вы, но я убеждён, встреча с ней была не случайна. Так было уготовано судьбой. Согласитесь.
– Однозначно, – заметила виновница нашего «торжества».
– Я мог бы часами перечислять достоинства покойной…
– Давай, мы никуда не спешим!
– Хорошо, – я скорбно помолчал, собираясь с мыслями. – Во-первых, покойная была красива. Она клёво целовалась и была неутомима в сексе. Она имела чувство юмора, а среди женщин это огромная редкость.
– Точно! – живо подтвердила покойная.
– Она любила жизнь во всех её проявлениях, и я, если честно, не мог бы представить её постаревшей. Случись с ней это – она бы сильно страдала от несовместимости весёлой бесшабашной натуры и возраста. Поэтому я рад, что Ева останется в наших сердцах и в нашей памяти вечно молодой. За Еву! Пусть земля ей будет пухом!
Ева и я поднялись и выпили стоя.
– Земля пухом – вряд ли, – сказала Ева, когда мы снова уселись. – Я хочу, чтоб после смерти меня сожгли.
– Ладно, – согласился я. – Учту.
– А прах мой пусть развеют над городом.
– Постой, а куда же приходить людям, которые пожелают тебя помянуть?
– В том-то вся и прелесть. Люди, которые захотят меня помянуть, смогут это сделать в любом месте города.
– Славно придумано.
– Ещё бы.
– Слово покойной. Пока есть такая возможность.
– С удовольствием скажу. – Она протянула рюмку. – Плесни-ка мне, живчик.
Я наполнил наши рюмки.
– Буду краткой. Я ни о чём не жалею. До встречи в аду!
12
Зачем я так много пил?
Этот вопрос всегда задаётся в прошедшем времени. Что совершенно бессмысленно. А в настоящем времени… А в настоящем времени – зачем я так много пью? – его никто себе не задаёт. Хотя в ту минуту его актуальность трудно переоценить.
После ресторана мы с Евой отправились к её подруге, которая пила за троих и материлась, как старые актрисы провинциального театра. Она тоже, как и Ева, была еврейкой, её звали Сима.
Помню, она смешно рассказывала о своих старших братьях-близнецах:
– Их зовут Алик и Геночка. Все, от мала до велика, всегда их так называли – Алик и Геночка. Только в такой последовательности. Как Зита и Гита, как Том и Джерри, как Лёлик и Болек, мать их так! Сначала именно Алик, потом Геночка – никогда наоборот. До сих пор. Им сейчас уже восемьдесят на двоих, поседели, как снега Килиманджаро, а всё ещё Алик и Геночка, едрит-карбит.
Прошлой осенью Алик встретил на редкость приличную девушку Тину, и та Тина засосала его настолько, что спустя буквально месяц он предложил ей и руку, и сердце, и все остальные немаловажные органы своего организма. На свадьбе присутствовала вся родня, включая бабушку Иду, которая с юности всем кишки крутила так, что я не знаю, как с ней бедный дедушка не нажил рак и нервное расстройство себе на голову. Так вот, на той свадьбе у Алика и Тины бабушке дали слово, и она начала свой грёбаный тост привычным: «Дорогие Алик и Геночка…». Господь не даст соврать. Я ржала так, что у меня лопнула резинка на трусах.
Мы пили всю ночь. Сима, казалось, не пьянела, но потом вдруг взяла и отрубилась. Сидела, пила и смеялась, а потом закрыла глаза и медленно завалилась набок.
Мы тоже пошли спать. В другую комнату.
Проснулись вечером и снова всю ночь фестивалили. Под утро уехали к Еве домой.
На следующий день, часам к трём, Ева снова позвонила своему лже-племяннику Лёве.
Наркотики сменяли алкоголь, алкоголь – наркотики…
В таком же духе прошло ещё три дня.
Жизнь то обретала новые краски, то совершенно теряла цвет. Сутки больше не делились на день и ночь. Время остановилось для нас… Свет сменялся тьмой, а тьма светом, но они не оказывали никакого влияния на наше существование.
Пару раз мы ездили в ночной клуб, где я однажды устроил драку с розовощёким блондином из Германии. Мне показалось, будто он приставал к Еве. В результате нас троих выставили из ночного клуба. С немцем я тут же помирился, хотя он ни слова не понимал по-русски. Да и я с немецким не в ладах.
Я ему говорил:
– Гитлер капут?
А он с воодушевлением подтверждал:
– Я, я, капут.
– Ну тогда, – говорил я, – хэнде хох и шнеля к нам в хаус, у нас есть шнапс.
– Гуд! Гуд!
Когда приехали к Еве, я сказал:
– Это наше волчье логово. Вольфшанце. Бите-дритте.
Звали его Адлер, что в переводе означало, как я понял, орёл.
Тост я говорил один и тот же:
– За победу! – И, словно герой советского блокбастера, добавлял многозначительно: «За нашу победу».
– Я, я…
– Ага, поддакиваешь, хитро сделанный ты фриц, а сам, небось, думаешь: «Германия превыше всего».
Помню, я доказывал ему:
– Гадом буду, Адлер, если б нас не разняли, я б тебе устроил Курскую дугу. Ты понял меня, внучатый племянник Гиммлера?
Короче, вёл себя, как наши солдаты в Германии. Но у них хоть какое-то право было на такое поведение. А вот чего раздухарился я – непонятно. Говорят, наши пьяные туристы в присутствии немцев почти все себя так ведут. То ли им гордиться больше нечем, как только победой дедов, то ли это юмор такой…
Впрочем, Адлер, очевидно, ни слова не понимал, ничуть не обижался и скоро уснул.
13
Меня разбудил солнечный свет, по которому я успел соскучиться. Осень в этом году выдалась особенно мрачной – пасмурной, сырой и промозглой. Убеждён, что число самоубийств значительно превысит прошлогодние показатели. При такой погоде осень обычно даёт щедрый урожай по суициду.
Осознав ничтожность нашего существования, я прищурился на свет, льющийся из окна, и охрипшим голосом обратился к Еве:
– Знаешь, киця…
Её веки дрогнули, она открыла глаза.
– Что случилось?
– Киця, так жить нельзя…
Она домашней кошкой прильнула ко мне:
– Что ты предлагаешь?
– Может, сходим в зоопарк?
– Зачем?
– Хочу прикоснуться к истокам.
– Ничего не понимаю.
– Да я тоже. У нас есть что-нибудь выпить?
– Сейчас гляну. Но перед этим сгоняю в душ.
Не стыдясь своей роскошной наготы, она откинула одеяло в сторону, потянулась до хруста в позвоночнике и отправилась в ванную.
Я встал и подошёл к окну.
Ярко светило солнце, отражаясь в лужах, которые пешеходы по возможности старались обходить.
Кто они? Куда спешат? О чём они думают? И чего ждут от жизни?
К небесному светилу медленно подкрадывалась хмурая туча.
Я задёрнул штору.
Прошёл на кухню, заглянул в холодильник. Спиртного не было.
Я обрадовался и огорчился одновременно. Мне хотелось выпить, но я понимал – пора чуток попридержать коней. Хватит бухать, хватит…
Ещё не поздно остановиться. Я не в пике. Мой самолёт пока управляем.
Так думал я, уткнувшись взглядом в кухонный стол, на котором черствели хаотично рассыпанные хлебные крошки.
– О чём задумался, Аль Капоне?
Я обернулся.
На пороге стояла Ева, завёрнутая в голубое полотенце. С кончиков волос капала вода.
– Почему Аль Капоне?
– Мне кажется, ты на него похож.
– Аль Капоне был толстоват. С заплывшим лицом, как у свиньи.
– Милый, ты тоже далеко не Аполлон.
Эти слова сопровождались всегда умилявшей меня гримасой обиженной девочки.
Я подошёл к ней и чмокнул её в родинку.
– У нас не осталось горючего, киця.
– Могу сходить купить пива. Вот только обсохну.
Я нашёл в себе силы сказать «нет».
– Не надо никуда идти. Обойдёмся. Лучше сделай что-нибудь на завтрак.
– Завтрак? Уже три часа дня.
– Считай, что мы аристократы девятнадцатого века. Они просыпались не намного раньше.
Из комнаты донеслись звуки бодрой мелодии.
– Тебе звонят.
– Слышу, – сказала она. – Поставь воду, свари пельмени.
– Не волнуйся, я справлюсь…
Она отсутствовала минут десять. Закинутые пельмени уже всплыли.
Вернулась Ева несколько напряжённой. Так мне показалось. Она не произнесла ни слова, но я почувствовал – что-то произошло.
Я как-то сразу связал её изменившееся настроение со звонком. Поэтому спросил как можно небрежней:
– Кто звонил?
– Да так… – почти столь же небрежно ответила Ева.
Но когда мы уселись за стол, она сообщила:
– Мы больше не увидимся.
Я не донёс до рта наколотую на вилку пельменьку.
– Кто это решил?
– Видишь ли… Мой парень освободился.
Я отложил вилку с нетронутой пельменькой. Неокрепший аппетит совершенно улетучился.
– Этот… как его? Ворон твой?
– М-гу.
– А… что это меняет?
– Давай без этого. Мы ведь взрослые люди.
– Взрослые – означает пофигисты?
– Прости, что так получилось…
Однако сказано это было, что называется, «на отцепись» (я подобрал эвфемизм). Мне захотелось её ударить, не для проформы, а сильно, с размаху…
– Я люблю его.
Моя агрессия по отношению к ней прошла. Ведь она ни в чём не виновата. Как говорится, сердцу не прикажешь. Она его любит, а меня нет. Всё крайне просто. Она была со мной, пока… он находился в заключении. Наверное, было бы глупо сообщать заранее о том, что мы расстанемся, как только Витя освободится. Это бы омрачило наши отношения. Она мудра не по годам.
Я встал.
– Ладно, Родинка, пока.
– Ну, хоть поешь.
Я усмехнулся и сказал:
– Давай без этого. Мы ведь взрослые люди.
14
Мне хотелось выпить. И я не осознавал истинной причины этого желания.
Похмелье было вполне терпимым. Что касается моральных мук, то их не было. Я не страдал. С чего бы? До сих пор меня никто не бросал. Это было обидно. Но обидней всего то, что меня оттолкнула та, которую я любил. Ну и что с того? Обидно – да. Даже больно, не скрою. Но… жить можно.
Я говорил себе: мы были вместе. Нам было хорошо, весело… Она остроумный собеседник. У неё красивое тело, мягкие аппетитные губы… Длинные пушистые ресницы… Глаза, как у оленёнка Бэмби… И, конечно, родинка… А ещё она так забавно выпячивает нижнюю губу…
Всё это волнительно. И трогательно до умиления. Но ведь я жил как-то до встречи с Евой. Значит, смогу жить без неё и дальше. Правильно? Да. Но выпить, тем не менее, хотелось.
Пить в одиночестве я не люблю. Поэтому позвонил старому товарищу Косте Танелюку по прозвищу Седой. Мы когда-то работали вместе в театре. Пока его не уволили за систематическое пьянство. В театре нам его не хватало. Не мне судить, каким Танелюк был актёром, но собутыльником он был что надо.
Костя не заставил себя долго ждать. Буквально через час после звонка я уже имел удовольствие лицезреть родную небритую седую рожу.
– Инсульт-привет! – громогласно воскликнул он с порога.
Ему было сорок с лишним, но, словно желая оправдать своё давнее прозвище, он был полностью седым. Седым, как лунь.
– Не ори, – сказал я. – У меня сосед-сердечник. Проходи.
Он вошёл. Мы обменялись рукопожатием.
– Как ты вовремя позвонил. Я и сам собирался тебя разыскать. Но дела-дела-дела…
– Седой, из тебя деловой человек, как из меня архиепископ.
– Аминь, – сказал Седой. – Видишь ли, я наконец-то созрел стать писателем. Беллетристом.
– Чего-чего?
Он нырнул рукой во внутренний карман потёртого пиджака и вытянул измятые листы бумаги, сложенные вчетверо.
– Прочти мои рассказы, – попросил он и протянул мне листки.
– Может, сперва хлопнем по рюмочке?
Танелюк хитровато прищурился:
– А есть повод?
– Само собой, – ответил я, усмехаясь. – Без повода гудят лишь пароходы.
– Нет, сначала прочти.
– О’кей, но пока я буду знакомиться с твоими опусами, ты сооруди какую-нибудь закуску. Всё необходимое в холодильнике.
– Только читай вдумчиво.
– А ты не переусердствуй с перцем.
– Положись на меня, командор.
15
Мне известно, что некоторые доктора, попадая в новую компанию, предпочитают по возможности не распространяться о виде своей деятельности. Потому что каждый норовит тут же рассказать ему о собственной болячке и попросить его профессионального совета. И мало кого волнует, что у врача может быть узкая специализация, что, может, он стоматолог или гинеколог, главное – врач, а значит, обязан выслушать и чего-нибудь посоветовать.
Вот так и со мной. Как только меня стали издавать, каждый второй мой знакомый и также малознакомый, а порой и вовсе незнакомый приносил или присылал мне по электронной почте свои рассказы, эссе, новеллы, повести и даже романы. Чтобы всё это читать и давать замечания по прочитанному, я должен был бы сам бросить писать, потому что времени ни на что другое уже б не оставалось. К тому же основная часть присылаемого была полной фигнёй. Но кто из начинающих литераторов способен принять неприятную правду?
Обычно я не читаю чужие работы. Вернее, читаю лишь страничку-полторы – этого достаточно, чтобы составить мнение.
Для Танелюка я готов был сделать исключение. Я решил прочесть всё, что он принёс, от начала до конца.
Первый рассказ «Тёща» начинался превосходно:
«Николай не мог уснуть от стекавшихся к переносице мыслей и лёгкой пульсации в правом указательном пальце. Жена с дочкой на море. Тёща убирается по дому. Николай лежит и думает о том, что в заблуждениях он жил, а в искушённости существовал. Вечер был светел. Бурчала хмурая тёща».
Дальше шёл рваный и бессвязный диалог Николая с тёщей. Николай раздражался, и вскоре пульсация распространялась по всему телу. А он хотел оставаться ироничным и холодным…
Завершался рассказ так:
«Николай взглянул на часы. Разделся догола. Взял на кухне нож. Вошёл в комнату к тёще. Застыл у изголовья. Мгновение колебался, глядя на спящую. Взмахнул рукой, державшей нож… За окном бледнолицая луна пряталась за кроны деревьев».
Простенький такой, коротенький рассказ. Ничего шедеврального. Второй оказался ещё короче. Назывался он «Одноклассники».
Некий Николай явился к однокласснику Мише, чтобы возвратить долг. Миша неудержимо хвастался своим положением и богатством. Подшучивал над Колей. Стал раздражать. Финал обескураживал.
«…Коля выпрямился и сильно ударил Мишу головой в лицо. Тот упал и потерял сознание. Николай выдернул из розетки шнур удлинителя, обмотал им шею одноклассника и принялся душить Михаила… Вечерело».
Последнее предложение меня улыбнуло.
Третий рассказ назывался «Сосед».
Главный герой заходит к соседу за солью. Казалось бы, совершенно безобидное начало. Но я подозревал – без крови не обойдётся. И точно! Главного героя охватило привычное раздражение.
«На белоснежный кафель с топора стекала кровь… С улицы пахнуло пьянящим запахом сирени».
Последний рассказ под названием «Любовница» я уже не читал. Сразу заглянул в финал. Меня интересовало только одно – каким оружием воспользовался главный герой. Бензопила? Огнемёт? Бластер?
Но я ошибся. Любовница главного героя травилась сама, узнав о том, что её Коля-Николай вернулся к супруге.
В общем, художественный образ, достойный второсортной мыльной оперы.
«Он крепко обнял холодеющее тело любимой и шептал в ничего не слышащее ухо слова запоздалого признания. Труп любимой медленно синел. Близилось утро».
Мной овладел приступ неудержимого смеха.
16
Танелюку я сказал:
– Это некая сублимация, Костя. Ты выплёскиваешь на бумагу свою агрессию, и в результате тёща, одноклассник, сосед и прочие живы-здоровы, а ты доволен. Литературой это назвать нельзя. Хотя, конечно, есть сногсшибательные фразы. К примеру, «жизнь – это попытка утереть нос собственным родителям».
– В моём случае, – заметил Седой, – это неудачная попытка утереть нос родителям.
– В целом, – солгал я, – не так уж плохо. Но надо работать. Много работать.
Я не мог выложить ему всей правды. После тридцати начинаешь ценить тех немногочисленных людей, которые хоть отчасти претендуют на звание друзей.
Однако мой осторожный ответ не удовлетворил Седого.
– Ты мне конкретно скажи, – попросил он, – тратить мне на писанину своё время или лучше не морочить голову ни себе, ни людям.
– Ну как тебе сказать…
– Говори как есть.
Я решил, что толерантность тут ни к чему, и резанул прямо:
– Литературного дара у тебя нет. А писать без него – всё равно что трахаться без эрекции.
– Ладненько, – согласился Танелюк, нисколько не огорчившись. – Тогда я подарю тебе свою записную книжку. Вдруг что-нибудь из моих набросков и записей ты сможешь использовать в своей работе.
– Это не обязательно.
– Нет-нет-нет, она мне больше не нужна. Я подарю её тебе, это и будет моим скромным вкладом в русскую литературу.
– Весьма благородно с твоей стороны.
Мы сидели на кухне. Выпивали, беседуя, закусывали и курили…
Невесёлые мысли понизили свою активность. Зато выпитое активировало знакомое по детским годам ощущение беспечности.
Приговорив полтора литра водки, мы основательно охмелели.
Наш диалог начал вязнуть и распадаться на не связанные между собой куски.
– Интересно, чего ты развязался? – спросил Седой.
– А мне интересно, почему ты не пробуешь завязать?
– Я алкоголик, Лёня. Буду я бухать или нет – не имеет значения. Это диагноз. И он на всю жизнь.
– Ты веришь в любовь? Такую… о которой пишут в книгах…
– Мне сорок четыре года… Я просрал карьеру бухгалтера… Великого актёра из меня тоже не получилось… Теперь ты говоришь, что литературного дара у меня нет… Я больше ни во что не верю.
– Самое время поверить в Бога.
– Самое время выпить.
– Знаешь, я устал быть один.
– Помнишь, о чём писал Монтень?
– Да не важно, кто о чём писал! Мы не можем жить по написанному. В книгах люди ищут лишь подтверждение своим мыслям.
– Монтень писал…
– Если неприятности я научился переносить сам, то хотя бы чёртов успех я могу разделить с кем-то… С кем-то, кто мне дорог…
– Монтень писал: «Каждый человек может быть самим собой, только пока он одинок». Конец цитаты.
– Хрен тебе. Это сказал Шопенгауэр.
– Шопенгауэр сказал «хрен тебе»?
– Нет, про то, что человек может быть самим собой, пока одинок. Так что… нечего наводить тень на Монтень…
– Какая разница, кто что сказал… Главное, что сказано хорошо.
– Подай зажигалку.
– Ты пить-то будешь?
– Конечно. Можешь не сомневаться. Буду. Пока не свалюсь.
– Тогда вперёд!
– И пошли все на х*й! Конец цитаты.
– Вот это здорово сказано. Запиши.
17
При чём тут любовь? От любви люди в запой не уходят. Даже от безответной. Дело не в любви…
Однажды, после очередного срыва, я обратился за помощью к психотерапевту. А что? В Америке, говорят, каждый второй посещает психоаналитика. Годами ходят. Бешеные бабки на это тратят. (Боже, храни Америку – страну адвокатов и психоаналитиков.)
Наши отечественные специалисты тоже стоят недёшево. Оплата почасовая. Сто долларов в час. На минуточку!
Впервые в жизни я платил за то, чтоб меня выслушали.
Она изредка задавала вопросы – доктор была женщиной – и с интересом выслушивала мои монологи. Ещё и получала за это деньги.
Ёлы-палы! Когда мне надоест писать, подамся в психоаналитики. Работа – и лентяй позавидует.
Я приходил. Она смотрела на часы – засекала время. Задавала вопрос. Я подробно отвечал. Лишь только я умолкал, она задавала следующий вопрос. Спустя час она говорила: «На сегодня всё. Встретимся через неделю».
Вот она мне как-то пыталась втолковать, будто есть только две истинных причины пьянства. С помощью алкоголя человек пытается либо избавиться от чего-то – метод вытеснения, либо наоборот – метод заполнения. Другими словами, человеку или чего-то не хватает, или его что-то тяготит.
Вообще-то считается, что причины алкогольной зависимости делятся на три группы. Физиологические, социальные и психологические.
С физиологической причиной всё ясно. Причина заложена в определённом наборе хромосом. То есть имеет место генетическая предрасположенность к алкоголизму. Такую плохую наследственность обеспечивают пьющие родители.
Социальные причины алкоголизма тоже понятны. Тут тебе и культура, и среда, и традиции… Многие начинают пить только потому, что кругом пьют все – друзья, товарищи, коллеги…
Низкий уровень жизни, бедность, болезни и беспросветная монотонность существования – всё это также не способствует трезвому образу жизни.
К социальным причинам злоупотребления алкоголем учёные относят и неверно выбранную профессию, которая утомляет и не приносит внутреннего удовлетворения.
Сложнее всего с психологическими причинами. Хотя бы потому, что до них нужно ещё докопаться. Они ведь частенько скрыты, и скрыты хорошо. Бывает, что человек пьёт, например, из-за невозможности проявить свой талант, его гложет, что он не может реализовать потенциал, заложенный в нём. Вот поэтому, как ему кажется, он и квасит без меры.
Так думает он, так думают окружающие. Но если копнуть, то вдруг окажется, что он крайне неуверен в себе, или патологически боится близости с женщиной, или завидует кому-то… Причиной для алкоголизма может стать что угодно – комплекс неполноценности, чувство вины, желание привлечь к себе внимание и даже ненависть к себе и стремление к саморазрушению. Да мало ли что ещё!
Осталось разрешить один вопрос. Почему пью я? Отчего один, а то и два раза в год я ухожу в страшный запой? И с каждым годом эти запои становятся всё тяжелей и продолжительней?
Раньше я всех уверял, будто это такой своеобразный отпуск. Своего рода побег из повседневных будней. Временный отдых и забвение… Но простите меня. Что это за отдых, после которого ты минимум неделю приходишь в себя, по крупицам восстанавливая силы и здоровье? Что это за отпуск, из которого ты когда-нибудь можешь вообще не вернуться?
18
Мы пили беспробудно двое суток.
Потом Танелюк неожиданно заявил, что от водки у него разыгралась изжога и теперь он будет пить исключительно вино. Красное. Сперва креплёное. Весь сегодняшний день. А с завтрашнего дня – сухое. И, дескать, таким макаром он легко и безболезненно выскочит из этой незапланированной пьянки.
Назавтра он отправился за вином и не вернулся.
Прошло семь часов. Я продолжал пить один.
Скоро водка кончилась. И мне стало страшно. Мне стало страшно, и я включил телевизор. Долго переключал каналы в поисках чего-то доброго и спокойного, но ничего подобного найти не смог.
Страх меня не покидал.
Я хотел выйти и купить себе чего-нибудь выпить, но боялся, что тоже не вернусь, что пропаду, исчезну, сгину, как Седой.
Я говорил себе: твой страх необоснован. Тебе нечего бояться. Преодолей свой страх. Встань и иди.
И отвечал себе: я не хочу рисковать.
Беспричинный страх означает, что моя нервная система расшатана. Разум уже не в силах успокоить убедительно и логично мою затравленную душу в том, что всё в полном порядке и опасаться нечего, потому что он – разум – отравлен алкоголем. Я никуда не пойду.
Прекрати! Твою тревогу снимет как рукой, лишь только ты немножко выпьешь.
Я не хочу больше пить. Я устал.
Ничего подобного, ты можешь. Ты крепок и силён. Я в тебя верю, крепыш!
Но я хочу спать!
Отставить спать! Это преступная и подлая мысль. На морозе людей клонит в сон… Засыпая, они чувствуют тепло, но это смерть… Ты ведь не хочешь умереть?
Мне уже всё равно, я устал…
Не хочешь пить – не пей. Но сходи и купи, чтоб было. После чего можешь спокойно уснуть. Зато когда ты проснёшься, твоё состояние будет очень хреновым и ты подлечишься. И вспомнишь меня добрым словом.
Хорошо, сказал я себе. Придётся идти. Сначала Седой, теперь я… А за мной идти уже будет некому. Я уйду и не вернусь вслед за товарищем, но если я о нём помню, то обо мне вспомнить будет некому, потому как никто не знает о том, что я собираюсь уйти.
Наверное, поэтому я послал короткую смску одной моей… близкой знакомой… Бывшей близкой знакомой. Я написал ей: «Марина, я иду за Седым и за водкой, хотя у него от неё изжога».
Отчетливо помню, как я отправлял смску… Как отправлял – помню, а вот как я у Марины очутился в квартире – не помню совершенно.
Предполагаю, что, наклюкавшись в хлам, я включил автопилот и тот привёл меня по забытому маршруту на старый аэродром.
Заявиться к бывшей, с которой с таким трудом расстался этим летом, и заявиться в таком разобранном состоянии – хуже придумать было нельзя.
Мы встречались с ней пару лет и даже какое-то время вместе жили, но я никогда её не любил. Скажу больше, я даже сомневался в том, что она любит меня, хотя Марина неустанно и навязчиво доказывала мне свою любовь.
Мы расстались, лишь только Марина захотела официально оформить наши отношения. С тех пор я ни разу не пожалел о разрыве. Но вот очутился у неё… Вероятно, по пьяни мне захотелось любви и ласки…
Смутно помню, что я был выкупан и чуть ли не насильно накормлен куриным бульоном.
К утру я отрезвел, и наступило похмелье. Очень тяжёлое похмелье.
Меня разбудил телефонный звонок.
Я с большой неохотой приоткрыл глаза. Понял, где нахожусь. Пронзительные прерывистые звонки настойчиво продолжали насиловать мой слух.
Со стоном я потянулся к трубке.
Тихий голос Марины был полон нежности и сострадания.
– Здравствуй, милый. Как ты себя чувствуешь?
– Нормально, – прохрипел я, хотя чувствовал себя хреново. – Ты где?
– Я на работе.
– Когда вернёшься?
– Завтра вечером.
– Что?!
– Мы же договорились. Ты сам просил помочь тебе.
– Что это значит?
– Ты просил запереть тебя на двое суток. Чтоб ты перестал пить.
Моё сердце бешено заколотилось.
– Хочешь сказать, что я не могу отсюда выйти?!
– Ты именно этого хотел.
– Да я же сдохну здесь, дурра!
– Перестань, всё будет хорошо…
– Да ты понимаешь своими куриными мозгами, что нельзя так резко прекращать пить?!
– Не кричи на меня…
Я принялся лихорадочно соображать.
– Запасные ключи в доме есть?
– Я их забрала… Всё сделала, как ты просил…
Пришлось сменить гнев на милость и дипломатично перейти на просительный жалобный тон.
– Ну хорошо… Ты могла бы сразу после работы приехать домой? А ещё лучше – отпросись пораньше, пожалуйста…
– Ты предупреждал, что будешь просить об этом.
– Рад, что мной всё предугадано, но концепция изменилась.
– Лёня…
– Я умоляю тебя, Мариночка… Я же могу умереть.
– Ты предупреждал, что…
– Твою мать, если ты сейчас же не приедешь, я тебя убью, сука!..
Связь оборвалась. Вероятно, Марина бросила трубку.
В бешенстве я схватил телефонный аппарат и запустил им в стену…
19
Ситуация казалась мне катастрофической. Я был заперт в квартире без грамма алкоголя. Один на один со страхом смерти. Ведь я пил весьма продолжительное время, и пил много. Резкая остановка в употреблении спиртного чревата фатальным исходом. Я сталкивался с подобными случаями. Не меньше я опасался и белой горячки.
Возможно, я из мнительности преувеличивал серьёзность положения. Но – повторяю – моя нервная система находилась в расшатанном состоянии, а воспалённый мозг упорно ретушировал в тёмные тона дальнейшие перспективы.
Что делать?
Дверь была закрыта на два врезных замка. Выбить – нереально.
Прежде всего я облазил всю квартиру в поисках запасных ключей. На всякий пожарный. А вдруг?
Тщательный обыск занял часа полтора и положительного результата не дал. Хотя на шкафу я нашёл пачку сигарет – мою старую заначку.
Чтобы собраться с мыслями, я закурил, и меня стошнило.
Должен быть какой-то выход, думал я. Выход всегда есть. Из любой безвыходной ситуации.
Что делать? Что делать? Что?..
Меня всего трясло, и я никак не мог унять эту лихорадочную дрожь.
Мне было плохо. Сердце билось с перебоями. Кружилась голова.
Я прошёл на кухню. Занырнул в холодильник. Еды было валом, но есть не хотелось. Заглянул в буфет, порыскал по ящичкам.
На глаза попалась бутылка без этикетки. С прозрачной жидкостью. Боясь даже надеяться на чудо, откупорил бутылку. Понюхал. Уксус. От разочарования выронил пробку. Нагнулся, чтобы поднять – левую ногу свело судорогой. Я опустился на пол и, матерясь, стал массировать ногу.
Вспомнил, как Довлатов в письме Ефимову поведал о невозмутимости своей жены Елены. Страдал он однажды от жуткого похмелья. Было ему невыносимо тяжело и дурно. Лежал он на диване и мучился. И вдруг он перестал чувствовать ноги. Словно нет их вовсе. Довлатов забеспокоился.
– Лена, – сообщает он жене упавшим голосом, – у меня ноги отнимаются. Ног не чувствую.
На что Елена спокойно говорит:
– А ты не ходи никуда.
Дескать, если никуда не ходить, то ноги как бы и не нужны. Чего понапрасну нервничать?
Да… В тот раз у Довлатова всё обошлось. А вот из последнего запоя он не вышел. Прекратил пить – сутки похмельную пытку терпел – сердце не выдержало.
А ведь на сердце он никогда не жаловался. Этот орган, хвастался он, работает как часы. Но время вышло…
Чтобы как-то отвлечься от невесёлых дум, я начал прислушиваться к внутреннему монологу с самим собой.
Не дрейфь, братишка, говорил я себе. Мы что-нибудь придумаем.
Что тут придумаешь?
Без паники, Леонид, без паники. «Врагу не сдаётся наш гордый «Варяг».
Какому врагу? Ты – мой главный враг.
Зря ты так. Я-то тут при чём?
При том! Это ж как нужно себя ненавидеть, чтоб так бухать?!
Начинается!
Продолжается! С каких буёв тебе вообще бухать? Молодой здоровый мужик!
Не урод, не калека… Пишешь, тебя издают… Чего тебе не хватает, сволочь?
Я устал…
Да с чего тебе уставать! Ты что, на шахте уголь добываешь? На тебе пахать можно!
К твоему сведенью, во время умственного труда человек сжигает в два раза больше калорий, чем…
Какого труда? Умственного? Тоже мне Эйнштейн нашёлся! Блез Паскаль, твою мать! Кстати, ни Эйнштейн, ни Паскаль, ни Ньютон, ни даже твой любимый Ницше не бухали.
А Менделеев?
Менделеев, может, и выпивал… По праздникам… Но он не жрал водяру в три горла две недели подряд!
Хемингуэй тоже пил.
Хемингуэй войну прошёл. И не одну! Он работал как проклятый. И здоровье бычье имел. Он две бутылки мог всосать, но утром – как бы сильно ни бухал накануне – садился и писал, писал, писал…
У Высоцкого случалось шесть-семь запоев в год.
Сравнил шары бильярдные с яйцами! У того была всенародная слава и любовь, а тебя даже мать родная не любила.
Слава – не проблема. Я над этим работаю.
Мечтай, мечтай. Ты сдохнешь – и тебя уже через год ни одна падла не вспомнит, а Высоцкого сто лет будут помнить.
То же самое, между прочим, говорили ему, когда он сравнивал себя с Есениным.
Вот и учился бы у них хорошему, а не плохому!
Это чему, например?
Трудолюбию, блядь! Трудолюбию и самодисциплине! Легко бухать как Есенин, как Высоцкий, как Шукшин, но ты сперва напиши столько же…
Я напишу больше…
Ты напиши не больше, а лучше.
Я напишу.
Я посмотрю.
20
С каждой минутой мне становилось всё хуже. Сложно сейчас описать тот похмельный синдром. Я помню, было ощущение, будто из моих вен выкачали всю кровь и по ним гуляет холодный воздух. (Может, это и означает выражение – «в жилах стыла кровь»?) Немели конечности… Сердце то бешено стучало, то замирало совсем… Такое было ощущение…
Потом меня часто тошнило, но желудок был пуст и рыгать было нечем…
Когда меня бросило в пот, я вышел на балкон – подышать, проветриться.
На улице было свежо и прохладно.
Я глянул вниз. Третий этаж – не так уж высоко… Но всё-таки на два этажа выше моего безрассудства.
А что если…
Мелькнувшая идея вдохновила меня и придала сил. Я вернулся в комнату. Взял в шкафу два пояса от халатов, подтяжки и брючный ремень. Связал их между собой. К концу подвязал Маринину сумочку. В тюрьме подобное рукодельное изделие называют «конём». «Коня» просовывают сквозь решётку и спускают вниз, чтобы дружки заключённых или заключённые с нижних этажей могли что-нибудь передать наверх – чай, сигареты, записку (по-лагерному – малява)…
Я пересчитал имеющуюся наличность. Двести пятьдесят гривен. Три купюры – две их них по сто.
Вышел с «конём» на балкон.
Всё путём, братишка, думал я. Народ у нас сердобольный – поможет.
Просить надо мужчин, решил я. Женщины подсознательно солидарны друг с другом в осуждении пьющих. Это они впитывают – с молоком матери. А мужчина – пусть даже убеждённый трезвенник – поймёт, войдёт в положение… Ну, а уж если пьющий – а таких у нас большинство, – поможет точно, ведь рано или поздно – и сам может оказаться в подобной ситуации. От этого никто не застрахован – должны понимать.
Прохожих было мало. Что не удивительно. Будний день. На часах – одиннадцать тридцать. Многие на работе. Я ждал по пять-десять минут, прежде чем кто-нибудь наконец-то проходил по узенькой аллейке под окнами дома. Представительниц слабого пола я игнорировал, но и не каждому мужчине решался довериться.
За полтора часа я сделал две неудачные попытки. Один выгуливал пса и не соизволил даже выслушать меня. Мудак бесчувственный. Второй – солидный такой, в белом плаще, при шляпе – извинился и отказал, мотивируя свой отказ тем, что чрезвычайно спешит.
– Извини, – сказал он напоследок, – как-нибудь в другой раз.
Я же искренне надеялся, что другого раза не будет. Не должно быть…
Затем я увидел медленно ковыляющего старика бомжеватого вида.
– Эй, мужик! – крикнул я. – Заработать хочешь?
Старик запрокинул голову и прищурился:
– А что надо делать?
– Надо сгонять в магазин и купить маленькую бутылку водки. Чекушку.
– И всё?
– Я бы сам сходил, но меня жена-мегера закрыла. А мне так хреново – вот-вот ласты склею.
Старик запустил руку в свои седые патлы, почесал задумчиво «соображалку» и спросил:
– А каким же образом я передам тебе бутылку?
– Всё в порядке, я спущу вниз сумку. Лови деньги.
Я бросил ему спичечный коробок, в который сунул сложенную вчетверо пятидесятигривенную купюру.
– Сдачу можешь оставить себе.
Старик подобрал коробок и смешно, но относительно быстро заковылял в сторону магазина.
Ожидание рвало душу в клочья.
Прошло минут сорок. Я стоял на балконе, ёжась от холода, – и проклинал старика и всех, кто имел хоть какое-то отношение к его зачатию, рождению и воспитанию.
Вывод напрашивался сам – бомжара прикарманил лёгкие шальные деньги и скрылся в неизвестном направлении, радуясь тому, что ему попался такой лопушистый лох, как я.
Неужели он не вернётся и я сдохну на балконе? Ну уж нет! Хрен вам! Не дождётесь!
21
Ещё обыскивая квартиру, я невольно обращал внимание на всё, что могло теоретически содержать спирт. Теперь я собрал все эти бутылочки, пузырьки и флаконы. Расставил их на столе. Начал гадать, что из этого всего можно выпить с минимальным риском для жизни. Тут были: валерьянка, корвалол, настойка боярышника, туалетная вода, духи, пятновыводитель, жидкость для снятия лака… Но выбор свой я остановил на ополаскивателе для рта. Сузив глаза, я внимательно изучил этикетку.
«Укрепляет десны и защищает от проблем дёсен.
Обладает великолепным освежающим вкусом и надолго обеспечивает свежее дыхание.
Способ применения: наполните половину колпачка ополаскивателем и тщательно прополощите рот. Использовать до или после чистки зубов.
Меры предосторожности: не глотать. Не использовать в пищевых целях. Хранить в недоступном для детей месте.
(Я подумал, что надо было бы написать «Хранить в недоступном для детей и алкашей месте».)
Состав: вода, глицерин, спирт этиловый, ароматизаторы, бензоат натрия, сахаринат натрия, краситель С142090.
С вопросами и пожеланиями обращаться: Москва, Ленинградский проспект, 37, корп.9»
Как жаль, что в школе я с пренебрежением относился к урокам химии. Может, люби я химию, знал бы теперь, что такое бензоат натрия и насколько он вреден.
Ладно, где наша не пропадала! Спирт этиловый есть, и на том спасибо.
Я отвинтил колпачок и вылил содержимое в чашку. Жидкость была голубого цвета. Скорее всего, из-за красителя С142090.
Я взял чашку. Рука дрожала, как у припадочного. Пришлось схватить чашку двумя руками.
Резко выдохнув в сторону, я одним большим глотком выпил эту голубую гадость.
Глотку обожгло, словно я выпил расплавленный жидкий металл. Язык, нёбо, вся полость рта онемели… Ощущение, как в стоматологическом кресле после анестезирующего укола в десну.
Я запил это холодной водой из-под крана, но всё равно минуты три боролся с подступившей тошнотой. В любом случае это лучше, чем одеколон, который мне пришлось однажды выпить. И куда лучше технического спирта, ослепившего меня на двое суток.
Правда, было пока не ясно, что ожидает меня теперь. Но с удовлетворением я констатировал, что руки дрожать перестали. Уже за одно это можно было послать пожелание долгих лет по адресу: Москва, Ленинградский проспект, 37, корп.9.
Надолго обеспеченный свежим дыханием, я вышел на балкон – перекурить.
Внизу, под окнами дома, маялся мой гонец-старик.
– Куда ты пропал? – выкрикнул он с упрёком.
– Я пропал?! А ты где ходишь? Если тебя послать за смертью, я буду бессмертным.
– Магазин был закрыт. Переучёт. Пришлось валить в супермаркет, а там очередь, а по дороге я встретил…
– Короче, ты купил?
Старик молча продемонстрировал бутылку.
– Сейчас, – сказал я.
Не мешкая, я спустил «коня» старику. Но он оказался короче, чем я предполагал. Сумочка зависла метрах в трёх от земли. Старик не дотягивался до неё.
– Подожди, – сказал я. – Надо утяжелить сумку.
Я видел в кладовке трёхкилограммовые гантели. Тяжесть двух гантелей растянула подтяжки – и сумка благополучно опустилась к старику. Тот осторожно вложил в неё чекушку.
– Вира!
– Спасибо тебе, – поблагодарил я старика, когда бутылка оказалась у меня в руке.
– На здоровье. Сдачу – как мы договаривались – оставил себе.
– Конечно. Только не пей много – это зло.
В ответ – беззубая улыбка и взмах руки.
«Старик, я слышал много раз, что ты меня от смерти спас».
Я прошёл на кухню, поставил бутылку на стол. Нырнул в холодильник и вынырнул обратно с трёхлитровой банкой, на дне которой плавала в рассоле парочка скукоженных огурцов. Внутрь банки рука попала легко, а вот с огурцом рука слегка застряла. Я зажал банку между ног. Сужая кисть руки, огурец я обхватил лишь кончиками пальцев… Приложил небольшое усилие – рука резко выскочила из банки и, описав полукруг… сбила бутылку со стола. Чекушка полетела в стену!
22
Вначале было слово. Совершенно непечатное слово. За ним другое, третье… Нецензурная брань лилась из меня, как нечистоты из повреждённой канализационной трубы.
Не прекращая материться, я схватил с умывальника губку, опустился на кафельный пол и попытался хоть частично спасти положение. Впитавшуюся в губку водку я выдавливал в чашку. Выдавливаемая жидкость пузырилась и пенилась; видимо, губка содержала в себе остатки средства для мытья посуды. А ещё я порезал мизинец – мутная пена в чашке окрасилась кровью.
Я встал. Кругом осколки. Мокрые пятна на джинсах в районе колен. Мизинец кровоточит. Лицо в поту. Печёт глаза. В чашке грамм сто. Мутно-бурого цвета. Брезгливо морщась, я выпиваю эту муть. Дыхание перехватывает. Стиснув зубы, прикрываю рот рукой, но не могу сдержать рвоту. Всё снова вылилось на пол. Я ударил кулаком об стол. После чего упал на колени. От обиды и боли из глаз брызнули слёзы. Беззвучно плача, я прислушался к внутреннему диалогу с самим собой. Вернее, это был внутренний монолог. Очень-очень матерный.
Если убрать или заменить неприличные слова, то он звучал примерно так:
Лёня, ты нехороший, зачем тебе понадобился тот нехороший огурец. Зачем он тебе, нехорошая твоя мать. Теперь ты, такой-сякой, можешь засунуть нехороший огурец вместе с нехорошей банкой себе туда, откуда ты вылез, так-разтак, тридцать пять нехороших лет тому назад.
Будь благословен человек, придумавший матерные ругательства. Хоть какой-то выброс агрессии и негативных эмоций. Не знаю, кому как, а мне такая эмоциональная разрядка помогает. Если уж «последний русский классик», дворянин, академик российской словесности и нобелевский лауреат Иван Бунин не брезговал при случае загнуть пару крепких оборотов, да так душевно, что даже парижские таксисты – такие же эмигранты, как он – смотрели на него с восхищением и в знак уважения отказывались от чаевых, то нам, падшим и грешным литераторам, тем паче простительно.
Я успокоился. Но обессилел. Чувствовал себя больным и уставшим. Опустошённым. Мне показалось, что сейчас я смог бы уснуть. Сон – удобное и относительно безболезненное убийство времени. Обычно на похмелье мне плохо спится даже ночью, но кто знает – может, повезёт вздремнуть часок-другой.
Я поплёлся в комнату. Лёг на диван. Закрыл глаза…
Постарался ни о чём не думать. А так как это совершенно невозможно, я постарался не думать ни о чём плохом.
23
Плюньте в морду тому, кто посмеет утверждать, будто в минуте шестьдесят секунд. Это когда как. Порой минуты проносятся со скоростью звука, а порой они ползут подобно черепахам в рапиде.
Около часа я ворочался с боку на бок в надежде найти удобное положение, чтобы забыться сном. Но безуспешно.
Я улёгся на спину и уставился в потолок.
В голове не к месту крутилось:
- «Кровь от лица, сердце в рубцах,
- Но надо стоять до конца».
Кажется, это Александр Розенбаум. Тоже, говорят, пил чувак по-чёрному. Даром, что еврей и в прошлом врач-реаниматолог. Но нашёл в себе силы и завязал.
Множество творческих людей были подвержены этому пороку. И большая часть из них пала в неравной схватке с зелёным змием. Остальные довольно сильно пострадали. Но печальнее всего, что злоупотребление спиртным имело пагубное влияние на творчество.
Джек Лондон это осознал. И написал повесть «Джон Ячменное Зерно», в которой попытался объяснить – спиртное уничтожает личность и губит талант. Джек Лондон не понаслышке знал об этом. И не обманывал себя по поводу ужасного воздействия алкоголя на свою жизнь.
Фолкнер, к примеру, уверял, что когда он пьёт в меру, то это, дескать, благотворно сказывается на его работе. Дескать, выпивка держит его в тонусе и стимулирует полёт фантазии. На самом деле каждый последующий роман давался ему всё тяжелей и откровенно был хуже предыдущего.
Алкоголизм привёл Фицджеральда к полному творческому бессилию. Жизнь пошла под откос. Он опустился и медленно добивал себя выпивкой.
Хемингуэй упрямо повторял: «Пьющий писатель – хороший писатель». Себя же он «умеренной» выпивкой в конце концов довёл до паранойи и самоубийства.
Американский список пьющих писателей не короче русского. Эдгар По, О Генри, Джек Лондон, Синклер Льюис, Юджин О’Нил, Скотт Фицджеральд, Уильям Фолкнер, Трумен Капоте и многие другие.
Некий Том Дардис написал целую книгу, в которой попытался разобраться и ответить на вопрос: отчего американские писатели так убийственно много пили? Однако не дал однозначного ответа.
А сколько наших классиков уничтожило себя алкоголем! Десятки! Я уж не говорю о тех, кого пьянство сгубило раньше, чем они успели сделать себе имя. Их сотни.
Помню, спорил я с Танелюком. Он говорил:
– Да, Есенин синячил! И Шолохов синячил! И Высоцкий… Но ты посмотри, как много они написали. И это всё гениально!
Я легко согласился. Я сказал: да, они пили много. И, да, они писали гениально. Но не благодаря пьянству, а вопреки.
А сколько могли бы ещё написать!..
Твардовский – главный редактор «Нового мира» и автор «Тёркина» – в своё время признался: «Я не пью, когда пишу; не пишу, когда пью», а затем грустно добавил: «Поэтому я написал так мало».
Талантливый Венедикт Ерофеев состоялся как писатель, создав поэму «Москва – Петушки», в которой он прямо-таки воспел нетрезвый образ жизни. Пил он по-чёрному. По-чёрному, до белой горячки. Но поэму «Москва – Петушки» он написал в короткий промежуток между запоями. Ничего путного он больше не создал.
Он пил всю жизнь. Не очень длинную жизнь.
Танелюк говорит:
– Если б он так не пил – он никогда б не написал «Москва – Петушки».
Но… можно ли за одну поэму расплачиваться целой жизнью? Наверное, можно. Хотя цена слишком высокая…
Василий Шукшин сильно пил. Но преодолел в себе эту порочную тягу. Сумел. Последние годы капли в рот не брал. Жаль, что завязал слишком поздно. Крепкое алтайское здоровье было уже подорвано. Сердце не выдержало и остановилось, когда ему было всего сорок пять.
Поэт и сценарист Геннадий Шпаликов спился и покончил жизнь самоубийством в возрасте тридцати семи лет. А ведь талант имел огромный. Но пристрастие к спиртному…
Можно, конечно, винить Советскую власть. Вот, мол, затравили, суки, Гену Шпаликова! Не давали спокойно работать Юрию Олеше… Владимира Высоцкого официально не признавали поэтом…
Да, времена были такие… Тоталитаризм. Цензура. И тому подобное… Но сейчас-то! Свобода слова! Раскрепощение нравов… Пиши что хочешь – никто тебе ничего не скажет… Живи, работай! Что же наши поэты, писатели? Пьют! Не пьют – так курят всякую дрянь. Не курят – так нюхают или колются…
Может, это у нас народ такой? Хорошо. Допустим. Но вот Фредерик Бегбедер. Француз. Популярен. Богат. И – не просыхает.
Чего он пьёт?!
24
Прочёл когда-то давно такие строки:
- «Падают таланты на Руси,
- Кто-то пьёт, другой уже в могиле.
- Господи, помилуй и спаси…
- Мало нас без водки загубили?..»
Не помню, где прочёл. Не помню имени автора. Но четверостишье запомнил с первого раза намертво.
Ну, право слово – какого буя себя губить? В мире столько трудностей, которые следует преодолеть, дабы достичь главной цели в жизни, что попросту глупо создавать лишние препятствия. А может, у пьяниц нет никакой цели в жизни? А может, они стали пьяницами потому, что у них никакой особой цели и не было? Но это не мой случай. Я знаю, ради чего живу.
Интересно, ради чего?
Отстань! Задолбал, в натуре.
Ради чего же?
Ну… я… сложно сказать… Меня ничего, кроме литературы, не интересует. Я хотел бы только писать.
Врёшь! Нагло и талантливо врёшь! А, вернее, не договариваешь всей правды. Но я тебя знаю, как себя. Я скажу, чего ты хочешь на самом деле. Ты хочешь славы! Даже больше – ты жаждешь бессмертия. Посмертной славы. С пошлыми памятниками и мемориальными досками. Небось, мечтаешь о Пулитцеровской премии или Нобелевской по литературе. Хочешь всемирного признания и всенародной любви. Хочешь полное собрание сочинений. В общем, хочешь всего того, что было у великих писателей. Но чувствуешь, что недостоин всего этого, а исправить ничего не можешь и поэтому время от времени срываешься в штопор.
Господи, что ты несёшь?
Можешь спокойно бухать, братишка. Ничего этого не будет у тебя. Рылом не вышел.
Жаль, что я не могу набить тебе рожу.
Ты тщеславен. Хотя и терпимей бездарных коллег.
Заткнись.
Гордишься тем, что не подвержен, как другие, чувству зависти. Да, ты не завистлив, но только потому, что слишком высокого мнения о себе и свысока глядишь на современников. Откуда, с чего в тебе столько самомнения? Ведь ты недоучка. И типичный неудачник.
Да, я неудачник. Но неудачником можно считать любого человека творческой профессии. Потому что жизнь творческого человека – это постоянные взлёты и падения. Это приступы сомнения и самомнения. Это метания между комплексом неполноценности и манией величия. Это удачи и провалы. Актёры, писатели, поэты – все неудачники, даже самые везучие, потому что выбрали профессию, при которой всегда приходится чем-то жертвовать и всегда, почти всегда, зависеть от вкуса и мнения публики.
Если всё так скверно – смени профессию, кореш.
Не я её выбрал, а она меня.
О, как патетично. И трогательно.
Я тебя сейчас удушу!
В смысле, повесишься? То есть попросту ускоришь процесс, начатый давным-давно.
Что ты имеешь в виду?
Видишь ли, современная психиатрия считает алкоголизм одной из разновидностей медленного, так называемого хронического, самоубийства. Наряду с курением и наркоманией. Таким образом, суицид всего лишь быстрее, почти мгновенно, доставит тебя к пункту назначения.
Вся наша жизнь – медленное самоубийство.
К суициду прибегают самые нетерпеливые самоубийцы. Ты когда начал пить?
Не помню, отстань.
Поговори со мной. Тут больше не с кем.
Отстань! И без тебя тошно.
Как знаешь… Хотя, согласись, тема интересная. Я же тебя знаю…
25
В первый раз я выпил, когда мне было лет десять. Может, одиннадцать. Где-то за два года до этого мама, отчаявшись вернуть отца в семью, стала потихоньку выпивать. Бутылочку, реже две, пива. Под селёдочку. По выходным. После рабочей недели. Чтобы расслабиться.
Скоро пиво сменили более крепкие напитки. Она уже не выпивала, а напивалась. Обычно это случалось в дни получки и аванса. И длилось дня три, пока не заканчивались деньги. (Я не хочу сказать, будто она пропивала все деньги. Нет. Она исправно платила за квартиру, раздавала мелкие долги, покупала продукты, которых хватало нам на пару недель, а вот уже оставшиеся деньги уходили на выпивку.) Чёрные для меня дни получки и аванса бросали тень на другие дни и омрачали всё моё отрочество.
Моя мать была тихой доброй женщиной. Заботливой и нежной. Но стоило ей выпить – она становилась невыносимой. Алкоголь менял её до неузнаваемости. По ночам, когда другие дети спокойно спали, она поднимала меня с постели и заставляла звонить отцу. Заставляла хамить ему и взывать к его отцовским чувствам. Если я отказывался или хныкал, она избивала меня. Била по лицу, таскала за волосы… От безудержных слёз и всхлипов (плакать не разрешалось) перехватывало дыхание… Я звонил отцу, говорил ему продиктованные матерью гадости (и не дай Господь ошибиться), врал, что звоню по собственной инициативе, что мама якобы спит в другой комнате. (Ох, как стыдно было перед ним.) Потом я пересказывал ей, что говорил папа. Собственно, что бы он ни говорил, ей всегда было что сказать в ответ. Вернее, это сказать должен был я. И вновь я набирал этот чёртов номер телефона, который помню до сих пор. Вся эта мука тянулась часами. Пока наконец мой батя, скорее всего догадывающийся об истинной причине моих ночных звонков, не отключал телефон. Но по требованию пьяной матери я впустую раз за разом набирал номер и слушал долгие гудки. Спустя час, иногда дольше, она срывала свою агрессию на мне… Или, если Бог принимал мои безмолвные молитвы, засыпала.
Я ненавижу пьющих женщин. Даже слегка подвыпившая дама вызывает во мне омерзение и злость. Если, конечно, я сам не пью. Когда под градусом – тогда всё равно. Залейся хоть весь мир.
Думаю, мать всё-таки любила меня. Любила и ненавидела одновременно. Бывает же так.
Я был поразительно похож на отца. Не только внешними чертами. Походкой, манерой поведения, смехом… Я был постоянным напоминанием о нём… Плод любви. Так она говорила. Плод любви – он же яблоко раздора. В том смысле, что их отношения начали портиться после моего рождения. Она-то, вероятно, рассчитывала, что я окончательно свяжу их вместе, но – нет! Поэтому, будучи трезвой, мама меня любила, а пьяной – ненавидела.
Всему был виной алкоголь. Я был в этом уверен. И при возможности незаметно для матери выливал его. К примеру, в бутылке грамм триста. Мама отвлеклась – говорит по телефону, или пошла в туалет, или мусор выносит… Я грамм сто – сто пятьдесят выливаю в раковину, а чтобы разница не бросалась в глаза – доливаю в бутылку чуток воды. Так вот. Однажды мама, выпив немного, неожиданно уснула. Был вечер. Часов семь. И до ночи – я знал – она ещё проснется и будет пить дальше. Я решил уничтожить хотя бы половину оставшейся водки. Но как? Мы находились в комнате.
Мать спала очень чутко, а дверь всегда так предательски скрипела…
Одним словом… я не видел другого выхода, как влить стакан водки в себя. И уничтожить её таким образом. Было мне десять лет. Может, одиннадцать…
26
Горькие воспоминания усилили моё похмелье. Не имею ни малейшего представления, как это связано между собой и связано ли, но неоспоримо одно – стало плохо настолько, что даже лежать было больно. Не сдерживая стонов, я поднялся и сел. Кровь запульсировала в висках, комната поплыла, контуры предметов размылись… Жить не хотелось.
Господи, за что мне такие муки?! Лучше умереть…
Кстати, самоубийц среди алкашей немало. И кончают с собой в основном именно в минуты жуткого похмелья.
Слабаки…
Покончил с собой Николай Успенский – двоюродный брат Глеба Успенского. Тяжёлый случай. Слава его потускнела. Он пил напропалую. Писал всё хуже. Совсем опустился. Жена умерла. Друзья отвернулись. Он долго искал деньги на новую бритву, чтобы убить себя. Но денег никто не дал. Пришлось воспользоваться старой ржавой бритвой. Он перерезал себе горло на Смоленском рынке. Безобразное, должно быть, зрелище было.
Александр Фадеев, как и Маяковский, в конце жизни поставил точку пулей. Но Маяковский почти не пил. Так, слегка, предпочитал «шампусик»… (Есть версия, что самоубийство поэта – лишь неудачная попытка поиграть со смертью в «русскую рулетку»: в барабане револьвера был всего один патрон. Он просто проверял фортуну – повезёт или нет. Не повезло. У него тогда вообще была чёрная полоса.) А вот Фадеев бухал сильно. Особенно в последние годы. Запои длились неделями. Обычно в такие дни он уходил из дому. Спал где придётся – на скамейке в парке, под детскими «грибочками», а то и прямо на земле. А утром направлялся в ближайшую забегаловку.
Там наливали. Всегда находился кто-нибудь, кто с удовольствием от широты души или из жалости угощал знаменитого автора «Молодой гвардии», орденоносца, лауреата Сталинской премии…
Во время хрущёвской оттепели на Фадеева посыпались все шишки. Его открыто презирали и винили во всех смертных грехах. На конференции Союза писателей Фадеева назвали тенью Сталина, утверждали, что его руки по локоть в крови. Он действительно и письменно, и устно одобрял репрессии, в том числе и по отношению к собратьям по перу. Но ведь не он один. Смертный приговор обвиняемым по делу «антисоветского троцкистского центра» одобрили и Леонид Леонов, и Самуил Маршак, и Юрий Олеша. Статьи и письма, требующие расстрелять врагов народа, подписывали очень-очень многие, включая и Бабеля, которого вскоре тоже погубили.
Я Фадеева не оправдываю. Я пытаюсь понять этого малоодарённого литератора с нечистой совестью.
А кто из современных писателей и поэтов может твёрдо заявить: «Я в той ситуации поступил бы иначе»?
Впрочем, сказать-то легко…
Даже Борис Пастернак, который в тридцать седьмом проявил мужество, отказавшись подписать письмо с одобрением расстрела Тухачевского и прочих, за год до этого опубликовал два стихотворения в «Известиях», прославляющих Иосифа Виссарионовича и его «деяния».
Редко кто проходит по жизни, ничем себя не запятнав. Все мы люди, все мы человеки…
Писали, будто Фадеев покончил жизнь самоубийством, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Но это ложь. Он за неделю готовился к смерти. Бросил пить. Попрощался в письмах с друзьями, которых почти не осталось. Написал предсмертное письмо и застрелился.
Всё было продумано, спланировано, а не как у папаши Хэма, который, улучив момент, когда супруга вышла из комнаты на пару минут, схватил ружьё и снёс себе выстрелом полчерепа.
27
Как же мне хреново!
Будь у меня пистолет – клянусь, рука б не дрогнула. А лучше пузырёк с морфием, как у Алексея Толстого. У того, который Константинович.
Вешаться – страшно. И неэстетично. Синее лицо, фиолетовый язык… Висишь, поникнув головой, безжизненною куклой… Нет, есенинская петля меня не прельщает. Хотя, говорят, его убили. Но ведь это ещё доказать надо.
Я посмотрел на часы.
Ничего не понимаю. Уже семнадцать сорок семь. Время смеётся надо мной.
Я встал с дивана, чтобы походить по квартире. Туда-сюда. Без всякой цели. Так неужели я проходил четыре часа? А то и дольше.
Следует признать, что моё, обычно безупречное, чувство времени переживает не лучшие времена. Надеюсь, чувство времени придёт в норму со временем.
Шутки шутками, но мне было не до смеха. Я смертельно устал бродить по квартире как неприкаянный, но стоило мне остановиться, и на меня накатывала такая дурнота и слабость, что я боялся свалиться в обморок. И я продолжал мои хождения по мукам, шаркая ногами по полу и постанывая.
Семнадцать пятьдесят шесть. Надо просто ходить. Тогда значительно легче. Нет, не значительно, но легче. Во всяком случае… Что во всяком случае? Какое идиотское и трудно поддающееся ясному пониманию выражение – «во всяком случае». Кто первый ввёл его в употребление? Во всяком случае… в каком случае? Во всяком. То есть в любом. Во всех случаях. Какой бы ни был случай… Случай… Случись что… Что угодно. Кому угодно? Мне не угодно. Не угодно. Во всяком случае, мне. Мне не угодно это дурацкое словосочетание – во всяком случае.
Семнадцать пятьдесят девять. Через минуту будет восемнадцать ноль-ноль. Всего одна минута. Одна! А сколько сразу поменяется цифр. Все, кроме первой – единицы. Единица останется. Семёрку сменит фигуристая восьмёрка. А пятёрка и девятка превратятся в два ноля. В ничто. В два ничто. Если ноль – ничто, то неудивительно, что всё начинается с ничтожества, даже в природе, а значит, во всём. От ничто ко всему. От простого к сложному. Ноль – ничто. Единица – это уже нечто. А добавь к единице ноль – и получится двузначное число. Было нечто, к нему добавили ничто, получили какое-никакое количество. Добавляем ещё одно ничтожество – увеличиваем количество, которое рано или поздно перейдёт в качество.
О чём я думаю? Неважно. Главное – не думать о том, что плохо. Вообще о плохом не думать! Иначе будет только хуже. А куда ещё хуже? Есть куда! Плохо – бесконечно. Как Вселенная. Для «хорошо» всегда есть предел. За этим пределом обычно начинается «плохо», а оно бесконечно.
Восемнадцать ноль пять.
Надо прекратить глядеть на часы. Видя, что я смотрю за ним, время замедляется. Замедляется, замедляется… чтобы совсем остановиться, замереть… чтобы потом наброситься на меня… Во всяком случае… Опять во всяком случае! Который час?
Восемнадцать ноль шесть. Шесть минут седьмого. Шесть часов шесть минут. Что делать? Ничего. Просто шагай. Безостановочно. Вперёд! Вперёд, и горе Годунову! И не смотри на часы. Думай о чём хочешь, только не смотри на часы. Кто там ещё покончил с собой? Марина Цветаева. Одиночество, нищета, эвакуация… Что-то с сыном у неё было… Повесилась…
Восемнадцать ноль восемь.
Блядь! Не смотри, говорю, на часы. Ты что – тупой? Сколько раз тебе повторять? Шагай. Давай! Ать-два левой. На кухню. Кругом! Ать-два левой. Левой!.. Левой… В комнату. Кругом! Левой! Может, ещё что-нибудь выпить? Левой, левой… «Кто там шагает правой? Левой, левой…»
Отравился Алексей Толстой. Тот, который Константинович. Но он был наркоманом. В молодости и Михаил Афанасьевич Булгаков баловался морфием. Чуть не погубило его баловство. Господь помиловал. А графа Толстого покарал. Радищев тоже отравился. Боялся остаться в живых. Сбежал. Самоубийство – что это, как не побег из жизни? Вот и мне бы убежать от боли и страданий…
Я остановился.
А лучше, подумал я, сбежать из этой квартиры. Что я, как крыса в клетке, из угла в угол мечусь? Я заперт. Вот что меня угнетает!
Эта сука сегодня уже не вернётся. А ночь в запертой квартире я не переживу.
Нет, нет, нет…
Я выбежал на балкон, глянул вниз… Высоковато… Даже не знаю…
Решайся!
Я вернулся в комнату. Дверь на балкон осталась открытой.
Восемнадцать пятнадцать.
С этой минуты мысль о прыжке не покидала меня. Страх отгонял эту мысль, но она упрямо и крепко вцепилась в меня и призывала всё новые аргументы в свою пользу.
Здесь ты как узник. А там – воля. Там тебе будет легче. Придёшь домой, а дома, как известно, и стены помогают. На ночь для сна можешь выпить бутылочку пивка… Холодненького… А если хочешь – рюмочку водочки или даже… Только обязательно чем-нибудь закусишь. Тебе нужно поесть. На улице свежо. Походишь по городу. Среди людей. Придёшь домой. Выпьешь. Посмотришь телик и уснёшь. А утром… Утром всё будет хорошо…
Я опять вышел на балкон. Снова глянул вниз…
Раз десять метался я из комнаты на балкон и обратно.
Наконец решение было принято. Окончательно. Бесповоротно.
Я прошёл на кухню. Вылил содержимое первого попавшегося флакончика в чашку, добавил воды и не задумываясь выпил. Для храбрости.
На балконе я закурил. С сигаретой в зубах, крепко держась за перила балконной лоджии, перекинул ногу…
Восемнадцать сорок шесть.
Вцепившись в перила, я стоял на шатком козырьке от дождя из листового железа. Собравшись с духом, я разжал одну руку и чуть развернулся. В очередной раз бросил взгляд вниз. Затем неумело перекрестился, выплюнул окурок и, разжав вторую руку, прыгнул…
28
Дуракам и пьяным везёт. Общеизвестное заблуждение. Но немногочисленные легенды о чудом спасшихся пьяных мужиках более живучи и поразительны, чем холодные статистические данные о замёрзших насмерть на улице пьянчугах.
Я лично знал мужика, с которым произошла прямо-таки невероятная история. Звали его Геннадий Иванович. Что, собственно, никакой роли не играет. Работал он на обувной фабрике начальником охраны. «Несуны» за вынос готовой продукции платили ему небольшую мзду. Кто деньгами, кто горючим. Он предпочитал коньяк. К концу недели у него в загашнике скапливалось бутылок пять-шесть, которые он и приговаривал с дружками и подчинёнными по пятницам после смены. Домой его привозили в «состоянии нестояния». Жена, само собой, была не в восторге.
Однажды зимой, в одну из таких чёрных пятниц, Геннадий Иванович явился снова пьяный вдрызг. Супруга вспылила. Раздела Геннадия Ивановича до трусов и вытолкнула его на лоджию балкона – протрезвиться. Балкон не был застеклён. На улице минус двадцать. С беззвёздного неба, кружась и вальсируя, сыпались крупные пушистые снежинки. Покорный муж Геннадий Иванович, прибитый чувством вины и жалостью к себе, к жене и вообще ко всему живому, даже не стучал в закрытую дверь. Принял экзекуцию смиренно. Как должное. Но прошло пять минут. Геннадий Иванович, мягко выражаясь, продрог, однако не протрезвел. Иначе не объяснишь, каким образом в его затуманенной голове родилась сумасшедшая мысль перелезть на балкон к соседу, у которого Иваныч рассчитывал переждать гнев супруги и согреться.
Естественно, Геннадий Иванович сорвался и полетел вниз. Гораздо стремительней пушистых снежинок. А этаж был восьмой…
Звонок в дверь. Надежда Георгиевна – жена Геннадия Ивановича – удивлённо посмотрела на часы: кто бы это мог быть в такое позднее время. Она отложила вязание в сторону и почапала открывать. А на пороге стоял совершенно мокрый Геннадий Иванович, дрожа, как лист кленовый на ветру.
И Надежда Георгиевна грохнулась в обморок. От счастья, наверное. А Геннадий Иванович целёхонек. На теле ни синячка, ни царапинки. Чудо, да и только.
Будучи убеждённым скептиком, я сомневался в правдивости этой истории, но Надежда Георгиевна полностью подтвердила слова мужа.
…Приземлился я весьма удачно. Лишь слегка ногу подвернул. Но ведь это сущие мелочи по сравнению с тем, что вполне мог и шею свернуть. Хорош бы я был. Прихожу в ганделык, прошу сто грамм водяры и бутербродик с ветчиной, а у самого шея свёрнута. А в то, что я даже мёртвым добрался бы до «наливайки» – в этом я нисколько не сомневаюсь.
Да-да-да! После падения с трёхэтажной высоты я первым делом похромал за выпивкой.
Нога болела. И я убеждал себя, что мне просто необходимо обезболивающее.
Нужно срочно принять сто грамм, говорил я себе. Первым делом убаюкать боль! Я требую этого как опытный анестезиолог. Хмурая толстая баба с мутным взглядом бесцветных глаз почти пролаяла:
– Что вам? Не спим!
– Наркомовские, пожалуйста.
– Чего-о? – протянула она утробно.
Под взглядом этих жутких глаз я начал уменьшаться.
– Водочки, сто грамм…
– Какой?
Я назвал марку. В голосе моём послышались нотки подобострастия. Она ведь здесь была главная. Я боялся, что она может мне отказать. Не налить по какой-то одной ей ведомой причине. Скажет: «Вот такой тебе болт!», ты возопишь: «Но почему?». А она в ответ: «По кочану! Следующий! Что вам? Не спим!»
Но она налила.
Я осмелел и попросил ещё бутерброд с ветчиной.
Скромный такой ужин. Для одинокого хромого путника-гурмана.
За вас, соотечественники!
29
Менты гнались за мной от станции «Золотые ворота» до улицы Артёма. Я бежал, не оглядываясь и не снижая высокого темпа, хотя двадцать лет курения очень скоро дали о себе знать. Прокуренные лёгкие издавали хрипловато-свистящий сип, слегка заглушаемый громким биением сердца.
Подгоняемый страхом, я бежал так быстро, что, наверное, бил все известные мировые рекорды, но у Дома художников меня всё-таки догнали. Вернее сказать, меня догнала пуля, толкнувшая меня в спину и бросившая меня на горячий от солнца асфальт…
До боли знакомый кошмар.
Я проснулся, весь мокрый от пота. Было три часа ночи. Следовательно, я поспал не более двух часов.
Я догадывался, мне уже не уснуть.
Первая мысль после пробуждения была привычной: а не сгонять ли в ночной магазинчик – купить джин-тоника, поправить здоровье. Но эту мысль я усилием воли похоронил на дне моей грязной души.
Включил свет. На глаза мне попалась записная книжка Танелюка.
Ну что ж, попробуем скоротать время чтением.
Я раскрыл блокнот на середине. Сразу выяснилось, что это скорее дневник…
24 июля
Горестный привет из моего детства. Привёл Иванку на тренировку по айкидо. Неподалёку стоит мальчик лет девяти. Костлявенький, ручки тонкие… Рядом возвышается холодная сухая мать.
– Дима, я прошу тебя, иди на тренировку. Не позорь меня. Будь мужчиной. Что ты как баба? Иди, я тебе говорю! Вырастешь – хоть мужиком станешь. А не как твой папашка, царство ему небесное. Не реви, а то сейчас прибью! Иди, я сказала, тряпка!
Мальчик сдаётся, возможно, навсегда. Молодой тренер, легонько подталкивая в спину, ведёт его – плачущего – сквозь строй чужих глаз.
Скажите, есть ли в жизни позор хуже этого? Обида страшнее этой? Материнская обида…
25 июля
В метро старушка оттолкнула беременную девушку, чтобы занять освободившееся место. Села, достала молитвенник, зашамкала одухотворённо…
3 августа
Вышгород – городок маленький.
Недавно я снялся в рекламе лекарственного препарата «Фестал». Поэтому если слышу окрик «фестал» – оборачиваюсь.
В основном кричат малознакомые выпивохи. «Костя, когда автографы будешь раздавать?» Отвечаю фальшиво стыдливо: «Да какие автографы…» Пьяницы ржут, а я тупо улыбаюсь. Как хочется сказать: «Да идите вы на х*й со своими автографами!» Но мне ещё с ними пить, может, и не раз… Да и вообще – зачем портить отношения… Вышгород – городок маленький.
11 августа
Впервые в жизни сделал запись в «Книге жалоб и предложений». Эх, жаль, разволновался. Написал: «Кассир, касса № 2. Грубое обращение с покупателями». А надо было так: «Кассирша № 2 – это ангельское создание с дьявольской душой – за глаза назвала меня лошарой лишь за то, что сметана не 2,50, как думал я, а 4,50 и ей пришлось делать возврат суммы. Возможно, я и лошара, но мне видится предвзятое отношение со стороны кассирши № 2, поскольку она неприветлива со мной уже не в первый раз. А я мужчина основательный, умный и тоже хочу любви и ласки».
По правде говоря, чувствую себя скверно. Как будто кого-то сдал.
18 августа
Много пил. Уехал в Киев.
Лёня тоже пьет. Под градусом из Лёни прёт высокомерие и плохо скрываемая агрессия.
Когда он трезв – любит веселить людей и сам от души веселится. Со всего.
Исключительно с бодуна – когда ему плохо – он грустит, ему горько, и он жалеет себя и окружающих. Может, он для этого и пьёт. Чтобы потом чувствовать. Как Мармеладов у Достоевского: «Не веселья, а единой скорби ищу… Пью, ибо сугубо страдать хочу!»
23 августа
Люди ездят, встречаются. А я сижу в чужой квартире. И не знаю, чем заняться. Секса не хочется. Телевизор смотреть не хочется. Интернета не хочется. Даже читать не хочется.
Пять дней не курю и не бухаю.
У Митьки Тимофеева на почве алкоголизма случился эпилептический припадок.
Страшно. В любой момент жизнь может оборваться.
Вчера в душе занимался онанизмом. Поскользнулся и чуть не убился.
А может, и хорошо бы было. Если б убился. Чтобы закончилась наконец эта не смешная комедия под названием «Жизнь».
25 августа
Лёня допытывался, как я отношусь к его рассказам.
Я ответил, что в них почти никогда нет духа нашего времени.
Он ответил: «Подумаешь, дух нашего времени! Экое чудо! Я, может, дух нашего времени на дух не переношу!»
Он прав. В чём дух нашего времени? Рыночные отношения. Во всём! В культуре, в социуме и даже в бытовом сожительтве… Меня это убивает…
26 августа
Прочёл сегодня у некоего Хуана Баса: «Пьяница – это духовный и физический авантюрист, искатель приключений, человек с эпическим и рефлексирующим взглядом на жизнь, мудро сочетающий гедонизм и стоицизм».
Надо же! Хуан, а всё понимает!
1 сентября
Дети в школу шлёпают…
Дети! В школе вас научат не всему! Вас не научат, как относиться к тому, что вы ничто. Каждый из вас будет доказывать, что он – нечто стоящее. Кто-то творчеством, кто-то подвигами, кто-то преступлениями… Но страна не заметит ни того, ни другого, ни третьего… Потому что вы – ничто.
3 сентября
Смерти боюсь, а жить не решаюсь.
Никуда не вписываюсь».
Я закрыл блокнот и отбросил его в сторону. Ну как тут не пить? И я поднял со дня души и воскресил мысль о ночном магазинчике и джин-тонике.
А по дороге набрал и отправил Танелюку сообщение: «Забудь о том, что я говорил. Пиши, дружище. Каждый день. Как оно есть».
30
Я не сомневался, что рано или поздно не совладаю с собой и обязательно припрусь к Родинке. До поры до времени мне удавалось противиться душевному порыву прийти к ней, поговорить и выяснить отношения. Что выяснять? Всё понятно и без выяснений. Но стоило мне лишь однажды превысить дневную дозу, после которой разум следовал за эмоциями, да и то не поспевал, как я оказался перед дверью её квартиры. Я удивлённо озирался по сторонам и силился вспомнить, как я здесь очутился.
Вероятно, кнопку звонка я нажал где-то за мгновение до того, как вынырнул из омута забытья.
Дверь открыл жгучий брюнет в спортивном костюме.
– Ты что, не понял? – сказал он. – Иди проспись, братан.
Вот тут бы мне извиниться, развернуться и уйти восвояси. Но вместо этого я стал нарываться.
– Твои братаны, – сказал я, с трудом ворочая языком, – в овраге лошадь доедают.
– Последний раз тебя прошу – уходи. По-хорошему.
– Это ты?… Как там тебя? Ворона, да? Позови Родинку.
Он сделал шаг вперёд, аккуратно прикрыв дверь за собой.
– Слушай, – сказал он миролюбиво, – я понимаю, ты сейчас туго соображаешь. Но попробуй меня услышать. Будет лучше, если ты пойдёшь домой.
– Будет лучше, если ты пойдёшь на…
Договорить я не успел. Резкий удар справа опрокинул меня навзничь.
Словно желая оправдать свой поступок, он тихо проговорил:
– Я тебя предупреждал.
Поднявшись на ноги, я сказал:
– Жаль, никто не предупредил твою маму, что надо предохраняться.
– Да заткнись ты, придурок!
Он размахнулся и врезал мне по зубам, на сей раз врезал «прямым». Я снова «элегантно» опустился на пол. Рот наполнился солёной кровью.
Я сплюнул кровавую густую слизь и поднялся. Открыл было рот, чтобы опять сказать какую-нибудь обидную гадость, но снова был сбит с ног очередным ударом.
Словом, нехитрая такая игра: я встаю, он бьёт – я падаю. Каждый вполне добросовестно выполнял свою задачу.
Ворона я не осуждаю. Я вёл себя настолько отвратно, что сейчас одно лишь воспоминание о себе в том состоянии вызывает во мне омерзение.
Итак, я вставал – он бил – я падал. Не знаю, как долго бы это продолжалось, если б я наконец не потерял сознание.
Помню, перед тем как отключиться, я пьяно прохрипел:
– Не запыхался, пидор?
Как он меня не убил за это? Ума не приложу.
31
На следующий день болела голова и ныла челюсть. Под глазом образовался фиолетовый синяк.
Пил я умеренно. С пьянством пора было закругляться. Хорош.
Снижаем скорость.
Хотелось работать. Но, во-первых, я стараюсь не писать, когда пью. Принципиально. А во-вторых, я пробовал в молодости. Бесполезно. Ничего путного из-под пера не выходило. Поэтому с удовольствием повторяю за Грибоедовым:
- «Когда в делах – я от веселий прячусь.
- Когда дурачиться – дурачусь.
- А смешивать два эти ремесла
- Есть тьма искусников – я не из их числа».
Были любители совмещать возлияния с литературой. Чарльз Буковски, например. Для работы ему просто необходимы были печатная машинка и бутылка виски. Минимум половина всех его рассказов написана под градусом. И ничего – читать можно.
Вот Эрнст Теодор Амадей Гофман – юрист по образованию и композитор по зову души – обрёл своё истинное призвание писателя и сказочника благодаря пьянству. По вечерам, после работы он шёл кутить в кабак. Ближе к полуночи навеселе приходил домой, к тихой, любящей и верной жене Михалине. Однако выпитое, разгорячив мозг, не давало уснуть, и Гофман усаживался за письменный стол, чтобы скоротать время сочинительством. В состоянии постоянного пьянства и бессонницы воображение Гофмана рисовало ему такие кошмарные истории, что ему самому становилось страшно. В таких случаях он будил жену, и Михалина – он ласково называл её Миша – садилась с вязанием рядом с ним. (Сейчас мало кого испугаешь его новеллами и сказками, скорее усыпишь, но тогда их жутковатый мистицизм пугал и завораживал.) Наутро, поспав лишь пару часов, он вновь отправлялся на службу в суд. Такой сумасшедший график жизни не смог бы вынести ни один организм. Гофмана разбил паралич. Противясь наползающей смерти, он последние месяцы жизни продолжал усиленно работать и надиктовал три великолепных рассказа. Он умер, когда ему едва исполнилось сорок шесть лет…
Вечером я нашёл в себе силы позвонить Лизе – справиться о книге.
Лиза, как я того и ожидал, меня огорчила:
– С книгой заминка. Но я всё решу.
– Что за заминка?
– Не волнуйся. Через пару дней книга выйдет.
– Значит, всё в порядке?
– Ничего не в порядке. Но я держу руку на пульсе.
– Так в чём заминка? Конкретно?
– Конкретно сказать не могу.
– Понятно, – солгал я, и мы попрощались.
Эта новость, само собой, не добавила оптимизма в моё настроение.
Потом позвонил Вася Солованов.
– Ты куда исчез?
– Да так… Забился в логово, зализываю раны…
– Пьёшь, что ли?
– Уже нет. Так… Слегонца… Потихоньку…
– А что случилось?
– Как тебе сказать… Сердечные дела дали осложнение на печень. Но уже всё! Финита, бля, комедия.
– Я чего звоню, – сказал Солованов. – Один чел хочет встретиться с тобой. У него есть идея для сценария.
– Васенька, у меня два десятка идей для сценария.
– А ещё у него шестьсот тысяч лишних денег. Он желает попробовать себя в качестве продюсера.
– Мне нравится его идея.
– Для сценария? Или о продюсерстве?
– Обе.
– Супер. Когда ты сможешь с ним встретиться?
– Когда угодно. Я свободен, как слово.
– Как слово? Какое именно? Потому что очень многие слова ещё под запретом.
– Хорошо. Я свободен… Я свободен, как слово «бухуласисица».
– Бухуласисица?
– Да, бухуласисица.
– Супер. И что же означает слово «бухуласисица»?
– Всё очень просто. Слово «бухуласисица» означает: я самое свободное слово в мире, меня нельзя запретить и нельзя использовать, потому что я дорожу своей свободой и не хочу иметь никакого смысла. Вот что означает «бухуласисица».
– Ладно, – сказал Вася, – давай я назначу встречу на четверг. На вечер четверга.
– Где?
– Я позвоню тебе в четверг утром. Скоординируемся.
– Нет вопросов.
– Всё. До созвона!
– Давай. Полине привет.
А ночью мне приснился Александр Куприн.
Он восседал за письменным столом. В тюбетейке и в разноцветном азиатском халате. Как на известной фотографии. Сузив и без того узкие калмыцкие глаза, он грозно восклицал:
– И я пил, братец мой! Да ещё как пил! На всю Россию мои попойки гремели. Но никто меня не смел упрекнуть. Ибо я написал «Поединок» и «Суламифь».
– Меня тронула только «Яма».
– Большому сильному таланту можно простить маленькие слабости.
– Маленькие слабости? Да ты погубил себя пьянством.
– Это издержки профессии. Грузчик может надорваться, сапёр – подорваться, лётчик – разбиться, ну а писатель – спиться.
– Чтобы писать – бухать не надо.
– Позвольте, братец мой, – запротестовал Александр Иванович, – иногда без этого никак. Когда нервы обнажены…
– Знаю, знаю! Нервы обнажены, психика ранимая, натура впечатлительная, ля-ля-ля, без рубля, без руля и без тормозов. Я бы тоже прятался за эту ширму, но мне за ней стыдно.
– Настоящий писатель, по мнению Ницше, пишет собственной кровью…
– И расплачивается печенью. Ясно.
Давно умерший классик грустно улыбнулся и бесследно растаял в воздухе. Словно его и не было.
Я проснулся. Выключил уставший телевизор. Сразу стало страшно. Я снова включил телевизор и закрыл глаза.
32
(Ноябрь. Среда. Ресторан «Бульвар»)
Итак, я сидел в дорогом кабаке и уже собирался уходить, как вдруг зазвонил телефон.
– Слушаю!
– Привет.
Номер высветился незнакомый, а вот голос я сразу узнал.
– Неожиданно, – буркнул я.
По телефону так легко разыгрывать полное равнодушие, ведь она не могла слышать канонаду моего сердца.
– Здравствуй, Ева.
– Как твои дела, ёжик?
– Я не ёжик. Уже давно не колюсь.
– Я тут кое-что случайно о тебе прочла. В интернете.
– Интересно.
– Почему ты не говорил о том, что ты писатель?
– Но ты ведь тоже не всё мне рассказала.
– Это разные вещи.
– Кто бы спорил.
– И сколько книг ты написал?
– Меня больше волнует, сколько я не написал.
– Я тебя умоляю!..
Какое-то время мы молча слушали дыхание друг друга. Наконец она сказала:
– Что-то не клеится у нас разговор…
– А я вообще не люблю болтать по телефону. Мне необходимо видеть глаза собеседника, его мимику…
– Нет, это было бы ещё тяжелей.
– Что с тобой?
– Ничего.
– Ну я же слышу по голосу.
– Ой, не так уж хорошо ты меня знаешь.
– Я знаю тебя достаточно.
Мы снова замолчали. Словно выдохлись. И отдыхали, набираясь сил.
Было слышно, что она закурила. Сунул и я сигарету в рот.
– Мне нужно кое в чём признаться, – сказала она.
Прикурил, глубоко затянулся…
– Говори, я слушаю.
– Когда ты ушёл, я узнала…
– Что?
– Узнала, что я беременна.
Я замер. Она продолжала:
– Конечно, я растерялась… Я не знала, что делать… То есть как бы… Ты всё прекрасно знаешь о таких вещах, ты знаешь наперёд, что это может случиться, но всё равно это всегда неожиданно. А когда случается… Ты вроде точно знал, что будешь делать, если что. Но непонятно откуда – как нахлынет сомнение. А ведь малейшее колебание приводит к страху… Прости, я говорю так путано. Сумбур в голове. Женщина всегда стоит перед выбором. Выбор – это наш крест. Надо уметь делать выбор. Что надеть? С кем идти? Улыбнуться или отшить? Обидеться или сделать вид, что всё в порядке? Давать – не давать? Выходить замуж или нет? По любви или по расчёту? А что приготовить на ужин? Тяжкий крест… Главное – научиться выбирать и – что сложнее всего – уметь следовать своему выбору, а не метаться туда-сюда, как…
Она умолкла, и я спросил:
– Ты сделала… выбор?
– Да, сделала. Вчера утром. Прости.
Я вдавил окурок в пепельницу.
– Ну и… как ты? – спросил я.
– Хреново, – ответила она.
– Ну, ты… держись.
– Это всё?
– В смысле?
– Всё, что ты можешь мне сказать?
– Ева, нам больше не о чем говорить. Ты сделала свой выбор.
– А если я жалею об этом?
– Значит, ты совершила ошибку. Или нет. Это уже не имеет значения.
– Ты любишь меня?
– Перестань.
– Извини.
– Ну и ты меня.
– Тогда – пока?
– Пока.
«Вот и весь разговор».
Я спрятал телефон в карман. Но тут же вытащил обратно и отключил его совсем, чтоб никто сегодня мне не дозвонился.
Окликнул официантку. Она поспешила ко мне с вопросом:
– Вас рассчитать?
– Да, но прежде принесите ещё сто пятьдесят «Финляндии».
33
А потом я познакомился с одним забавным стариком.
Знаете, о чём я подумал? Толстые старики – это такая редкость. Серьёзно. Не часто можно увидеть толстую старуху, но толстого старика – ещё реже. Старость обычно мужчин сушит.
Ладно, не суть важно.
Итак, я познакомился с одним забавным толстым стариком. Хотя вернее будет сказать, он со мной познакомился.
Сидел я за столиком в угрюмом одиночестве. Тупо пил водку, запивая томатным соком. Курил и слушал музыку. Исподлобья наблюдал за людьми.
И тут подваливает эта туша и без разрешения усаживается напротив. Я это вижу краем глаза. Я перевожу неповоротливый, утяжелённый алкоголем взгляд на дерзнувшего нарушить моё символическое уединение.
Толстый. Лысый. С венчиком растрёпанных седых волос. Лет семьдесят. В тёмно-синем костюме. При галстуке. Лицо в бисеринках пота. Рубашка под галстуком тоже мокрая.
Он говорит:
– Позвольте представиться. Грубич. Валентин Борисович.
Голос у него был мягким. А ещё Валентин Борисович малость шепелявил.
– Я ведь вас знаю, – сказал он. – Вы Курилко!
– Ну и что?
Я был, мягко выражаясь, не в настроении общаться. Но Валентин Борисович не придавал моему настроению никакого значения. Его явно что-то переполняло, он был охвачен нешуточным волнением.
– Мы ведь с вами в некотором смысле коллеги.
– Да?
– Нет, я доктор. Сейчас на заслуженном отдыхе. Времени свободного, можете себе представить, очень много. Однако мириться с этим – не в моих правилах. Я не терплю безделья. Вот хочу написать книгу. Собираю материал.
– Ну и?
– Позвольте поинтересоваться. Кто-нибудь умирал у вас на руках?
Я кивнул:
– Мать. И ещё один товарищ… Давно…
– Превосходно! А какими были их последние слова?
Глаза его сверкали жадным блеском. Как у голодного кота при виде раненой птицы.
Я спросил, не скрывая раздражения:
– А вам какое дело?
– Видите ли, именно об этом моя книга. Её рабочее название – «Последние слова». Но это слишком сухо. Требуется что-нибудь поэтическое.
– Последние слова?
– Согласитесь, это интересно. Что произносит человек перед лицом смерти? О чём думает? Какие слова говорит? Каждый человек, уже осознавая, что умрёт, реагирует по-разному. Вот, скажем, люди знаменитые и почитаемые нами. Не всегда великий человек говорит что-то, соответствующее его положению и величию.
Валентин Борисович похлопал себя по груди и вытянул из кармана пиджака пухлую записную книжку.
– Вот извольте, – сказал он. – Последнее слово Наполеона было «Жозефина».
– Красиво…
– Лермонтов во время дуэли крикнул:
«Я не буду стрелять в этого дурака!»
Раздался выстрел Мартынова. Лермонтов упал. Секунданты бросились к нему. Его последним словом было «больно».
– Слово «больно» кто-то ещё из великих сказал перед смертью…
– Последние слова Дилана Томаса: «Только что выпил восемнадцать порций скотча. Думаю, это рекорд… Это всё, что я сделал выдающегося, прожив тридцать девять лет».
– М-да…
– Юджин О’Нил: «Родился в номере гостиницы и – чёрт меня подери! – в номере гостиницы и умер». Сколько невыносимой грусти! Сколько скорби в этих простых словах. Одна-единственная фраза… Понимаете, одна фраза, а в ней вся жизнь! Это шедевр. Согласитесь.
– Да, согласен.
Он пролистнул несколько страниц.
– Наверняка вы всё это знаете. Цезарь, Антоний, Нерон… Общеизвестно… Папа Римский… Климент Второй… Нет, сейчас… «Я вижу Бога!» Какого? Дальше! Лорд Байрон: «А теперь я усну.
Спокойной ночи». Хотя некоторые авторы утверждают, что его последнее слово, как и у Гарибальди, было «мама». Представляете, жизнь как бы сделала круг. Первое и последнее слово – «мама».
– Иисус сказал: «Свершилось».
– Знаю. Ибсен, пролежав несколько лет в параличе, привстал и сказал: «Напротив!» И умер. Что привиделось ему перед смертью? Кому он возражал? Михаил Зощенко: «Оставьте меня в покое». Думаю, это желание владело им последние лет двадцать – чтобы его оставили в покое. Дальше! Тютчев: «Я исчезаю! Исчезаю!» Франсуа Рабле: «Иду искать великое «может быть». Уолт Уитмен: «Поднимите меня, я хочу срать». Какая разительная… э… разница!
– Лично мне импонирует остроумие Оскара Уайльда, который, даже умирая, оставался ироничным. Он сказал: «Эти обои меня доконают, кому-то из нас следует исчезнуть».
– О! А сколько достоинства в словах Михаила Романова, который снял сапоги и отдал своим палачам: «Пользуйтесь, ребята, всё-таки царские».
Валентин Борисович задумался, не моргая уставившись в записную книжку.
– Давайте выпьем, – предложил я.
Он встрепенулся:
– Это чьи слова?
– Это мои слова. Я предлагаю вам выпить.
– Нет, – отказался он, – угостите лучше сигареткой.
Я протянул ему пачку. Он выудил сигарету и поблагодарил.
– Вынужден вас огорчить, – сказал я. – Книга, для которой вы собираете материал, уже составлена. Называется «Предсмертные слова знаменитых людей».
Валентин Борисович скривился, словно почувствовал острый привкус изжоги.
– Она составлена бездарно. Автор не имеет собственного стиля. И полное отсутствие своего мнения и трактовки. Он ужасно косноязычен. В его передаче последних минут нет духа времени и обстановки. Ведь иногда достаточно пяти-шести предложений. Но точных, выверенных… Иногда с комментариями, иногда без всяких комментариев.
– Понимаю.
– Но главное не это! Я собираю предсмертные слова не только знаменитых людей, но и простых обычных граждан. Ведь я в своё время семь лет работал бригадиром «Скорой помощи». У меня зафиксировано столько интересных случаев. Конечно, большинство людей хотело бы умереть красиво. Но увы, следует признать, что смерть чаще всего неприглядна и мучительна. И люди уже не думают о том, как выглядят, и последние слова, естественно, не продумывают. Одна женщина выбросилась с девятого этажа, однако смерть наступила далеко не сразу. Она стонала и мучилась. А когда мы приехали, выдавила из себя: «Где же вы, суки, ездили? Добейте меня». Зато наверху, в её комнате, лежало длинное красивое прощальное письмо. Со стихами… Да… Другой по дороге в больницу метался в бреду и упрямо повторял: «Мама, можно я побуду дома?… Мама, можно?» Это очень похоже на слова умирающего О’Генри. Он схватил за руку друга, дежурившего у его постели, и пробормотал: «Чарли, мне страшно в темноте идти домой».
– Перед смертью мама попросила: «Принеси мне, пожалуйста, водки».
Валентин Борисович с благодарностью посмотрел на меня:
– Вы позволите, я запишу?
– А мой друг… Саша Жидков… Рыжий такой, весельчак… Анекдоты коллекционировал. Как-то на дискотеке в общаге наша компания сцепилась с другой. Началась драка. И Сашку пырнули ножом. «Скорой» тоже долго не было. Он спросил меня: «Неужели я умру?» Ну а потом… зубами так заскрежетал и выдохнул: «Блядь, как обидно…»
– Сколько ему было лет?
– Девятнадцать. Он был на год меня младше.
– Интересно, какими будут наши последние слова…
– Лично я с последним словом определился.
Полное лицо Валентина Борисовича вытянулось удивлённой гримасой.
– Вы шутите?
– Нисколько. Приложу все усилия, чтобы моим последним словом было «бухуласисица». Ваше здоровье!
34
Весь четверг и всю пятницу я беспробудно пил. Лишь дважды прерывался и покидал дом, чтобы сходить в магазин и затариться водкой. Я ничего не ел. Я только пил.
Пил, пил. Потом отключался. Потом приходил в себя и снова пил.
Кто-то пару раз звонил в дверь.
Если это происходило вечером, я выключал свет и телевизор и пил в «тёмной тишине».
