Читать онлайн Данте Алигьери и русская литература бесплатно
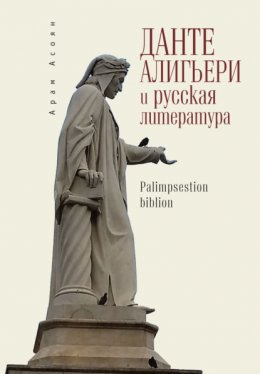
Часто от этих величайших учителей отрекаются; восстают против их; перечисляют их недостатки, обвиняют их в скучности, длиннотах, странностях, дурном вкусе, при этом обкрадывая их и украшая себя похищенными у них трофеями; но попытки свергнуть их иго тщетны. Все окрашено в их цвета, повсюду заметно их влияние: изобретенные ими слова и имена обогащают словарь всех народов, их высказывания становятся пословицами, вымышленные ими персонажи обретают жизнь, обзаводятся наследниками и потомством. Они открывают новые горизонты, и лучи света брызжут из тьмы; из посеянных ими идей вырастают тысячи других; они даруют образы, сюжеты, стили всем искусствам: их произведения – неисчерпаемый источник, самые недра разума человечества.
Рене Шатобриан
Издано при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям в рамках Федеральной целевой программы «Культура России (2012–2018 годы)»
Рецензент:
кандидат филологических наук Р. А. Гимадеев (Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина)
Данте Алигьери и русская литература. / Асоян А. А. – СПб.: АНО «Женский проект»: Алетейя, 2021
© А. А. Асоян, 2015
© АНО «Женский проект», 2015
© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2015
Введение
«Центральный человек мира»
В сознании миллионов читателей Данте прежде всего автор «Божественной Комедии». Знатоки его творчества по праву называют эту поэму патриотической библией итальянской нации. Ни одному поэту Нового времени не удавалось, кажется, в столь полной и законченной форме выразить в своем произведении дух целого народа, его поэтическую и религиозную жизнь, веру и богатейший свод знаний своей эпохи.
«Божественная Комедия» невелика по объему. В ряду шедевров мировой литературы, таких, как «Илиада» Гомера или «Фауст» Гете, дантовская поэма удивительно лаконична. И тем не менее на ее страницах мы найдем всеобъемлющий образ человеческой души, ее страстей и драматических испытаний. Он уникален и, конечно, не прост. Временами мысль Данте так далеко уносилась в мир причудливых видений, что поэт был вынужден предостерегать:
- О вы, которые в челне зыбучем,
- Желая слушать, плыли по волнам
- Вослед за кораблем моим певучим,
- Поворотите к вашим берегам!
- Не доверяйте водному простору!
- Как бы, отстав, не потеряться вам!
- Здесь не бывал никто по эту пору[1]…
Иногда приходится слышать и читать, что «Божественная Комедия» менее доступна, чем гомеровский эпос, хотя она на два тысячелетия ближе к нам. Но власть поэтического гения Данте такова, что перед ней рушатся самые высокомерные предубеждения и преграды, возведенные отошедшими столетиями.
Еще при жизни автора поэма стяжала необыкновенную славу. После смерти поэта ее популярность то угасала, то снова росла. В 1373 году в родном городе Данте были созданы публичные кафедры для объяснения поэмы. Первую из них занял Дж. Боккаччо. Примеру Флоренции последовали Болонья, Пиза, Венеция, Пьяченце… Вскоре слава поэта шагнула за пределы Италии и начала завоевывать европейский мир. Впервые «Комедия» сошла с типографского станка в Фолиньо в 1472 году, через два года была отпечатана в Риме, а в 1481 году увидело свет флорентийское издание поэмы, ставшее знаменитым благодаря иллюстрациям Сандро Боттичелли. К этому времени уже существовали переводы «Комедии» на латинский и испанский языки. В Испании Данте очень скоро стал одним из самых читаемых иностранных поэтов. Правда, в шестнадцатом столетии инквизиция сделала немало, чтобы уронить престиж «Божественной Комедии”, но ценители и восхищенные читатели поэмы не исчезали и в самые неблагополучные для нее времена. К ним принадлежал Томмазо Кампанелла, страстный проповедник и великий утопист. Он считал Данте своим учителем и курил ему фимиам, как библейским поэтам Давиду и Соломону.
В следующем веке высокая репутация «Комедии» была поддержана Дж. Мильтоном. Наследник английской литературы Возрождения, он стал создателем огромной религиозно-философской поэмы «Потерянный рай”. Живописным и мрачным изображением воинства Сатаны она напоминала «Ад» и своими признанными достоинствами свидетельствовала о плодотворности дантовской традиции. Мильтон воспитывал свой гений на бессмертной поэме Данте, и влияние «Божественной Комедии» сказалось почти на всех его сочинениях.
Восемнадцатый век нередко сравнивали с площадью в комедии дель арте, где непрестанно скрещивали шпаги сторонники и противники Данте. Эпоха Просвещения с ее рационализмом, секуляризацией культуры, тоской по классическому искусству греков и их миросозерцанию порой весьма пристрастно судила о произведениях средневековья. Печально известны «Вергилиевы письма» профессора изящной литературы Саверио Беттинелли. Автор полагал, что у Данте была великая душа, но в искусстве он ничего не смыслил, «Комедию» читать невозможно, стиль ее груб, а рифма чудовищна. Защищая дантовскую поэму, соотечественник Беттинелли поэт Витторио Альфиери заявлял: «Семнадцатый век бредил, шестнадцатый болтал, пятнадцатый делал грамматические ошибки, а четырнадцатый говорил».
К концу столетия антидантовские бастионы пали даже во Франции, где долгое время их отстаивал Вольтер. Лучшим дантологом века был признан парижский профессор де Клерфон. Вместе с прозаическим переводом «Ада» он опубликовал «Жизнь Данте Алигьери» и на страницах этого издания сравнил «Комедию» с готическим храмом средних веков. В Германии событием в немецкой литературе стал перевод всех частей поэмы Лебрехтом Бахеншванцем. Его «Ад» в прозе был раскуплен в несколько месяцев – для продажи подобных изданий неслыханный срок. Терцинами переводил Данте иенский романтик Август Шлегель. Он прекрасно разбирался в ее стилистических особенностях, глубоко чувствовал поэзию и сумел дать замечательные по выразительности образцы перевода из всех трех кантик поэмы, «Новой Жизни» и канцон поэта. Благодаря его опытам Германия впервые по-настоящему открыла для себя Данте.
Романтики возродили живой читательский интерес к «Божественной Комедии». Начало нового столетия ознаменовалось мощным приливом внимания к творчеству Данте. По уверению швейцарского дантолога Дж. Скартаццини, ни одно словесное произведение, даже Библия, не переводилось в девятнадцатом веке так часто, как «Божественная Комедия». Ее популярности немало способствовала немецкая дантология. В тридцатые-сороковые годы она отняла пальму первенства у итальянских ученых и вышла на передовые рубежи. Штудии К. Витте, Филалета, А. Копиша, Ф. Вегеле были известны всей Европе и за ее пределами. К концу столетия «Божественную Комедию» читали уже на двадцати языках: французском и каталонском, голландском и немецком, английском и датском, санскрите и еврейском, армянском и словенском, португальском и чешском, румынском и польском, греческом и венгерском, русском и шведском, латыни и испанском. Интерес к Данте стал столь многонационален и глубок, что английский искусствовед Дж. Рескин назвал великого тосканца «центральным человеком мира».
Глава 1
«…Вековые складки дантовых терцин»
«Божественная Комедия» в русских библиотеках
В истории знакомства русских читателей с «Комедией» Данте особая страница принадлежит предприимчивой акции некого венецианца графа де Сиснероса. В 1757 году он предпринял издание поэмы с посвящением императрице Елизавете Петровне. От лица Данте Сапата де Сиснерос писал: «Избегая ненависти жестокого города, ежечасно готовый к ударам судьбы, этрусский поэт смиренно идет к Вам, о царственная донна, чтобы снискать милости.
Долго по нехоженым путям он бродил по горячим пескам Стикса, но ему не был закрыт и Вечного Добра путь в небесах по благословенным тропам.
- После долгого пути, наконец, ища
- отдыха своим горестным и несчастным дням,
- возлагает свою суровую лиру к Вашему Трону.
- Пусть будет так, что, желая вернуться к своему метру,
- он услышит на другом языке звук Ваших похвал»[2]
Видимо, автор, присвоив титул графа[3], рассчитывал на благосклонность русской царицы и место стихотворца при ее дворе. Так в Северной Пальмире оказался роскошный экземлляр «Божественной Комедии»: текст поэмы был перепечатан с великолепного Падуанского издания 1726–1727 годов, заслужившего одобрение академиков «Круски».
Казалось, что дар де Сиснероса – первая ласточка, возвестившая о проникновении Данте в Россию. Но недавняя публикация материалов о вятской библиотеке друга Феофана Прокоповича Лаврентия Горки (ум. около 1737 года) изменила сложившиеся представления. У Горки хранилось самое старинное издание «Комедии», отмеченное в собраниях русских книжников. По своей ценности антикварный фолиант, отпечатанный в Венеции в 1536 году[4], уступал лишь пергаментному списку дантовской поэмы, которым обладал директор Эрмитажа, страстный библиофил военный историк граф Д.П. Бутурлин (1763–1829). На переплете манускрипта, датированного XIV веком, сиял золотой герб маркизов Маласпина, а правка текста принадлежала; по преданию, самому Данте. В 1839 году пергаментный список вместе с другими древними рукописями и старопечатными книгами из библиотеки графа был продан с публичного торга в Париже[5].
Современник Д.П. Бутурлина поэт и просветитель М.Н. Муравьев (1767–1807) считал Данте представительным паролем итальянской литературы, каким Шекспир стал для английской, а Кальдерон – для испанской. Муравьев располагал прозаическим переложением «Ада» на французский язык с параллельным итальянским текстом, примечаниями и биографией Данте. Эта книга вышла в Париже в 1776 году и пользовалась популярностью во Франции и даже в Италии, хотя и не такой шумной, о какой мечтал ее автор Жюльен Мутонне де Клерфон (1740–1813)[6].
Читателем Клерфона был, вероятно, и двоюродный племянник Муравьева К.Н. Батюшков, обязанный своему дяде ранним развитием литературного вкуса. Итальянский язык Батюшков выучил в пансионе И.А. Триполи, владел им в совершенстве и мог по достоинству оценить переложение «Ада» на французский. В одном из заграничных походов Батюшков приобрел «Inferno»* из серии «Biblioteca italiano».
Позднее эта книга, изданная в 1807 году, оказалась у В.А. Жуковского. На ее форзаце осталась надпись: «Константин Батюшков. Куплено в Веймаре ноября 1813 года»[7].
Кроме экземпляра с батюшковским автографом, в библиотеке Жуковского хранятся и другие издания «Божественной Комедии». Среди них – перевод Арто де Монтора (1772–1849) в девяти малоформатных томах, вышедших в 1828–1830 годах в Париже[8]. Опубликованный впервые чуть ли не двадцать лет назад перевод Арто имел солидную репутацию, хотя законодатели изящного вкуса Баланш и Рекамье пренебрежительно отзывались о нем, полагая, что перевод Арто довольно верен, но плох[9].
Еще одно парижское издание (1829) – двадцать песен «Комедии» в изложении Антони Дешана. Они исполнены александрийскими стихами и похожи на самостоятельные поэмы, сочиненные в подражание Данте, но это не помешало Альфреду де Виньи восторженно откликнуться на них. «Сейчас для меня существует лишь одна книга, – писал он своему товарищу. – Это ваш Данте. Это прекрасное, простое и мужественное произведение…»[10].
В сороковые годы Жуковский приобрел том «Сочинений Данте Алигьери» (1841), в котором напечатаны «Божественная Комедия» в переводе А. Бризе и «Новая Жизнь» в переложении А. Делеклюза. Немецкие переводы представлены в собрании поэта Карлом Штрекфусом. Его кропотливый труд, увидевший свет в 1824–1826 годах в Халле (у Жуковского издание 1840 года), часто переиздавался, хотя критики относились к нему по-разному. Одни порицали переводчика за чрезмерную изысканность стиля, другие считали его стихи превосходными. Аргументы находились у обеих сторон, и спор продолжался до конца столетия.
«Дантеану» в библиотеке Жуковского завершает прозаическое переложение «Ада» (1842) Е.В. Кологривовой, скрывшейся под псевдонимом Ф.Фан-Дим. Этот первый опыт полного перевода на русский язык приветствовал В. Белинский. Иной была реакция знатока дантовского творчества П. Шевырева. Отмечая грубые промахи переводчицы, он усомнился в знакомстве Кологривовой с подлинником и счел ее работу годной лишь для пояснительного текста к рисункам Джона Флаксмана (1755–1826), которые были помещены в книге. Словно сотканные из одного оконтуренного света, они стали широко известны после публикации в римском издании «Комедии» 1793 года и пленили самых авторитетных ценителей, Гете и Гойю[11].
При мысли о Пушкине и Данте невольно вспоминаются стихи:
- Зорю бьют… из рук моих
- Ветхий Данте выпадает,
- На устах начатый стих
- Недочитанный затих —
- Дух далече улетает.
Стихи сочинены в пору пребывания поэта в армии генерал-фельдмаршала И.Ф. Паскевича, командира Отдельного кавказского корпуса. Трудно сказать, какой том «Божественной Комедии» брал с собой Пушкин в 1829 году, отправляясь на Кавказ, но «ветхим Данте» он, безусловно, мог бы назвать старинное и знаменитое издание поэмы в переводе француза Бальтазара Гранжье, который гордился тем, что первый предоставил соотечественникам счастливую возможность читать всю «Комедию» на родном языке. Этот перевод александрийскими стихами, изданный в 1596–1597 годах, был уже четвертой попыткой ввести Данте в мир французской культуры. Предыдущие переложения остались в списках.
Аббат Гранжье недостаточно владел поэтическим ремеслом и некоторые выражения, с которыми не справлялся, оставлял на языке оригинала, и все же его текст в трех отдельных томах был большой ценностью.
В собрании Пушкина сохранилось только два тома этого антикварного издания. Оба в хорошем состоянии, в прекрасном тисненном золотом марокене с золотым обрезом, гравированными титулами и портретом Данте. Переплет явно позднего происхождения, а суперэкслибрис – библиотеки дома Бурбонов.
Еще одно парижское издание поэмы, бывшее собственностью Пушкина, – второй том из собрания сочинений Данте на итальянском языке («Purgatorio», 1823) с комментариями Антонио Буттура. Кроме этой книги («Чистилище»), в которой разрезаны лишь начальные двадцать три страницы, поэт располагал упоминавшимися переводами Арто и Дешана.
Читал ли Пушкин «Комедию» в подлиннике? Среди его знакомых итальянским владели И А. Крылов и А. А. Шаховской, А. С. Норов и Н.П. Бахтин, С.Е. Раич и Ф.Н. Глинка, А.С. Грибоедов, Д. В. Дашков и С.П. Шевырев… Гоголь считал итальянский своим вторым родным языком[12], а И. И. Козлов главные места из «Божественной Комедии» любил читать наизусть[13]. Сам Пушкин «касался», как писала Т.Г. Цявловская, шестнадцати языков: старофранцузского, французского, латинского, испанского, немецкого, итальянского, сербского, английского, турецкого, арабского, польского, церковнославянского, древнерусского, древнегреческого, украинского и древнееврейского. По степени освоения поэтом живых европейских языков вслед за французским, несомненно, шел итальянский. Недаром в библиотеке Пушкина хранится до тридцати итальянских книг. Правда, английских – втрое больше, но известно, что по-английски Пушкин не говорил.
К числу образованнейших читателей дантовской поэмы принадлежал П.Я. Чаадаев. Он имел не только переводы Дешана и Арто, но и лондонское издание «Комедии» 1802 года на английском языке[14]. Перевод рифмованными стансами сделан ирландским священником Хенри Бойдом и, по мнению его знаменитого соотечественника Т. Б. Маколея, столь же скучен и вял, сколь слог подлинника занимателен и энергичен[15].
Вероятно, сочинения Данте имелись и в собрании еще одного ближайшего друга Пушкина, однокашника Л.С.Пушкина по Благородному пансиону при Главном педагогическом интитуте, замечательного библиографа и библиофила С. А. Соболевского. В шестидесятые годы он жил в Москве, его богатейшая библиотека размещалась в доме на Смоленском бульваре. Здесь соседом Соболевского был его давний приятель В.Ф. Одоевский. Он располагал флорентийским, 1857 года, изданием «Комедии» со словарем рифм и обширными комментариями Бруно Бьянки, а также прозаическим переложением поэмы А. Бризе[16].
К Одоевскому, как и Соболевскому, не раз обращался за библиографическими справками Лев Толстой. Работая над романом «Война и мир», он просил князя Одоевского прислать ему «выписку из Данте о несчастной любви»[17]. Князь, естественно, откликнулся на просьбу, но беседа француза Пончини с Пьером Безуховым, в которой они вспоминают терцину из пятой песни «Ада», не вошла в окончательный текст романа.
В 1839 году со станка типографии Московского университета сошла первая кантика дантовской поэмы на итальянском языке. Честь единственного русского издания «Inferno» и примечаний к нему принадлежала университетскому лектору Джузеппе Рубини. В северную страну он приехал по приглашению президента Российской Академии наук адмирала А.С. Шишкова и в течение сорока лет увлеченно изучал открывшуюся ему неповторимую культуру. Перед возвращением на родину он в сотрудничестве с профессором Шевыревым написал для своих соотечественников «Storia della litteratura Russa» (Firenze, 1862)*, о которой одобрительно отзывался известный филолог и славист И.И. Срезневский.
Университетский томик «Ада» предназначался для студентов и готовился весьма тщательно: текст был перепечатан с Падуанского издания «Комедии» 1726–1727 годов, биография одолжена у заслуженного историка итальянской литературы Джироламо Тирабоски, а описание трех сторон запредельного мира сделал сам редактор.
В Санкт-Петербургском университете популяризацией дантовской поэмы с энтузиазмом занимался иммигрант, поэт-импровизатор, лингвист И.А. Джустиниани. Столичные владельцы книжных лавок уверяли, что благодаря его усилиям «Божественная Комедия» расходилась в сороковые годы гораздо лучше, чем раньше[18].
В эту пору неожиданной литературной новостью стало переложение «Ада» Е.В. Кологривовой! Многие критики, принимая во внимание важность первого опыта, отнеслись к почину рядовой писательницы сочувственно или, по крайней мере, снисходительно. Единичные суровые приговоры заглушались одобрительными откликами.
Второй перевод «Ада» появился на страницах «Москвитянина» за 1853 год. Его автором оказался врач по образованию Д.Е. Мин. Он занимал кафедру судебной медицины в Московском университете и никогда не мечтал о лаврах профессионального литератора. Впрочем, и в других странах среди переводчиков Данте встречались разные люди: поэты и педантичные профессора, короли и тайные советники, что лишний раз свидетельствует о грандиозном культурном значении дантовской поэмы.
Перевод Мина можно было найти во многих частных собраниях и массовых библиотеках. Отдельное издание «Ада» Н.А. Некрасов приветствовал как «замечательное явление 1855 года»[19]. Он, как и А.Н. Островский, не только обратил внимание на новую книгу, но и сразу же приобрел ее[20]. Вслед за «Адом» Мин опубликовал «Чистилище» (1874) и, наконец, «Рай» (1879). Свой многолетний подвижнический труд переводчик воспринимал как исполнение не столько художнического, сколько гражданского долга. В предисловии к первой части поэмы он писал: «Не страшусь строгого приговора ученой критики, утешая себя мыслью, что я первый решился переложить размером подлинника часть ’’Божественной Комедии” на русский язык, так способный к воспроизведению всего великого»[21]. Здесь же Мин сообщал, что в своей работе опирался на опыт немецких дантологов и поэтов: К.Витте, А.Вагнера, К.Каннегисера, а особенно А.Копиша и Филалета*.
По общему мнению, Мину удалось сделать лучший дореволюционный перевод поэмы, но и он далек от совершенства. Автор смог передать «лишь часть образов и выражений подлинника, – писал
B. Я. Брюсов. – Правда, важнейшее сохранено, но исчезли оттенки мысли, вся сложность речи и длинный ряд отдельных образов. С другой стороны, многое <… > ради рифмы, ради размера добавлено: эти добавления не всегда в стиле Данте и всегда излишни»[22]. С этой характеристикой совпадает отзыв непревзойденного переводчика «Комедии» М.Л. Лозинского. Он считал, что по стихам Мина «трудно судить о поэтической мощи подлинника»[23].
Интерес к Данте заметно возрос после 600-летнего юбилея поэта в 1865 году. О празднествах в Италии русскую общественность информировали два крупнейших ученых – Александр Николаевич Веселовский (1838–1906) и Федор Иванович Буслаев (1818–1897).
В дантоведении Веселовский продолжил и обогатил идеи своего учителя, даровитого профессора Московского университета П.Н. Кудрявцева, автора обширной работы о Данте и его времени. В пятидесятые годы она печаталась в «Отечественных записках». Увлечение Буслаева «Божественной Комедией» имело более давнюю историю. Еще первокурсником он ознакомился с диссертацией Шевырева «Дант и его век», и с тех пор средневековая поэма стала его любимым чтением и предметом кропотливых штудий. В рабочем кабинете Буслаева хранилось пятитомное издание «Божественной Комедии», известное под названием «Минерва» и богатое обширными выдержками из различных комментариев к поэме, от самых ранних до позднейших, датированных двадцатыми годами XIX столетия. «Минерва» вышла в свет в 1822 году в Падуе и затем неоднократно перепечатывалась.
В сообщениях из Италии Буслаев рассказывал об удивительной любви итальянцев к своему поэту. Он писал, что во времена австрийского владычества соотечественники Данте, нарушая строжайшие запреты, устраивали тайные собрания для изучения поэмы. Эти толкователи «патриотической библии итальянского народа», сообщал корреспондент, воспитывали в молодой Италии самые благородные чувства: национальную гордость и любовь к истории, искусству, родному языку.
Вскоре после юбилейных празднеств петербургский издатель М.О. Вольф объявил подписку на «Божественную Комедию» с иллюстрациями Гюстава Доре, которые незадолго до юбилея украсили одно из парижских изданий поэмы. Великолепием и добротностью они изумили ценителей и принесли огромный успех художнику. Вольф завязал деловые отношения с его импрессарио месье Мамом, купил право публикации рисунков Доре и заказал перевод «Комедии» популярному в шестидесятые годы поэту Д.Д.Минаеву.
Минаев переводил Данте по подстрочнику. Сначала он взялся за срочную работу с большим энтузиазмом, но затем непредвиденные и продолжительные антракты стали возникать в его занятиях все чаще и чаще. Случалось, взволнованный издатель посылал людей на розыски переводчика, те искали по всей столице и, наконец, снова возвращали подгулявшего поэта к рукописи. Чтобы не отвлекаться от принятых обязательств, совестливый Минаев просил приятелей подвергать его «одиночному заключению».
В 1874 году он завершил «Ад», но из-за «еретических» картин в этой части поэмы возникли осложнения с цензурным разрешением на ее публикацию. После многочисленных прошений издателей обер-прокурор Святейшего синода Д.А. Толстой дал им указание представить записку о том, что в своем сочинении Данте воспроизводит средневековые легенды. Записку составили, последовало обещанное разрешение, но с условием, что книга будет достаточно дорога и окажется недоступной для массового читателя. И все же, несмотря на высокую цену, подписчиков нашлось немало. Подписывались столичные интеллигенты и провинциальные купцы, публичные библиотеки, какой-то отдаленный монастырь и даже «Крестьянское общество деревни Суха»[24].
Вольфовское издание «Комедии», законченное в 1879 году, разошлось довольно широко, но перевод Минаева мог удовлетворить только самых нетребовательных читателей. Подобного мнения придерживались Брюсов, сведущие критики и авторитетные дантологи. Стих переводчика тяжел, а культура весьма ограниченна, писал, например, И.Н. Голенищев-Кутузов, в начале минаевского перевода терцины еще кое-как, хромая, идут друг за другом, однако чем дальше, тем перевод становится беспорядочней и хуже.
Интерес к дантовской поэме достиг апогея на рубеже веков. Добротный стихотворный русский текст «Комедии» напечатал ученик Ф. Буслаева Н.Голованов, прозой ее переложил журналист В. Чуйко, опубликовали свои переводы поэтесса О. Чюмина и безвестный дотоле А. Федоров. Его вирши настолько нелепы, что невольно вспоминаешь желчные слова Дж. Вазари об одном самонадеянном профане: «…не кажется ли вам, что он еретик, потому что, будучи неграмотным и едва умея читать, он толкует Данте и упоминает его имя всуе»[25]. Незадачливый опус Федорова М. Лозинский заслуженно назвал литературным курьезом.
Сложный и драматический мир «Божественной Комедии», откликаясь на разный социальный и духовный опыт, порождал самые различные представления о творце великой поэмы. В восприятии читателей Данте был суровым гражданином и певцом справедливости, схоластом и загадочным мистиком, летописцем средних веков, мудрейшим мыслителем и при этом – высочайшим поэтом. Его гением восхищались Г. Плеханов и Н. Минский, М.Кузмин и К. Бальмонт, М. Волошин и Н. Гумилев…
Плеханов обладал небольшой, но любопытной коллекцией изданий дантовской поэмы. В его собрании «Ад» представлен переложением Е. Кологривовой и вольным переводом А. де Ривароля, заслужившим некогда похвальный отзыв влиятельного критика Ш. Сент-Бёва. Французский текст всех частей «Комедии», имеющийся в библиотеке, принадлежит романтику Ф. де Ламене, а венчает коллекцию очень ценное флорентийское издание поэмы 1907 года с обстоятельными комментариями П.Фратичелли, превосходно подготовившего полвека назад публикацию «Малых произведений» поэта.
Особое внимание проявляли к «Божественной Комедии» символисты, а Брюсов и в стихах писал о многолетнем увлечении Данте:
- Давно пленил мое воображенье
- Угрюмый образ из далеких лет,
- Раздумий одиноких воплощенье…
В сентябре 1905 года С.А.Венгеров, выступая уполномоченным издательства «Брокгауз и Ефрон», предложил Брюсову перевести «Комедию». Тот с готовностью откликнулся на предложение и, готовясь к работе, сформулировал задачи перевода: сохранить поэзию подлинника, воссоздать стиль Данте, избегать дополнений, ради стиха допускать лишь перефразировки, соблюдать звукопись Данте[26].
Продумывая план, поэт стремился предупредить огрехи, которых не избежал и Д.Мин. Для перевода Брюсов выбрал миланское издание поэмы 1903 года, подготовленное известным швейцарским дантологом Дж. Скартаццини в сотрудничестве с профессором Дж. Ванделли. В распоряжении поэта имелись и французские тексты «Комедии» А. де Монтора, Э. Ару и А.Мелио. Наконец, Брюсов обзавелся словарем дантовских рифм Л.Поллако и двухтомной «Enciclopedia Dantesca»*. Рекогнисцировка перевода велась по-брюсовски.
К сожалению, по вине издательства тщательные приуготовления оказались почти напрасными. В архиве поэта обнаружены лишь переводы первой песни с комментариями и вступительной статьей, нескольких терцин третьей и отрывков пятой песен «Ада».
После разрыва соглашения с издательством Брюсов не хотел оставлять начатых трудов и договаривался о переводе с В.И.Ивановым. Он брался перевести «Ад», Иванов – «Чистилище» и «Рай». В «Переписке из двух углов» (1921) есть строки, косвенно свидетельствующие об этой договоренности. М.О. Гершензон обращается к Иванову: «Теперь я пишу при вас, пока вы в тихом раздумье силитесь мыслью разгладить вековые складки Дантовских терцин, чтобы затем, глядя на образец, лепить в русском стихе их подобие… А после обеда мы ляжем каждый на свою кровать, вы с листом, я с маленькой книжкой в кожаном переплете, и вы станете читать мне ваш перевод «Чистилища» – плод утреннего труда, а я буду сверять и спорить»[27]. Через шестьдесят лет первая песнь «Чистилища» в переводе Иванова была опубликована в «Oxford Slavonic Papers»[28].
На рубеже веков в печати довольно часто появлялись переводы отдельных песен «Комедии» Эллиса (Л.Л.Кобылинского), активного деятеля русского символизма. Он занимался и специальными исследованиями поэмы, разрабатывая, преимущественно, религиозно-мистические темы. «Для Данте, – заявлял Эллис, – путь по загробным мирам не был никогда мифотворчеством, а аллегорически-символическим описанием реальных видений, описанием, подобным большинству сообщений ясновидцев и боговидцев его эпохи»[29]. Такие соображения высказывались и раньше, незадолго до Эллиса теософские комментарии к дантовским сочинениям публиковались переводчицей «Пира» Кэтрин Хилард в лондонском журнале “Lucifer” (1893).
Уже в эмиграции, почти перед смертью, солидный опус о творчестве Данте издал в Париже Д.С.Мережковский*. Он старался учесть все лучшее в европейской дантологии и в работе над книгой использовал труды комментаторов от Джованни Боккаччо и Кристофоро Ландино до Микаэля Барби.
С восхищением относился к Данте К.Д.Бальмонт. Рассказывая об этом, его жена Е.А.Андреева-Бальмонт вспоминала, с каким воодушевлением он читал терцины «Комедии», обнажая красоту и силу дантовского стиля[30]. В девяностые годы Бальмонт перевел двухтомную «Историю итальянской литературы» А.Гаспари с лучшим для того времени очерком о Данте.
Среди почитателей поэта был и Александр Блок. В его записной книжке есть помета о покупке в 1901 году «Божественной Комедии» издания И.И.Глазунова. Книга пополнила шахматовскую библиотеку, которая, по существу, была «дачной» и не претендовала на полноту коллекции, отражающей многосторонние интересы ее владельца. Тем примечательнее в числе раритетов три тома поэмы. На обложке каждого автограф – «Александр Блок»[31].
В 1918 году, в суровую пору гражданской войны, красноармейцы в штабе 4-й армии отпечатали «Новую Жизнь» Данте с введением и комментариями магистра романо-германской филологии, доцента Самарского университета М.И.Ливеровской. Видимо, эта книжка, сброшюрованная из серых листков оберточной бумаги, сразу ставшая библиографической редкостью, была подарена Блоку. На ее титуле Ливеровская написала: «Onorate 1’altissimo poeta» (Dante. Inferno). Maria Liverovska. 12.X.1920[32]. – «Почтите высочайшего поэта». Так в Лимбе встретили пришествие Вергилия. Высочайшим поэтом явился миру и Данте. Его преемником на русской земле стал А. Блок.
В XX веке «Божественная комедия», не считая опыта О.Чюминой (1902 г.), полностью была переведена на русский язык три раза. В 1838 г. известный поэт М.Л. Лозинский на страницах «Литературного современника» опубликовал статью «К переводу Дантова «Ада». «По грандиозности замысла, по архитектурной стройности его воплощения (…)по страстной силе своего лиризма, – писал он, – поэма Данте не знает себе равных среди европейских литератур (…) могучий индивидуализм Данте и несравненная выразительность созданных им образов сообщает такую силу его «тройственной поэме», что она остается и в наши дни живым созданием искусства»[33]. Оценивая переводческие опыты предшествующего столетия, Лозинский полагал лучшим аналогом итальянского текста «Божественную Комедию» Д.Мина, которая в полном составе увидела свет уже после смерти автора: в 1902–1904 гг. «При всех своих достоинствах, – отмечал поэт, перевод Мина не всегда в должной степени точен, а главное – он написан стихами, по которым трудно судить о поэтической мощи подлинника»[34]. Последние слова Лозинского стали программой его собственного «блистательного» (А. Илюшин) перевода, где завораживающая красота терцин и метафорическая сила выражений всех трех кантик, законченных в 1945 г., свидетельствует о неподражаемом гении русского поэта. Немаловажную роль в искусстве версификации сыграла пушкинская традиция – Лозинский перевел «Комедию», созданную итальянским одиннадцатисложником, пятистопным ямбом, словно обручив Пушкина с Данте[35]. В рисунке художественной образности для русского читателя нередко видится пушкинская линия, но она столь органична, что не покушается на глубоко самобытное художественное мышление автора поэмы. И все же трудно отвлечься от впечатления, что «Комедия» Лозинского воистину оказывается «тройственной поэмой», – и не в силу своей трехчастности, – а именно потому, что в ней гению Данте сопутствует гений двух русских поэтов. Чтобы не раздражать читателя бездоказательными предположениями, приведем пример. В семнадцатой песне «Ада» автор рассказывает, как он, восседая вместе с Вергилием на хребте Гериона, символизирующем в поэме Обман, спускается в бездну восьмого круга Ада. Доставив седоков к цели, Герион тут же исчезает. Стихом, заканчивающим песню, завершается и этот опасный для путников эпизод. Сравним последнюю терцину плюс заключительный стих у четырех переводчиков XX века: Б.Зайцева, переводившего «Ад» ритмической прозой (1961), М. Лозинского (1939), А. Илюшина (полный перевод «Комедии» опубликован в 1995 г.) и В.Маранцмана (перевод издан в 2003). Но вначале дантовский текст:
- сosi ne puose al fondo Gerїone
- al piè al piè della stagliata rocca
- e, discarcate le nostre persone,
- si dileguò come da corda cocca (XVII, 133–136).
Вот переводы в порядке упоминания их авторов. Обратим внимание прежде всего на заключительный стих:
Б. Зайцев:
- Так ссадил нас в глубине Герион,
- У самого подножия рухнувшей скалы,
- И освободившись от наших тел
- Умчался, как стрела из лука.
М. Лозинский:
- Так Герион осел на дно провала
- Там, где крутая шла скала,
- И, чуть с него обуза наша спала,
- Взмыл и исчез, как с тетивы стрела.
А. Илюшин:
- Так зверь, носящий имя Гериона,
- На дно спустился; мы сошли без звука;
- Как только сняла груз моя персона,
- Прочь улетел он, как стрела из лука.
В.Маранцман:
- так Герион закончил свой полет,
- достигнув скал глубинных остановки
- где нас сгрузил, и, вновь подняв живот,
- исчез как в пропасти конец веревки.
На наш взгляд стих Лозинского «Взмыл и исчез, как с тетивы стрела» наиболее выразительный и динамичный. Он эмблематичен для всей переводческой стратегии автора, у которого, как сказал бы Мандельштам, «Единство света, звука и материи составляет ее внутреннюю природу»[36]. Иного рода стратегия А. Илюшина. Он сознательно уходит от испытанного русской поэзией пятистопного ямба и в соответствии с оригиналом предпочитает ему женский силлабический одиннадцатисложник, так как русский одиннадцатисложник с женской клаузулой ближе итальянскому эндекасиллабу – размеру дантовского стиха. Выбор не вкусовой, а профессиональный. Стиховеды убеждены, что технику эквиметрического перевода Данте на русский язык определить непросто. «Ясно, что перевод должен охранить большую долю ямбических строк и стоп внутри неямбических. Переводчик должен усилить четвертый и шестой слоги, как это сделано в «Божественной комедии. В наиболее точном и в стиховом, и в лексическом плане переводе А. А. Илюшина эта задача решается средством микрополиметрии: русское ухо, привычное к сверхжесткой силлаботонике, слышит в пределах строки или строфы сочетание различных стоп или рзмеров»[37].
У Илюшина не только стиховая форма, но и языковая манера резко отличается от сурово-пленительных терцин Лозинского. «Здесь почти нет красоты слога, – пишет о своей работе Илюшин, – в том смысле, в каком она столь блистательно проявилась в тексте Лозинского.
«Эстетизмам» нередко предпочитаются «антиэстетизмы». Во имя чего? Все дело в том, что поэтическое слово Лозинского отточено, уверено в себе, с своей непогрешимо-исторической сочетаемости с контекстом, неотразимом обаянии, стилистической уместности и пр. Такой эффект удается тогда, когда мастер слова умело опирается на надежно выработанные и выверенные нормы литературного языка и поэтического вкуса – т. е. на то, на что никак не мог опереться сам Данте, будучи не столько наследником, сколько первооткрывателем поэтических сокровищ. У Лозинского – сформировавшееся, У Данте – формировавшееся»[38].
Перефразируя Т. Адорно, мы вправе думать, что ничто не наносит такого ущерба искусству прошлого, как его аналогии с настоящим. Своими переводами знаток Данте и русской силлабики А. А. Илюшин ведет катакомбную археологическую работу, результатом которой оказываются непредвиденные открытия. Их значительность, в том числе и художественно-эстетическая значимость, подтверждается высокой оценкой труда переводчика на родине Данте. В Италии он удостоен золотой медали Флоренции. Труд Илюшина не только выдающееся событие русской или итальянской литературы, но и знак непреходящего торжества гуманитарных ценностей в трудно развивающемся человеческом сообществе.
Переводческая стратегия Б.К.Зайцева была иная. Он писал: «Предлагаемый перевод (…) сделан ритмической прозой строка в строку с подлинником. Форма эта избрана потому, что лучше передает дух и склад дантовского произведения, чем перевод терцинами, всегда уводящий далеко от подлинного текста, и придающий особый оттенок языку. Мне же как раз хотелось передать, по возможности, первозданную прототу и строгость дантовской речи»[39]. В предисловии к своему «Аду» Зайцев замечал: «Если попробовать рукой, на ощупь, то слова Данте благородно-шероховаты, как крупнозернистый мрамор, или позеленевшая, в патине, бронза. Часто он темен, даже и непонятен. Но для него – так и надо. Это его стиль. В нем есть, ведь, оракульское, пифическое»[40]. Размышляя об интонации дантовских терцин, Зайцев отмечает: «Чтобы написать Ад, надо было «в озере своего сердца» собрать острую влагу скорби»[41]. Читатели это чувствуют. Один из них считает, что перевод Зайцева драматичнее, чем у Лозинского[42].
Перевод бывшего профессора РГПУ В.Маранцмана иначе, как подвижническим, вряд ли назовешь. Если А.Илюшин провоцировал путешествие вглубь человечности и средневековой культуры, то Маранцман ставил задачу расширить круг читателей Данте, максимально приблизив текст оригинала к читателю. Именно поэтому он пошел вслед за Лозинским, пытаясь стать проводником широкой аудитории к выдающемуся литературному памятнику. Отмечая ряд формальных упущений, например, немыслимые для Данте неточные рифмы и etc, М. Гаспаров писал о высоком проценте точности перевода дантовской речи в процессе смыслообразования и современной лексики. По наблюдениям Гаспарова обычно в переводах коэффициент точности колеблется между 50 и 55 процентами: из подлинника сохраняется около половины слов, остальные заменяются или утрачиваются. В переводе Лозинского первой песни «Ада» коэффициент точности составляет 74 процента, вольности – 31 процент, соответственно 73 % точности и 27 % вольности – для XXX песни «Ада». Почти такие же показатели у Маранцмана: 73 % и 31 % для первой песни «Ада», а для XXX песни – 79 % и 28[43]. Иными словами, по точности перевод Маранцмана не уступает поэтически блистательному труду Лозинского, что внушает заслуженное уважение к автору нового перевода. Чем больше переводов, тем больше возможностей иметь Данте своим конфиденциальным собеседником. Читательская благодарность авторам переводов естественна и уместна.
Глава 2
Данте и русский романтизм
На исходе третьего десятилетия нового века П. А. Катенин писал на страницах «Литературной газеты»: «Теперь понаслышке и древним назло много хвалят Данте, но мало читают…». В этом резком суждении все же больше признания вдруг выросшей популярности итальянского поэта, нежели справедливости мнения, что в эту пору в России Данте уже «знали, но не читали»[44]. Конечно, круг читателей «отца новой Италии» (Шатобриан) был гораздо уже, чем, скажем, Шиллера или Шекспира. За пределами Италии интерес к Данте и его «Комедии» еще только начинался. Восемнадцатый век не питал особого пристрастия к изучению и переводам дантовских творений, и лишь в девятнадцатом столетии их число стало быстро умножаться. К концу века насчитывалось около пятисот переводов «Божественной Комедии». Но переводы далеко не всегда могли достойно представить художественные достоинства «Комедии». «К сожалению, – замечал тот же Катенин, – трудно не знающему итальянского языка познакомиться с сими изящными красотами: так они обезображены в переводах. Прозою перелагать Данте жалко; а стихами, тем паче соблюдая размер и мудреное сплетение подлинника, вряд ли примется терпеливо хоть один из нынешних стихотворцев»[45]. Русский поэт судил о рифах «переложения» поэмы по своему опыту, и его суждения касались не только соотечественников. «Легче одеть статую, чем перевести Данте», – говорил Байрон.
В конце 20-х – начале 30-х гг. русская публика, знающая итальянский язык гораздо менее, чем французский, знакомилась с «Комедией» преимущественно в переводах Арто де Монфора (1772–1849) и Антони Дешана (1800–1869). Именно ими был представлен «французский Данте» самых поздних изданий в собраниях Жуковского и Пушкина. Однако не все русские читатели довольствовались несовершенными копиями; многие из тех, кто переводил поэму или писал о Данте, читали его в подлиннике. Например, Жуковский сообщал о только что почившем И. Козлове: «Знавши прежде совершенно французский и итальянский языки, он уже на одре болезни, лишенный зрения, выучился по-английски и по-немецки <… он знал наизусть всего Байрона, все поэмы Вальтера Скотта, лучшие места из Шекспира и главные места из Данта»[46]. Несколько раньше Бестужев-Марлинский уведомлял брата: «Занимаюсь плотно итальянским языком. Читаю Данта»[47]. В литературной и ученой среде итальянским владели А. А. Шаховской и С. Е. Раич, И. А. Крылов и К. Н. Батюшков, С. П. Шевырев и Н. А. Полевой, Д. Н. Блудов и Н. И. Бахтин, А. С. Пушкин и Д. В. Дашков. Уже этот достаточно пестрый перечень имен позволяет думать, что в России первой трети нового века о Данте и его «Комедии» знали не только понаслышке. В эту пору суровый флорентинец заслонил собой Торкватто Тассо и стал в глазах образованного читателя олицетворением итальянской литературы, ее полномочным представителем. В этом отношении примечательно суждение И.М. Муравьева-Апостола: «Прочитай Данте на итальянском, Сервантеса на испанском, Шекспира на английском, Шиллера на немецком, тогда ты приобретешь некоторое право произносить над ними приговор»[48]. Среди писателей, чьи имена стали представительным паролем той или иной западноевропейской литературы, несколько неожиданно, но заслуженно называется Данте.
Имя Данте мелькает и в частной переписке, и на страницах русской печати. Так, в 1811 г. К-Н. Батюшков пишет Н. И. Гнедичу из деревни: «Я сию минуту читал Ариосто, дышал свежим воздухом Флоренции, наслаждался музыкальными звуками авзонийского языка и говорил с тенями Данте, Тасса и сладостного Петрарка…»[49] Любопытно, что недавно один весьма авторитетный дантолог высказал удивление, что Батюшков, «первый из русских поэтов, вполне овладевший итальянским языком, не подарил своего внимания Данте»[50]. Но это не совсем так. В проспект переводов, который был выслан в 1817 г. Гнедину, Батюшков включил «Божественную Комедию», а кроме того – статью «О жизни Данте и его поэме»[51]. Статья об итальянском поэте была давним замыслом Батюшкова. Еще раньше он сообщал тому же адресату, что не написал обещанной статьи, ибо был болен и не имел под рукой нужных книг[52]. Видимо, только тяжкая душевная болезнь помешала Батюшкову приступить к работе над переводом Данте и статьей или книгой о нем. Впрочем, некоторые из современников русского поэта уверяли, что обещанный перевод Данте все же был выполнен им, но он сжег его в минуту душевных мук и уже безумной ненависти к своему дарованию, когда неизличимо больной навсегда возвращался на родину из-за границы[53]. Насколько это показание соответствует истине, проверить невозможно, но мысль Батюшкова, пока была ясной, часто обращалась к Данте[54]. В последние месяцы своей здоровой жизни он писал А. И. Тургеневу из Неаполя: «Вы читаете Данта, завидую вам»[55]. «Данте, – полагал Батюшков, – великий поэт: он говорит памяти, глазам, уху, рассудку, воображению, сердцу»[56].
Страстным почитателем сурового тосканца был «один из первых апостолов романтизма» [57] Павел Катенин. «Боже! – восклицал он, – какой великий гений этот Данте! <…> вот истинно национальный поэт»[58]. В устах Катенина, воителя за «народность» и самобытность отечественной словесности, замечание о национальном содержании дантовского творчества было равнозначно убеждению в романтическом характере «Божественной Комедии». Это представляется еще более очевидным, если сопоставить утверждение Катенина, что в Италии «истинная поэзия родилась и исчезла с Данте»[59], с предшествующим ему суждением уже зрелого Пушкина: «В Италии, кроме Данте единственно, не было романтизма. А он в Италии-то и возник»[60]. Явное сходство этих соображений однако не означает зависимости Катенина от признанного и высокого авторитета.
Еще в 1822 г., формулируя, по существу, принципиальные положения романтической эстетики, Катенин приводил в качестве примера ряд имен и среди них Данте. «Я вообще не терплю школ в словесности, – писал он, – их быть не должно. Всякий пиши сам по себе, как знаешь; всем один судья – потомство. Превосходные, образцовые писатели нигде не волокли за собою кучи ничтожных подражателей <…> Ни Данте, ни Тасс, ни Камоэнс, ни Сервантес, ни Шекспир, ни Расин, ни Мольер не предводительствовали полками пигмеев»[61]. В этом перечне «образцовых писателей», ориентированном на защиту романтизма, имена Расина и Мольера могут вызвать понятное недоумение, но нужно помнить о неоднозначной литературной позиции «младшего архаиста», который «почтенную старину» зачастую противопоставлял «тощим мечтаниям» «самозванцев-романтиков» или карамзинистов. Например, главное достоинство библейских трагедий Расина «Эсфирь» и «Гофолия» он видел в национально-историческом колорите: в них, замечал Катенин, «нет ничего французского, все дышит древним Иерусалимом»[62].
Близкий к Катенину В. К. Кюхельбекер писал совершенно в духе своего единомышленника: «…у нас были и есть поэты (хотя их и немного) с воображением неробким, с словом немногословным, неразведенным водою благозвучных, пустых эпитетов. Не говорю уже о Державине! Не таков, например, в некоторых своих стихотворениях Катенин, которого баллады: Мстислав, Убийца, Наташа, Леший, еще только попытки, однако же (да не рассердятся наши весьма хладнокровные, весьма осторожные, весьма не романтические самозванцы-романтики!) по сию пору одни, может быть, во всей нашей словесности принадлежат поэзии романтической»[63].
В свою очередь Катенин сочувственно откликнулся на боевую статью Кюхельбекера «О направлении нашей поэзии, особенно лирической, в последнее десятилетие» (1824)[64]. В статье автор, в частности, заявлял: «Но что такое поэзия романтическая? Она родилась в Провансе и воспитала Даита, который дал ей жизнь, силу и смелость, отважно сверг с себя иго рабского подражания римлянам, которые сами были единственно подражателями греков, и решился бороться с ними. Впоследствии в Европе всякую поэзию свободную, народную, стали называть романтической»[65]. Вероятно, Катенин был совершенно согласен с такой концепцией романтизма, тем более, что она восходит к положениям французского историка литературы Ж.-Ш. Сисмонди, труды которого «De la litterature du midi de ГЕигоре» поэт знал и высоко ценил. В «Письме к издателю „Сына Отечества”» он упрекал Н.П. Греча в подмене истории литературы «послужными списками писателей» и наставлял: «Если б по примеру Женгене и Сисмонди вы показывали тесную связь жизни автора с его творениями и взаимное их влияние, это было бы весьма любопытно, но этого нет»[66].
По свидетельству Пушкина, Катенин первый ввел в круг «возвышенной поэзии язык и предметы простонародные»[67]. Это соответствовало устремлениям архаистов-романтиков к литературному преобразованию, к утверждению национально-характерных «красок и форм». С другой стороны, несомненно важной для катенинской группы была мысль о том, что формы стихотворений замечательны, как писал Катенин, не собственно по себе, а по связи своей с содержанием: «с изменением его должен измениться и наружный вид»[68]. Такие эстетические воззрения подготовили благодатную почву для восприятия стилевого своеобразия художественной речи «Божественной Комедии». По ее поводу Катенин писал: «О слоге судить прежде всего соотечественникам, но и тут, мне кажется, судили с неразумной строгостью; многие обветшалые слова и обороты могут быть, вопреки нынешнему употреблению, весьма хороши; язык Данте чудесно благороден и всеобъемлющ; на все высокое и низкое, страшное и нежное находит он приличнейшее выражение, и тем несравненно разнообразен; а для нас, северных, именно по вкусу, в нем нет еще той напевной приторной роскоши звуков, которую сами итальянцы напоследок в своих стихах заметили»[69]. Верно уловив стилевые особенности «Комедии», Катенин стремился передать их в своем переводе трех песен поэмы[70]. В 1829 г. он писал Н. И. Бахтину: «…обращаюсь к замечаниям Вашим на перевод второй и третьей песни «Ада»:
- Я ни Эней, ни Павел, и в себе
- Не зрю один достоинств чрез меру [АД, II, 32–33].
Переменить зрю на чту легко; но лучше ли будет? оба глагола равно к разговорному языку не принадлежат, и им одним переводить Данте нельзя и не должно; надо его искусно только смешивать с книжным и высоким, избегая скачков; но зрю мне кажется здесь живее, нежели чту, или не мню»[71].
В свое время Ю. Н. Тынянов расценил переводы Катенина из Данте как «языковую неудачу». Он утверждал, что соединение крайних архаизмов с просторечием давало семантическую какофонию, приводящую к комизму[72]. В качестве примеров Тынянов приводил 12, 18 терцины из первой песни, 14, 23, 34, частично 16, 17, 44 и 45 – из третьей и некоторые стихи из фрагмента «Уголин». Нельзя не согласиться с исследователем, что цитируемые им стихи, кстати, слабейшие в катенинских переводах, провоцируют порой на пародию. Но как тут не вспомнить возражения Катенина Гречу, который осудил вариант октавы, предложенный поэтом в «Освобожденном Иерусалиме», сравнив его с гекзаметрами «Тилемахиды»: «моя неудача, – отвечал Катенин, – ничего не доказывает, так же как неудача Тредьяковского в эксаметрах, которыми, однако, и вы и он (т. е. О.М. Сомов и Н.П. Греч. – А. А.) равно восхищаетесь под искусным пером»[73]. Действительно, несмотря на отдельные промахи, «семантические провалы» и «словесные перенапряжения», на которые указывал Ю.Н. Тынянов, в целом работа Катенина оказалась стилистическим открытием «Ада» для русского языка. Ритм катенинских терцин был сразу же подхвачен Пушкиным («В начале жизни…»), который в статье о сочинениях поэта отмечал «мастерской перевод трех песен „Inferno”»[74], позднее А. Н. Майковым («Вихрь»), А. А. Блоком («Песнь Ада»), наконец в наше время стилистической системе Катенина следовал один из лучших переводчиков «Божественной Комедии» М. Л. Лозинский. Таким образом, история перевода поэмы оправдывает опыты Катенина даже перед лицом такого авторитетного критика, каким был Ю. Тынянов.
П. А. Катенин явился одним из первых русских популяризаторов и комментаторов «Комедии». На страницах «Литературной газеты» он делился своими наблюдениями: «Первый известный Ад встречается в «Одиссее». Место ему избрал Гомер на краю моря, на хладном Севере <…> При всей краткости и простоте сего Ада нельзя не признать живости изображения; это настоящий ад по понятию древних, мрачная обитель утративших солнце великих жен и мужей. Вергилий, по моему мнению, далеко отстал; у него сход в ад, уже подземный, в Италии <…> Вместо чудесного царства мертвых видим мы простой дом с разными приделками, потаенными ходами <…> Не знаю, страшно ли все это в самом деле, но в рассказе очень холодно и почти смешно.
Хотя Мильтон писал горазде после Данте, но для сличения скажем здесь и об его аде. Он решительно хуже всех: главнейшего в нем совсем нет – людей; черти же, несмотря на огненные вихри и прочие lieux communs, живут там преспокойно…
Данте определил место своего Ада с таким же тщанием и точностью, как Гомер. Во внутренности земного шара занимает он огромный конус, вниз обращенный и сходящийся в точку в самой сердцевине земли»[75]. В этих рассуждениях подкупает стремление автора рассматривать литературное явление с исторической точки зрения, найти начало и продолжение складывающейся в веках традиции: «…собрав все занятое им у других, – отмечал Катенин, – Данте все сложил и своим дополнил»[76]. Закончив подробную топо- и космографию Ада, Чистилища и Рая, он продолжал: «В изумление приходишь, окинув взглядом сей огромный чертеж»[77]. В своем комментарии к поэме Катенин нередко следовал за П.-Л. Женгене и Ж-Ш. Сисмонди, но некоторые из его замечаний отличаются оригинальностью и тонкостью наблюдений. Для входа в Ад, писал он, Данте прибегнул к аллегории, «и здесь она точно у места; она только могла склонить читателя к таинственной безотчетной вере в повествуемое сверхъестественное странствование живого человека под землею и в небесах; всякий другой вымысел, пробуждая сомнения и поверки рассудка, показался бы холоден и лжив»[78]. Интерес к Данте никогда не оставлял поэта. Прожив полвека, он писал своему издателю и другу: «Флоренция, Данте <…> я любил их всегда <…> Можете ли для меня купить и привезти хорошее издание Divina Commedia, с изъяснениями?»[79]
Страстное увлечение Данте, к которому Катенин чувствовал особую близость, вероятно, в силу своего стремления к простоте и энергии языка, «исторической народности» величавой поэзии и грубой красоте образов «Ада», самым неожиданным образом влияло на восприятие поэтом сочинений его современников. «Прочел у Пушкина «Полтаву», – писал он, – вещь не без достоинства, но лучшие места не свои; тут и Данте, и Гете, и Байрон…»[80]. С другой стороны, приятель и родственник Катенина Кюхельбекер находил «дикие краски Данта» в катенинском стихотворении «Мстислав Мстиславич» (1819):
- Вздохи тяжелые грудь воздымают;
- Пот, с кровью смешанный, каплет с главы;
- Жаждой и прахом уста засыхают…
«Превосходно!»[81] – комментировал Кюхельбекер. Он, как и Катенин, «служил в дружине славян»[82]. Романтизм начинался для него с Данте, но кумиром его был не Алигьери, а Шекспир. В 1824 г. Кюхельбекер писал в «Мнемозине»: «Не уровню Байрона Шекспиру: но Байрон об руку с Эсхилом, Дантом, Мильтоном, Державиным, Шиллером <…> перейдет несомненно в дальнейшее потомство»[83]. По мнению Кюхельбекера, Байрон – «живописец нравственных ужасов, опустошенных душ <…> живописец душевного ада, наследник Данта, живописца ада вещественного»[84], в этом их различие, и в этом их типологическое сходство: как тот, так и другой знали непомерную глубину мрака; вместе с тем оба однообразны[85].
Интересно, что в критическом отношении к Байрону Кюхельбекер единодушен с Катениным, обоим был чужд предельный субъективизм и односторонность английского барда[86]. Восприятие же Данте было у поэтов поначалу различным. «Буде кто в человеках заслуживает имя творца, то паче всех он»[87], – говорил Катенин о Данте. Подобное представление о масштабе гения средневекового поэта пришло к Кюхельбекеру не сразу. Через десять лет после выступления на страницах «Мнемозины» он сочувственно цитирует Виктора Гюго: «Два соперничествующие гения человечества, Гомер и Данте, сливают воедино свой двойственный пламень, и из сего пламени исторгается Шекспир»[88]. Противопоставление как равных «исполина между исполинами» Гомера и Алигьери сейчас не вызывает у Кюхельбекера никакого возражения. Мало того, он согласен рассматривать последнего как предтечу истинного романтика, каким был в его представлении «огромный Шекспир».
Думается, что к Данте Кюхельбекер шел через осознание трагической судьбы флорентийского поэта, ибо она ассоциировалась с его собственной судьбой. Недаром этот узник Динабургской крепости, сообщая о своей новой поэме, в которой «частная, личная исповедь всего того, что <…> в пять лет <…> заточения волновало, утешало, мучило, обманывало, ссорило и мирило с самим собою»[89], называет вдохновителей своего труда и среди них указывает на изгнанника Флоренции: «Начал я, – пишет он, – нечто эпическое; это нечто, надеюсь, будет по крайной мере столько же ориганально в своем роде, как «Ижорский». Оно в терцинах, в 10 книгах, 9 кончены, название «Давид», руководители Тасс, отчасти Даит, но преимущественно Библия»[90]. Если ветхозаветное повествование о царе Давиде послужило фабулой для поэмы, а «Освобожденный Иерусалим» Торкватто Тассо стал примером для организации и развертывания материала в эпическом сочинении, то обращение к Данте было прежде всего свидетельством гордого самосознания и стойкости духа поэта-декабриста. В этом убеждают и слова Байрона о Данте: «Он – поэт свободы. Гонения, изгнание, горесть от мысли, что будет погребен в чужой земле, ничто его не поколебало»[91]. Именно своей суровой судьбе обязан Данте тому, что новая поэма русского революционера оказалась обрученной с его именем.
- Не силою чудесной дарованья —
- Злосчастием равняюсь я с тобой [92], —
писал Кюхельбекер, имея в виду Данте.
Вместе с тем устремленность русского поэта к Алигьери не ограничивается этой аналогией. Она проявляется и в иных мотивах предпринятой поэмы. Одни из них связаны с эпическим повествованием о подвигах и невзгодах Давида, другие – с чувствами и помыслами самого автора, то есть с субъективным планом произведения, который развертывается в форме лирических отступлений повествователя. В эпическом плане проблематика поэмы сводится к замыслу вызвать «из тьмы веков, из алчных уст забвенья» имена тех вождей, жизнь которых может служить уроком мужества и самоотверженности для современников поэта. Это решение выражено в стихах первой книги «Давида» – «Преддверие»:
- Опасный, трудный подвиг предприемлю:
- Царя, певца, воителя пою;
- Все три венца Давид, пастух счастливый,
- Стяжал и собрал на главу свою[93].
Образ легендарного царя Давида был одним из любимых у декабристов и поэтов, близких к ним. Давиду посвящали свои стихи П. Катенин, Ф. Глинка, А. Грибоедов, Н. Гнедич. В стихотворении «Мир поэта» (1822) Катенин предвосхитил Кюхельбекера почти слово в слово:
- Царь, пастырь, воин и певец
- Весь жизни цвет собрал в себе едином [94].
Повышенный интерес декабристов к этому библейскому персонажу объясняют стихи Ф. Н. Глинки:
- Бог избрал кроткого Давида,
- И дал он юному борцу
- Свой дух, свое благословенье,
- И повелел престать беде,
- И скрылось смутное волненье;
- Хвалилась милость на суде;
- Не смел коварствовать лукавый,
- И не страдал от сильных правый.
- Закон, как крепкая стена,
- Облек израильские грады,
- Цвели покойно вертограды,
- Лобзались мир и тишина[95]
В поэме Кюхельбекера эпическое повествование о Давиде ценно не только само по себе, но и своей способностью выделить психологические коллизии субъективного сюжета, где героем является сам автор произведения. Давно замечено, что вся огромная поэма «посвящена рассказу о преодолении Давидом разных бед, испытаний и невзгод; о победах же его говорится как бы мимоходом в нескольких строках»[96]. Такой подбор эпизодов определен совершенно очевидным намерением Кюхельбекера соотнести свой трагический жребий с перипетиями жизни героя, о котором Данте, кстати, сказал: «И больше был, и меньше был царя»[97]. В этой психологической соотнесенности центрального персонажа с автором поэмы ничего особенного для романтика нет. Неожиданнее, когда поэт в раздумьях о себе обращается к творцу «Божественной Комедии»:
- Огромный сын безоблачной Тосканы,
- При жизни злобой яростных врагов
- В чужбину из отечества изгнанный,
- По смерти удивление веков,
- Нетленных лавров ветвями венчанный
- Творец неувядаемых стихов!
- И ты шагнул за жизни половину,
- Тяжелый полдень над тобой горел;
- Когда в земную ниспустясь средину,
- Ты царство плача страшное узрел,
- Рыданий, слез и скрежета долину,
- Лишенный упования предел…[98].
В этом тексте наряду с лаконичной характеристикой Данте легко заметить редуцированный пересказ «Комедии», в которой одна из строк чуть ли не дословно повторяет начальный стих «Ада». Почти с той же стиховой фразы начинается фрагмент, в котором Кюхельбекер уподобляет себя великому тосканцу:
- Так я стою на жизненной вершине,
- Так вижу пред собой могтильный мрак:
- К нему, к нему мне близиться отныне[99]
В период работы над поэмой (она написана в 1826–1829 гг.) автор «Давида» был сравнительно далек от того возраста, в котором Данте отправился в странствие по трем царствам потустороннего мира и который, по его мнению, соответствовал высшей точке восходящей и нисходящей дуги человеческой жизни[100]. «Жизненная вершина» в сознании и поэме Кюхельбекера не столько хронологическая веха в биографии, сколько ее переломный момент. Впереди поэта ждали тягчайшие испытания. Уже испив из чаши страданий, он мыслил о себе терцинами Данте:
- Суров и горек черствый хлеб изгнанья,
- Изгнанник иго тяжкое несет!
- Не так ли я? [101]
Позднее в стихотворении «Моей матери» (1832) он напишет:
- Наступит оный вожделенный день —
- И радостью встрепещет от приветов
- Святых, судьбой испытанных поэтов
- В раю моя утешенная тень.
- Великие, назвать посмею вас:
- Тебя, о Дант, божественный изгнанник!
- О узник, труженик бессмертный, Тасс.
- Страдалец, Лузитании Гомер,
- Вы образцы мои, вы мне пример,
- Мне бед путем ко славе предлетели,
- Я бед путем стремлюся к той же цели[102].
В эту пору, как и в период работы над поэмой, Кюхельбекер находил в себе силы противостоять обрушившимся на него несчастьям. «Вообще, я мало переменился, – сообщал он из Динабургской крепости Пушкину, – те же причуды, те же странности и чуть ли не тот же образ мыслей, что в Лицее!»[103]. В сравнении с Данте и другими «судьбой испытанными поэтами» обнажалось не только инфернальное содержание его судьбы, но и героическое самостояние личности. В связи с этим важно обратить внимание на стихи поэмы, где, Кюхельбекер уподобляет себя Сизифу, который
- Не победит <…> судьбы всевластной;
- Верх близок – ялся за него рукой —
- Вдруг камень вниз из-под руки рокочет,
- Сизиф глядит изнеможенный вслед,
- Паденью бездна вторит, ад хохочет;
- Но он, – он выше и трудов, и бед:
- Нет, он покинуть подвига не хочет[104].
При таком самостоянии «путь бед» становился вместе с тем путем нравственных обретений, и поэт мог сказать о себе:
- Изыду из купели возрожденья,
- Оставлю скорбь и грех на самом дне
- И в слух веков воздвигну песнопенья[105].
В этих стихах нельзя не расслышать мотива, характерного для «Божественной Комедии» и связанного с общей идеей странствий ее героя. Ведь поэма Данте, что не раз отмечалось исследователями, огромная метафора: ад не только место, но и состояние, состояние душевных мук. Они и вырвали из уст Кюхельбекера отчаянное восклицание:
- Мой боже, я ничтожный человек…[106]
Одной из причин нравственных терзаний поэта были, вероятно, его показания против И. И. Пущина, который 14 декабря 1825 г. якобы «побуждал» Кюхельбекера стрелять в великого князя Михаила Павловича. В апреле 1832 г. поэт предпринял неудачную попытку снять с товарища по несчастью это незаслуженное обвинение[107]. Что же касается Данте, то о нем уместно вспомнить проницательное замечание французского филолога К. Фориеля: изгнание было для Данте адом, поэзия – чистилищем[108]. Для Кюхельбекера адом была крепость, а очищением, своего рода катарсисом, поэма:
- Я пел – и мир в мою вливался грудь…
- Меня тягчили, как свинец, печали:
- За миг не мог под ними я вздохнуть;
- Вдруг окрылялися, вдруг отлетали —
- И что же? – светлым мне мой зрелся путь![109]
А в небесном раю, где поэт мыслит себя после земных страданий, его встречают «Дант и Байрон, чада грозной славы… Софокл, Вергилий, Еврипид, Расин». Свой «бестелесный» шаг направляет к нему и тень Тассо:
- «Кто ты?» – речет с улыбкою небесной.
- Уведает и кроткою рукой
- Введет, введет меня в их круг священный [110].
Эти мечтания побуждают вспомнить IV песнь «Ада», где в Лимбе к Данте и Вергилию направляются
- Гомер, превысший из певцов всех стран;
- Второй – Гораций, бичевавший нравы;
- Овидий – третий, и за ним – Лукан.
Они приветствуют Алигьери и приобщают его к «славнейшей” из школ», к своему собору.
Таким образом, Данте оказался вдохновителем Кюхельбекера еще и потому, что «Божественная Комедия» предвосхитила стремление романтиков к предельному самовыражению, ее главным мотивом стала судьба самого поэта, не случайно первые два столетия поэма называлась «Li Dante»[111]. «Дантеида» с авторской нацеленностью на глубоко личностное содержание не могла не возбуждать сознание русских и западноевропейских романтиков. Интерес к трагической судьбе Данте, в которой Кюхельбекер видел сходство со своей участью, должен был совпасть и совпал с романтическим пристрастием русского поэта к «Божественной Комедии». Видимо ей обязан «Давид» и сложной взаимосвязью антично-мифологических, библейско- христианских и реально-исторических элементов. От Сизифа и царя Саула до Грибоедова и Шихматова, от античных поверий до символики христианских добродетелей: Любви, Надежды, Веры – таков диапазон реалий поэмы Кюхельбекера. Как и в «Комедии», они служат стремлению автора «Возвыситься над повседневной былью» (Ад, 11-110).
- Что наш восторг, что наше вдохновенье,
- Когда не озарит их горний свет? [112] —
задается вопросом русский поэт. Данте отзывается в его поэме и колоритом некоторых инфернальных эпизодов повествовательного сюжета:
- Воспрянул – и пучина воскипела:
- О дно упершись, подняли чело
- Все узники плачевного предела;
- Страшилище к исходу потекло, —
- От стоп его геенна зазвенела,
- Вослед завыло адово жерло[113].
Наиболее отчетливо эта картина ассоциируется с пятым рвом Злых Щелей. Здесь бесы вонзают в грешника зубы, как только он высунется из кипящей смолы:
- Так повара следят, чтоб их служки
- Топили мясо вилками в котле
- И не давали плавать по верхушке [Ад, XXI, 55–57].
Другая аналогия обнаруживается между схваткой Хуса с Мельхиусом (кн. «Воцарения») и сценой мести Уголино архиепископу Руджери; «дикие краски Данта» несомненно сказались на изображении крайнего ожесточения, которым охвачены герои «Давида»:
- Хус в судоргах последнего мучения
- Скрежещет и десницу свободил
- И, уж почти лишенный ощущенья,
- Герою в сердце жадный нож вонзил,
- Персты героя сжались древенея,
- Он, умирая, Хуса задушил[114].
Как и других романтиков, Кюхельбекера не могла не заворожить поэтическая дерзость Данте, его способность к необыкновенному по художественной силе гротеску. Романтики считали, что гротеск чужд классическому искусству, и, наоборот, полагали его элементом, специфичным для современной поэзии, в корне меняющем все ее существо. В. Гюго, чей авторитет Кюхельбекер ценил весьма высоко, был убежден, что именно «плодотворное соединение образа гротескного и образа возвышенного породило современный гений, такой сложный, такой разнообразный в своих формах, неисчерпаемый в своих творениях и тем самым прямо противоположный единообразной простоте античного гения»[115]. Гюго полагал, что «гротеск, как противоположность возвышенному, как средство контраста является<…> богатейшим источником, который природа открывает искусству…» «Разве Франческа ди Римини и Беатриче были бы столь обаятельны, – спрашивал он, – если бы поэт не запер нас в Голодную башню и не заставил бы нас разделить отвратительную трапезу Уголино? У Данте не было бы столько прелести, если бы у него не было столько силы»[116].
Мнение Гюго о гротеске представлялось сомнительным современнику Кюхельбекера Н. И. Надеждину. Критик не считал гротеск специфическим средством романтического изображения жизни. Он не признавал за «музой новых времен» якобы исключительно ей принадлежащую способность чувствовать и ощущать, что «отвратительное стоит наряду с прекрасным, безобразное возле прелестного, смешное на обратной стороне высокого, добро существует вместе со злом, тень со светом»[117]. В своей диссертации «О происхождении, природе и судьбах поэзии, называемой романтической» (1830) Надеждин писал: «Что же хочет Гюго доказать нам? На каком основании он утверждает, что тип смешного (grotesque) не был известен классической поэзии? Ужели можно отказать художникам древнего мира в искусстве соединять свет с тенью»[118].
В рассуждениях Гюго о гротеске Надеждин увидел упрощенное толкование различий между классической и романтической поэзией, или легкомысленное решение «рассечь Гордиев узел одним ударом», но не столь ревностно, как Гюго, он искал «верный и точный признак, отличающий один поэтический мир от другого»[119]. Автор диссертации был уверен, что все существующие мнения о романтической поэзии совершенно недостаточны, ибо учитывают «лишь внешний образ действования, не обращая между тем внимания на внутреннее ее направление»[120]. Его собственная концепция сводилась к следующему: различия между классической и романтической поэзией обусловлены различным характером античной и средневековой эпох[121].
Для первой, младенческой эпохи, писал Надеждин, характерно средобежное стремление человеческого духа – вне себя, поэтому высочайшим первообразом классической поэзии становится видимый мир; таким образом, искусство суть подражание окружающей природе. В средневековую эпоху возмужавший человеческий дух обращает взор на самого себя, и субъективность становится главным признаком искусства. Истинное содержание средневековой, то есть романтической поэзии – «духовность идеальных ощущений», отсюда и ее частные отличительные свойства: она более человечна, чем классическая поэзия; в отношении к организации – более фантастическая, в отношении к выражению – более живописная, в отношении к внешнему строению – более музыкальная[122].
Все это воистину интересно, потому что оппонент Гюго за подтверждениями и примерами также обращался к «Божественной Комедии». Он полагал, что перечисленные им свойства средневековой поэзии’ нигде не отражаются так ясно, как в поэме Данте, в «которой представляется полный и цельный отпечаток всего романтического мира<…>*. В ней творческий гений разоблачил человеческую природу от телесного покрова. Это – действительная биография человеческого духа…»[123]. С точки зрения Надеждина, дантовское творение «было и осталось единственным: ему принадлежит собственная оригинальная форма, которой не может дать никакого названия эстетическая технология»[124].
Между тем автор диссертации не только противопоставлял «Комедию» античной поэзии, но и находил в этом «самом романтическом» создании преемственность с классическим искусством. По его мнению, она сказалась и в обилии мифологических образов, и в зримых предметно-чувственных деталях, которые помогают бесплотные идеи воплотить в великолепные формы. В то же время Надеждин отмечал «непроницаемый мрак аллегорического мистицизма», высочайшую тонкость «бессущных» сентенций», за которые поэт получил в старину имя «великого философа и божественного богослова», упоительную сладость чувства, образованного в «школе святой любви».
Кто, заключал диссертант, посвящен в таинства «Божественной Комедии», тот может сказать о себе, что он открыл вход во внутреннейшее святилище романтической поэзии[125]. Шестнадцатое столетие было для нее, по утверждению Надеждина, и золотым веком, и свидетелем ее быстрого падения[126]. В самой Италии романтический дух замер с заточения Тассо. Печать окончательного вырождения романтизма лежит на музе Байрона, и любые попытки воскресить романтизм обречены, думал Надеждин, на несомненный провал, так как «дух человеческий, беспрестанно идущий вперед, не может снова вспять возвращаться и приходить в прежнее состояние»[127]. И если для романтического искусства сверхъестественное было предметом религиозного верования, то для современной поэзии это лишь категория поэтического воображения. Теперь душа, не освященная благотворными лучами вечного солнца, погружается в бездонную пучину своего бытия, ожесточаясь против самой себя и всего сущего. Нельзя не удивляться, говорил Надеждин, «этой неукротимой гордости и непреодолимой силе духа, который в отпадении своем от бесконечного начала жизни, увлекает с собой весь мир и радуется адскою радостию разрушению своего бытия. Но это удивление есть точно такое же, какое восхищает у нас сатана»[128]. Верный своему принципу иметь в виду суть, а не форму, Надеждин разграничивал средневековую и новейшую поэзию по существенному признаку – по отношению к бесконечному. Именно «религиозно-поэтическое отступничество от сыновней любви к бесконечному», на его взгляд, породило в области «обмоложенного» романтизма Байрона. На этом основании Данте противопоставлялся Надеждиным поэту Британии. Байрон и творчество «байронистов» служило доказательством, что время романтической поэзии уже минуло.
