Читать онлайн Снег падал и падал… бесплатно
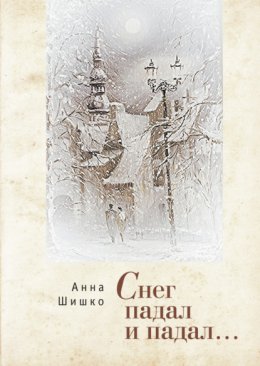
В оформлении обложки использована картина художника А. Никогосова.
Рисунки Анны и Василисы Шишко.
Автор выражает особую благодарность Наталье Киселевой, Галине Турчиной, Алисе Дмитриевой, Нинели Журбе, Елене Русаковой, Оксане Андросовой, Людмиле Никитиной, Ольге и Василисе Шишко, Ольге Акакиевой, Дарье Куприяновой.
© А. А. Шишко, 2015
© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2015
Дневник памяти
1956–1955 годы
Память, как прожектор, выхватывает из уже отбытого, отжитого те удивительные искры, те, порой не самые значительные моменты жизни и маленькой, и взрослой, когда ты не понимаешь, не оцениваешь так давно прошедшее, а лишь ощущаешь его где-то рядом со своим сердцем, слышишь этот голос и бережёшь это видение как дорогое, ни с чем не сравнимое вечное притяжение близких.
Суровая снежная зима 1955 или 1956 года. Мы идём гуськом: мама в котиковой чёрной шубке, в шляпке-шапочке, папа в тяжёлом драповом пальто с каракулевым серым воротником. Я уже взрослая, а, может, и маленькая, в пальто на ватине, тоже с меховым черным воротничком, в вязаной красной шапочке. У меня резиновые сапожки с меховыми отворотами, тёплые носки внутри. Ногам холодно, но ботиночки надеть отказалась. С нами моя любимая бабушка Нюра в роскошном габардиновом пальто, в шапке-казачке и опять каракуль в основе всех нововведений (это пальто бабушке очень долго шили в ателье, а я с ней часто ходила на примерки).
Станция Кучино. Тут живёт бабушкина сестра Шура, и мы приехали к ней праздновать Рождество. Снег падает хлопьями на наши лица, руки, одежду. Шапки постепенно превращаются в белые колпаки и, кажется, что все мы смешные клоуны, затерявшиеся в лабиринтах времени. А вот и длинный дом, его называют бараком. Тусклая лампочка под потолком, справа и слева – комнаты. У одной из дверей галошница и много пар валенок, ботинок со шнурками.
– Ну вот, уже все прибыли, а мы опаздываем, – говорит бабушка Нюра и при этом улыбается. Она никогда не сердится, у неё большие пухлые губы, изпод шапки выбивается прядь каштановых волос. Папа стучит в дверь.
– Лёшенька, Люся, две Нюрочки – входите, входите! – радостно встречает нас симпатичная, хотя и с большим, как у Буратино, носом тётя Шура – старшая бабушкина сестра. Она очень маленького роста, но шустрая и такая тёплая. Я дотрагиваюсь до неё и радуюсь, что мы пришли.
Крохотное помещение перед входом в комнату. Мы снимаем пальто, сапожки, надеваем туфельки. Дверь открыта. За столом многочисленные бабушкины сёстры и братья: тётя Жанночка с мужем, братом бабушки; это дядя Вася (я уже знаю, что он прошёл три войны, но какие, пока не понимаю); дядя Паша, тётя Настя, его жена; тётя Люба (она приехала из Реутова); Тамара, тёти-Шурина дочка, и её муж, Вовка; мой троюродный то ли брат, то ли дядя. Вовка – озорной и очень глазастый. Мне он нравится, хотя учится на двойки, а я отличница.
На столе – блюдо с гречневой кашей. На гречке, словно живой, поросёнок с торчащими ушками. Дядя Вася отрезает кусочки от целого туловища поросёнка. На одной руке у него нет пальца. На войне оторвало. Я есть мясо отказываюсь. Дядя Вася усмехается.
– Путяша, помоги Василию разделать тушку, – просит тётя Настя.
Вдруг откуда-то из-под стола вылезает Серёжка, сын тети Насти и дяди Паши, кудрявый, смешливый и очень добрый.
– А где Ирка? – спрашивает он у меня.
Я молчу, не знаю, что ответить. У бабушки Шуры мы впервые. В углу комнаты кровать, маленький стеклянный шкафчик, а в нём удивительной красоты статуэтки: дама в длинном красном платье кружится в танце с кавалером, огромная бело-серая фарфоровая собака, девочка с цветами… Эти статуэтки дочка тёти Шуры Тамара привезла из Германии, где они с мужем Гришей проходили военную службу. Тётя Тамара была храбрым бойцом, воевала на разных фронтах. Вернулась с маленьким Вовкой. Я так Гриша Вовку считал своим сыном.
У меня на тарелке оказывается пирог с капустой. Все едят, пьют вино, но понемногу.
– А где же Муся? – спрашивает моя мама. И тут, словно отвечая на мамин вопрос, в дверь просовывается маленькая толстушка Муся с мужем Алексеем – он же мой крестный, и Аришка в красивом сером платьице с белым воротничком. У нее косы пепельного цвета и небесно-синие глаза. Их усаживают за стол. В разгар трапезы нам, младшим, разрешают погулять перед домом. Мы хохочем, одеваемся, выкатываемся гурьбой на улицу, играем в снежки, лепим снеговика. Вовка приносит из дома морковь и ведро – атрибуты для снежного человека. Мы с Аришкой пытаемся повалить в сугроб Вовку, но он изворачивается и вдруг замирает как вкопанный. К нам приближается Лидуха (так он её кличет), и Вовка перестаёт нас замечать, а как-то странно и восторженно смотрит на Лиду, у которой из-под чёрной ушанки выбиваются рыжие волосы. Через много лет они поженятся. Лида станет геологом, уедет работать в Африку, вернётся, пристрастится к горячительному, а пока (я уже читала в романах) – это любовь.
Большая семья… Они были лишенцами. Всем им моя бабуля помогла восстановиться в гражданских правах, и постепенно братья, сестры и их мама Мария Васильевна переехали в Москву и Подмосковье, выучились и дружили.
PS. Прошли годы, и многое из того, что я видела, что чувствовала, что узнала при встречах с родными и близкими, с яркими, талантливыми личностями, повлияло на содержание и органично переплелось с некоторыми сюжетами моих рассказов.
Люба и Сеня
Такая большая комната… Окна смотрели на сад и видели цветущую сирень, бело-розовые лепестки яблонь; потом на них ложились капли дождя, но когда где-то далеко-далеко появлялось солнце, эти окна подставляли ему свои запотевшие стекла, и оно ласкало их, превращая в зеркальные отражения – в волшебные неповторимые картины, которые так любили рассматривать Люба и Сеня.
Люба садилась у левого окна. За спиной была дверь, и она усаживалась именно здесь, не позволяя Сене занимать это место, чтобы, когда дверь открывалась, сквозящий ветер не мог продуть его спину и слабые Сенины лёгкие. Люба берегла его, берегла каждую секунду и каждый день уже более десяти лет. Сеня размещался у правого окна, рядом со старинным ломберным столиком, доставшимся Любе от матушки, купчихи первой гильдии. У столика были изогнутые ножки с вырезанными на углах львиными мордами. Сеня присаживался, держась за крышку стола, а Люба говорила:
– Ну, опять навалился! Старинный он, реликвия моя… Ты – деревенский, пустоголовый…
Сеня застенчиво улыбался и тихо отвечал Любе:
– Эх, ты, Любка, мы и сами с тобой реликвии, только беречь-то нас некому, – он кряхтел, придвигал стул к подоконнику, доставал из бокового кармана клетчатой рубашки «Приму», коробок со спичками, закуривал. Колечки дыма застилали стекло окна. Сеня собирал дым в кулак и замолкал.
Ему вспоминался мамин дом в псковской деревне. Леса, леса да речка узкая, и вода в ней была холодная. Но он любил встать на камешки, забросить подальше удочку и дожидаться, когда какая-нибудь плотвичка клюнет. Как-то на крючок попалась щука, килограмма на два. От неожиданности Сеня неловко плюхнулся носом в воду, но рыбину удержал. Стал подниматься на колени и услышал смех – громкий, раскатистый. Поднялся, обернулся. С пригорка к нему сбегала Марья, протянула руку, помогла встать. Сеня бросил улов в сетку, вдруг сердце заколотилось, руки сделались ещё холоднее, то ли от воды, то ли от страха. Что-то томительное, сладостное разлилось по всему телу. Неуклюже поцеловал Марью в щёку. А она легонько шлёпнула его по лицу. Но то была не пощёчина, а скорее такое же стыдливое прикосновение: за лаской рука потянулась.
Встречались месяц. Было им по семнадцать лет. Потом он – матери, а Марья – своим родителям, – сказали, что решили пожениться. Запрягли лошадь, поехали через лес в деревню Покровка, что насчитывала сорок домов, где были магазин и загс. Их расписали. Собралось на свадьбу человек пятнадцать парней и девчат. Пели, плясали, пили самогонку. Сеня не пил: знал, что близится сладкая-сладкая ночь.
Жить решили у Сениной матери. Мать пошла спать в сенцы на сундучок. А они легли в горнице. Луна заглядывала в окно, освещая прекрасное девьчье тело. «Маша! Машенька! За что же мне такое счастье?»
Марья прижалась к Сене и заплакала. Она отдалась стыдливо и, в то же время, трепетно. И чем сильнее боль пронизывала Марью, тем сильнее прижималась она к юному мужу.
А утром узнали, что началась война. Сеню призвали в армию защищать Родину. Марья ждала его и каждый день плакала. Утром доила корову, днём работала в колхозе. Однажды, пропалывая грядки в огороде – упала. Когда очнулась, поняла, что беременна, рассказала свекрови. Авдотья обрадовалась.
Вскоре в деревне появились немцы, поселились в их избе, но женщин не обижали.
Когда пришёл срок рожать, Марью повезли опять в Покровку. Шёл снег. Белые хлопья, словно шапки, покрывали кроны сосен. «Зачем мне всё это? – думала девушка. – Ведь Сеня не пишет. Жив ли он, мой Сенечка?» И всё же, несмотря ни на что: ни на войну, ни на голод, Марья очень ждала появления на свет мальчика. Мальчик и родился. Назвали круглолицего карапуза тоже Семёном. Местные поговаривали, что нельзя одним именем называть отца и сына. А Марья не послушалась.
Мальчишка рос спокойным и рассудительным. Вот уж и два года ему исполнилось. Сеня младший ходил твёрдо и уверенно, произносил слова «мама, папа, баба»; часто сиживал на крыльце, рассматривая красочные рисунки в единственной имевшейся у него книжке «Русские сказки».
Как-то Марья была в избе, и вдруг услышала голос почтальона: «Открывайте! Вам письмо». Они с Авдотьей, спотыкаясь о порожки, бросились на улицу. Девушка взяла конверт, испуганно затряслась: не известие ли о смерти мужа? Но нет, на военном треугольнике адрес был написан его рукой. Достали листок, прочли. Оказывается, Сеня был в плену. Когда освободили, попал в дивизию, что сражалась под Курском. «Сейчас гоним немца со своей земли. Люблю вас! Получил от вас за всё это время всего одно письмо. Знаю, что у меня сын Сенька. Машенька моя милая, как же я счастлив! Ждите, я скоро вернусь».
Марья и Авдотья сели на крыльцо, взяли маленького Сенечку на руки и заплакали…
Но Семен так и не увидел своего сына. Немецкие войска, отступая, бомбили города и сёла. Бомба попала и в Сенин дом. Три самых близких ему на этом свете человека погибли…
* * *
Люба взяла с подоконника свои любимые папиросы «Беломорканал», закурила. Почему-то сегодня она смотрела не на Сеню и не в окно, а на противоположную стену, где висела репродукция картины Перова «Охотники на привале». Люба курила, молчала и думала о своей никчёмной, никому не нужной жизни.
«Как похож один из охотников на моего первого мужа Максима. Тот мог быть изысканным, элегантным, а мог – и разухабистым, удалым, совсем-совсем простым, как вот тот на картине, хохочущий, в сдвинутой набекрень кепке».
«А, собственно, что моя жизнь? – думала Люба. – Череда бесконечных невезений и остановок не по расписанию. Вот живу с Сеней… А могла бы жить совсем по-иному: в роскошной пятикомнатной квартире на Арбате, ходить в консерваторию каждый день и слушать своего любимого Вагнера, дрожать от прикосновения дорогого, статного, интеллигентного Максима. Почему всё так перевернулось, почему опять не тот полустанок, а может быть, тот?»
Вдруг слезинка скатилась по её щеке. Сеня, словно почувствовав неладное, отвернулся от окна и испуганно посмотрел на Любу.
– Что, Любанечка, с тобой?
– Да ничего, ничего… Руку-то убери со столика.
Она смахнула ладонью слезу, решительно встала, подошла к гардеробу, открыла дверцу и начала перебирать висевшую на вешалке одежду. Задумалась, потом всё-таки сняла серое габардиновое пальто с чернобуркой, вынула из стоявшей на полочке коробки замысловатую, с каким-то странным сооружением из петель чёрную шляпку, подошла к зеркалу, накрасила ярко-красной помадой пухлые губы, припудрила маленький курносый носик. Накинула пальто, пристроила на голову шляпку. Натянуть маленькие сапожки на каблуках ей помог Сеня.
– Ты далеко собралась? У тебя же сегодня работа!
– Да не пойду я, – упрямо и твёрдо сказала она ему. – Ешь суп куриный да картошку жареную. А я в Москву поеду. Что-то сердце болит за маму.
Не оборачиваясь, Люба вышла из комнаты, машинально поздоровалась с соседкой Лидой.
– Ты куда так вырядилась?
– Да к маме еду.
– Ну-ну, – усмехнулась Лида.
Люба спустилась по лестнице на первый этаж. Из приоткрытой двери парадного на неё дохнуло морозным воздухом. Добираться до станции пришлось с трудом. Улицу не чистили, а немногочисленные прохожие, утоптав с утра тротуар, сделали его гладким и ледяным. Каблуки то проваливались в снег на обочине, то прорезали ледяную корку. Мысли путались, душа в смятении то ли болела, то ли надрывно плакала. «Господи! Вот уж мне и семьдесят, а я всё хожу по той же окаянной колее любви. Зачем, зачем? Почему опять думаю о нём? Стыдно, тоскливо, на что надеюсь, зачем жду?..»
Подошла электричка. В полупустом вагоне Люба села на скамейку у окна и стала разглядывать проплывающие мимо дома, деревья, ветви которых покрывал сверкающий под лучами солнца снег. Вот и Москва, метро, станция «Арбатская». Сколько раз она приезжала сюда, заходила в магазин при ресторане «Прага», чтобы купить своей, теперь уже девяностолетней, маме маленькие пирожные-корзиночки, вкусные паштетики и салатики. Вот и сейчас, пока пробивали в кассе чеки, опять украдкой оглядывалась вокруг. А вдруг он войдёт и увидит её! Целых сорок длинных-длинных лет ждала и знала, что когда-нибудь этот день настанет. Машинально собрала с блюдечка сдачу: три золотистых монетки. Открыла чёрную лаковую сумочку. И вдруг кто-то тронул её за плечо.
– Любавушка?!
И тут она поняла, что это был его голос, жёсткий и мягкий, бархатистый и глухой. Она хотела обернуться, но не могла. Ноги в маленьких сапожках вмиг приросли к холодному мраморному полу. Ладонь разжалась и мелочь разлетелась в разные стороны. А Люба не решалась пошевелиться. Какой-то мальчик лет двенадцати поднял монетки и протянул ей: «Ба…, ой, извините, возьмите, пожалуйста».
Люба сделала два шага в сторону. Как и прежде, как и много лет назад, на неё смотрели его глаза, – бездонные, чёрные, как ночное небо, бархатные, как тот маленький воротничок на его пальто…
– Любавушка, Любавушка… – он взял её руку и поднёс к своим губам.
Она засмущалась, осознав всю нелепость своего одеяния. Сегодня эта шляпка, это пальто, подхваченное широким поясом, смотрелись, пожалуй, как нечто смешное и старомодное. Но именно так Люба была одета в день их последней встречи.
– Что привело тебя сюда?
– Я много лет покупаю для мамы в этом магазине пирожные и всякие вкусности.
– А мама жива?
– Да, слава Богу. А ты как?
– Один, уже пять лет один… Зоя умерла, у неё была онкология. Я хотел найти тебя, но работа, связанная с бесконечными переездами, не позволяла. К тому же, я всегда знал, что ты меня не простишь…
Люба подошла к прилавку, протянула чек, взяла пирожные и тихо-тихо прошептала:
– Я тебя давным-давно простила. Всё в моей жизни расстроилось, и мой поезд сошёл с основного пути. Вот так я теперь и живу на полустанке!
– Любавушка, давай поднимемся в ресторан и хотя бы один час посидим рядом и поговорим. – Максим лихо щёлкнул каблуками, подставил Любе локоть, она осторожно просунула тонкую руку в образовавшийся треугольник и почему-то подчинилась этому до боли родному человеку.
В зале ресторана был полумрак. Играл тапёр. Тихая музыка обволакивала сердце. Молодая пара плавно двигалась под звуки танго.
– Любавушка, расскажи, как ты жила, как сын?.. Знаешь, если в твоей жизни ничего не изменилось, я не отпущу тебя. И если всё по-иному – всё равно не отпущу!
Принесли в ведерке бутылку шампанского «брют» для Любы, двести граммов водки, селёдочку с картошкой, а ещё – горький шоколад и маленькие пирожные.
– Как всегда. Ты ещё помнишь?
– Всё забыл, пытался забыть… Но каждый убеляющий мои виски год открывал в моей памяти какие-то сложные лабиринты.
На Любе было простое бордовое платье, а чёрную смешную шляпку с выкрутасами она так и не сняла.
– Прости, что я так нелепо одета, я осталась в том времени. Выскальзывая из своей жизни, приезжала сюда… я хотела вернуть все те дни, но, увы…
– А я думал, что ты никогда не вернёшься в наш старый город-пригород.
– Ты ошибался.
– … Любавушка! – Максим испуганно дотронулся до её руки: – только обо всём ты расскажешь потом. Давай выпьем.
Подошел официант. Наполнил рюмку Максима и бокал Любы. Выпили, не чокаясь. Потом Максим встал, приблизился к Любе и почти беззвучно спросил:
– Потанцуем?
Она поднялась, хотела снять шляпку, но он не позволил ей этого сделать. Обняв Любу, он повёл её под звуки медленного танго по залу.
– Я хочу, чтобы всё вернулось. Слышишь?
– Да! – почти неслышно прошептали её губы.
Он прижал её к себе, но не сильно, а трогательно и нежно. Максим изредка дотрагивался до её прядей, покрытых, как паутинкой, лёгкой сединой; он верил, что она вернётся к нему и простит. Он один, один… Это жуткое слово «одиночество» расплывалось в белых облаках, в дорожных колеях, в расходящихся рельсах. А он спешил, двигался по этой жизни, только бы не вспоминать. Но теперь-то он понимает, что любит ещё сильнее, чем прежде! Одно её желание – и его дом станет их общим домом.
«Зачем останавливать этот медленный шаг, утопающий в тягучем звучании до боли знакомой мелодии, зачем куда-то уезжать, а потом опять возвращаться к себе, к своему «я», к своим обидам, которые резали так больно, словно скальпель рассекал тело. Я не смогу опять любить. Горькое-горькое, тоскливое, невыносимое чувство потери. Но и уйти не смогу. А остаться?» – Люба повернулась на каблуках так лихо, что он, её милый, дорогой Максим, едва устоял на ногах.
«Сегодняшние семьдесят не равны тем тридцати. Эта встреча ничего не изменит!» – Люба подошла к столу, взяла маленькую сумочку, надвинула нелепую шляпку на глаза, иронично улыбнулась, подняла бокал, допила вино и, не прощаясь с Максимом и не оборачиваясь, вышла из зала.
Она не замечала, как текли по лицу слёзы, как они падали на красную ковровую дорожку лестницы. Каблуки отстукивали боль, а сердце вот-вот должно было остановиться.
Но нет, оно стучало, увы, не размеренно. Оно пульсировало, ударяя в грудь, как шквал волн в океане…
Люба перешла площадь, спустилась по ступенькам в метро. Пока ехала от станции «Арбатской» до «Киевской», где жила мама, её мамочка Марьюшка, вспоминала, вспоминала всё-всё-всё. Всю свою жизнь, может быть, никчёмную, но обольстительно сладкую.
Вот она сидит на камне у подножия скалы, далеко-далеко в море, к ней приближается, рассекая огромными, сильными руками волны, молодой мужчина. Юноша взбирается на большой камень, у него блестящие чёрные глаза и мокрые чёрные, с проседью, волосы. Он садится рядом.
– Максим.
– Люба.
Берёт её руку, целует. Порывисто обнимает девушку, неуклюже пытается поцеловать в щёку. Люба отстраняется, и они падают в воду. Она почему-то не сердится, а просто плывёт, всё быстрее и быстрее; он, словно охраняя её, синхронно движется рядом. Вдруг справа от Любы появляются два дельфина и начинают играть с ней, оттесняя своими блестящими телами парня. Их плавники и хвосты, поглаживая её, пытаются преградить дорогу к берегу, зазывают в море, к горизонту. Люба, прекрасная пловчиха, увлекается необыкновенной игрой с дельфинами, забывает о Максиме. И вдруг догадывается, что не пять, не десять минут, а, пожалуй, полчаса, подпрыгивает на телах дельфинов, то погружаясь в волны, то возвращаясь на поверхность. А дельфины не пускают её к берегу, уводят всё дальше и дальше в море. Силы покидают Любу. Она с ужасом начинает понимать, что утонет. Руки слабеют…
Неожиданно рядом появляется Максим. Он делает какие-то немыслимые сальто над водой, оттесняя своим крепким телом серебристых соперников, то появляясь над волнами, то уходя под воду.
И два красавца-дельфина, словно почуяв человеческую страсть и силу, отступают, исчезая где-то у полосы горизонта.
– Люба, держитесь за моё плечо, отдохните чуть-чуть. Дельфины так далеко увели нас в море, заиграли совсем.
Они выбираются на берег, на пляже пустынно. Лишь лодочник гремит цепями, прикручивая лодку к железному штырю. Люба тяжело дышит.
– Спасибо. А ведь я могла утонуть.
– Я испугался. Понял, что вы не знаете о коварстве дельфинов.
– Ну, конечно, я слышала о разных историях, но что сама окажусь в таком положении…
– Позвольте пригласить вас вечером вон в то маленькое кафе, – Максим показал рукой в сторону горы.
– Хорошо…
Они сидели за небольшим столиком, на столе в стакане горделиво возвышалась желтая роза на тонком стебельке. Максим посмотрел в Любины зелёные глаза и сказал:
– Я вернулся с фронта, живу в Москве, но служить не бросил. Я человек военный, – он помолчал, достал из кармана гимнастёрки пачку «Казбека», вынул папиросу, закурил. – Вам это не помешает?
Любочка смущённо улыбнулась, открыла круглый замочек крохотной белой сумочки, извлекла оттуда «Беломор».
– А вам это не помешает? – она поднесла папиросу к губам. Максим подал зажигалку.
Они долго сидели молча, пуская колечки дыма и поглядывая вниз с горы на море, где среди разыгравшихся волн пробивалась одна узенькая серебристая полоска от выглядывающей из-за сгущавшихся туч луны.
– Вы не замужем?
– Нет, я живу со старшей сестрой в Москве. Она врач, а я окончила техникум, гордо зовусь экономистом и работаю на заводе.
– Любочка… Мы с вами приняли в море боевое крещение. Дельфины дали мне космический знак… Будьте моей женой!
– Я?! – Люба от неожиданности расхохоталась. Она и всегда была смешливой, но чтобы вот так, сразу, стать женой военного? И поняла: этот красивый юноша – её судьба, это – на всю жизнь.
* * *
Было холодно. Она спешила к маме, кутаясь в пальто и пелену чудесных воспоминаний.
Жила мама с семьёй младшей дочери Даши на Студенческой улице в комнате на первом этаже. Люба вошла в парадное, позвонила. Дверь открыл Славик, муж Даши. И вдруг Люба увидела, что у него глаза чёрные, как угли.
– Проходи, проходи, – Славик, а теперь уже Вячеслав Петрович Коржиков, ныне пенсионер, слыл заядлым рыбаком, любил свою тёщу, всех её сыновей и дочерей купеческих, был молчалив, приветлив. Он попытался пропустить Любочку в комнату.
– Привет, привет, – раздалось из открытой двери напротив. На железной кровати, которая была видна в проеме двери, спиной ко всем сидели и целовались Яшка и Мира Белкины, еврейские соседи четы Коржиковых.
Когда кто-то приходил, они прекращали целоваться, поворачивались к двери, стукались носами и выкрикивали приветствие, и уже через секунду возвращались к прежнему положению. Тридцать лет назад здесь так же целовались тогда ещё молодые Яшкины родители. Время словно остановилось…
В небольшом коридорчике появился Вован Голошаев, сосед из третьей комнаты.
– Во, принесла нелёгкая. Бутылку купила? – На Воване была голубая майка, на плече татуировка – орёл с кинжалом в клюве, а на фоне масляной голубой стены выделялись его длинные красные трусы в зелёный горошек.
– Нет. Забыла купить. А, собственно, что ты у меня всё бутылки выпрашиваешь?
– Да катись ты… – Голошаев плюнул и проскользнул в кухню.
Любочка вошла в комнату.
– Мамочка, здравствуй!
– Любанечка, Любонька моя! – еле слышно проговорила маленькая старушка, сидевшая в углу. У неё были большие голубые глаза; почти прозрачные, они смотрели теперь на мир спокойно, безобидно и, казалось, без волнений. Шёл Любиной маме девяносто первый год.
А когда-то Мария Васильевна, её, Любина, любимая Марима-мушка была строгой, высокой, спину всегда держала прямо, русые волосы заплетала в две тугие косы и узлом укладывала на затылке. Ещё до революции вышла замуж за купца Михаила, который имел скобяные лавки да кабачок в их маленьком городке Ряжске на Рязанщине. Жену Михаил уважал, нарожала она ему семерых детей, слушалась его во всём. Не пререкалась, если непослушного Васеньку да смешливого Павлушку муж ставил в угол на горох на целый день за любую малую провинность. А девок – Анну старшую, Александру, Любаню да младшенькую Дашу очень любил, баловал, покупал им разных смешных игрушечных обезьянок, медвежат. Кукол в их доме целых пять было. Мамочка шила всем куклам платья, а одна, в розовом капоре, уже много лет жила без обновок. Вот и в нынешний Любин приход сидела эта кукла на верхней полке этажерки и смотрела на всех с грустью и печалью. Так же, как семьдесят лет назад, когда осталась кукла одна, без хозяйки, их сестрёнки Ниночки, которая умерла во младенчестве. А мамочка словно вложила в эту куклу все свои воспоминания, всю скорбь о дочке на долгие-долгие десятилетия, и никогда с куклой не расставалась.
Любочка распаковала сумки, достала салатики да пирожные, сняла своё габардиновое пальто и уселась рядом с мамой.
– Дарья на работе задерживается, а я вот одна сижу, – проговорила Мария Васильевна.
– Ничего, мамочка, я её дождусь, – Люба взяла из немецкого серванта старинную кузнецовскую тарелочку с незабудками, положила на неё два маленьких пирожных и протянула их маме.
Та стала откусывать лакомство потихонечку, да и не откусывать вовсе, а, пожалуй, отщипывать дёснами, – ведь зубов у неё давно не было.
– Ой, как вкусно, Любочка, – она взяла Любу за руку. – Что это у тебя рука дрожит, случилось что? Да и пришла ты поздно.
– Да нет, мамочка, просто сегодня случайно встретила… – она вздохнула, проглотила слюну.
Мария Васильевна вся напряглась и вдруг чего-то испугалась.
– Кого?
– Максима.
– И что же?.. Господи, сорок лет прошло. Он жив? – как-то почти гневно произнесла Мария Васильевна, и словно почувствовав что-то, вскрикнула:
– Не вздумай, не вздумай простить ему всё.
– А что, собственно, мамочка, прощать? Ведь и Серёжи уже более десяти лет нет. И всё забылось.
– Забылось?! Как Серёженьку, больного, слабого, лечили, ставили на ноги, как копейки считали? А он, муж-то твой, сбежал, чего испугался-то? А ведь это был его ребёнок! Предал он вас, предал. А ты всё забыла, – вдруг она тяжело задышала. Пирожное из её маленькой, сморщенной руки упало на пол. Люба, испугавшись, схватила валидол с тумбочки, положила его маме под язык.
– Слышишь, никогда, никогда не смей его прощать!
– Хорошо, хорошо, – но думала она сейчас о том, что всё бы бросила и убежала к Максиму, чтобы опять окунуться в эту пучину любви, забыть обиды, страдания, безденежье…
Прервала Любины размышления вошедшая в комнату её сестра Даша.
– Любочка, рада тебя видеть, – сказала она, поцеловав Любу, и тут же бросилась к сидевшей в углу побледневшей Марии Васильевне.
– Мамочка, что, что с тобой?
– Всё хорошо, всё нормально, – Мария Васильевна заговорщически посмотрела на Любу, прижав к губам палец.
– Я уж пойду. Ты прости меня, а то Сеня будет волноваться. Темнеет уже, – обратилась Люба к сестре.
– А чай? А по рюмочке?!
– Ну, если по маленькой…
Вошёл Славик. Достал из серванта бутылочку кагора, рюмки. Дарья открыла стоявший у двери холодильник, вынула тонко нарезанную сырокопчёную колбасу и холодец, постелила белоснежную скатерть, расставила тарелки. Все присели к столу.
– Ну, твоё здоровье, мамочка!
– Спасибо, родные вы мои! – по щеке Марии Васильевны скатилась слеза.
* * *
Люба возвращалась домой, и опять думала, и опять вспоминала то счастье, завернутое в обёртку боли и страданий.
День свадьбы. Максим несёт невесту на руках. Рядом идут две подружки. В его петлице и на её фате по белой веточке сирени. Шаг, два, десять, вот и поворот, и Арбат, и второй этаж, и его огромная квартира, и ходики на стене, и портрет его бабушки – красавицы в кружевах, в прошлом графини. Стол, уставленный яствами, приготовленными старшей сестрой Любы Аннушкой. На стульях восседают Любины братья Пашенька и Вася, которые живут и учатся в Москве на инженеров. Дашенька, маленькая, осталась дома с няней. А мама приехала и привезла старинную икону Николая Чудотворца.
– Дорогие мои Любочка и Максим! Благославляю вас. Я хочу, чтобы жили вы долго и счастливо в радости и трудах, чтобы были у вас дети, много детей.
Они подходят к Марии Васильевне, наклоняют головы, целуют икону, мамочка обнимает их.
За столом Софья Петровна, мать Максима, и Георгий, брат. Георгий с каким-то нескрываемым волнением смотрит на Любу.
– Горько, горько! – Максим целует невесту. Она околдована его взглядом, его объятьями. Ещё она помнит, как кольцо с руки Максима упало в старинный зелёный фужер. И он сказал: «К счастью». Выпил залпом шампанское, достал кольцо, надел на палец. Взял Любочку на руки, и они закружились в вальсе по комнате…
* * *
Было темно и жутко, лишь в конце улицы горел одинокий фонарь, тень от него узкой стрельчатой полоской прорезала снег на мостовой. Люба быстро шла в сторону дома, реально ощущая свою вину за всё содеянное. «А, собственно, в чём я виновата? В измене? Нет. В мыслях, в желании уйти от Семёна? Да…»
Вдруг она споткнулась и сильно подвернула ногу. Идти дальше не смогла. Холод пробирался под воротник, ветер поднялся страшный. Боль в ноге усиливалась. Люба услышала шум проезжающей машины, попыталась поднять руку. «Жигули»-«копейка» (Люба знала эту модель) остановились и сдали назад. Из машины вышел высокий парень.
– Что с вами?
– Нога…
– Давайте я вас отвезу в травмпункт, – парень попытался её поднять.
Люба вскрикнула от боли
– Может быть, не нужно?
– Кажется, просто необходимо.
Он помог ей сесть на заднее сидение. Доехали до травмпункта, Любе сделали рентген: оказался вывих лодыжки. Старенький доктор в очках лихо вправил сустав, зафиксировал его бинтами. Боль постепенно уходила.
– Ну, радуйтесь, милочка, отделались лёгким испугом.
* * *
Сеня стоял у двери парадного уже два часа. Он продрог, старая куртка на ватине грела плохо, но Сеня не хотел возвращаться, чтобы надеть дублёнку. Ждал и ждал, то выбегал на улицу, то снова шёл к дому. Выкурил уже полпачки сигарет, но Любы не было. Он понимал: с ней что-то случилось, но думать о худшем не хотел. Неожиданно тягостную тишину прорезал шум приближающегося автомобиля.
У парадного было темно, но Семён всё же различил фигуру мужчины, который наклонился, чтобы помочь. Из машины, осторожно ступая и хромая, вышла Люба.
– Ты давно ждёшь меня? – как-то виновато проговорила она.
– Сбился в мыслях и времени… Что-то с Марией Васильевной?
– Нет-нет. Всё в порядке. Ногу подвернула, чуть-чуть не дойдя до дома. Слава Богу, остановилась рядом машина. Вот молодой человек отвёз меня в больницу. Оказался вывих.
– Спасибо. Огромное спасибо! – Сеня пожал юноше руку.
Они поднялись по шатким деревянным ступенькам, вошли в квартиру.
В комнате на столе стояли чашки, вода в чайнике давно остыла, сыр и колбаса заветрились. Фантики её любимых конфет «Маска» сверкали под световыми потоками люстры.
– Есть будешь?
– Нет, устала, да и нога болит.
Ночью Люба долго ворочалась в постели, не спал и Сеня. Он почему-то вспоминал всю их жизнь. Вот Люба мчится на велосипеде, а он идёт по тротуару. Велосипедистка резко тормозит и останавливается. Проколото колесо. Сеня приближается к ней, пытается помочь.
– Семён.
– Любовь.
Он предлагает донести тяжёлую сумку Любы. Люба везёт велосипед. Подходят к старому деревянному дому.
– Спасибо, что проводили.
Сеня смотрит в Любины глаза, ловит во взгляде какую-то щемящую тоску, боль. «А сами глаза – зелёные», – замечает Сеня.
– Может быть, чаю?
Он, удивляясь её храбрости, соглашается.
Потом они пьют чай, курят и говорят. Говорят до утра. О Сениной погибшей семье, о Любином муже, который испугался болезни сына и исчез, а они с матерью мальчика подняли; о том, что, увы, став взрослым, притрастился к спиртному. Ему, как инвалиду детства, дали комнату. И живёт он неподалёку, на соседней улице Плотницкой.
Были и голод, и лишения, но помогали братья и сёстры.
В ту ночь Сеня остался у Любы навсегда. Была ли это любовь – он не знал, но одиночество его и её ушло. Вместе завтракали. Он уходил в кузнечный цех, а она на площадь – торговать мороженым. Вечером, когда возвращались, выпивали по рюмочке кагора, ужинали, читали вслух рассказы Чехова, Толстого.
Пришлось мириться с еженедельными набегами Серёжи, Любиного сына, с его запоями, пьяными дебошами, с его безденежьем, странными вывертами, и даже – с его даром художника.
Часто Люба после работы забегала в дом к Серёже, чтобы убрать его комнату, сварить суп, поджарить котлеты. Однажды Сеня напросился пойти вместе с ней. Напротив железнодорожных путей стоял маленький домик, в палисаднике перед ним цвела удивительной красоты персидская сирень. Они открыли калитку, вошли. Их поприветствовала худенькая востроглазая женщина в чёрном платочке, соседка Сергея по дому.
– Ой, Любочка, он опять пьёт, – прошептала на ухо.
В комнате Сергея на полу валялись бутылки из-под водки, жестянки из-под кильки. Тяжело пахло кислой капустой и рыбой. Перед открытым окном, придерживая руками огромный лист бумаги, пришпиленный к картону, сидел Сергей. И, несмотря на сильное опьянение, он, не отрываясь, продолжал работать. На картине, словно пробравшись в комнату из сада, цвела сирень. На её ветвях сидели два маленьких воробышка, не коричневых, а чёрных.
– У-у-у… Пришла со своим прихвостнем! Убирайся, убирайся, – прохрипел живописец, не вставая с места.
– Ты иди, Сеня, а я останусь.
Семён развернулся к двери. И вдруг замер. Он увидел прислонённые к стене картины: полыхающее солнце, бескрайнее море, холодный снег на ветвях елей, толстая старуха с вёдрами у колодца, и – Люба, его Люба-красавица, а рядом какой-то бесовского вида человек в погонах и с рогами.
– Ну, чего вылупился? Гляди-гляди, это твой соперник, батя мой, – Сергей зловеще захохотал.
Сеня торопливо попрощался. Когда пришёл домой, налил рюмку водки и подумал: «Поздно я тебя встретил, Любаня. Мог бы помочь сына воспитать. Вон как отца возненавидел, а ведь и прав. Предал, предал вас, и даже не вспомнил».
Через час прибежала соседка Сергея, баба Наташа.
– Беги, беги, Семёнушка, к нам. Кажись, Серёга помер. Выпил при Любе стакан водки. Она в комнате прибирала, пошла мусор выносить. Вернулась, а Серёжа синий на полу лежит. Любе и самой плохо. «Скорую» вызвали, а я – к тебе.
Через три дня похоронили Сергея на Николо-Архангельском кладбище. Прощаться приехали Любины братья да сёстры, ее подруга по Реутову, закадычная. Поплакали, портрет на журнальный столик поставили. И стали жить чуть спокойнее после стольких лет страданий. Правда, Семён потихоньку начал и сам попивать. Из кузнечного ушёл. Кормилицей стала Любаша. А он ждал её, встречал после работы у станции, ходил в магазин, стирал бельё, которое она потом гладила и ровными стопочками раскладывала на полках в шифоньере.
* * *
Под утро мысли стали куда-то уплывать, и Семён заснул.
Весь следующий день они провели вместе, читали рассказ Ивана Бунина «Антоновские яблоки». Приготовили очень вкусный ужин: Семён – борщ, Люба – котлеты. Сели за стол, достали бутылку кагора. Выпили. Семён подошёл к Любе и поцеловал её.
– Любанечка, что-то всё-таки вчера произошло.
– Да нет, Сенечка, всё как прежде.
– А что это значит – «как прежде»?
– Да ничего и не было.
Он больше расспрашивать не стал. Но почему-то ныло сердце. Ему казалось, что Любу у него может отнять Максим. Неужели они встретились?
Утром, несмотря на боль в ноге, Люба решила пойти на работу. Надела пальто с каракулевым воротником и плотную вязаную шапочку.
– Может, ещё дома побудешь? – с волнением спросил Сеня.
– Нет-нет, Сенечка, пойду, а то мороженое растает.
– Да где растает, на улице градусов тридцать, никто и покупать его не будет!
– Мальчишки, мои дружки, после школы прибегут, а меня нет.
* * *
На площади за вокзалом народу почти не было. Лишь Светка торговала жареными пирожками собственного приготовления. Люба зашла на базу.
– Чего-то тебя вчера не видел? – спросил заведующий складом Тимофей.
– Да ногу подвернула.
– Вот, держи свою карету-тележку. А мороженое в левом холодильнике.
Люба достала брикеты с мороженым, аккуратно уложила, выкатила тележку, встала у стены магазина. Надела белый фартук, зелёные обрезанные перчатки, вытащила из сумки тарелочку под мелочь.
В два часа дня прибежали Валечка, Ромка и Стасик.
– Привет, тётя Люба! Нам по два вафельных стаканчика.
– Это в такой-то мороз? Не много ли будет?
– А вы вчера не приходили. Болели? Вот мы вам выручку за вчерашний день и восполняем.
Люба достала стаканчики. Кончики пальцев на морозе покраснели. Подошла Света, принесла горячий пирожок. Люба поблагодарила, но есть не захотела.
Вечером, когда вернулась домой, почувствовала жар. Сеня укутал её в одеяло, принёс чаю с мёдом, малинового варенья в розеточке. Жар становился всё сильнее. Померила температуру. Тридцать девять. Семён развёл уксус водой, натёр её тело. Температура спала, а потом опять скакнула в самый верх. Ночью Люба стала бредить и всё говорила, порой кричала: «Максим, Максим, я всю жизнь… Люблю, люблю!.. Сеня, где ты, ты держись, не сорвись!.. Сеня…»
Семён понял, что в тот день, когда она подвернула ногу, видимо, где-то встретила Максима. И сейчас не простуда вовсе, а нервный шок.
Семён так и просидел на стуле рядом с Любой почти всё время, что она болела. Через несколько дней Люба пришла в себя. Открыла глаза и позвала:
– Сеня… Сеня!
Семён подошёл, сел на краешек кровати.
– Что, Любанечка моя?
– Сенечка, дорогой ты мой, я тебе тогда ничего не сказала. А всю ночь ворочалась – думу думала. Встретила я на Арбате Максима, в ресторан он меня позвал, часик с ним посидели. И я вдруг поняла, что хочу к нему, жизнь дожить с ним хочу…
Семён побледнел, он молча теребил кончиками пальцев пуговицу на рубашке.
– Ночью мне в полубреду сон приснился: будто я иду по тропинке, что на краю скалы, внизу море, волны. Максим на песочке, у моря, и манит меня к себе рукой. Я уже решилась прыгнуть в бездну. Вдруг ты – за моей спиной, обнял меня, а тропинка шире, шире делается. И мы идём с тобой вдвоём. Только я какая-то скукоженная, жёлтая. А ты говоришь: «Ничего, ничего, Любушка, возьми веточку сирени, подыши, и всё будет хорошо». А веточка из сада Сергея. Проснулась и поняла, что люблю только тебя, друг ты мне. И одиночество, и болезни не страшны. Вдвоём мы сильные. Незатейливой жизни нашей кузнецы, Сенечка!
Сеня наклонился, поцеловал её в лоб, в щёки и его скупая мужская слеза соединилась с её женскими слезами.
* * *
А потом были годы покоя и мира, обыкновенных человеческих радостей: поездки к маме, сёстрам и братьям Любы; празднование Масленицы у них в Реутове; Рождество – у старшей Нюры; дни рождения близких, которым они дарили картины Сергея, ставшие такими популярными и дорогими: творчество его оценили в художественных кругах. Восьмидесятилетие брата Василия, похороны Паши и его жены Насти…
Дни уходили, унося за собою годы. А они старились.
Пришла в их дом новая беда. Люба заболела. «Ваша болезнь очень коварная», – говорили врачи. Люба и Сеня решили продать две лучшие картины Сергея: «Солнце» и «Море». Купили дорогие лекарства. А картину «Сирень» оставили себе. Семён не боялся этой самой онкологии: подкладывал пелёнки, по часам давал Любе лекарства, варил бульоны, читал про весну, про осень стихи их земляка Сергея Есенина, стирал простыни и рубашки. И любил… Он был всегда рядом со своей Любанечкой.
В последний день, перед уходом в светлые миры, Люба попросила:
– Сенечка, давай споём нашу любимую.
– Сейчас, Любочка!
Он надел голубую рубашку, что подарила она ему в прошлый День Победы, поставил на стул подносик с двумя стопочками кагора, присел рядом. И два голоса – её, дрожащий и слабенький, и его, негромкий, но басистый, – слились в одну удивительную мелодию романса:
- Выхожу один я на дорогу,
- Сквозь туман кремнистый путь блестит;
- Ночь тиха. Пустыня внемлет Богу,
- И звезда с звездою говорит…
– Сенечка, мне не страшно. Я с тобой, хоть и улечу… А ты не плачь…
* * *
Любу хоронили в середине мая. Цвела сирень, и все несли к гробу именно её. Когда двинулись от дома к Николо-Архангельскому кладбищу, море бело-розовых, сиреневых и фиолетовых букетов окутало всю процессию. Вдруг где-то совсем рядом запел соловей. Сеня замедлил шаг. Эту песню они всегда слушали с Любой, открывая окно в сад в тёплые майские и июньские вечера.
– Кого хоронят? – он поднял глаза. Перед ним стоял полковник. Это был Максим. Его хрипловатый голос, словно острие ножа, резанул по всему телу Семёна.
– Мою Любанечку…
– …И мою Любавушку. Прости, Семён, она не хотела, чтобы я искал её, а я нашёл, но слишком поздно.
Дневник памяти
1992–1999 годы
Величественные.
Как-то во время работы над документальным фильмом «Не предавай забвенью» (рассказ об уникальной семейной паре – Народном артисте СССР Николае Александровиче Анненкове и его супруге, актрисе и режиссере Татьяне Митрофановне Якушенко-Анненковой), мы: оператор Юра Назаров, Татьяна Митрофановна (моя любимая Танюша) и я, режиссер, вышли из дома рядом с Тверской, пересекли двор и оказались у памятника Юрию Долгорукому.
Танюша прогуливалась у фонтанов, слегка опираясь на тонкую трость, а мы с Юрой работали: выстраивали планы, ловили ракурсы – поворот слегка откинутой назад головы, грациозная походка. Во всем чувствовалась порода. Снимали и одновременно восхищались величественной фигурой этой уже немолодой, но такой красивой женщины в пальто-крылатке и в черной шляпе с огромными полями.
По Тверской шли люди с плакатами, знаменами (был какой-то праздник). Неожиданно к Татьяне Митрофановне подскочила корреспондент с микрофоном:
– Как вам нравится сегодняшнее шествие?
Посмотрев на нее большими серыми грустными глазами, Татьяна Митрофановна ответила резко:
– Увы, деточка, не нравится. Голод, нищета, попрошайки на улицах… Это веселье кажется преступлением. И не для телевидения мои слова.
Подошел Николай Александрович:
– Танюша, позволь пройтись с тобой. Послушай, как совершенно по-новому я решил читать стихотворение Державина «Бог».
Красивая пара стала удаляться. Можно было расслышать слова: «Кого мы называем: Бог». Вряд ли кто из сидящих под копытами знаменитой лошади узнал их в лицо, но многие провожали взглядами.
Жили супруги неподалеку, в Глинищевском переулке, в знаменитом актерском доме. 75 лет играл на сцене Малого театра Народный артист СССР Николай Александрович Анненков, 38 лет прожил со своей Танюшей. И все годы – в спорах, творчестве, любви, понимании, хотя порой и резких разногласиях. Жила с ними верный друг и помощница Варвара Яковлевна Дремучкина. Двери дома всегда были открыты – шум, веселье. Захаживали и В.И. Качалов, и И.С. Козловский, и артисты МХАТа.
* * *
Я часто приходила в их гостеприимный дом. И слушала, затаив дыхание, рассказы о жизни, о творчестве.
Танюша сидела в своей маленькой комнате и курила. На стене в золоченой раме висело большое зеркало. Она опиралась одной рукой на пианино, а другой изящно держала папиросу и вспоминала, а я внимала каждому слову, наслаждаясь звучанием ее низкого бархатистого голоса:
– Я ведь работала в Щепкинском училище вместе с Николаем Александровичем, преподавала, ставила спектакли: «На дне», «Берегите белую птицу», «Голубую рапсодию». Была любимой ученицей Марии Петровны Лилиной, училась у Константина Сергеевича Станиславского. Слушая его, буквально теряла дар речи, всегда свято относилась к искусству. Наверное, очень высокие требования я предъявляла к своим ученикам, не выносила расхлябанности, небрежного отношения к учебе. Были и конфликты. Не терпела я ложь и пошлость. Вот и вынуждена была через пятнадцать лет работы уйти…
На пороге комнаты показался Николай Александрович.
– Ну, Коля, что ты? У меня же Анна Алексеевна.
– Танюша, я тоже хочу тебя послушать. Ты же мой Станиславский.
– Потом, потом. Роль Фирса будем с тобой вечером репетировать. Иди…
Николай Александрович задумчиво улыбнулся и проследовал через гостиную в свою комнату.
* * *
Каждый год в доме у Анненковых собирались близкие люди, приглашали и меня. Несколько лет снимали фильмы «Продолжение традиций» о творческом содружестве супружеской пары, чтецкие программы.
Татьяна Митрофановна великолепно читала Пушкина, Блока, Тургенева (да почти всю классику). Многое из записанного прошло в эфир на образовательном канале, не раз прозвучал и «Бог» Гаврилы Романовича Державина в блистательном исполнении Николая Александровича.
Дни встреч 14 января (день рождения Татьяны Митрофановны) и 25 января (Татьянин день) были не только праздниками, но и фейерверками полета мысли и шуток.
За столом посередине маленькой гостиной – родственники Татьяны Митрофановны: музыковед Алик и Галочка Любицкие, их дочь Вика, прекрасная пианистка, Народная артистка СССР Татьяна Шмыга с мужем Анатолием Кремером, дирижером и композитором.
Николай Александрович сидит напротив Татьяны Митрофановны и они, словно шутя, обмениваются фразами из пьес Островского. Мы слушаем, смеемся. И кажется, что это они так разговаривают, а не герои пьес.
Варенька (Танюша величает ее сестрой), вносит блюдо с горой румяных вкусных пирожков. Танечка Шмыга произносит тост и поздравляет как-то застенчиво, но слова, произносимые ею, мудры и драгоценны. Никогда не слышу за столом ее сказочного пения. Господи, за что Бог подарил мне счастье такого космического общения!
Две Тани познакомились в магазине тканей в Столешниковом переулке. Татьяна Митрофановна спросила:
– Душечка! Вы для чего покупаете эту клетчатую ткань?
– Юбку буду шить, – ответила Татьяна Шмыга.
– Нет, голубушка, из этой материи и покрывало на диване гостей испугает. – Шмыга расхохоталась. С этого мгновения и началась их дружба.
Татьяна Митрофановна имела прекрасный вкус, великолепно шила и моделировала одежду. Это было ее хобби.
В трудные безденежные девяностые годы Татьяна Митрофановна предложила сшить для меня пальто. Роскошная бежевая ткань, пальто-крылатка, как у нее. Пуговицы я не смогла купить, и она подарила мне из своих запасов огромные зеленые американские. Помню, как я стояла в их кухне на столе, а Танюша вымеряла длину, потом ругала меня, что не могу нормально поворачиваться.
– Пойдем в зал, к большому зеркалу.
Я послушно спрыгнула, прошла в комнату, встала перед зеркалом.
– Коля, иди к нам, посмотри, ровная ли длина пальто у Анны Алексеевны.
Я смутилась, опустила глаза.
– Ну что ты, Танюша, я не понимаю…
– А ты смотри внимательно.
Минут пятнадцать я кружусь, поворачиваюсь, хожу по комнате, а великий актер, над ролями которого я плачу (Луп-Клешнин, Маттиас из моей любимой пьесы Гауптмана «Перед заходом солнца»). А сейчас он смотрит, подсказывает, принимает самое живое участие в примерке. Это пальто-крылатку с зелеными пуговицами я храню как талисман, в нем то незабвенное время!
В одну из последних встреч Татьяна Митрофановна сказала мне: «Жизнь так коротка, а я хочу прожить в театре несколько жизней». Она прожила их, но, увы, не все на сцене.
Танюши не стало. Днем еще она прогуливалась у памятника, накануне собирала подписи за очередного кандидата, которому верила, смотрела телевизор, плакала, страдала за весь мир с его катастрофами, войнами, злом и непониманием, а вечером легла и уснула. Николай Александрович, придя проститься на ночь, взял ее уже похолодевшую руку, застыл и понял: Таня вот так легко улетела от него навсегда. Может быть, к берегам Венеции, которую так хотела увидеть в свои 80 лет?…
* * *
Она была прекрасна в тот день. Белый прозрачный шарф покрывал ее голову, удивительное достоинство и покой на лице. Мы прощались с ней. Я не могла поверить в уход такой дорогой, непокорной, такой любимой мною женщины.
Студенты Щепкинского училища подняли гроб высоко над головой, белая полоска прозрачной ткани шарфика развевалась над ней, словно прокладывая дорогу к небесам.
И остались Николай Александрович и Варенька одни, без Танюши.
Как-то я решила навестить их. Был теплый сентябрьский день, Поднялась по ступенькам на второй этаж. Открыла дверь Варенька, поздоровались.
В прихожей показался Николай Александрович. Он держал в руках маленький зеленый томик Державина и неожиданно начал читать:
- Дух всюду сущий и единый,
- Кому нет места и причины,
- Кого никто постичь не мог,
- Кто всё собою наполняет,
- Объемлет, зиждет, сохраняет,
- Кого мы называем: Бог….
Мы с ним вошли в комнату, он положил книгу на столик, подошел к портрету Татьяны Митрофановны, висевшему над его кроватью, и прошептал: «Танюша, возьми меня к себе». Заглянула Варя:
– Николай Александрович, что случилось? Пойдемте обедать. Анна Алексеевна! Прошу отобедать с нами.
Как и прежде, стол на кухне был покрыт красной скатертью, стояла бутылочка кагора, маленькие рюмочки, селедочка, оладушки с яблоками.
* * *
Как часто я вспоминаю этот дом…
Николай Александрович дожил до ста лет. Его юбилей праздновали в Малом театре. Он играл Лупа-Клешнина в спектакле «Царь Борис» и читал пушкинского «Пророка»:
- Восстань, пророк, и виждь, и внемли,
- Исполнись волею моей,
- И, обходя моря и земли,
- Глаголом жги сердца людей.
Белые и красные
Памяти Т.М. Якушенко-Анненковой и Н.А. Анненкова
Зачем и кому было нужно это бликующее, со стертыми в краях овала следами былой памяти, это реликтовое зерцало? Оно было реликвией и висело здесь почти сто лет.
В него смотрелись предки первого мужа. Они все были во фраках, длинных шуршащих платьях, шляпах со страусовыми перьями, но зеркальный овал отражал лишь верхнюю часть тела, а длина юбок и фалды фраков оставались за границей этих давних отражений.
Саня – так называли ее мама и бабушка Дуня, Александра Викторовна, – почтительно кланяясь, величали ученики. Она подошла к роялю, нажала на ноту до, присела на шаткий стульчик и заиграла. До боли знакомые звуки – то был Рахманинов, его первый концерт. Но вдруг вместе с музыкой нахлынули тяжелые воспоминания, и счастье от величия проникающих в каждую клеточку звуков, таящих в себе такую страстную, такую сумасшедшую любовь композитора к жизни, сменилось болью. Эта боль становилась все острее и сильнее, но была не физической, а скрежещущей, щемящей болью души.
Александра заставила себя доиграть первую часть концерта, закрыла крышку, подошла к зеркалу и увидела себя не старой, а совсем молодой.
Всего один день, словно кадр за кадром, промелькнул в ее сознании. Это было ранней весной. В станице Веселой, где она родилась, происходили невероятные, страшные события.
Ее дед Емельян – увидела его, словно это происходило сейчас – стоял у плетня, подтягивая ремень, надетый поверх рубашки, и смотрел на огромное вспаханное поле около калитки: набирали сиреневый цвет тоненькие стебельки кермека, а между ними уже желтели одуванчики.
Сашенька взяла картонку, положила на нее лист бумаги, села на шатающуюся табуретку под навес над крыльцом, чтобы солнце не очень припекало голову. Карандаши в коробочке лежали на земле. Девушка достала мягкий черный карандаш, нарисовала колышки плетня, стала «насаживать» на верхушки крынки да горшки, которые бабушка Дуня развесила посушиться. Потом Саша попробовала нарисовать фигуру деда: немного сутуловатый, огромные штаны заправлены в сапоги, рубашка-косоворотка расчерчена тонкими черными полосками, подпоясана широким ремнем со звездой. Саша решила нарисовать и дорогу, что тянулась вдоль поля, и кадку с водой… Подошла баба Дуня:
– Знаешь, Санечка, вон как здорово кадку-то нарисовала, а она ведь непростая. Я году в девятнадцатом аль в двадцатом в ней шашки да сабли отмывала. Одним днем белые на лошадях скачут, завидят меня, остановятся и торопят: «Помой, девка, шашки!» Я беру их, а там кровь запеклась. Помою, отдам, а они вот по этой дороге дальше скачут. А на следующий день красные едут. Опять уж их шашки окунаю в бочку, и на их сверкающей стали кровь алая.
Саша перестала рисовать:
– Баб, а почему кровь-то?
– Так рубили они друг друга, девонька. Ты уж, наверное, слышала об этом.
– А ты-то за кого была?
– Я тогда и понять не могла, что творится. То землю пахали и семена в нее бросали, а в те-то годы ямы в земле копали да людей порубленных десятками туда сбрасывали. Где белые, где красные? Я, конечно, потом за красных была. Ведь семья-то моя бедная. Вот и дед твой за справедливость боролся.
Дед Емеля тем временем направился к конюшне.
Саша замерла, вспоминая уроки истории в школе, то, как им о революции Анна Марковна рассказывала; она-то знала, что революция была необходима, чтобы установить равенство на земле, бедных и богатых уравнять. Саша вождя Ленина чтила, его портрет висел напротив печки на стене. Часто дед садился под портретом на лавку, закуривал махорку, брал старые газеты «Красный Дон», а Дуня приговаривала:
– Лучше б, Мелька, валенки залатал, что ты все одно и то ж читаешь.
– Эх, мать, времена-то были! А теперь вот тут сижу, прозябаю, пахота, посевная да жатва. А я боев хочу.
– Да ты что, старый… Война-то, кому она нужна?
Саня слушала эти зимние разговоры изо дня в день, вот и сегодня о них вспомнила. Она достала из коробки красный карандаш и нарисовала около бочки лужу с красными разводами. Нарисовала и испугалась: «К чему это здесь кровь-то?»…
Вдруг на дороге показалась большая машина с зеленым брезентовым верхом, таких в Веселой она не видела. Машина затормозила у их дома, крайнего в селе. Из машины вышел человек в черной кожаной куртке:
– Емельян Ковчук где живет?
– Это мой дедушка, – испуганно прошептала Саня.
Из сарая выбежала Дуня.
– Что случилось, с Васечкой что-то?
– Где ваш Емельян?
– В сарае, – растерянно прошептала бабушка.
Тут же из машины вышли два красноармейца. Все трое вошли в сарай, а через минуту вывели деда и повели к машине. Саша подбежала к бабушке, прижалась к ней.
– Бабуля, куда они его? – и вдруг она увидела лицо Емельяна: большие уши покраснели, глаза сверкали.
– Дуня, дай тужурку и махорку.
Только потом они поняли, что деда обвинили в революционной измене, что якобы нашли документы, в которых были сведения, что люди из Веселой – пять человек и их дед – служили и у белых, и у красных.
Александра Викторовна отошла от зеркала, присела на краешек дивана и закурила свой любимый «Беломорканал». Улыбаясь, приоткрыла рот и устремила свой взгляд на лежавшую в уголке дивана кофту. Четыре десятилетия она берегла ее, летом вывешивая на балкон проветриться от моли, зимой укладывая в полотняный мешочек, и лишь изредка вынимала из шкафчика:
Вот и сейчас она бережно набросила реликвию на плечи и подошла к зерцалу. И за его очертаниями в величавой пелене времени поплыли, кружась в лабиринтах памяти, дивные видения, неожиданно настигшие ее после бесконечной череды страданий, дней счастья, восторгов и радости.
Дома с бабушкой они ждали известий от деда, ездили вместе в Ростов-на-Дону, обивали пороги учреждений со сложными названиями ГУПК и наркоматы, но двери для них были наглухо закрыты. Как-то, проснувшись ночью, Саня услышала всхлипывания, встала, открыла дверь в маленькую смежную комнату. Баба Дуня сидела на сундучке у печки, держа в руках листок серой бумаги, и плакала. Слезинки капали на серый толстый листок, а она не замечала, как круглые буквы начинали расплываться, превращаясь в волшебные узоры с непонятными очертаниями. Саня подошла, обняла бабушку, та вздрогнула:
– Ты что не спишь, Санечка?
– Ба, это от деда, он нашелся?
– Теперь уже нет… – и она заплакала навзрыд, привлекла внучку к себе, обняв полными руками. – Погиб он в тюрьме, Санечка. Вот видишь конвертики, – она взяла с сундука три серых конверта с треугольными марками, – это его письмо, не мог он нам переслать их на волю, но хранил бережно, носил на груди под тюремной робой.
– Ба, но ведь он не был ни в чем виноват.
– Конечно нет, это время виновато было. Вот почитай, – она протянула Сане три толстых листка, видимо, из-под каких-то оберток:
10 июля 1937 годи.
«Дунечка моя, не могу удержаться, ничего не хочу. Так сложно, страшно здесь, теперь уже не пытают, не допрашивают, а лишь мучают мысли, почему все так, почему не жить было мирно, хлеб сеять… за что биться? Господи! Не веровал я в Тебя. А теперь молю: «Боже праведный, верни мне их!» Ну хоть на денек тебя да Саньку увидеть. Жалею я вас, сердцем мучаюсь, как жалею… И молюсь, я, неверующий… А верю и молюсь».
2 октября 1937 года.
«Бчера повели всех нас разбирать старые деревянные дома. Покрепче завязал рубашку, чтоб письма не разлетелись, ношу их на сердце. А одно бревно вдруг выскользнуло из рук, придавило меня. Ребята подскочили, бревно скатили с груди, шнурок развязали, а ветер… Бот письма и разлетелись. Я было думал вскочить и собрать их, а не смог… Так мой сосед по нарам, Иван, поднял их и обещал вам переслать. Пишу из местной больницы, где нас трое тюремных лежит в палате. Но кажется, все обошлось. Завтра выпишут. Ох, как плохо мне без вас, мои милые…»
11 ноября 1937 года. «Вот я уже и на тюремной воле. Какая страшная штука тюрьма, и те, которые надзирают за нами. Иван письма мне отдал. Я их спрятал теперь под матрац… Ну, а если помру – после ушиба сердце болит – приказал Ване их вам переправить. Дуняша моя, люблю тебя, хоть слов тебе таких и не говорил. А увидел тогда… И жалею. Господь, Ты перепутал все, Ты взял бы меня, а не дочь. Екатерину нашу мы с тобой потеряли, а внучку Саньку спасли, хоть бы ей довелось жить в радости. За что их тогда убивать пришли?
Есть у меня мечта заветная, о Господи, боюсь, но скажу. Жить с единым человеческим лицом трудно. Где ложь, где правда, не разберешь. Лишь театр-лицедей не карает и не льстит, а разыгрывает жизнь нашу. Может, Санечка, в актрисы…»
На этом письмо обрывалось. Бабушка протянула Сане еще один маленький листочек.
«Доброго здравия вам, сильные казачки Емельяновы.
Горе разделяю с вами. Емельяна уж больше нет. Пришли ночью, когда он письма вам писал, выхватили у него листок и нашли в нем страшную крамолу, якобы оскорбляет он тюремные власти. Увезли его, а потом где-то у деревни расстреляли. Могилы нет. А меня решили из-за отсутствия улик освободить. Вот я вынул в ту ночь три письма из матраца. А третий листок без конверта остался. Пересылаю вам все три. Много он мне про свою бывшую жизнь не говорил, а про вас каждый вечер рассказывал: и что Санька его рисует, и какие у вас, Авдотья, глаза синие и нрав добрый. А еще что-то все про театр говорил, как в бреду».
* * *
Александра Викторовна надела шляпу с широкими полями, пальто-крылатку и вышла на лестничную площадку. Навстречу с третьего этажа спускалась уже немолодая, но статная актриса, служившая в одном из московских театров. Они сдержанно поздоровались. В этом приветствии было некоторое отчуждение, и возникло оно из-за постоянных соседских столкновений. Сын актрисы сильно пил, и ночью над головами Александры Викторовны и ее мужа, Народного артиста Федора Фелициановича, гремело, грохотало, скрежетало, разбивалось, ударялось всё, что могло рушиться и уничтожаться. Сон улетал, уходил. Александра набирала номер телефона и жестким голосом пыталась образумить юношу. Тот умолкал, но через неделю все начиналось снова.
Вот и сейчас, после бессонной ночи, она направлялась к памятнику Юрию Долгорукому. Вышла, остановилась на ступеньках и подумала: «Наступила пора старости. Увы, как у Сергея Есенина:
- Но некому мне шляпой поклониться,
- Ни в чьих глазах не нахожу приют….
Пересекла улицу, вошла во дворик, пройдя через арку, оказалась на залитой солнцем площади у памятника. Здесь уже более десяти лет они с Федором Фелициановичем прогуливались в дни, когда у него не было спектаклей. Сегодня его вызвали в театр, и Александра Викторовна решила до возвращения мужа посетить свой самый родной дом в Москве, что в Леонтьевском переулке. Это был дом Константина Сергеевича Станиславского и Марии Петровны Лилиной.
«Театр – лицедейство», – так говорил дед Емельян. И она, как бы по завету деда, поступила в театральную студию. Давно в станице Веселой создали народный театр, тогда она сыграла в чеховской «Чайке» Нину Заречную. Может быть, горькая, трагическая судьба актрисы и стала продолжением ее сложной жизни.
Пятьдесят лет назад Александра не знала, как распорядится ее жизнью время, какие шашки придется оттачивать, какую кровь смывать со своего израненного сердца.
Начал накрапывать дождь. Оказавшись около желтого особнячка в Леонтьевском переулке, Александра встала под навес над крылечком, позвонила. Вышел Степан Степанович, племянник Константина Сергеевича, маленький, седовласый.
– Сашенька, здравствуйте! Как я рад, рад!.. Проходите, пожалуйста. Какими судьбами?
– Да вот сегодня ровно пятьдесят лет с того дня как я пришла сюда. Хочу подняться по родным ступенькам; можно ли в комнату Марии Петровны заглянуть?
– Конечно! А я словно знал, что вы придете. Нашел фотографию – вы там рядом со Станиславским сидите. И так восторженно на него смотрите. Пока по музею походите, а я фотографию принесу.
Александра Викторовна поднялась на второй этаж, зашла в комнату Марии Петровны. Скромная кровать великой актрисы с белым покрывалом, на тумбочке – сумочка, перчатки, лорнет. И словно из глубины пространства услышала ее голос: «Сашенька, вы моя самая любимая ученица. Вот уже и диплом получили. И решительны вы всегда и во всем. На фронт к раненым с фронтовыми бригадами едете. А я вот вам кофту Константина Сергеевича приготовила. Будете надевать ее, и словно руки его согреют вас, и убережет она от пуль, от смерти».
Как же любила она их, великих театральных учителей. Прибегала первой на занятия, садилась рядом с учителем и, открыв рот, внимала каждому слову Константина Сергеевича. Психофизический анализ – сначала это были трудные понятия, потом расшифровка системы, а позже – суть ее жизни.
Александра Викторовна перешла в комнату Константина Сергеевича. Книги, книги, портрет – добрые лучистые глаза. Здесь прошли последние дни его жизни.
Она была рядом с Марией Петровной, когда огромное горе пришло в этот дом. Старалась поддержать одинокую актрису, заходила к ней почти каждый день, они подолгу говорили о ролях.
Поступила в театр Станиславского, где играла Эмилию, а потом стала преподавать в Щепкинском училище. Вышла замуж в двадцать пять лет. Муж – прекрасный певец, добрейший, любящий человек, очень долго и тяжело болел, ухаживала за ним. В тяжелые беспросветные дни его ухода лишь сын Арсюша радовал ее.
От воспоминаний отвлек голос Степана Степановича:
– А вот и фотография, Александра!
– Спасибо, Степан Степанович! То были дни моей счастливой молодости, дни вдохновения и надежд.
Она открыла небольшую черную сумочку, что подарила ей Мария Петровна и бережно убрала туда столь дорогой снимок.
Вечером Александра Викторовна сидела у старого рояля и наигрывала вальсы и этюды Шопена. Один из этюдов забылся, достала из старенькой тумбочки ноты и задумалась. Вот любили ее великие учителя, считали талантливой. А она, придя в театр, талант не смогла проявить, всё норов свой показывала. Была уверена, что сама должна решать, какой характер у героини пьесы Эмилии – нежный, трепетный. А режиссер считал, что – упрямый, немного властный. Не хотела она подчиняться чужому мнению. Всё сама, сама. Советовалась с Тусей, подругой, которая во втором составе Эмилию играла. Доверяла ей свои мысли: «Режиссер неумен, настырен, неначитан». Туся, сидя у нее дома, попивая чаек и поедая ее пирожки с капустой, поддакивала. А ведь потом оказалось, что она предала Саню, все режиссеру докладывала. А тот после успешной премьеры, где Эмилия была такой, какой ей виделось, собрал труппу и сказал, что не потерпит в театре самоуправства, что актер должен слушать режиссера, а коли нет, так пусть уходит. Такой категоричности Саня не перенесла, взяла в гримерке вещи: бабушкин костяной гребень, цветастый платок кубанский, сняла со стенки портрет деда Емельяна, сложила в холщовую сумку и ушла. Понять не могла, как же так сразу выгнали! А потом узнала, что Туся ее предала, все режиссеру Виктору Ивановичу рассказала: какой он «неначитанный, настырный». Вот и не стал он ее упрашивать остаться в театре. А Туся в первый состав попала.
Сейчас преподает Александра в театральном училище режиссуру. Знает она всю классику, рассказывает ребятам об образах, разбирают они характеры персонажей пьес, спорят до крика, спорят до изнеможения, чувствует она, что на пользу им ее уроки, семинары. Но непримирима она, когда приходит время экзаменов. Спрашивает строго, поблажек не дает. Как-то задержал ее в коридоре чудный ученик, Ванечка Жолобов, попросил:
– Александра Викторовна, поставьте зачет, а я потом досдам?
– Это почему?
– Да у меня мама в Ставрополе заболела. Срочно надо ехать.
– Нет, сначала сдай, а потом поедешь.
Через день она у него зачет приняла. А к маме Ванечка не успел, умерла мама в тот зачетный день. Вот ведь какая принципиальность…
Раздался звонок. Александра посмотрела на часы – была почти полночь. Открыла тяжелую железную дверь, пропустила Федора Фелициановича, взяла у него палку с набалдашником в виде головы льва, шапку-«пирожок», помогла снять драповое пальто. Был Федя на целых двадцать лет старше, жалела она его, конечно, всем сердцем.
– Федюшка, ужинать будешь?
– Нет, чайку бы попить, Санечка.
Уселись за круглым столом на кухне. Диван с красным покрывалом, огромный красный абажур. Свет от лампы всегда в вечерние часы лился на стол, и был он каким-то розоватым, уютным, струящимся, располагающим к долгим беседам и чинному застолью. Чашки с блеклыми незабудками, серебряные ложечки с витыми ручками и старинная сахарница со щипчиками – все из наследства, оставшегося от знаменитой Марии Савиной, тетушки первого мужа Александры Викторовны. Скульптурный бюст её уже более восьмидесяти лет стоял на комоде, и когда они ужинали или обедали, был виден через открытые двери кухни. И словно сама великая актриса принимала участие в их беседах.
Александра Викторовна заварила чай с мятой, как любил муж, поставила на стол испеченые утром плюшки. Федор Фелицианович разлил чай, присел к столу.
– Ты что, Федюшка, такой грустный?
– Да знаешь… Вот пять часов, представь, пять часов обсуждали, кому быть в первом составе – мне или Михаилу. А ты же знаешь, как дорожу я ролью Маттиаса, как рвется именно со мной, а не с ним играть в очередной раз Зиночка!
– Господи, Федя, ты пойми, не могу я слышать об этих составах, и первых, и вторых.
– Прости, но без этого нет театра.
– Федя, но тогда в Ленинграде билеты нельзя было достать на пьесу Гауптмана «Перед заходом солнца». Аншлаги! И ты – Маттиас, и Инкен. Такие чувства на сцене! Противостояние детям, мешающим любить. А ведь любить можно всегда, главное – любить. Такая силища, Федя, была в вас двоих, такие эмоции. Плакали в зале и женщины, и мужчины. Боже милостивый, лучше тебя никто не понимает этой трагической фигуры! А теперь тебя хотят вывести из спектакля.
Саня вскочила, заметалась по кухне, вбежала в комнату, встала перед белоснежным бюстом Савиной.
– Ну что, Мария Васильевна! В ваши времена такое бывало?
Она в гневе не заметила, как Федя оказался рядом, обнял ее, и опустил ей на плечо свою седую голову.
– «Священнодействуй или уходи!» Эх, Щепкин, Щепкин. Вот и не могу уйти. Во мне словно машина какая – перпетуум мобиле, вот я своему партнеру Виктору все время говорю: «Держи меня, и я до ста лет доживу, и буду все время отдавать тебе свою энергию, а ты держи меня. А они – эти партсоветы, худсоветы – разрушают нас. Обсуждают и разрушают».
Потом они сидели еще часа полтора на кухне: постукивали серебряные ложечки о чашечки тончайшего фарфора, струился свет, падая на мудрое красивое лицо Федора и властное, но удивительно женственное лицо казачки Сани.
А ночью она не могла уснуть. Села к роялю, убрав ноты Шопена, заиграла «Осеннюю песню» Чайковского, потом опустила руки на клавиши. Взяла папироску, повернулась к зеркалу, чиркнула спичкой. Тонкая струйка дыма, как змейка, охватила изящную фигурку «Хозяйки Медной горы», стоявшую на столе перед зерцалом. И вдруг заметила Федю, в стоптанных шлепанцах, в длинном махровом зеленом халате. Он показался ей таким стареньким, таким потерянным.
– Опять куришь?
Загасила папироску, подошла к нему:
– Пошли спать…
Поддерживая друг друга, они пересекли гостиную и оказались в спальне. Небольшая тахта, над тахтой – копия картины Крамского «Христос в пустыне». Федя, тяжело дыша, лег, Александра подоткнула клетчатый зеленый плед ему под ноги и спину.
Сама она спала на диване в зале. Со стен смотрели лики прекрасных женщин: Зинаиды Волконской, Анны Ахматовой, Полины Виардо – тех, кого любила и очень ценила за их таланты, – это были лишь литографии.
Александра Викторовна закрыла глаза. Сон не шел, не падал на тело, мозг не убаюкивал душу. Каждый раз она думала об этих проклятых шашках, о белых и красных, о каплях крови, о ранах на душе. Ну почему человек не может быть един в своих взглядах, мнениях, убеждениях, почему принципиальность уходит, почему как в качку морскую, мир охватывает паническое состояние, непонимание, почему и для чего этот мир существует, для чего живет человек, и что есть для него Вселенная. Она похоронила своего первого мужа Петю, тоска жгла и побеждала, хотелось распроститься со всем. Умерла баба Дуня, Арсения воспитывала сама, а тут вдруг из станицы Веселой приехала дальняя родственница Верочка; поселила ее у себя. Прошло полгода после смерти Пети, Верочка попросила: «Санечка! Вы не мучайтесь так, не плачьте, ну поезжайте отдохнуть. Может, в горы?» Александре в училище предложили путевку в Железноводск. Оставляла она Арсения с Верой неохотно, но видела, что та добра и к сыну, и к ней бесконечно. Вот и уехала.
Снег в горах, солнце и воздух, и орлы в полетах были под-стать ей, ее воле, ее казачьей вольности. Ушла боль из души. Как-то у источника встретила очень красивого человека. Он предложил ей стакан с прозрачной целебной водой, выпила до дна, и вдруг все закружилось в ее жизни, как прежде. Внимание, подъемы в горы и спуски к источникам, вечера в маленьком ресторанчике! Он читал ей Державина, Пушкина, Лермонтова, а она ему – «Накануне» Тургенева, Тютчева. Помнит, как неожиданно после ее слов: «Ни в чьих глазах не нахожу приют…», сказал: «А в моих найдете?» И Александра приехала с ним в Москву. Он был уже немолод, одинок и знаменит. Квартиру оставил дочери и маленькой внучке. Поселила его у себя, а Верочка стала спать на кухне. Потом Арсению, который не смог жить с эгоистичным отчимом, абсолютно не замечающим юношу, купили неподалеку квартиру. И она, Сашенька, бегала через три переулка с Тверской на Вспольный. Белые и красные… И не могла выбрать, не могла примирить, не могла соединить. Господи, кровь была на сердце и на душе.
Арсюша поступил в институт, и начались компании – и пили, и пели, и гуляли. Шли годы. Один старился, другой взрослел, а она, принципиальная, не могла выбрать, а, пожалуй, выбрала – сигарету и гениального мужа. А Верочка ухаживала за Арсением, кормила, стирала.
Арсюша умер: упал на улице, сердце не выдержало. Не от разлуки ли с ней? Но спасти его она не смогла.
